Книга: Структура разума. Теория множественного интеллекта

СТРУКТУРА РАЗУМА
Теория множественного интеллекта
Теория Множественного интеллекта двадцать лет спустя
Меня часто спрашивают, как возникла идея теории множественного интеллекта. Наверное, самым честным ответом будет: «Не знаю». Но такой вариант не устраивает ни интересующегося, ни, по правде говоря, меня. Оглядываясь назад, я могу описать следующие факторы, некоторые из них отдаленные, а некоторые — непосредственно подтолкнувшие меня к исследованиям. В молодости я серьезно занимался игрой на фортепиано и другими видами искусства. Начав изучение психологии развития и когнитивной психологии, я был просто поражен, что искусству в них не уделяется никакого внимания. Моей целью в то время было найти место для искусства в рамках академической психологии. Я до сих пор этим занимаюсь! В 1967 году мой интерес к искусству подтолкнул меня к участию в Проекте «Зеро», базовой исследовательской группе в Гарвардской высшей педагогической школе. Основателем Проекта был известный специалист в области философии искусства Нельсон Гудман. В течение 28 лет я был помощником руководителя Проекта и счастлив, что эта организация по-прежнему продолжает свои изыскания. Когда моя докторантура близилась к завершению, я впервые познакомился с неврологическими исследованиями Нормана Гешвинда, признанного специалиста в вопросах неврологии поведения. Меня очень заинтересовали предположения Гешвинда о том, что происходит с обычными или одаренными людьми, которым довелось пережить ушиб, опухоль или другие травмы мозга. Зачастую симптомы взаимоисключающие, например, пациент, страдающий алексией[1], но не аграфией[2], утрачивает способность читать слова, но продолжает понимать цифры и названия объектов, нормально пишет. Совершенно не планируя заниматься этим вопросом, я в результате 20 лет проработал в группе нейропсихологов, пытаясь постичь мозговую организацию способностей человека.
Мне всегда нравилось писать, и к тому времени, когда в начале 1970-х годов после получения докторской степени началась моя совместная работа с Гешвиндом, я закончил три книги. В моей четвертой работе, The Shattered Mind[3] («Разбитый разум»), опубликованной в 1975 году, рассказывалось о том, что происходит с людьми, перенесшими различные мозговые травмы. Я описывал, как разные участки мозга отвечают за различные когнитивные функции. Закончив вышеупомянутую книгу, я подумал, что, возможно, стоит написать о психологии различных способностей человека, т. е. новой трактовке френологии. И действительно, в 1976 году я сделал набросок книги с рабочим названием Kinds of Minds («Виды разума»). Можно сказать, что такая книга никогда и не существовала — я много лет не вспоминал о ней. Но можно также сказать, что замысел вернулся из папки и воплотился в настоящей книге — Frames of Mind («Структура разума»).
Таковы отдаленные истоки теории множественного интеллекта.
В 1979 году группа исследователей, присоединившихся к Гарвардской высшей педагогической школе, получила грант от нидерландского Фонда Бернарда Ван Леера. Эта стипендия предназначалась для осуществления грандиозной задачи, предложенной данным фондом. Члены Проекта человеческого потенциала (как его стали называть) должны были исследовать природу человеческих возможностей и способы их активизации. Когда мы определяли направления будущей деятельности, я получил очень интересное задание — написать книгу о том, что известно о познании человека благодаря открытиям в биологических и поведенческих науках. Так родилась исследовательская программа, с помощью которой я и пришел к теории множественного интеллекта.
Поддержка Фонда Ван Леера позволила мне при содействии многих коллег реализовать широкомасштабную исследовательскую программу. Я считаю, что это было той возможностью, которая дается раз в жизни. Благодаря этому шансу я смог свести воедино имеющуюся информацию о развитии когнитивных способностей у обычных и одаренных детей, а также о нарушении этих навыков у индивидов, страдающих различными патологиями. Образно говоря, я попытался синтезировать то, что узнал на заре жизни, изучая травмы мозга, с тем, что выяснил в полдень в результате исследований когнитивного развития. Мы с коллегами изучили массу литературы по работе мозга, генетике, антропологии и психологии, пытаясь составить оптимальную классификацию способностей человека.
В ходе этого исследования произошло несколько важных событий. В какой-то момент я решил назвать эти явления «множественным интеллектом», а не способностями или талантами. Такая, на первый взгляд, незначительная лексическая замена оказалась чрезвычайно важной. Я не сомневаюсь, что если бы я написал книгу под названием Семь талантов, она не привлекла бы того внимания, как Структура разума. Как заметил мой коллега Дэвид Фельдман, с выбором именно этого термина началось открытое противостояние между мной и психологами, признававшими практику тестирования IQ. Но я не согласен с утверждением Фельдмана, будто меня подталкивало желание «расправиться с IQ». Ни документы, ни память не говорят мне о том, что меня действительно привлекала такая конфронтация.
Второе важнейшее событие — это формулирование определения интеллекта и выделение ряда критериев, с помощью которых можно установить, что подходит под это описание, а что — нет. Не буду утверждать, что все критерии были выделены a priori. Скорее, постоянно происходила корректировка в свете того, что я узнавал о способностях человека, и в результате мне удалось вывести восемь четких критериев. Убежден, определение и критерии — это одни из самых оригинальных элементов теории, но ни одному из них не было уделено достаточно внимания в литературе, последовавшей за появлением Структуры разума.
Приступая к книге, я начал писать с точки зрения психолога, и это направление исследований остается главным в моей научной работе. И все же, учитывая цель Фонда Ван Леера, мне было ясно, что необходимо сказать что-то о применении теории множественного интеллекта в системе образования. Поэтому я изучал литературу по педагогике и в последних главах затронул некоторые возможности использования теории в этой сфере. Данное решение оказалось еще одним важным событием, потому что именно педагоги, а не психологи, больше других заинтересовались теорией.
К 1981 году определились основные направления дискуссии. Я утверждал, что все люди обладают не одним интеллектом (который часто называют g-фактором как сокращение от general intelligence — «общего интеллекта»). Скорее, будучи особенными существами, мы, люди, наделены рядом относительно автономных интеллектов. Большая часть литературы по вопросам интеллекта изучает комбинацию лингвистического и логического интеллектов, которые, как я часто говорю, составляют достояние профессора юриспруденции. Но досконально изучить человека можно, лишь изучив также пространственный, телесно-кинестетический, музыкальный, внутри- и межличностный интеллекты. Эти виды интеллекта есть у каждого из нас — именно это делает нас людьми с когнитивной точки зрения. И все же в каждое отдельное мгновение люди отличаются по своим интеллектуальным профилям в силу факторов наследственности и жизненного опыта. Ни один из видов интеллекта не является сам по себе художественным или нехудожественным. Лучше было бы сказать, что при желании человек может воспользоваться несколькими видами интеллекта в эстетических целях. Из этой психологической теории нельзя делать никаких непосредственных выводов относительно системы образования, но если люди отличаются по своим интеллектуальным профилям, разумно было бы учесть эти различия при составлении учебных программ.
Ко времени выхода Структуры разума в свет в 19 83 году я уже опубликовал полдесятка книг, каждая из которых не вызвала особой реакции и не стала бестселлером. Я не ожидал ничего иного и от Структуры разума, объемной и, с точки зрения рядового читателя, несколько специализированной книги. Но всего через несколько месяцев после ее издания я понял, что эта книга отличается от предыдущих. Нельзя сказать, что критика восхваляла мою работу, а уровень продаж моментально подскочил. Скорее, разница заключалась в «молве» о моей книге. Меня приглашали на множество встреч, и когда я соглашался, то оказывалось, что люди, по крайней мере, уже слышали о моей теории и хотели узнать о ней подробнее. Разделяя мнение художника Энди Уорхола, я иногда в шутку утверждаю, что теория множественного интеллекта принесла мне 15 минут славы. Хотя за свою жизнь я многого добился в профессиональном отношении, но теперь понимаю, что, скорее всего, меня так и запомнят как «отца теории множественного интеллекта» или, что мне меньше нравится, «гуру теории множественного интеллекта».
В течение первых десяти лет после публикации Структуры разума меня связывало с моей теорией два момента. Во-первых, меня поражало, как много людей заявляли о готовности изменить свою педагогическую практику для претворения в жизнь теории множественного интеллекта. Всего через год я встретился с преподавателями из Индианаполиса, которые вскоре создали Key School, первую в мире школу, деятельность которой строилась исключительно на теории множественного интеллекта. Ко мне начали все чаще обращаться люди с просьбой объяснить, как использовать теорию множественного интеллекта в разных школах для разных групп детей. Стараясь отвечать всем, я всегда напоминал, что я психолог, а не педагог, поэтому вряд ли знаю лучше других, как обучать детей или руководить начальной или средней школой.
Вторая связь с теорией выражалась для меня в том, что я руководил исследовательскими проектами, которые основывались на теории множественного интеллекта. Самый серьезный из них — проект «Спектрум», в котором мы сотрудничали с Дэвидом Фельдманом, Марой Кречевски, Джанет Сторк и др. Цель проекта заключалась в разработке методов, с помощью которых можно оценить интеллектуальный профиль младших детей — дошкольников и учащихся начальных классов. В результате мы создали 15 отдельных заданий для диагностики нескольких видов интеллекта в максимально естественных условиях. Работая над этим, мы хорошо провели время, а кроме того, узнали, что усовершенствовать методы диагностики будет совсем не просто, для этого потребуется много денег и времени. Я решил, что не хочу больше заниматься диагностикой интеллекта, хотя был бы рад, если бы эти исследования продолжили другие.
Хотелось бы вспомнить еще несколько исследовательских проектов, возникших на первой волне интереса к теории множественного интеллекта. Работая в Йельском университете с Робертом Штернбергом, который тоже не был согласен с традиционными взглядами на интеллект, мы с коллегами разработали программу средней школы под названием «Практический интеллект в школе». Сотрудничая с коллегами из Службы проверки образовательных учреждений, мы создали специальные методы оценки успеваемости, предназначенные для проверки результатов обучения по трем гуманитарным дисциплинам[4]. Проводилась также совместная работа по внедрению компьютеров в систему образования.
К моему удивлению и удовольствию, теория множественного интеллекта пережила и бурные 1990-е годы. К этому времени я был готов к еще нескольким занятиям. Первое было исключительно научным. Основываясь на положении о различных видах интеллекта, я изучал людей, интеллектуальный профиль которых можно было назвать поразительным. В результате такой работы появились мои книги о творчестве (Creating Minds («Созидающий разум»)), лидерстве (Leading Minds («Ведущий за собой разум»)) и поразительных достижениях в более широком смысле (Extraordinary Minds «Необычайный разум»)). Польза от использования в названиях этих книг слова «разум» была огромной!
Второй вид деятельности — это развитие теории. В 1994–1995 годах я использовал часть годичного отпуска для того, чтобы изучить доказательства существования новых видов интеллекта, и пришел к выводу, что имеется достаточно свидетельств в пользу натуралистического интеллекта и немало доказательств возможности выделения экзистенциального интеллекта («интеллекта глобальных проблем»). Кроме того, я глубже исследовал связь между интеллектами, которые называю биопсихологическими потенциалами, и сферами и науками, существующими в различных культурах. То, что мы знаем о мире и как представляем себе его, может быть проявлением интеллектов.
Я также выделил три значения термина «интеллект»[5].
1. Отличительная черта всех человеческих существ (каждый из нас обладает этими восемью или девятью интеллектами).
2. Качество, на основе которого люди отличаются друг от друга (никакие два человека — даже монозиготные близнецы — не обладают абсолютно одинаковыми интеллектуальными профилями).
3. Способ выполнения человеком определенной задачи с учетом своих интересов («Возможно, у Джо весьма высокий музыкальный интеллект, но я ничего не понял из его интерпретации этой музыкальной пьесы»).
Третье направление деятельности было больше связано с использованием и толкованием моей теории. В течение первых десяти лет мне было достаточно просто наблюдать, что другие говорят и делают под видом теории множественного интеллекта. Но к середине 1990-х годов я заметил несколько случаев неправильного понимания теории, например путаницу между интеллектами и стилями обучения или недопонимание социализации интеллекта человека (скажем, когда музыкальный интеллект приравнивают к искусному исполнению пьес одного из музыкальных жанров). Кроме того, мне стали известны случаи, которые меня просто оскорбили, — например, описание различных расовых и этнических групп с точки зрения характерных для них видов интеллекта. Поэтому я впервые начал проводить границу между моим «пониманием» теории множественного интеллекта и представлением о ней других людей, которые узнали об этом явлении и попытались использовать его в своих целях.
В конце этой второй фазы я стал активнее участвовать в реформе образовательной системы как на практическом, так и на теоретическом уровне. В практическом отношении мы с коллегами по гарвардскому Проекту «Зеро» начали работать со школами, пытающимися применять теорию множественного интеллекта и другие наши разработки, например «обучение пониманию». Мы организовали летние семинары, которые проводятся уже в седьмой раз. В теоретическом отношении я начал формулировать собственную философию образования, а именно: обращаю внимание на важность нескольких лет, предшествующих выпускному классу, для постижения главных предметов — математики, истории, естественных и гуманитарных наук. В силу некоторых причин приобретение такого понимания представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Попытка охватить слишком обширный материал грозит неудачей. У нас намного больше шансов понять предмет, если глубоко изучить ограниченный ряд тем. И как только принято решение «постичь» основы нескольких дисциплин, а не «охватить» их поверхностно, человек может воспользоваться своим множественным интеллектом. Другими словами, тему можно рассматривать с разных сторон: можно проводить аналогии и сравнения с разными областями знания или выражать ключевые концепции с помощью различных символов.
В результате такого исследования был сделан поразительный вывод. «Множественный интеллект» не может и не должен сам по себе быть целью образования. Интересы образовательной системы необходимо переоценить, а это невозможно сделать просто на основе научной теории. Но если человек задумается над тем, каковы его цели при получении образования, тогда ему может очень пригодиться теория множественного интеллекта, особенно если человек заинтересован в изучении ряда дисциплин. В таком случае он может активизировать все семь интеллектов для достижения этой высокой цели.
Вот какими были для меня эти 20 лет существования теории множественного интеллекта. Я признателен очень многим людям, проявившим к ней интерес, — как из моей исследовательской группы, так и по всей стране и в мире. Я старался отвечать на их вопросы и использовать то, чему они меня научили. Наконец, я понял, что как только человек выпускает идею в мир, он больше не может полностью контролировать ее поведение, так же как невозможно управлять тем продуктом наших собственных генов, который называется ребенком. Теория множественного интеллекта живет и будет жить собственной жизнью, более непредсказуемой, чем я сам мог бы ей пожелать.
Теории множественного интеллекта исполнилось 20 лет в тот год, когда я отметил свое шестидесятилетие. Для меня это прекрасная возможность оглянуться назад и предложить некоторые пути дальнейшей работы. Прежде всего, несомненно, будут обнаружены новые виды интеллекта. За последние годы помимо повышенного интереса к эмоциональному интеллекту предпринимались также серьезные попытки описать духовный и сексуальный интеллекты. Мой коллега Антонио Баттро предложил рассмотреть цифровой интеллект и обозначил, каким образом этот вид интеллекта подходит под изложенные мной критерии. Недавно известный исследователь в сфере когнитивной неврологии Майкл Познер[6] внес предложение считать внимание одним из видов интеллекта. Я всегда утверждал, что решение относить тот или иной психический процесс к интеллекту должно строиться исключительно на суждениях и не является алгоритмом. На сегодняшний день я придерживаюсь своих восьми с половиной интеллектов, но готов согласиться, что придет время, и эта классификация расширится или будут пересмотрены границы между интеллектами. Например, если учесть, что так называемый эффект Моцарта[7] пользуется все большим признанием, я могу когда-нибудь изменить точку зрения относительно музыкального и пространственного интеллектов.
Необходимо провести большую работу, чтобы выяснить, как лучше всего использовать интеллекты для достижения особых педагогических целей. Я не думаю, что образовательные программы, созданные на основе теории множественного интеллекта, сочетаются с довольно случайными исследованиями, которые проводит сейчас федеральное правительство. Но я убежден, что хорошо спланированные эксперименты помогут понять, в каких случаях стоит использовать подход множественного интеллекта, а когда от этого лучше воздержаться. Например, мне кажется, теория множественного интеллекта особенно полезна, если ученик пытается освоить сложную, новую концепцию, предположим, гравитацию в физике, или понять феномен «духа времени» в истории. Я не очень уверен, будет ли эта теория полезна при изучении иностранных языков, хотя восхищаюсь преподавателями этих дисциплин, которые утверждают, что добились успеха в использовании подхода множественного интеллекта.
Если бы у меня было еще время и силы для изучения ответвлений теории множественного интеллекта, я направил бы все усилия на исследования в двух направлениях. Во-первых, как уже было сказано, меня все больше интересует, каким образом появляются и периодически изменяются виды социальной деятельности и области знания. В любом сложном обществе имеется как минимум 100–200 различных профессий, и любой университет средних размеров предлагает обучение по крайней мере по 50 специальностям. Конечно, эти области и дисциплины не случайны, то же относится и к способам их развития и комбинирования. Культурно обусловленные сферы знаний должны быть каким-то образом связаны с мозгом и разумом человека, а также с тем, как этот мозг и разум развиваются в разных культурных контекстах. Говоря конкретнее, как именно логико-математический интеллект связан с различными отраслями науки, математикой, программным и аппаратным обеспечением компьютеров, которые появились в последнем тысячелетии, а также с теми, которые могут возникнуть через год или через 100 лет? Что из чего возникает, или, точнее, что на что влияет? Как разум человека справляется с междисциплинарными исследованиями — можно ли эту когнитивную деятельность назвать естественной? Я бы с большой радостью занялся систематическим изучением этого вопроса.
Во-вторых, один из самых интересных аспектов теории множественного интеллекта заключался в том, что она основывается на открытиях в биологии. В начале 1980-х годов имелось недостаточно информации из сферы генетики или эволюционной психологии, такие рассуждения были преимущественно гипотетическими. Нейропсихология предоставила убедительные доказательства существования различных ментальных функций, и именно на этой прочной основе строилась теория множественного интеллекта.
20 лет спустя знания как о генетике, так и о работе мозга накапливаются с огромной скоростью. Рискуя показаться слишком восторженным, я готов доказывать мысль о том, что за период с 1983 по 2003 год мы узнали столько же, сколько за предыдущие 50 0 лет. Как генетик-любитель, а в свое время еще и специалист в области неврологии, я приложил все усилия, чтобы следить за невероятным количеством открытий в этих отраслях. Теперь с определенной долей уверенности могу сказать, что ни одно исследование пока не может серьезно поставить под сомнение правильность теории множественного интеллекта. Но с не меньшей долей уверенности я могу также заявить, что в свете открытий, сделанных за последние 20 лет, биологическую основу теории множественного интеллекта необходимо срочно подкрепить свежей информацией.
Не знаю, буду ли я в состоянии сделать это лично, но хочу высказать одно предположение. Когда теория множественного интеллекта только появилась, важно было доказать, что человеческие мозг и разум — это совершенно разные понятия. В корне ошибочно было думать о едином разуме, едином интеллекте или единой способности к решению проблем. Поэтому вместе со многими коллегами я попытался доказать, что разум, как и мозг, состоит из множества модулей/органов/интеллектов, каждый из которых действует по своим собственным правилам и относительно автономен.
К счастью, в наши дни положение о модульности уже не вызывает сомнений. Даже те, кто искренне верят в существование «общего интеллекта» или нервной пластичности, чувствуют, что им необходимо отстаивать свою точку зрения, хотя в прошлом этого не требовалось. Но пришло время пересмотреть вопрос о взаимосвязи между общим и специальными интеллектами.
Такой пересмотр осуществляется множеством любопытных способов. Психолог Робби Кейс сформулировал понятие о центральных концептуальных структурах, которые несколько шире, чем отдельные интеллекты, но все равно не такие всеобъемлющие, как общий интеллект в понимании Жана Пиаже. Философ Джерри Фодор противопоставляет «непроницаемые» модули нервной системы «проницаемому» центральному процессору. Группа исследователей, в которую входят Марк Хаузер, Ноам Хомский и Текумсе Фитч, предполагают, что уникальное свойство человеческого познания — это способность к рекурсивному мышлению[8]. Возможно, именно рекурсивность лежит в основе совершенствования мышления в таких сферах, как речь, числа, музыка, социальные отношения и т. д. Электрофизиологические и радиологические исследования показывают, что уже у новорожденных, вероятно, активизированы некоторые модули мозга. Неврологические исследования людей, выполняющих задания на IQ, позволяют предположить, что за подобные задачи, вероятнее всего, отвечают определенные зоны мозга. Возможно, существуют гены, которые обуславливают необычайно высокий уровень IQ, и, несомненно, имеются гены, приводящие к патологиям. В ходе нашего собственного изучения необычайно высоких показателей умственного развития мы выяснили, что существует различие между теми, кто талантлив в одной сфере (например, музыканты или математики), и «генералистами» (политики или деятели бизнеса), которые наделены сравнительно равными показателями во всех интеллектуальных областях. Думаю, стоило бы заняться тщательным изучением различий между людьми, которые используют сфокусированный лазерный интеллект, и теми, чей находящийся в поиске интеллект напоминает прожектор.
Если бы у меня было еще несколько жизней, я бы хотел по-новому взглянуть на природу интеллекта с учетом новой информации в биологии, с одной стороны, и нашего преимущественно софистического понимания царства знаний и социальной практики — с другой. Возможно, еще один проект фонда Ван Леера по исследованию человеческого потенциала! И наконец, я очень рад, что 20 лет назад у меня была возможность сделать первый шаг в этом направлении, что периодически я мог возвращаться к своей теории и изложить ее так, что другие тоже могут попробовать свои силы в этой области.
Теория множественного интеллекта десять лет спустя
Каждый автор мечтает о чудесной судьбе для книги, над которой он сейчас работает. И все же во время написания Структуры разума я не ожидал, что у этой книги будет такой широкий круг читателей в столь многих странах. И уж тем более я не ожидал, что мне посчастливится писать предисловие к юбилейному изданию этой работы.
Работая над Структурой разума, я считал, что эта книга будет моим вкладом в ту отрасль науки, которой я занимаюсь, — в психологию развития, а в более широком понимании — в поведенческие и когнитивные науки. Я хотел расширить понятие интеллекта, чтобы в него входили не только результаты тестов типа «бумага-карандаш», но и знание о человеческом мозге и восприимчивость к культурному многообразию. Хотя в заключительных главах я и обсуждал применение своей теории в сфере образования, но все же не обращал пристального внимания на особенности работы в школе. Однако случилось так, что книга оказала большое влияние на образовательный процесс: мы с коллегами по гарвардскому Проекту «Зеро» провели несколько экспериментов на основе теории множественного интеллекта; кроме того, предпринималось множество других попыток применить эту теорию для решения конкретных задач учебного процесса. В продолжении этой книги — труде под названием Multiple Intelligences: Theory in Practice («Множественный интеллект: теория и практика». Gardner, 1993) — я рассмотрел основные случаи использования данной теории в современной системе образования.
В данном предисловии к Структуре разума (в которое вошли фрагменты из предисловия к первому изданию 1985 года) я поставил перед собой пять задач: систематизировать основные темы книги; рассказать о месте теории множественного интеллекта среди других исследований интеллекта; связать Структуру разума со своими последними разработками; ответить на основные критические замечания в адрес теории множественного интеллекта и наметить план работы на будущее. В конце этого предисловия приводится список литературы по вопросам, речь о которых в самой книге уже не идет.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КНИГИ СТРУКТУРА РАЗУМА
В то время, когда писалась Структура разума, я не в полной мере осознавал, насколько люди привыкли верить в два предположения относительно интеллекта: первое — что это единая, общая способность, которой в большей или меньшей степени наделен каждый человек; второе — что ее можно оценить с помощью стандартизированного вербального инструментария наподобие опросников или тестовых заданий типа «бумага-карандаш». Стремясь помочь новым читателям приступить к работе над книгой и предостеречь от опрометчивого согласия с этими двумя широко распространенными, но крайне ошибочными концепциями, я хотел бы предложить вам провести два мысленных эксперимента.
Прежде всего, попытайтесь забыть, что вы когда-либо слышали, будто интеллект представляет собой единую характеристику человеческого разума или что вы знаете об инструментарии под названием «тест интеллекта», который призван раз и навсегда оценить уровень интеллекта. Во-вторых, мысленно представьте себе весь необъятный мир и подумайте обо всех ролях — профессиональных, социальных и т. д., — которые высоко ценились в разных культурах на протяжении многих веков. Вспомните, например, об охотниках, рыбаках, земледельцах, шаманах, религиозных лидерах, психиатрах, военачальниках, лидерах общественных движений, спортсменах, художниках, музыкантах, поэтах, родителях и ученых. Сузив этот круг, представьте себе те три роли, с которых я начинаю разговор в Структуре разума: корабельный юнга, изучающий Коран ученик медресе, юный парижский композитор за своим музыкальным синтезатором.
На мой взгляд, если мы хотим правильно разобраться в сфере человеческого познания, необходимо рассмотреть намного больший и универсальный ряд способностей, чем те, о которых говорилось сначала. Кроме того, нужно не забывать о возможности, что многие, если не все, из этих способностей не поддаются оценке с помощью стандартизированных вербальных методов, которые во многом полагаются на смесь логических и лингвистических способностей.
Помня об этом, я сформулировал определение того, что называю интеллектом. Интеллект — это способности решать проблемы или создавать продукт, который обладает ценностью в определенной или нескольких культурах. В таком определении ничего не говорится ни об источнике этих способностей, ни о подходящих способах их «тестирования».
Отталкиваясь от этого определения и во многом основываясь на открытиях в биологии и антропологии, я установил восемь четких критериев, позволяющих выделить тот или иной вид интеллекта. Эти критерии представлены в главе 4. Затем в части II я подробно описываю каждый из семи предполагаемых видов интеллекта: лингвистический и логико-математический интеллекты, которые играют весьма заметную роль в современных школах; музыкальный интеллект; пространственный интеллект; телесно-кинестетический интеллект и две формы личностного интеллекта, одна из которых ориентирована на окружающих людей, а вторая — на самого индивида.
После введения в теорию множественного интеллекта и описания его функционирования я предлагаю критику своей теории с учетом тех недостатков, которые были очевидны для меня в момент написания книги. В завершение я привожу несколько идей того, как интеллекты могут и на самом деле развиваются в рамках той или иной культуры, а также как они могут быть мобилизованы в различных образовательных системах.
Выдвигая новую теорию, будет правильным указать на точки зрения, которым она наиболее явно противоречит. Это особенно важно, если вспомнить о критиках, которые не смогли — или не захотели — отказаться от своих традиционных взглядов. С этой целью я привожу два примера. Сначала — отрывок из рекламы теста интеллекта.
Вам нужен индивидуальный тест, с помощью которого можно быстро и надежно оценить интеллект, затратив всего четыре-пять минут на задание? Состоящий из трех заданий? Который не зависит от вербальной продуктивности испытуемого или субъективности экспериментатора при подсчете результатов? Которым можно воспользоваться в работе с физически инвалидизированными пациентами (даже парализованными), если только они в состоянии просигнализировать «да-нет»? Который предлагается и двухлетним детям, и пожилым людям в одной и той же форме и за одинаковый промежуток времени?
И так далее в том же духе. Какова бы ни была ценность такого теста, я могу с уверенностью заявить, что подобное описание заведет нас в иллюзорную страну чудес. Более того, я с не меньшим подозрением отношусь к попыткам протестировать уровень интеллекта с помощью измерений временных реакций или мозговых волн. На мой взгляд, тот факт, что такие замеры могут соотноситься с IQ, — еще одна причина усомниться в правомерности этого понятия.
Второй пример взят из более почтенного источника — это известное высказывание Сэмюэла Джонсона. Храбрый доктор однажды определил «настоящий гений» как «разум огромных общих способностей, которые случайно оказались нацелены в одном направлении». Хотя я и не сомневаюсь, что некоторые люди, возможно, обладают потенциалом достичь совершенства больше чем в одной области, но не могу согласиться с понятием огромных общих способностей. На мой взгляд, разум наделен потенциалом работать с разными видами содержания, но легкость, с которой человек управляется с одним содержанием, ничего не говорит о том, каковы будут его успехи с другими его видами. Иными словами, гениальность (и, a fortiori посредственные показатели), скорее всего, характерны для определенного содержания: люди развили в себе несколько видов интеллекта, а не пользуются лишь одним, гибким мышлением.
Поскольку я хочу представить свою работу в рамках обзора других попыток определить понятие интеллекта, то, мне кажется, будет полезно разделить историческую плоскость на несколько произвольных последовательных этапов: непрофессиональные теории; стандартный психометрический подход; плюрализация и иерархическая структура.
Непрофессиональные теории. На протяжении большей части истории человечества не существовало научного определения интеллекта. Конечно, люди достаточно часто говорили об интеллекте и называли окружающих более или менее «смышлеными», «тупыми», «умными» или «понятливыми». Таких выдающихся деятелей, как Томас Джефферсон, Джейн Остен, Фредерик Дуглас или Махатма Ганди, можно назвать «одаренными». Подобного неофициального распределения было достаточно для обычной жизни, но в основном потому, что люди редко спорили друг с другом относительно того, что они понимают под интеллектом.
Стандартный психометрический подход. Около столетия назад психологи предприняли первые попытки дать техническое определение интеллекта и разработать тесты, которые могли бы его оценить (см. начало главы 2). Во многих отношениях эти попытки были действительно передовыми и свидетельствовали о настоящем успехе научной психологии. Тем не менее, учитывая те факторы, за которые нельзя обвинять первых исследователей, широкая общественность часто неправильно понимала смысл «тестирования IQ», а у самих психометристов не наблюдалось никаких теоретических достижений (Gould, 1981).
Плюрализационный и иерархический подходы. Первое поколение психологов, изучавших интеллект, например Чарльз Спирмен (Spearman, 1927) и Льюис Термен (Тегтап, 1975), считали, что интеллект правильнее всего рассматривать как единую общую способность создавать понятия и решать проблемы. Эти ученые стремились доказать, что группа баллов в тестах отражает единый базовый коэффициент «общего интеллекта». Вероятно, сомнение в такой точке зрения неизбежно должно было возникнуть, и спустя годы такие психологи, как Л. Л. Терстоун (Thurstone, 1960) и Дж. П. Гилфорд (Guilford, 1967), доказывали существование множества факторов, или компонентов, интеллекта. В более широком смысле, книга Структура разума — это вклад в данное направление, хотя она принципиально отличается в том, что касается источника основных доказательств. Большинство сторонников плюралистической идеи доказывали свою точку зрения, подчеркивая незначительность совпадений среди разных тестов, я же основывал теорию множественного интеллекта на открытиях в неврологии, истории эволюции и кросс-культурных сравнениях.
Выделив несколько компонентов интеллекта, необходимо узнать, как они взаимосвязаны друг с другом. Некоторые ученые, например Раймонд Кеттелл (Cattell, 1971) и Филипп Верной (Vernon, 1971), утверждают существование иерархических связей между факторами интеллекта; при этом общий, вербальный или числовой интеллект стоит выше других, более специфичных компонентов. Другие исследователи, например Терстоун, сомневаются в необходимости создавать подобную иерархию и заявляют, что каждый компонент необходимо рассматривать как равноправный член однородной структуры. Эти три этапа были выделены перед первой публикацией настоящей книги в 1983 году. За последующие 10 лет я выделил еще как минимум два новых направления: контекстуализацию и дистрибуцию.
Контекстный подход. Учитывая общие тенденции в поведенческих науках, исследователи высказывали все больше сомнений по поводу психологических теорий, игнорирующих кардинальные различия между контекстами, в которых человек живет и развивается. Быть человеком в современном постиндустриальном обществе — это совсем не то же самое, что быть человеком неолита или в эпоху Гомера либо, уж если на то пошло, представителем общества, не ведающего грамоты, или страны третьего мира в наши дни. Отказываясь от мнения, что человек наделен «интеллектом» независимо от культуры, в которой живет, многие ученые сейчас считают, что интеллект — это взаимодействие определенных склонностей и потенциала, с одной стороны, и возможностей и ограничений, характерных для данной культуры, — с другой. Согласно влиятельной теории Роберта Штернберга (Sternberg, 1985), составляющей интеллекта является чувствительность человека к меняющемуся содержанию окружающего мира. Отталкиваясь от работ советского психолога Льва Выготского (Vygotsky, 1978), многие ученые исследуют различия между культурами и их традициями, а не различия между людьми (Lave, 1988).
Дистрибутивный подход. Хотя идея дистрибутивного подхода может показаться отголоском контекстного, он изучает не структуры и ценности общей культуры или контекста, а связь человека с предметами или объектами в окружающей его обстановке. Согласно традиционному «антропоцентрическому» подходу, интеллект человека сосредоточен в его голове. Б принципе, уровень такого интеллекта можно измерить в изоляции. Однако с точки зрения дистрибутивного подхода, интеллект человека в равной мере присущ как черепной коробке, так и артефактам и окружающим людям. Мой интеллект не ограничивается пределами моего тела, он включает в себя мои инструменты (бумагу, карандаш, компьютер), мою систему записей (которые хранятся в папках, записных книжках, дневниках) и сеть моих помощников (сотрудники офиса, коллеги, другие люди, которым я звоню или кому отправляю сообщения по электронной почте). В книге под названием Distributed Cognition («Дистрибутивное познание»), которую готовит к печати Дж. Саломон (Salomon, in press), сформулированы принципы дистрибутивной теории. Полезную в этом отношении книгу Perspectives on Socially Shared Cognition («Социально ориентированные подходы к познанию») опубликовала Лорен Резник со своими коллегами (Resnick et ah, 1991).
Предпосылки контекстного и дистрибутивного подходов можно увидеть в первом издании Структуры разума. Например, в разговоре о пространственном интеллекте я подчеркивал, насколько этот вид интеллекта зависит от возможностей, имеющихся в данной культуре (от мореходства до архитектуры, от геометрии до шахмат), а также отметил, какое значение имеют различные инструменты и система обозначений для его развития у растущего ребенка. И все же, наверное, будет справедливым сказать, что в 1983 году я намного увереннее помещал множественный интеллект в черепную коробку отдельного человека, чем готов это сделать 10 лет спустя.
Будет ли интеллект и дальше вырываться за пределы мозга человека и проникать в сферу артефактов и контекстов общей культуры? Большинство исследователей, а особенно те из них, кто разделяет мнение, распространенное в Европе или Азии, ответили бы положительно, С такой точки зрения, идея о том, что интеллект сосредоточен исключительно в голове человека, и предположение о его гибкости представляют лишь англо-американскую тенденцию. Но приверженцы стандартного психометрического подхода не собираются признавать свое поражение.
И действительно, за последние 10 лет делались все новые попытки доказать традиционные взгляды на интеллект и его работу при выполнении стандартизированных тестов. Такие ученые, как Артур Дженсен (Jensen, 1980) и Ганс Айзенк (Eysenck, 1981), не только не отказались от мнения о едином интеллекте, но и с удвоенным энтузиазмом доказывали свою приверженность психометрическим принципам на основе того, что интеллект находится исключительно в мозге. Сейчас они заявляют, что интеллект отражает основное свойство нервной системы и его можно оценить электрофизиологическим путем, не прибегая к инструментарию типа «бумага-карандаш». Наш молодой коллега Майкл Андерсон (Anderson, 1988) представил сведения, которые позволяют предположить, что такие признаки интеллекта можно определить даже у младенцев. И, наверное, самый яркий пример — это работа, которую провели Томас Бушар и его коллеги (Bouchard et ah, 1990) из Университета Миннесоты. В своем исследовании монозиготных близнецов, выросших отдельно, они показали поразительно высокую степень наследуемости психометрических показателей человека, что может служить уникальным источником сведений по этому вопросу. Если точка зрения Бушара, Дженсена и Айзенка правильна, тогда нет необходимости обращать внимание на культурные, контекстные или дистрибутивные факторы.
Как быть в такой ситуации, когда одни исследователи интеллекта все больше углубляются в социальные и культурные аспекты проблемы, а другие собирают доказательства неврологической и генетической основы интеллекта? Могут ли и те, и другие оказаться правы? Я не думаю, что эти два направления исследований обязательно должны противоречить друг другу. Вполне может оказаться, что определенные характеристики нервной системы — скажем, быстрота и гибкость нервных процессов — преимущественно врожденные и лежат в основе успешного выполнения некоторых тестов типа «бумага-карандаш». Если это так, то «консервативные» исследования интеллекта будут и дальше иметь смысл. В то же время возможно, что формы проявления интеллекта вне ситуации тестирования, а также способы выполнения людьми социальных ролей в рамках своей культуре по-прежнему будут очень разнообразными: в данном случае «новаторский» подход к изучению интеллекта скажет свое веское слово. Подобный подход разделяют и другие авторы: так, в своей недавно опубликованной работе М. Андерсон (Anderson, 1992) подчеркивает влияние традиционной точки зрения на объяснение познания у младенцев, но также говорит и о важности подхода множественности интеллекта для объяснения дальнейшего развития человека.
Однако мне кажется, что «консерваторы» и «новаторы» скорее будут и дальше враждовать между собой, чем согласятся разделить сферы исследования интеллекта. Например, используя против психометристов их же собственное оружие, Стивен Сеси (Ceci, 1990) продемонстрировал, как даже простейшие из используемых ими методов (например, определение времени реакции) подвергаются воздействию со стороны факторов обучения и культуры. А мой коллега Роберт Левайн (LeVine, 1991) вывел термин новый энвиронментализм, с помощью которого поставил под сомнение результаты исследования близнецов, выросших отдельно, но в пределах одной и той же культуры США. По его мнению, сходство в тестовых показателях разлученных близнецов обусловлены тем, что они выросли в среде, представляющей собой лишь вариации жизни среднего класса в западном обществе.
СТРУКТУРА РАЗУМА И МОИ ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как я уже говорил, за последние 10 лет мы с коллегами проделали огромную работу по применению теории множественного интеллекта к образованию (см. Gardner, 1993). В частности, мы стремились объяснить разнообразие индивидуальных профилей интеллекта, существующее в пределах одной образовательной системы. Описывая «индивид-центрированную школу», мы указали способы, как можно учесть профиль интеллекта конкретного ребенка; как склонности каждого ребенка можно согласовать с учебной программой, особенно в том, что касается ознакомления с учебными предметами; а также какие возможности для получения образования вне школы есть у детей со специфическими профилями интеллекта.
В последнее время мы прилагали множество усилий для разработки надежных способов диагностики интеллекта, которые позволили бы выявить «чистый интеллект», не замутненный «призмами» языка и логики, которые подразумевают использование стандартизированных тестов типа «бумага-карандаш». Сначала мы полагали, что можно измерить интеллект человека в «чистом виде» и результат представить в виде профиля из семи составляющих. Но ближе познакомившись с контекстным и дистрибутивным подходами, мы поняли ошибочность и, наверное, невозможность оценить «необработанный» интеллект.
Теперь мы считаем, что интеллекты всегда проявляются в контексте особых заданий, сфер и дисциплин. Не существует «чистого» пространственного интеллекта, а есть пространственный интеллект, который выражается в том, как ребенок решает загадки, находит дорогу, строит фигуры из кубиков или играет в баскетбол. Точно так же взрослые не проявляют свои пространственные способности непосредственно, но являются более или менее искусными шахматистами, художниками или геометрами. Таким образом, мы уверены, что интеллекты необходимо оценивать, наблюдая за людьми, уже знакомыми с этими заданиями и имеющими некоторый опыт их выполнения, или знакомя людей с такими сферами знания и наблюдая, насколько удачно они поведут себя как при наличии, так и при отсутствии поддержки.
Такая перемена в философии психодиагностики отражает, вероятно, самый важный концептуальный прогресс в теории множественного интеллекта: различие между интеллектами, культурными сферами и социальным окружением. В первоначальной формулировке эти границы были указаны не очень четко, что запутало читателя и довольно часто мешало развитию моей мысли. Но благодаря сотрудничеству с такими учеными, как Дейвид Фельдман (Feldman, 1980, 1986) и Михали Чиксентмихали (Csikszentmihalyi, 1988), я смог четко разграничить эти понятия.
На индивидуальном уровне правильнее будет говорить об одном или нескольких интеллектах или интеллектуальных склонностях, которые человек получает при рождении. Эти виды интеллекта могут быть описаны в терминах нейробиологии. Люди рождаются в определенной культуре, где имеется множество сфер — науки, ремесла и другие виды деятельности, которыми можно овладеть, а затем оценить уровень владения ими. Уровень компетентности в каждой из этих культурных сфер может быть представлен в виде обезличенного продукта — например, книг, компьютерных программ или любого другого артефакта.
Между интеллектами и культурными сферами существует связь, но важно не путать эти понятия. Человек с музыкальным интеллектом, вероятно, заинтересуется музыкой и добьется в ней определенных успехов. Но для сферы музыкального исполнения требуются и другие виды интеллекта помимо музыкального (например, телесно-кинестетический и личностный), а музыкальный интеллект можно использовать и в тех культурных сферах, которые музыкой в строгом смысле не являются (например, танец или реклама). Другими словами, почти для всех культурных сфер необходимо отменное владение целым рядом интеллектов, а любой интеллект можно активизировать для использования во многих из доступных в данной культуре сфер.
Во время социализации взаимодействие происходит преимущественно между человеком и культурными сферами. Но как только человек добивается определенного мастерства, важным для него становится социальное окружение. Окружение — это социологический конструкт, который включает в себя людей, организации, механизмы поощрения и т. д. — все, что задействуется для оценки успешности деятельности данного человека. Если социальное окружение считает человека компетентным, то у него есть все шансы успешно применить свои знания на практике. Но с другой стороны, если данное социальное окружение не в состоянии вынести определенное суждение или если результативность деятельности оказалась низкой, тогда шансы для человека добиться чего-либо значительного заметно снижаются.
Понятия интеллекта, культурной сферы и социального окружения оказались не только полезными для объяснения множества вопросов, затронутых теорией множественного интеллекта, но и особенно важными для изучения творческих способностей. М. Чиксентмихали (Csikszentmihalyi, 1988) однажды оригинально заметил, что уместно задать вопрос: «Где находится творчество?» Ответ, естественно, предполагает, что такие способности присущи не только мозгу, разуму или личности отдельного человека. Скорее, творчество необходимо представлять как результат взаимодействия трех ключевых моментов: человека с его личным профилем способностей и ценностей; сферы деятельности, доступного для освоения в данной культуре; и суждений, которые выносятся социальным окружением человека относительно его компетентности. Если социальное окружение принимает предлагаемые индивидом нововведения, то человека (или его работу) могут считать творчески одаренным. Но если нововведения отвергаются, не понимаются или не считаются оригинальными, то продукция в данном социальном окружении просто не может считаться результатом творчества. Конечно, в будущем социальное окружение может пересмотреть свои предыдущие суждения.
Каждый ученый, работавший над этой формулировкой, по-разному использовал ее. Лично я считаю, что-творческий человек — это тот, кто регулярно решает проблемы или создает продукцию в своей культурной сфере, а его работа считается оригинальной и приемлемой признанными деятелями данного социального окружения. На основе такого определения я изучил работу шести мужчин и одной женщины, которые сыграли заметную роль в формировании современного западного сознания в начале XX века, — это Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Игорь Стравинский, Пабло Пикассо, Томас С. Элиот, Марта Грэхем и Махатма Ганди. Все они являются воплощением семи видов интеллекта (Gardner, готовится к печати).
Те, кто интересуются эволюцией теории множественного интеллекта, произошедшей с 1983 года, часто спрашивают, не добавились ли какие-то новые виды интеллекта к этой классификации, а может быть, из нее исключены некоторые первоначальные кандидаты. Могу ответить так: я решил пока не касаться устоявшейся классификации, хотя по-прежнему считаю, что, вероятно, существует некий вид «духовного интеллекта». Нужно отметить, что за последние 10 лет несколько изменились мои представления о «внутриличностном интеллекте». В Структуре разума я подчеркивал, насколько внутриличностный интеллект зависит от чувств человека. Если бы мне сегодня нужно было доработать эти разделы главы 10, я бы сделал акцент на важности иметь достоверную модель самого себя, а также быть в состоянии эффективно пользоваться ею для принятия решений относительно собственной жизни.
Кроме работы по применению теории множественного интеллекта в сфере образования и изучению творчества, я участвовал и в других исследованиях, тоже основанных на теории множественного интеллекта. Предположение о существовании разных интеллектов вызывает еще два вопроса: почему люди обладают определенными видами интеллекта и какие факторы приводят к развитию интеллектов именно в такой форме?
Эти вопросы тесно связаны с психологией развития, дисциплиной, которую я изучал. Мою собственную работу по исследованию интеллекта можно считать частью общей тенденции этой науки рассматривать разные сферы или «модули разума» (Carey & Gelman, 1991; Fodor, 1983; Keil, 1989). В результате этих продолжительных исследований была предпринята попытка определить, каковы различные ограничения в работе разума, — например, установить, какие предположения делают маленькие дети относительно чисел или причинности, какими стратегиями пользуются младенцы при освоении родного языка, какие понятия дети создают, а какие практически невозможно у них сформировать.
Исследование «ограничений» выявило, что к концу раннего детства дети уже обладают мощными и сложными теориями относительно окружающего их мира: мира физических объектов и сил; мира живых существ; мира людей, в том числе и их разума. Удивительно, но вопреки утверждениям великого исследователя в области психологии развития Жана Пиаже (Mussen & Kessen, 1983) эти наивные «понятия» и «теории» очень сложно изменить даже несмотря на обучение в школе. Поэтому часто бывает так, что «разум пятилетнего ребенка» не испытывает на себе никакого влияния школьных лет. В книге The Unschooled Mind («Необучаемый разум») (Gardner, 1991) я рассказывал о силе этих ограничений, доказав, что в любом предмете школьной программы разум пятилетнего по-прежнему крепко удерживает свои позиции.
Изучение множественного интеллекта вместе с исследованием ограничений разума приводят к формированию представления о человеке, которое значительно отличается от распространенного всего поколение назад. Во времена расцвета психометрических и бихевиористских теорий существовало распространенное мнение, что интеллект — это единая врожденная характеристика, а людей — с их изначальным состоянием «чистого листа» — можно обучить всему, если подойти к этой задаче с правильной стороны. Сейчас все больше исследователей склоняются к противоположному мнению: существует множество интеллектов, во многом независимых друг от друга; у каждого вида интеллекта есть свои сильные и слабые стороны; разум совсем не определен от рождения; невероятно трудно обучить человека тому, что идет вразрез с его «наивными» теориями или противоречит естественным этапам развития данного интеллекта и связанных с ним культурных сфер.
На первый взгляд, такое определение звучит смертным приговором системе формального образования. Очень сложно развить у человека один интеллект, что же говорить о семи? Очень сложно обучать даже тогда, когда есть что учить, а что же делать в случаях с явными отклонениями и значительными ограничениями для познания и обучения?
На самом же деле психология не руководит образованием (Egan, 1983), она просто помогает понять условия, при которых происходит процесс обучения. Слабости одного человека могут оказаться сильными сторонами другого. Семь видов интеллекта позволяют разработать семь способов обучения, а не один. А любые мощные ограничения, существующие в разуме, можно использовать для знакомства с определенным понятием (или целой системой мышления) таким образом, что ребенок быстрее запомнит его или, по крайней мере, не исказит. Парадоксально, но ограничения могут наталкивать на размышления и в конечном итоге освобождать разум.
КРИТИКА ТЕОРИИ МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В течение 10-летней дискуссии теория множественного интеллекта подверглась острой критике, а мне представилась масса возможностей отреагировать на эти выпады. Поскольку некоторые из замечаний и ответы на них уже были заранее предсказаны в главе 11 и изложены в книге Multiple Intelligence: Theory in Practice («Множественный интеллект: теория и практика»), теперь я сосредоточусь на тех вопросах, которые кажутся мне самыми важными: терминология, корреляция между интеллектами, интеллект и жизненные стили, функционирование интеллектов и опасность повторения ошибок тестирования IQ.
Терминология. Многие люди, легко признающие существование различных способностей и наклонностей, не согласны с использованием слова интеллект. «Талант — допустим, — говорят они. — Но интеллектом нужно называть более общие виды способностей». Конечно, можно по-разному играть словами. Но, пытаясь дать узкое определение интеллекта, можно легко упустить из виду те способности, которые не попадают в такое понятие. Например, танцоры или шахматисты могут быть талантливыми, но не смышлеными. Мне кажется, музыкальные или пространственные способности вполне можно назвать талантом, но только если закрепить то же понятие и за речью или логикой. Однако я не согласен с предположением, что одни способности человека можно произвольно счесть пригодными для того, чтобы называться интеллектом, а другие — нет.
Корреляция между интеллектами. Некоторые критики напомнили мне, что существует общая положительная корреляция (так называемое позитивное многообразие) между результатами различных тестов способностей (скажем, пространственных и лингвистических). Другими словами, в психологии почти каждый тест способностей связан, по крайней мере незначительно, с другими тестами. Такое положение дел успокаивает тех, кто отстаивает существование «общего интеллекта».
Я не могу признать существование такой корреляции. Почти все современные тесты интеллекта составлены так, что основываются преимущественно на лингвистических и логических способностях. Часто сама формулировка вопроса может содержать подсказку. Получается, что человек, владеющий достаточными навыками для того, чтобы добиться успеха в этих сферах, покажет хорошие результаты даже в тестах музыкальных и пространственных способностей, а тот, кто не слишком одарен лингвистически или логически, не справится с такими стандартными тестами, даже обладая незаурядными способностями в тех сферах, которые как раз и проверяются.
Правда состоит в том, что мы до сих пор досконально не изучили, насколько в действительности взаимосвязаны разные виды интеллекта (или, как я привык говорить, проявления разных интеллектов). Мы не знаем, может ли человек, обладающий интеллектом для успешной игры в шахматы или занятий архитектурой, одновременно иметь способности, достаточные для того, чтобы преуспеть в музыке, математике или риторике. И мы не узнаем этого, пока не разработаем такие способы диагностики, которые давали бы верное представление об интеллектах. Тогда у нас будут все шансы установить определенные корреляции между интеллектами, и в результате подобных открытий изменится все представление о сфере познания человека. Но я бы очень удивился, если бы большая часть интеллектов, представленных в этой книге, исчезла в свете таких находок; однако намного легче соглашусь с возможностью появления новых видов и подвидов интеллекта.
Интеллект и стилевые характеристики. Многие указывали на то, что моя классификация видов интеллекта похожа на те, которые были составлены исследователями, занимавшимися стилями обучения, стилями деятельности, личностными стилями, человеческими архетипами и т. п. Меня спрашивали, что же нового содержится в моей формулировке. Безусловно, у этих классификаций обязательно будет что-то общее, и я вполне могу рассматривать многие из тех вопросов, которыми занимаются при изучении стилевых характеристик. Но все-таки три аспекта моей теории действительно оригинальны.
Во-первых, я выделил семь видов интеллекта уникальным, на мой взгляд, методом: с помощью синтеза важных научных открытий, касающихся развития человека и нарушений такового, структуры мозга, эволюции и тому подобных понятий (см. главу 4). Большинство других классификаций рассматривают либо корреляции между результатами тестов, либо эмпирические наблюдения, например, за учениками в школе.
Во-вторых, мои виды интеллекта особенно тесно связаны с содержанием. Я утверждаю, что люди обладают определенными интеллектами благодаря информационному содержанию, которое существует в мире, — числовой информации, пространственной информации, информации о других людях. Большинство исследований стилевых характеристик проводились в отрыве от конкретного содержания; например, человека называют импульсивным, задумчивым или эмоциональным «по жизни».
В-третьих, интеллекты не являются аналогами стилевых характеристик и не могут быть сведены к последним — для них требуются отдельные категории. Возможно, стилевые характеристики связаны с интеллектами, или наоборот. Более того, существует эмпирическое свидетельство по этому вопросу. В рамках нашей образовательной программы для маленьких детей, которая называется проектом «Спектрум» (Gardner & Viens, 1990), мы выяснили, что определенные «стили деятельности» действительно непосредственно связаны с содержанием самой деятельности. Один и тот же ребенок с одним содержанием работает вдумчиво, заинтересованно, а с другим ведет себя импульсивно или невнимательно. Почему это происходит, мы не знаем, но этот факт не позволяет прийти к заключению, будто стилевые характеристики не зависят от содержания или что интеллекты могут быть сведены к стилевым характеристикам.
Функционирование интеллектов. Некоторые сочувствующие критики не сомневались в существовании нескольких видов интеллекта, но критиковали меня за то, что я занимался исключительно их описанием. С их точки зрения, задача психолога — определить процесс функционирования умственной деятельности.
Я признаю, что Структура разума во многом описательна. Уверен, что с такого описания лучше всего начинать, т. е. обосновывать положение о множественности интеллекта. Конечно, книга не содержит никаких ограничений для дальнейшего исследования процессов работы интеллектов, и в ней я часто высказываю предположения о том, какие процессы и операции могут быть связаны с пространственным, музыкальным и другими видами интеллекта.
Вероятно, стоит отметить, что во время выхода книги Структура разума большинство психологов были уверены, что обработку человеком информации лучше всего можно представить в виде компьютера фон Неймана. За последние годы эта точка зрения кардинально изменилась, и считается, что правильнее всего можно объяснить познание человеком человека (или артефакта) с помощью так называемой параллельнодистрибутивной обработки (Gardner, 1987). Возможно также, что в 1983 году я неумышленно воздержался от более подробной характеристики каждого вида интеллекта, потому что к 1990 году такую работу считали бы в корне ошибочной. И все же, поскольку научный прогресс стал возможен только благодаря разработке детальных моделей, подлежащих проверке, совершенствованию и опровержению, я приветствую попытки «смоделировать» различные интеллекты и выяснить, как осуществляется их совместная работа.
Опасность повторения ошибок тестирования IQ. Многие критики интеллекта и тестов интеллекта считают, что я совсем не поразил дракона, а лишь вооружил его дополнительными рогами и острыми зубами. С их пессимистической точки зрения, семь интеллектов — это еще хуже, чем один: теперь можно чувствовать себя ущербным в самых разных сферах, а саму классификацию можно применять и для того, чтобы приклеивать ярлыки отдельным людям и целым группам («Джонни одарен в физико-кинестетическом отношении», «У Салли только лингвистические способности», «Все девочки лучше в X, но намного хуже в У», «Эта этническая группа превосходит другие в интеллекте А, зато вот эта расовая группа демонстрирует лучшие результаты в интеллекте Б»).
Этим критикам я хотел бы сказать, что теория множественного интеллекта разрабатывалась как исключительно научная и не предназначена для социальной политики. Разные люди могут воспользоваться ею по-разному, как и любой другой теорией. Создатель теории не может, да и не должен, пытаться контролировать ее применение. Тем не менее у меня есть возражения по поводу недостатков, указанных в таких замечаниях. Не думаю, чтобы недостатки практики тестирования интеллекта нужно было обязательно связывать и с теорией множественности интеллекта. Я уверен, что невозможно оценить отдельный вид интеллекта в его чистом виде, а те способы диагностики, которым я отдаю предпочтение, радикально отличаются от применяемых в стандартизированных тестах интеллекта. Я не поддерживаю утверждений, что отдельные люди и целые группы обладают тем или иным интеллектуальным профилем. Если в один момент человек или группа проявляет определенный ряд интеллектов, то эта картина может быстро измениться.
Отсутствие развитого интеллекта одного вида может служить мотивацией для его совершенствования. Рассматривая в главе 14 метод музыкального образования, предложенный Ш. Сузуки, я хотел показать, что решение общества вкладывать значительные ресурсы в развитие определенного интеллекта может сделать все общество довольно образованным в этом отношении. Я убежден, что интеллекты не высечены из камня, они постоянно модифицируются в связи с изменениями доступных ресурсов, а вместе с этим меняется и восприятие человеком собственных способностей (Dweck & Licht, 1980). Чем больше человек верит в контекстный и дистрибутивный подходы к интеллекту, тем бессмысленнее утверждать, что интеллектуальные достижения имеют какие-либо пределы.
Иногда меня спрашивают, не обидно ли мне, когда люди используют мою теорию или понятия неприятным для меня способом. Конечно, такие случаи меня удручают, но я не могу отвечать за правильность или ошибочность использования моих идей другими людьми. И все же, если кто-то из моих коллег применял бы мои взгляды подобным образом, я бы попросил его создать отдельную терминологию и не связывать свою работу с моей.
Думаю, что дебаты о спорных вопросах теории множественного интеллекта будут продолжаться и в будущем. Я также надеюсь и на ее дальнейшее развитие. Для такого прогресса я во многом рассчитываю на своих учеников, уже выполнивших прекрасную работу, которой я восхищаюсь (например, Granott & Gardner, готовится к печати; Hatch & Gardner, готовится к печати; Kornhaber, Krechevsky, & Gardner, 1990).
Несомненно, образовательная работа и дальше будет продолжаться в традициях теории множественного интеллекта. Более того, кажется, что такие исследования расширяются с каждым месяцем. Я больше не могу уследить за тем, что происходит, не говоря уже об оценке качества этой работы. В книге Multiple Intelligence: Theory in Practice я попытался оценить сегодняшнюю ситуацию. Надеюсь дополнить количество публикаций, упомянутых здесь, и, конечно же, предоставлять информацию для проведения экспериментов и проектов в ключе теории множественного интеллекта.
В дальнейшем моя работа будет продолжаться в четырех направлениях.
1. Исследование различных контекстов, в которых развиваются интеллекты, и способов их развития. Я уже провел тщательное исследование интеллекта в рамках другой культуры — Китайской Народной Республики (Gardner, 1989), а теперь вместе с коллегами занимаюсь исследованием интеллекта в школьном контексте (Gardner et al., готовится к печати).
2. Изучение феномена человеческого творчества и возможностей для его роста. В своем последнем проекте, посвященном творцам современной эры, я развиваю метод, с помощью которого можно было бы изучить природу творчества в различных культурных сферах. При этом я исследую роль разных интеллектов и их комбинаций в творческих достижениях высшего порядка. Хотя этот подход основан на теории множественного интеллекта, он в то же время дополняет ее в некоторых отношениях. Творчество зависит не только от интеллекта, важную роль в нем играют личностные факторы, факторы культурной сферы и факторы социального окружения (т. е. общества в целом).
3. Изучение этических аспектов интеллекта. Интеллекты сами по себе не могут быть ни положительными, ни отрицательными. Иоганн Вольфганг Гете использовал свой лингвистический интеллект в позитивных целях, Йозеф Геббельс — для разрушения; Иосиф Сталин и Махатма Ганди понимали других людей, но использовали свои межличностные интеллекты противоположным образом. Меня интересуют два этических аспекта интеллектов человека. Первый: как можно гарантировать, чтобы каждый человек в полной мере реализовал свой потенциал? Второй: как направить использование этих интеллектов на добро, а не на зло? Оба эти вопроса связаны с политикой и «социальной инженерией» — сферами для меня новыми и коварными. И все же, достигнув среднего возраста, я чувствую, что должен хотя бы затронуть эти вопросы.
4. Изучение современного лидерства. Уже давно всем известно, что в наше время нет глобальных героев и лидеров. Но лично мне кажется, что в пределах отдельных культурных сфер у нас есть множество лидеров, т. е. мужчин и женщин, которые посредством своих достижений могут стать лидерами в отраслях науки, искусстве, бизнесе или технике. Но нам отчаянно не хватает лидеров в целом для общества, т. е. людей, которые могут обращаться (и быть услышанными) к группам с разными интересами и специализацией, а также затрагивать вопросы, касающиеся всего общества и даже всего человечества.
Я могу указать на одну возможную причину такой ситуации. Чтобы стать лидером в культурной сфере, где активизируется определенный интеллект, необходимо владеть этим видом интеллекта в совершенстве: тогда другие люди с готовностью пойдут за лидером и прислушаются к тому, что он говорит (или заметят, что он делает). Можно сказать, что представители одной культурной сферы имеют общий дискурс. Но для остального общества у такого человека нет автоматического, заложенного внутри способа привлекать сторонников. Будущий лидер должен уметь создавать свою историю об этом обществе, т. е. убедительный рассказ, в котором отражается его место в данном обществе и который может сплотить людей разных интеллектов, культурных сфер и приверженности в более эффективную общность. В чем состоит успешное лидерство — это предмет другого исследования, которое, я надеюсь, будет проведено в не очень отдаленном будущем. У меня не вызывает сомнений, что вопрос лидерства будет и должен выходить за рамки множественного интеллекта. Для него потребуются способности, речь о которых в данной книге не ведется, — способности, не связанные с интеллектами и влияющие на людей как с когнитивной, так и с эмоциональной или социальной стороны. Если сейчас мне кажется, что лучше всего начинать изучение человеческого разума с рассмотрения его структуры, отдельных интеллектов, входящих в его состав, в конце мы все же должны выяснить, как соединить эти элементы и мобилизовать их для выполнения созидательных задач.
Кембридж, штат Массачусетс. Ноябрь 1992 года.
Anderson, М. (1988). «Inspection Time, Information Processing, and the Development of Intelligence.» British Journal of Developmental Psychology 6.
Anderson, M. (1992). Intelligence and Development: A Cognitive Theory. New York: Blackwell Publishers.
Bouchard, T. et. al. (1990). «Sources of Human Psychological Differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart», Science 250, 223–228.
Carey, S. & Gelman, R. (1991). The Epigenesis of Mind. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
Cattell, R. (1971). Abilities: Their Structure, Growth, and Action. Boston: Houghton Mifflin.
Ceci, S. (1990). On Intelligence... More or Less. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Csikszentmihalyi, M. (1988). «Society, Culture and Person: A Systems View of Creativity». In R. J. Sternberg (Ed.) The Nature of Creativity. New York: Cambridge University Press.
Dweck, C & Licht, B. G. (1980). «Learned Helplessness and Intellectual Achievement». In J. Garber & M. E. Seligman (eds.) Human Helplessness: Theory and Applications. New York: Academic Press.
Egan, K. (1983). Education and Psychology: Plato, Piaget, and Scientific Psychology. New York: Teachers College Press.
Eysenck, H. J. (1981). The Intelligence Controversy. New York: John Wiley.
Jeldman, D. (1980). Beyond Universals in Cognitive Development. Norwood, N.J.: Ablex.
Feldman, D. & Goldsmith, L. (1986). Nature’s Gambit. New York: Basic Books.
Fodor, J. (1983). The Modularity of Mind. Cambridge: MIT Press.
Gardner, H. (1987). Предисловие к изданию The Mind’s New Science. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1989). To Open Minds: Chinese Clues to the Dilemma of Contemporary Education. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1991). The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books.
Gardner, H. The Creators of the Modern Era. New York: Basic Books. Gardner, H., Sternberg, R., Krechevsky, M. , & Okagaki, L. «Intelligence in Context: Enchancing Students’ Practical Intelligence for School.» In K. McGilly (Ed.) Classroom Lessons: Integrating Cognitive Theory and Classroom Practice. Cambridge: Bradford Books/MIT Press.
Gardner, H. & Viens, J. (1990). «Multiple Intelligences and Styles: Partners in Effective Education». In The Clearinghouse Bulletin: Learning/Teaching Styles and Brain Behaviour 4 (2), 4–5 (Seattle, Wash.: Association for Supervision and Curriculum Development).
Gould, S. J. (1981). The Mismeasure of Man. New York: W W. Norton. Granott, N. & Gardner, H. «When Minds Meet: Interactions, Coincidence, and Development in Domains of Ability». In R. J. Sternberg & R. K. Wagner, Mind in Context: Interactionist Perspectives of Human Intelligence. New York: Cambridge University Press.
Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill.
Hatch, T & Gardner, H. In press. «Finding Cognition in the Classroom: An Expanded View of Human Intelligence». In G. Salomon (Ed.) Distributed Cognition. New York: Cambridge University Press.
Jensen, A. (1980). Bias in Mental Testing. New York: Free Press.
Keil, F. (1989). Concepts, Kinds, and Cognitive Development. Cambridge: Bradford Books/MIT Press.
Kornhaber, M., Krechevsky, К., & Gardner, H. (1990). «Engaging Intelligence», in Educational Psychologist 25 (3, 4), 177–199.
Krechevsky, M. & Gardner, H. (1990) «The Emergence and Nurturance of Multiple Intelligences». In M. J. A. Howe (Ed.) Encouraging the Development of Exceptional Abilities and Talents. Leicester, England: British Psychological Society.
Lave, J. (1988). Cognition in Practice. New York: Cambridge University Press.
LeVine, R. (1991). «Social and Cultural Influences on Child Development». Paper delivered at the Centennial of Education at Harvard, Cambridge, Mass.: Harvard Graduate School of Education.
Mussen, P. & Kesse, W. (1983). Handbook of Child Psychology. Vol. 1. New York: John Wiley.
Resnick, L., Levine, J., & Teasley, S. D. (1991). Perspectives on Socially Shared Cognition. Washington, D.C.: American Psychological Association. Salomon, G. Distributed Cognition. New York: Cambridge University Press.
Spearman, C (1927). The Abilities of Man: Their Nature and Measurements. New York: Macmillan.
Sternberg, R. (1985). Beyond IQ. New York: Cambridge University Press. Terman, L. M. (1975). Впервые опубликовано в 1916 году. The Measurement of Intelligence. New York: Arno Press.
Thurstone, L. L. (1960). The Nature of Intelligence. Littlefield: Adams. Vernon, P. (1971). The Structure of Human Abilities. London: Methuen.
Vygotsky L. (1978). Mind in Society. Cambridge: Harvard University Press.
Основы
1 Идея множественного интеллекта
Маленькая девочка в течение часа общается с экзаменатором. Ей задают вопросы, цель которых — проверить широту ее кругозора («Кто открыл Америку?» «Для чего нужен желудок?»), словарный запас («Что такое нонсенс?», «Что означает понятие “кафедральный собор”?»), арифметические навыки («Если цена одной плитки шоколада — восемь центов, то сколько стоят три плитки?»), ее способность запоминать последовательность цифр (5,1, 7,4, 2, 3, 8), умение видеть сходство двух элементов (локоть и колено, гора и озеро). Девочку могут также попросить выполнить и другие задания, например разгадать ребус или расположить картинки таким образом, чтобы получилась законченная история. Затем экзаменатор подсчитывает правильные ответы и получает общий результат — коэффициент интеллекта девочки, или ее IQ. Вполне вероятно, что это число (его могут сообщить девочке) окажет заметное воздействие на ее будущее, повлияв на то, как девочку будут воспринимать учителя, и подтвердив или опровергнув ее право на получение некоторых привилегий. Значение, которое придается этому коэффициенту, все же имеет под собой некое основание, ведь как бы там ни было, результаты проверки IQ действительно отражают способности ученика осваивать школьные предметы, хотя мало в чем определяют его успех в дальнейшей жизни.
История, подобная описанной выше, повторяется ежедневно тысячи раз во всем мире, и, как правило, полученному результату придается большое значение. Конечно, для различных возрастных групп и этнических культур применяются разные варианты теста. Иногда он проводится не в виде общения с экзаменатором, а с помощью всего лишь ручки и листа бумаги. Но в целом характеристики теста интеллекта — ответы испытуемого на вопросы экспериментатора в течение примерно часа и сведение результатов к одному округленному числу — остаются неизменными независимо от места его проведения.
Многие наблюдатели недовольны таким положением дел. Интеллект не должен определяться только краткими ответами на сжатые вопросы — такие ответы говорят лишь о возможном успехе в учебе. И все же, поскольку понимание интеллекта не идет в ногу со временем и нет более совершенных методов оценить способности человека, такой способ тестирования обречен на универсальное применение в обозримом будущем.
Но что было бы, если бы мы дали свободу своему воображению и пристальнее рассмотрели те умения, которые на самом деле проверяются во время подобного тестирования во всем мире? Возьмем, например, жителя Каролинских островов, 12-летнего мальчика с атолла Пулуват, родители которого решили, что он должен стать искусным мореходом. Под руководством мастеров своего дела он научится соединять знания о мореходстве, звездах и географии, чтобы не заблудиться среди сотен островков. Или посмотрим на 15-летнего иранского юношу, который выучил наизусть весь Коран и овладел арабским языком. Теперь его отправляют в священный город, где он в течение нескольких лет будет набираться знаний под непосредственным руководством аятоллы, задача которого — сделать из парня учителя Корана и религиозного лидера. Давайте обратим внимание на 14-летнего мальчика из Парижа, который умеет программировать компьютер и начинает сочинять музыку с помощью синтезатора.
После минутного размышления становится понятно, что каждый из этих людей достиг высокого уровня компетентности в непростой сфере деятельности, и поэтому можно сказать, что все они демонстрируют поведение, обусловленное интеллектом. Но в то же время необходимо помнить, что современные методы диагностики интеллекта не столь совершенны, чтобы с их помощью можно было определить потенциал или достижения отдельного человека в навигации по звездам, в изучении иностранного языка или творческой деятельности с использованием компьютера. Проблема касается не столько технологии тестирования, сколько того, как мы привыкли понимать интеллект, а также наших прочно укоренившихся взглядов на этот вопрос. Только расширяя и обновляя наше понимание человеческого интеллекта, мы сможем разработать более точные методы его диагностики и более эффективные способы развития.
Во многих странах мира к такому же мнению пришли люди, работающие в сфере образования. Усиливается интерес к новым программам (некоторые из них действительно грандиозны), которые направлены на развитие интеллекта человека в рамках всей цивилизации, чтобы научить людей тому, что называется «предвосхищающим обучением», и объяснить им, в чем заключается их собственный потенциал. Любопытные эксперименты, от метода Ш. Сузуки по обучению игре на скрипке до методики LOGO по освоению азов компьютерного программирования, направлены на то, чтобы добиться от маленьких детей выдающихся показателей[9]. Одни из этих опытов оказались успешными, другие по-прежнему находятся в стадии разработки. И все же можно сказать, что как успех, так и неудача оказались результатом того, что не существует адекватной системы взглядов на интеллект человека. И уж тем более несомненно, что отсутствует подход к этому вопросу, учитывающий все разнообразие умений, о которых шла речь. Поэтому цель данной книги заключается в том, чтобы выработать такую концепцию.
В книге говорится о способностях человеческого интеллекта. Данная теория оспаривает традиционное представление об интеллекте, которое мы впитали либо явно (из психологических или школьных тестов), либо подсознательно (будучи представителями цивилизации, которая рассматривает вопрос функционирования человеческого мозга с несколько ограниченной точки зрения). Для того чтобы можно было проще разобраться с утверждениями новой теории, я хочу сначала изложить основные сведения о традиционной концепции: ее происхождение, причины живучести, самые важные вопросы, которые не были изучены до конца. И лишь после этого я вернусь к оригинальным воззрениям новой теории, которую и предлагаю вашему вниманию.
На протяжении более чем двух тысячелетий, по крайней мере с появлением греческих городов-государств, в дискуссиях по поводу положения человека в современной цивилизации преобладает ряд определенных мыслей. Все они подчеркивают важность умственных способностей, которым за это время давались различные названия — разум, интеллект или ум. В результате бесконечных поисков сущности человека неизбежным стал вывод, что мы отличаемся от животного царства стремлением к знаниям, поэтому те способности, которые важны для получения новых знаний, приобрели особое значение. Будь то философ-царь Платона, иудейский пророк, монах-переписчик средневекового монастыря или ученый в лаборатории, но человек, умеющий пользоваться возможностями своего разума, всегда выделялся на общем фоне. Призыв Сократа «Познай себя!» утверждение Аристотеля «Все люди по природе своей стремятся к знанию» или мысль Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» можно смело взять в качестве эпиграфа к изложению сути всей нашей цивилизации.
Даже в те мрачные времена, которые пришлись на период между классической эпохой и Возрождением, важность интеллектуальных факторов редко подвергалась сомнению. На заре Средневековья св. Августин, один из отцов веры, сказал следующее.
Основной творец и двигатель Вселенной — это разум. Следовательно, главная причина существования Вселенной — это благо обладания разумом, и это так... Из всех желаний человека стремление к разуму наиболее совершенно, наиболее величественно, наиболее полезно и бесспорно. Это высшая ступень совершенства, потому что насколько искренне человек стремится познать мудрость, настолько же он может насладиться истинным блаженством.
Через несколько столетий Данте высказал мысль, что «основная функция человеческого рода во всей его совокупности заключается в постоянном использовании всех возможностей разума, во-первых, для размышления, а затем, благодаря развитию и ради себя самого, — для применения их на практике». И наконец, в конце эпохи Возрождения, за 100 лет до Декарта, Фрэнсис Бэкон описал английский корабль в новой Атлантиде, оказавшийся у берегов острова Утопия, главная организация которого была огромным учреждением, посвященным научным исследованиям. Вот что говорит правитель этой страны прибывшим путешественникам.
Я поделюсь с вами величайшей драгоценностью, которая у меня есть, потому что передам вам во имя Бога и людей связь истинного государства дома Соломонова... Суть нашего общества — знание причин и тайных процессов всех вещей, а также расширение границ человеческой империи до тех пор, пока она не покорит себе все, что существует во Вселенной.
Конечно, уважение к знаниям — а значит, и к тем людям, которые обладают ими — не единственная причина, по которой мы пришли к такому довольно расплывчатому понятию, как «западный мир». Добродетель, вера и мужество тоже оставались лейтмотивом на протяжении столетий, больше того — иногда (если не всегда) они противопоставлялись тяге к знаниям. Поучительно, что даже если вера и любовь считались превыше всего, они в то же время, как правило, противопоставлялись здравому смыслу. Точно так же, когда лидеры тоталитарных государств пытались изменить свое общество в свете новых представлений, они традиционно «избавлялись» от тех мыслителей и интеллектуалов, которых не могли привлечь на свою сторону, — это можно расценить как еще одну извращенную похвалу мыслительным способностям человека.
Разум, интеллект, логика и знания не равнозначны, поэтому в данной книге прилагаются серьезные усилия для того, чтобы классифицировать навыки и способности, которые были объединены под общим названием «умственных». Но прежде всего я должен предложить новый подход к классификации — контраст между двумя традициями, которые на протяжении многих веков соревновались друг с другом и претерпевали изменения. Согласно утверждению греческого поэта Архилоха, можно выделить две разновидности людей: тех, кто рассматривает интеллект как единое целое, и тех, кто считает, что он состоит из нескольких составляющих. Первые не только верят в единую, неделимую способность, которая является характерной особенностью человека, но зачастую, исходя из этого, делают вывод, что каждый человек рождается с определенным количеством интеллекта, поэтому всех нас можно рассортировать согласно Богом данному интеллекту, или IQ. Подобный стиль мышления настолько прижился, что большинство из нас сразу же склонны оценивать людей как более или менее «умных», «одаренных», «находчивых» или «смышленых».
Не менее уважаемая западная традиция утверждает, что разум состоит из многочисленных частей или функций. В классическую эпоху было принято проводить черту между разумом, волей и чувствами. Средневековые мыслители создали тривиум грамматики, логики и риторики, а также квадривиум математики, геометрии, астрономии и музыки. С появлением психологии как отдельной науки было выделено еще больше возможностей человеческого разума. (Франц Йозеф Галль, о котором я подробнее расскажу чуть позже, установил 37 дарований, или способностей мозга; Дж. П. Гилфорд, современный ученый, насчитывает 120 векторов разума.) Некоторые из них также склонны считать, что способности являются врожденными, но в то же время многие ученые из этой группы убеждены, что окружающая среда и обучение изменяют (и улучшают) таланты человека.
Споры между этими двумя подходами, имеющие многовековую историю, продолжаются и в наши дни. В сфере изучения мозга можно выделить группу так называемых локализаторов, которые убеждены, что отдельные участки нервной системы ответственны за проявление тех или иных умственных способностей. Этим ученым возражают холисты, считающие, что основные функции интеллекта присущи всему мозгу в целом. По вопросам проверки уровня интеллекта непрекращающиеся дебаты ведутся между последователями Чарльза Спирмена, которые не сомневаются в общем факторе интеллекта, и теми, кто по примеру Л. Л. Терстоуна считают мозг совокупностью первичных умственных способностей, ни одна из которых не выступает доминирующей. В вопросе развития ребенка продолжались напряженные споры между учеными, которые выдвигали постулат об общей структуре интеллекта (например, Жан Пиаже), и теми, кто представляют интеллект в виде большого и относительно разобщенного набора умственных навыков (теория обучения посредством воздействия окружающей среды). Отголоски подобного противостояния слышны и в других науках.
Таким образом, вопреки распространенному мнению, в течение столетий продолжаются споры об уместности разделения интеллекта на составные части. Как это часто бывает, многие сложные вопросы, с которыми столкнулась наша цивилизация, до сих пор не получили ответа. Сомневаюсь, что когда-нибудь можно будет прийти к однозначному выводу, удовлетворяющему каждого, в вопросах свободы воли или конфликта между верой и разумом. Но в других случаях надежда на прогресс остается. Иногда подобное продвижение вперед оказывается возможным в результате логического объяснения, если, например, становится очевидной ошибочность какого-либо утверждения. (Больше никто не упорствует в заблуждении, будто непропорциональные лица на портретах Эль Греко явились результатом астигматизма художника, поскольку было доказано, что это заболевание не стало бы причиной изображения удлиненных лиц. Художник, страдающий астигматизмом, воспринимал бы лица на холсте (и в повседневной жизни) несколько удлиненными, но на самом деле эти же лица для здорового глаза казались бы совершенно нормальными.) Подчас прогресс оказывается результатом сенсационных научных открытий (находки Коперника и Кеплера в корне изменили наше представление об устройстве Вселенной). А иногда прогресс имеет место, если большой пласт информации вписывается в канву убедительных доказательств (как это случилось, когда Чарльз Дарвин в ходе развития своей теории эволюции пересмотрел огромное количество свидетельств развития и дифференциации видов).
Возможно, наконец пришла пора понять кое-что и в структуре человеческого интеллекта. В настоящее время нет ни сенсационного научного открытия, ни осознания какого-либо логического заблуждения. Скорее всего, можно сказать, что из самых разнообразных источников к нам поступает большое количество доказательств. Все эти свидетельства, которые в последние несколько десятилетий накапливались особенно интенсивно, кажется, всерьез воспринимаются (по крайней мере, боковым зрением) теми учеными, которые действительно стремятся познать суть человека. Но редко когда, если это вообще случалось, линии конвергенции сходились на непосредственном и систематическом исследовании, и уж тем более эти взгляды не были доступны широкой общественности. Вот почему целью данной книги является подобное противопоставление и сравнение.
В следующих главах я покажу, что имеются убедительные доказательства существования нескольких относительно автономных интеллектуальных способностей, которые в дальнейшем для краткости будут называться «интеллектами человека». Это та «структура разума», которая вынесена в название книги. Точная природа и глубина каждого вида интеллекта до сих пор не была определена, кроме того, не называлось и точное количество этих интеллектов. Но правдивость того, что существует несколько их видов и они относительно независимы друг от друга, а также того, что их можно развивать и комбинировать в самых различных вариантах как для отдельного человека, так и для всей культуры, как мне кажется, больше нельзя отрицать.
Предыдущие попытки выделить виды интеллекта (а они предпринимались неоднократно) оказались неубедительными в основном потому, что основывались на одном или в лучшем случае двух доказательствах. Отдельные «разумы» или «подвиды» определялись исключительно путем логического анализа, исключительно на основе исторического развития педагогических дисциплин, исключительно по результатам тестирования интеллекта или же исключительно на основе взглядов, сложившихся в процессе изучения мозга. В ходе таких разрозненных попыток редко когда получалось составить одинаковую классификацию видов интеллекта, поэтому сложилось впечатление, что постулат о множественности интеллекта трудно доказать.
Мой подход совершенно иной. Пытаясь доказать истинность идеи о существовании множественного интеллекта, я проработал доказательства, полученные из разнообразных и, следовательно, не связанных между собой источников: исследований вундеркиндов, одаренных людей, пациентов с травмами мозга, ученых идиотов (индивидов, страдающих нарушениями интеллектуального развития, но демонстрирующих при этом поразительное развитие каких-либо отдельных способностей), нормальных детей, нормальных взрослых, специалистов в определенных отраслях и представителей различных культур. Предварительная классификация возможных интеллектов была составлена (и в некоторой степени подтверждена) с помощью этих разнообразных источников. Я выделил только те интеллекты, которые могут относительно изолированно развиваться в специфической популяции (и не быть изолированными в «нормальной» популяции); те, которые могут особенно успешно развиваться у отдельного человека или в отдельной культуре; те, существование которых может подтвердить любой психометрист или исследователь-экспериментатор, выявляющий основные способности, которые в результате и составляют интеллект. Отсутствие некоторых или всех этих признаков, конечно, исключает определенный интеллект из возможных кандидатов. В повседневной жизни, о чем я расскажу подробнее, все виды интеллекта, как правило, гармонично сотрудничают, поэтому их автономию можно не заметить. Но если при исследовании воспользоваться подходящим увеличительным стеклом, то особенности каждого из интеллектов становятся видны с убедительной (а зачастую и удивительной) ясностью.
Таким образом, основная задача данной книги — доказать существование множественного интеллекта. Независимо от того, насколько убедительны свидетельства в пользу определенного интеллекта, я собрал под одной обложкой несколько разрозненных объемов знания, которые до сих пор были относительно разобщенными. Кроме того, у этой книги есть еще несколько целей — одни из них исключительно научные, другие же имеют практическое значение.
Прежде всего я стараюсь расширить границы когнитивной психологии и психологии развития (две области, которые мне как исследователю наиболее близки). С одной стороны, это расширение идет в направлении биологических и эволюционных истоков познания, с другой — причин культурных вариаций когнитивной компетентности. На мой взгляд, визиты в «лабораторию» исследователя мозга и проверка полученных результатов «в полевых условиях» какой-либо экзотической культуры должны стать неотъемлемой частью обучения для тех, кто интересуется особенностями познания и развития.
Во-вторых, мне хотелось бы изучить возможность применения теории множественного интеллекта в сфере образования. Мне кажется, интеллектуальный профиль (или склонности) человека можно определить в раннем возрасте, а затем воспользоваться этими знаниями, чтобы предоставить ему больше возможностей и вариантов для обучения. Можно выделить детей с необычными способностями в отдельную группу, занимающуюся по особой программе, точно так же, как и разработать специальные программы обучения для тех, кто наделен нетипичным или дисфункциональным профилем интеллектуальных способностей.
В-третьих, я надеюсь, что это исследование вдохновит антропологов, занимающихся вопросами образования, на создание модели того, как в зависимости от особенностей культуры можно активизировать развитие интеллектуальных способностей. Только с помощью такой работы можно будет установить, применимы ли теории обучения и преподавания в любой стране независимо от национальных характеристик, или же их необходимо постоянно модифицировать и совершенствовать с учетом особенностей каждой отдельной культуры.
Наконец — это самая важная, но в то же время и самая сложная задача, — я надеюсь, что точка зрения, которую я излагаю в своей книге, окажется полезной для теоретиков и практиков, занимающихся «развитием других людей». Обучение и развитие интеллекта, несомненно, относятся к «первоочередным вопросам мирового сообщества»: доклад Всемирного банка о развитии человека, эссе Римского клуба о предвосхищающем обучении и венесуэльский Проект интеллекта человека — вот три новейших наглядных примера. Слишком часто исследователи, работающие в этом направлении, основывались в своих умозаключениях на ошибочных теориях интеллекта или познания и в результате разрабатывали программы, которые не приносили достаточных плодов или же вообще оказывались непродуктивными. Чтобы помочь этим ученым, я создал схему, основанную на теории множественного интеллекта, и ее можно применить в любой ситуации, связанной с обучением. Использование этой схемы поможет избежать тех попыток, которые обречены на неудачу, и поддержать исследования, имеющие шанс на успех.
Я воспринимаю эту свою работу как вклад в зарождение науки о познании. В значительной степени я суммирую труды других ученых, но в то же время и предлагаю новое направление (при этом собираюсь четко заявить об этом). Некоторые из утверждений спорны, и я рассчитываю, что специалисты-когнитологи в конце концов тоже скажут свое слово. Вторая часть этой книги, ее «сердце», состоит из описания некоторых интеллектуальных способностей, в существовании которых у меня есть все основания не сомневаться. Но, как и подобает потенциальному вкладу в науку, я прежде всего (в главе 2) проведу обзор других теорий, чтобы охарактеризовать интеллектуальные профили, а затем, представив доказательства в пользу своей теории, вынесу ее (в главе 11) на суд критиков. В части II, в рамках своей задачи расширить исследования познания я воспользуюсь биологическим и кросс-культурным подходами и посвящу отдельные главы биологическим основам познания (глава 3) и культурным вариациям в образовании (глава 13). Наконец, выполнив намеченный план, в заключительных главах книги я подробнее остановлюсь на вопросах образования и политики.
И еще несколько слов о названии данной главы. Как я уже говорил, идея множественного интеллекта не нова, и я едва ли могу претендовать на исключительную оригинальность в том, что снова затрагиваю эту тему. Тем не менее, воспользовавшись словом «идея», я хочу подчеркнуть, что понятие множественного интеллекта не является доказанным научным фактом — это не более чем идея, которая в последнее время получила право на серьезное изучение. У нее неизбежно обнаружится большое количество недостатков, учитывая цели и объем книги. Но я надеюсь доказать, что «множественный интеллект» — это идея, время которой наконец пришло.
2 Ранние взгляды на природу интеллекта
Франц Иозеф Галль, будучи в конце XVIII века обычным школьником, заметил взаимосвязь между определенными умственными характеристиками своих одноклассников и формой их головы. В том числе он обнаружил, что мальчики с сияющим взглядом, как правило, обладали хорошей памятью. Став врачом и ученым, он вернулся к этой идее и через несколько лет положил ее в основу новой дисциплины под названием «френология», которая стремилась к признанию в качестве полноправной науки.
Основная мысль френологии проста. Человеческие черепа отличаются друг от друга, и их вариации обуславливают различия в размере и форме мозга. В свою очередь, различные участки мозга выполняют разные функции, следовательно, тщательно изучив форму черепа определенного человека, специалист сможет определить его сильные и слабые стороны, а также составить примерный набросок его умственных способностей.
Перечень функций и «органов» мозга, составленный Галлем и впоследствии видоизмененный его коллегой Йозефом Шпурцхаймом, представлял собой смесь различных понятий. Было выделено 37 отдельных функций, которые включали эмоциональные категории, например влюбчивость, любовь к детям или скрытность, такие чувства, как надежда, почтительность и самооценка, рефлексивные функции и перцептивные способности, в том числе в отношении восприятия речи и тональности (в музыке), а также чувствительность к таким визуальным характеристикам, как форма и цвет. Неудивительно (по крайней мере, для наблюдателей, написавших за эти годы множество бестселлеров), что френология Галля и Шпурцхайма стала невероятно популярной в Европе и США в первой половине XIX века. Это простое учение оказалось очень привлекательным, и каждый человек мог «испытать себя в нем». Известности молодой науки способствовал и тот факт, что ее признали многие ученые того времени.
Естественно, ретроспективно можно легко обнаружить недостатки френологической доктрины. Например, мы знаем, что фактический размер мозга не имеет явной связи с уровнем интеллекта. Более того, люди с очень маленьким мозгом, например Уолт Уитмен или Анатоль Франс, добились огромных успехов, в то время как люди с массивным мозгом иногда оказываются идиотами, а зачастую просто бывают посредственными. Кроме того, размер и форма самого черепа — это далеко не точный показатель важных особенностей конфигурации коры головного мозга.
И тем не менее было бы непростительной ошибкой как не обращать внимания на недостатки в утверждениях Галля, так и полностью отмахиваться от его теории. Как бы там ни было, Галль одним из первых современных ученых пришел к выводу, что различные участки мозга выполняют разные функции. Тот факт, что мы до сих пор не можем точно определить взаимосвязь между размером, формой и функцией, нельзя воспринимать как неопровержимое доказательство того, что это никогда не будет сделано. Более того, Галль высказал и другие важные идеи, и среди них следующую: не существует общих умственных способностей, таких как восприятие, память и внимание, скорее, нужно говорить о наличии различных форм восприятия, памяти и т. п. в каждом из имеющихся видов интеллекта, например в случае с речевыми и музыкальными способностями, а также способностями к построению зрительных образов. Хотя к этой идее на протяжении всей истории психологии никогда не относились серьезно, в ней есть над чем поразмыслить, и вполне может оказаться, что эта мысль была верной.
На протяжении целого столетия, последовавшего за высказанными Галл’ем предположениями, можно было наблюдать попеременное увлечение то утверждением о локализации функций, то скептическим отношением к тому, что между мозгом и поведением вообще существует какая-либо связь. Более того, подобные колебания не прекращаются до сих пор. Первые сомнения были высказаны через несколько десятилетий после того, как Галль впервые опубликовал в начале 1800-х годов свои труды. Ученые, например Пьер Флоуренс, проведя операции по удалению некоторых участков мозга животных и наблюдая за их изменившимся поведением, доказали, что некоторые из утверждений Галля безосновательны. Но в 1860-е годы его теория приобрела многочисленных сторонников после того, как французский хирург и антрополог Пьер-Поль Брока впервые продемонстрировал бесспорную взаимосвязь между повреждением определенного участка мозга и нарушением способности к познанию. В частности, Брока собрал доказательства того, что повреждение левой передней части коры головного мозга приводит к афазии, т. е. потере лингвистических способностей. За этим сенсационным открытием через несколько лет последовали многочисленные документальные подтверждения того, что различные повреждения левого полушария мозга могут вызвать нарушение определенных лингвистических функций. Одна травма влияет на чтение, другая может затронуть способность к перечислению или повторению. И снова победа осталась если не за френологией, то хотя бы за локализацией функций.
Попытки привязать мозг к умственным способностям, или, если на то пошло, обнаружить физические корни функций мозга, осуществлялись задолго до XIX века. Египтяне помещали мысль в сердце, а суждение — в голову или почки. Пифагор и Платон считали, что разум располагается в мозге. Точно так же Аристотель полагал, что основа жизни находится в сердце, а Декарт утверждал, что душа скрывается в эпифизе[10]. Ученые XIX века не первыми попытались классифицировать способности человеческого интеллекта (хотя классификация из 37 компонентов была все же несколько длинновата). Платон и Аристотель, несомненно, интересовались видами рациональной мысли и формами знания. Средневековые ученые размышляли о тривиуме и квадривиуме, о тех сферах знания, которыми должен был овладеть каждый образованный человек. В индуистском трактате «Упанишады» описываются семь видов знания. Что привнесли исследования XIX века — так это собственные предположения о профиле умственных способностей человека и, как результат, эмпирические попытки в клинических или экспериментальных условиях соотнести определенные участки мозга с особыми когнитивными функциями.
Серьезные попытки выделить психологию в отдельную науку начались во второй половине XIX века и связаны с именами таких ученых, как Вильгельм Вундт в Германии и Уильям Джеймс в США, которые представили логическое обоснование такой необходимости и были первопроходцами в этой области. Поскольку история донаучной психологии была скорее связана с философией, нежели с медициной, и поскольку первые психологи стремились представить свою дисциплину как науку, отличную от психиатрии и неврологии, то между новым поколением психологов и учеными, проводившими эксперименты на человеческом мозге, практически не было контактов. Возможно, в результате этого те категории мыслительного процесса, которые интересовали психологов, были чрезвычайно далеки от вопросов, интересовавших людей, изучающих мозг. Вместо того чтобы рассматривать проблему (как это делал Галль) с точки зрения определенного содержания (например, речь, музыка или различные виды образного восприятия), психологи пытались (и пытаются) вывести законы широких, «горизонтальных» пластов разума — т. е. таких функций, как память, восприятие, внимание, ассоциации и обучение. Считалось, что эти подвиды функционируют равнозначно — более того, слепо — в самых разнообразных условиях, независимо от конкретной сенсорной функции или содержания основного вопроса. Подобная работа ведется по сей день и имеет очень мало общего с открытиями, сделанными в результате изучения мозга.
Таким образом, одно направление научной психологии было занято поисками самых общих законов овладения человеком знаниями — сегодня это можно назвать принципами обработки информации человеком. Не менее активно проводились исследования по выяснению причин индивидуальных различий. Это были попытки составить конкретную классификацию способностей (или неспособностей) определенного человека. Крупный английский ученый Фрэнсис Гальтон около века назад способствовал началу изысканий в этой области. Особо интересуясь гениальностью, одаренностью и другими явными формами успеха, Гальтон разработал статистические методы, благодаря которым стало возможным классифицировать людей в зависимости от их физических и умственных показателей, а также соотносить эти выводы друг с другом. С помощью своего метода он доказал выдвинутое ранее предположение, что генеалогическая родословная и профессиональные достижения связаны между собой.
На самом деле для того, чтобы оценивать людей, необходимо было иметь в своем распоряжении многочисленные задания и критерии, которые можно было бы измерить и сравнить. Должно было пройти какое-то время, прежде чем психологи разработали разнообразные тесты и начали классифицировать людей, сравнивая их ответы на эти вопросы. Сначала преобладало мнение, что умственные способности можно адекватно оценить с помощью заданий, требующих применения органов чувств, — например, способность различать яркость, вес или звуки. Более того, Гальтон был убежден, что самые образованные и талантливые люди обладают обостренным чувственным восприятием. Но постепенно (и для этого было много причин) научный мир пришел к выводу, что если мы хотим точнее оценить интеллектуальные способности человека, нужно тщательнее изучать более сложные, или «молярные», способности, например те, что необходимы для овладения речью или для абстрактного мышления. Ведущим специалистом в этом вопросе был француз Альфред Вине. В начале XX века он вместе со своим коллегой Теодюлем Симоном составил первые тесты умственного развития, для того чтобы выявлять детей с задержкой в развитии, а других правильно распределять по классам в зависимости от их уровня.
Среди ученых и широких слоев населения восторг по поводу тестов интеллекта был таким же глубоким и намного более продолжительным, чем интерес к френологии за 100 лет до этого. Задания и тесты вскоре стали доступны каждому. Маниакальное стремление с определенной целью оценивать людей — будь то школа, армия, гражданское учреждение и даже социальное общение — подпитывало интерес к подобным тестам. По крайней мере, до недавнего времени большинство психологов разделяли мнение, что тестирование интеллекта — это величайшее достижение психологии, главный козырь в обосновании необходимости ее существования и важное научное открытие. Все, возможно, соглашались и с выводом британского психолога Ганса Юргена Айзенка, что понятие интеллекта «представляет собой настоящую научную парадигму в понимании Куна»[11].
История о возникновении теста интеллекта, а также о многочисленных спорах, которые он вызвал, рассказывалась уже столько раз, что я избавлен от необходимости повторять ее снова, рискуя спровоцировать новый виток дебатов. Многие ученые-психологи и почти все специалисты в других областях сегодня убеждены, что энтузиазм, вызванный тестами интеллекта, был чрезмерным и что как сами методы, так и условия их применения имеют множество ограничений. Кроме того, тестовые вопросы, несомненно, искажены в сторону представителей тех обществ, где имеется развитая система образования; особенно они близки тем, кто привык выполнять письменные задания, выдавая четко установленные ответы. Как я уже говорил, эти тесты могут быть полезны в школе, однако не способны точно предсказать достижения человека за ее пределами, особенно теперь, когда внимание уделяется более важным факторам, например социальному и экономическому фону. В последние десятилетия было много шума по поводу возможной наследуемости уровня IQ, и хотя немногочисленные светила позволяли себе утверждать, что IQ никоим образом не передается генетически, крайние предположения о наследственности внутри и между расами дискредитировали себя.
Здесь необходимо вкратце коснуться одного продолжительного спора по поводу тестирования интеллекта. Одну группу представляют ученые, испытавшие на себе влияние известного британского специалиста в области психологии образования Чарльза Спирмена, которые верят в существование g — общего фактора интеллекта, измеряемого в каждом задании теста интеллекта. С другой стороны, находятся сторонники мэтра американской психометрии Л. Л. Терстоуна, которые полагают, что есть небольшой набор первичных умственных способностей, относительно независимых друг от друга, для измерения которых необходимы разные задания. Более того, Терстоун выделил семь таких факторов — вербальное понимание, беглость речи, быстрота арифметических подсчетов, пространственное представление, ассоциативная память, скорость восприятия и рассуждение. (Другие менее известные ученые насчитывают намного больше независимых факторов.)
Главный акцент нужно сделать на том, что ни одна из противоборствующих сторон не смогла одержать победу. Причина этого проста: проблемы, связанные с подсчетом результатов, полученных в рамках тестирования, по своей природе больше связаны с математикой, поэтому не поддаются эмпирической оценке. Таким образом, если воспользоваться одним методом анализа, то результаты подтверждают идею о существовании д-фактора, если же применить другой, не менее правдоподобный способ статистического анализа, то достоверными покажутся утверждения о наличии относительно автономных умственных способностей. Как показал Стивен Джей Гулд в своей новой книге The Mismeasure of Man («Ошибки в тестировании человека»), эти математические оценки ни в чем не превосходят друг друга. Когда дело доходит до интерпретации результатов тестирования, мы сталкиваемся с проблемой вкусов и предпочтений, в результате чего невозможно прийти к истинно научному заключению.
Благодаря тому, что очень многие люди уже знакомы с процедурой диагностики IQ, мы теперь располагаем такой точкой зрения на интеллект, которая во многом пришла на смену модному в свое время тестированию умственного развития. Швейцарский психолог Жан Пиаже начал свою карьеру около 1920-го года в качестве исследователя, работая в лаборатории Симона, и вскоре особенно заинтересовался ошибками, которые делали дети при выполнении заданий теста интеллекта. Пиаже пришел к выводу, что важна не точность ответа ребенка, а направление его рассуждений, которое можно проследить, обратив внимание на предположения и умозаключения, приводящие к ошибочным ответам. Например, тот факт, что большинство четырехлетних детей думают, будто у молотка больше общего с гвоздем, нежели с отверткой, сам по себе ни о чем не говорит. Важно в этом случае то, что дети приходят к такому выводу потому, что их понимание схожести отражает физическую взаимосвязь (молотки находятся рядом с гвоздями), а не принадлежность к одной иерархической категории (инструменты).
Сам Пиаже никогда не выступал с критикой тестирования интеллекта, но, изучив его научные шаги, можно почувствовать, что его убеждения несколько отличны от программы Бине-Симона. Прежде всего, подход к диагностике IQ крайне эмпиричен. Он основывается на тестах, обладающих некоторой способностью предсказать успех в школе, и слегка затрагивает теорию работы разума. При подобном тестировании не уделяется внимания процессу обработки информации, тому, как человек подходит к решению проблемы. Все сводится к тому, правильный ли ответ дает испытуемый. С другой стороны, задания, входящие в состав тестов на определение IQ, явно микроскопичны, зачастую не связаны друг с другом и являются примером такого подхода к оценке человеческого интеллекта, который можно было бы назвать «стрельбой дробью». Во многих случаях задания слишком далеки от реальной жизни, они основаны исключительно на языке и на способности человека понимать слова; для них требуется также владение фактами об окружающем мире и умение улавливать взаимосвязь (и различие) между вербальными понятиями.
Большая доля информации, владение которой проверяется в ходе проведения тестов интеллекта, отражает знания, которые человек приобретает, находясь в определенной социальной или образовательной среде. Например, способность дать определение слову деликт или знание автора «Илиады» в значительной степени зависит от того, в какую школу ходит ребенок или каковы эстетические предпочтения его семьи. В то же время тесты интеллекта редко оценивают способность впитывать новую информацию или решать новые проблемы. Подобный сдвиг в сторону «кристаллизованных», а не «текучих» знаний влечет за собой поразительные последствия. Индивид может полностью утратить передние доли головного мозга, становясь при этом совершенно другим человеком, который не способен проявить инициативу или справиться с возникшими трудностями, — и, тем не менее, в таких случаях многие по-прежнему показывают очень высокие результаты в тестах интеллекта, вплоть до уровня гениальности. Более того, диагностика умственного развития ничего не говорит о потенциальной способности человека к дальнейшему совершенствованию. У двоих людей могут быть одинаковые показатели коэффициента интеллекта, при этом один человек может оказаться способным к невероятным интеллектуальным достижениям и в дальнейшем, а второй уже проявляет максимум своих возможностей. Говоря словами советского психолога Льва Выготского, тесты интеллекта не способны выявить ни малейшего намека на «уровень потенциального (или «ближайшего») развития человека».
Помня о подобных критических замечаниях, Пиаже за несколько десятилетий разработал радикально новый и крайне влиятельный взгляд на вопрос человеческого познания. По его мнению, любое изучение мышления должно начинаться с позиционирования человека, который пытается разобраться в мире. Человек постоянно строит предположения и тем самым пытается приобрести знания: он старается разобраться в природе материальных объектов, в том, как они взаимодействуют друг с другом в мире, а также стремится понять природу окружающих его людей, их мотивы и причины поведения. В конце концов, он должен связать всю эту информацию в одну рациональную историю, некий связный поток фактов о природе физического и социального миров.
Изначально младенец начинает изучать мир с помощью рефлексов, чувственного восприятия и физических действий. Через один-два года он доходит до «практических», или «сенсомоторных», знаний о мире предметов, о том, как они существуют во времени и пространстве. Вооружившись такой информацией, ребенок способен успешно найти себя в окружающей действительности и понять, что предмет может и дальше существовать во времени и пространстве, даже если он скрывается из виду. Затем малыш начинает совершенствовать интериоризированные действия, или умственные операции. Это действия, которые потенциально можно осуществлять в мире физических объектов, но благодаря недавно развившейся способности их необходимо реализовывать исключительно в уме, с помощью воображения. Например, чтобы добраться от того места, где он находится сейчас, до знакомой обстановки, ребенку не нужно проверять несколько маршрутов: он может просто понять, что, следуя по своим же следам, он вернется к исходной точке. В то же время ребенок учится применять символы: теперь он может использовать различные образы или элементы — такие как слова, жесты или картинки, — которые заменили бы объекты из «реальной жизни», благодаря чему он учится пользоваться разнообразными символическими системами, например речью или изображениями.
Такие развивающиеся способности интериоризации или символизации достигают высшей точки развития в семи-восьмилетнем возрасте, когда ребенок уже умеет совершать конкретные операции. Имея в своем распоряжении новый набор способностей, он может уже систематически размышлять о мире предметов, о числах, времени, пространстве, причинности и т. п. Поскольку ребенку больше не приходится просто обращаться с предметами согласно обстановке, он уже может оценить взаимосвязь между различной последовательностью действий. Таким образом, он осознает, что предметы можно располагать в другой последовательности, и при этом они не меняют своих свойств; что можно изменить форму материала, не затронув его массу; что на место можно посмотреть с различных позиций, а все элементы пространства останутся теми же.
Согласно утверждениям Пиаже, последняя ступень развития наступает в ранней юности. Овладев формальными операциями, подросток способен судить о мире не только с помощью действий или единичных символов, а скорее, замечая смысл, который скрыт в наборе взаимосвязанных предпосылок. Подросток привыкает думать, используя логику: теперь он напоминает ученого за работой, он выдвигает гипотезу в виде предположения, проверяет ее и пересматривает первоначальные предположения в свете полученных результатов. Имея подобные способности под рукой (или, лучше сказать, в голове), подросток достигает конечной стадии познания взрослого человека. Теперь он умеет мыслить логически и рационально, что так ценится на Западе и проповедуется математиками и учеными. Конечно, человек может и дальше совершать открытия, но это уже не повлечет за собой качественных изменений в его мышлении.
В этом кратком обзоре основных положений теории Жана Пиаже можно заметить как достоинства, так и недостатки его умозаключений. К безусловным достоинствам относится то, что Пиаже начал воспринимать детей всерьез, он предлагал им сложные задачи (особенно из области науки) и представил доказательства, что на каждом этапе среди всего многообразия умственных операций можно выделить одну общую организованную структуру. Например, с точки зрения Пиаже, ребенок на стадии конкретных операций способен решить всевозможные задачи, связанные с соотнесением чисел, причин, количества, объема и т. д., поскольку все это восходит к единой ментальной структуре. Точно так же, овладев формальными операциями, подросток демонстрирует структурированное единство операций и уже может логически размышлять о любых представленных ему предположениях. В отличие от разработчиков тестов интеллекта, Пиаже также серьезно отнесся к вопросам, которые философы, особенно Иммануил Кант, считали важнейшими для человеческого интеллекта. Среди этих тем — базовые категории времени, пространства, числа и причинности. В то же время Пиаже избегал тех форм знания, которые строятся на простом заучивании (например, значений слов) либо ограничены пределами той или иной культурной группы (как, например, ценители «высокого» искусства). Сознательно или нет, но Жан Пиаже создал прекрасный портрет той формы развития человеческого интеллекта, которая больше других ценится западной наукой и философией.
Но наряду с этими бесспорными достоинствами, которые сделали Пиаже настоящим теоретиком когнитивного развития, в его теории существуют и определенные недостатки, которые стали особенно очевидны в последние 20 лет. Прежде всего, хотя Пиаже нарисовал стройную картину развития, она представляет собой лишь один из возможных вариантов. Предложенная им модель развития практически игнорирует восточные культуры, а также первобытные сообщества, поэтому ее можно применить только по отношению к меньшинству даже на Западе. Шаги, связанные с приобретением других видов знания, — например, художника, юриста, спортсмена или политического лидера, — не учтены из-за того безраздельного внимания, которое Пиаже уделяет одному виду интеллекта.
Несомненно, теория Пиаже остается ограниченной, но она могла бы быть предельно точной в рамках тех условий, для которых была разработана. К сожалению, целое поколение исследователей-практиков, которые тщательно изучали взгляды Пиаже, считают иначе. Хотя в целом принципы развития, выведенные Пиаже, по-прежнему представляют определенный интерес, множество отдельных деталей просто ошибочны. Человек переходит из одной стадии в другую намного дольше и более постепенно, чем это описал ученый; более того, имеют место разрывы последовательности, о которой говорил Пиаже (это делает его теоретические выкладки особенно ограниченными). Например, дети, находящиеся на дооперациональном уровне развития, могут решать большинство задач, которые приписываются периоду конкретных операций. Это стало очевидным, как только усовершенствовались экспериментальные методы. Сейчас уже доказано, что дети могут осознавать числа, осуществлять сериацию[12] и преодолевать эгоцентризм уже в возрасте трех лет — подобные открытия в рамках теории Пиаже не только не предусматривались, но и были совершенно невозможны.
Еще одно утверждение ученого не выдержало критики. Он говорил, что обнаруженные им различные операции могут быть выявлены в любом контексте. (В этом отношении Пиаже напоминает тех, кто выдвинул предположение о «горизонтальных подвидах разума», т. е. был убежден в существовании всеобъемлющих процессов, таких как восприятие или память.) Однако на самом деле те операции, о которых говорил Пиаже, возникают довольно разрозненно: в случае с одними материалами или содержанием они оказываются успешными, а при работе с другими — нестойкими. Таким образом, например, ребенок, проявляющий способность запоминать один материал, не сможет этого сделать с другим. Пиаже осознавал, что операции кристаллизуются не мгновенно, он даже изобрел термин «декаляж» (decalage (фр.) — расхождение, расклинивание, смещение), тем самым признавая, что одни и те же операции могут возникать в разное время в случае с разными материалами. Но случилось так, что это смещение стало правилом в исследовании когнитивного развития. Не происходит объединения целого ряда способностей в одно и то же время (как это утверждал Пиаже), в действительности оказывается, что теоретически связанные способности проявляются не одновременно.
Заметны и другие просчеты теории. Несмотря на скептическое отношение Пиаже к тому, что вопросы тестов интеллекта формулируются словесно, его задания также зачастую передаются словами. А когда их выражают нелингвистическим способом, результаты очень часто отличаются от тех, что были получены в женевской лаборатории. Хотя задания Пиаже основательнее и сложнее тех, которые предпочитают применять в тестах интеллекта, многие из них все так же слишком оторваны от того типа мышления, которым в повседневной жизни пользуются большинство людей. Задания Пиаже до сих пор основываются на тех взглядах, которые в почете у лабораторных ученых. Наконец, несколько удивляет тот факт, что хотя представление Пиаже об активном, пытливом ребенке находит отклик у общественности, он почти не затрагивает творчество, которое лежит в основе науки, не говоря уже об оригинальности, которая особенно ценится в искусстве и других областях творческой деятельности. Из-за всех недостатков и неспособности охватить общую модель когнитивного развития, которую, как утверждается, проходят все нормальные дети, теория Пиаже — в своем законченном варианте ограниченная школьными упражнениями из курса старших классов — совершенно не имеет отношения к тому открытию новых явлений или постановке новых проблем, которые можно считать основными в работе разума. Возможно, его система — это лучшее, что у нас сейчас есть, но ее недостатки становятся все очевиднее.
Если 40 лет назад в моде было тестирование интеллекта, а теория Пиаже вызывала повышенный интерес 20 лет назад, то в настоящее время новая отрасль науки, которую часто называют «психологией информационных процессов» или «когнитивной наукой», овладела умами ученых, изучающих работу психики. Психолог, работающий в этой отрасли, пользуется методами, которые были созданы экспериментаторами в прошлом веке для исследования вопросов, подобных тем, которыми занимались Жан Пиаже и другие первопроходцы когнитивного подхода. Например, исследователь, работающий в информационной парадигме, пытается воссоздать посекундную (или даже в доли секунды) «микрогенетическую» картину умственных операций, которые осуществляются, когда ребенок решает задачу (или не справляется с ее решением). Процесс начинается с того, что информация воспринимается глазами или ушами, а заканчивается, когда устно или письменно выдается ответ. Вместо того чтобы просто описать две-три основные ступени, свойственные детям разного возраста, или предпочтительные для каждого случая стратегии, как это сделал бы Пиаже, психолог, работающий в русле информационного подхода, пытается до мельчайших подробностей описать все стадии, через которые проходит данный ребенок. Конечная цель такого подхода заключается в том, чтобы описать весь процесс настолько тщательно и детально, чтобы мыслительную работу человека можно было смоделировать на компьютере. Подобный описательный шедевр возможен только благодаря кропотливому анализу задачи, а также старательному изучению мыслей и поведения испытуемого.
Благодаря такому вниманию к деталям процесса и изучению микроструктуры задания информационный подход является для теории интеллекта настоящим прорывом по сравнению с предыдущими воззрениями. Теперь в нашем распоряжении имеется более динамичное понимание того, что происходит в ходе решения проблемы: «прием» информации, или механизмы доступа; разновидности оперативной или кратковременной памяти, которая удерживает информацию, пока она не запомнится; различные операции по расшифровке и преобразованию, которыми можно воспользоваться при работе с только что полученной информацией. Более того, разработано понятие исполнительных функций, «мета-компонентов» или других контролирующих механизмов высшего порядка, задача которых — решить, какими проблемами следует заняться, какие цели преследовать, какие действия выполнить и в какой очередности. Весь процесс носит явно выраженный оттенок интереса, который американцы испытывают к механике: что было сделано, в каком порядке, с помощью каких средств, чтобы получить желаемый результат.
Таким образом, психология информационных процессов стала результатом прогресса в определенных — но, на мой взгляд, не во всех — направлениях. Например, в отличие от парадигмы Пиаже, эта отрасль науки не располагает четко выраженной теоретической базой, в рамках которой различные формы познания могут убедительно соотноситься друг с другом (или отличаться между собой). Часто бывает так, что, изучив соответствующую литературу, можно предположить, будто существуют тысячи особых механизмов по обработке информации, которые выполняют ту или иную функцию, не связанную с другими. Но, подобно Пиаже, психологи, занимающиеся теорией информационных процессов, впадают в другую крайность: возникает радужное предположение, что существует единственный, общий механизм решения проблемы, применимый в любых условиях, с которыми может столкнуться человек. Хотя в теории мысль о едином «горизонтальном» методе решения проблем кажется привлекательной, в реальности оказывается, что те тщательно отобранные проблемы, к которым, как утверждают, этот метод был применен, невероятно похожи друг на друга. Поэтому предположение, будто мы пользуемся одним и тем же методом в различных ситуациях, теряет смысл. Нужно признать, что почти все задачи, решение которых изучает психология информационных процессов, как и в случае с теорией Пиаже, относятся к разряду математических или логических. Проблемы-прототипы, например, доказательство логических теорем, решение геометрических задач или игра в шахматы, кажется, напрямую заимствованы из архивов Пиаже, где он собирал свои интеллектуальные задачи.
Поскольку психология информационных процессов сейчас только зарождается, было бы, наверное, несправедливо критиковать ее за то, что в вопросах интеллекта эта наука пока не располагает значительными достижениями. Более того, ее недавняя весьма тесная связь с тестированием интеллекта вдохнула новую жизнь в эту несколько дискредитировавшую себя отрасль, поскольку такие исследователи, как Роберт Штернберг, попытались выяснить, какие операции выполняются при ответах на вопросы стандартного теста интеллекта. И все же, на мой взгляд, чрезмерная механизация этой модели мышления и склонность использовать задания, имеющие явно научную окраску, предвещают скорое появление долгосрочных проблем. Ясно одно: как и многие теории интеллекта, развивавшиеся в прошлом, теория информационных процессов имеет ярко выраженную небиологическую (если не сказать, антибиологическую) окраску, практически не принимая в расчет то, что уже известно о функционировании нервной системы. Кроме того, недостаточно внимания уделяется моменту творчества, который играет решающую роль в человеческих достижениях высшего порядка. Как правило, у задач, представленных для рассмотрения, имеется одно или, в крайнем случае, несколько решений, и не хватает заданий, где количество решений было бы неограниченным, не говоря уже о постановке новых проблем.
И наконец, самое серьезное возражение. Похоже, в настоящий момент нет определенной процедуры, по которой можно было бы определить победителя в спорах о психологии информационных процессов. Можно ли говорить о центральной, общей операции? Имеются ли общие приемы решения проблемы, а может; это всего лишь навыки, применимые только в отдельной культурной сфере? Какие элементы меняются с развитием — количество и размер участков накопления информации, разновидности имеющейся стратегии или же эффективность выполнения операций? Психологи, занимающиеся теорией информационных процессов, традиционно возражают: «Подобная критика оправдана сейчас, но окажется далека от истины, когда мы соберем больше данных. Когда нам удастся успешно воссоздать весь процесс на компьютере, мы поймем, какая модель лучше других воспроизводит мышление и поведение человека».
На мой взгляд, было бы упрощением принять концепцию некоего моделирующего устройства. Как только один психолог заявит, что кратковременная память может вместить нечто большее, чем пресловутое «магическое число» из семи объектов, то всегда найдется защитник классической теории, который просто иначе пересчитает эти объекты или заявит, что то, что прежде воспринималось как четыре предмета, можно «ужать» до двух. Другими словами, если не удастся разработать определенный критерий, по которому можно отличать один подход к обработке информации от другого, существует большая вероятность того, что в дальнейшем число не менее убедительных диаграмм и графиков, представляющих обработку потока информации, сравняется с количеством исследователей, которые занимаются этой проблемой.
Исследования, которые обращают внимание на один из аспектов деятельности человеческого интеллекта, неизбежно вызывают появление противоположного движения. Мы уже видели, что и коэффициент интеллекта, и концепция Пиаже, и теория информационных процессов направлены на решение определенной логической или лингвистической задачи. Ни одно из этих течений не учитывает биологию, ни одному из них не удается принять во внимание творческую деятельность более высокого уровня, и, кроме того, все они игнорируют разнообразие ролей, которые человек может исполнять в обществе. Как результат, в связи с этим возникла альтернативная точка зрения, которая как раз и занимается всеми этими проигнорированными вопросами.
Я не могу писать о данном, только что появившемся движении отстраненно, поскольку оно больше других связано с моей работой и наиболее полно соответствует моим личным убеждениям. Наверное, лучшим вариантом было бы считать этот финальный раздел введением в ту полемику, которой посвящены остальные главы книги, а не простым выводом из беглого исторического обзора, предпринятого на предыдущих страницах. В качестве «символа» такого «движения» я воспользуюсь местоимением «мы», когда буду описывать основные положения данной теории.
На протяжении почти всего XX века философы проявляли особый интерес к способности человека распознавать символы. Согласно мнению таких выдающихся мыслителей, как Эрнст Кассирер, Сьюзен Ланджер и Альфред Норт Уайтхед, способность использовать различные символические средства для передачи информации и при общении резко выделяет человека среди других существ. Использование символов было основополагающим в эволюции человека, благодаря ему возникла мифология, язык, искусство, наука. Кроме того, символика лежала в основе лучших творческих достижений, и все они были бы невозможны без этой человеческой способности.
Мы можем говорить О двух «парадигматических» сдвигах в философии. Сначала на смену интересу философии классической эпохи к предметам физического мира пришел интерес к разуму и его объектам, что особенно заметно в учении Дэвида Юма, Иммануила Канта и других мыслителей эпохи Просвещения. Однако в XX веке произошло еще одно смещение акцентов, на этот раз — в сторону символических средств мышления. Таким образом, большая часть современных философских исследований направлена на понимание языка, математики, изобразительных искусств, жестов и других символов, которыми пользуется человек.
Те же тенденции можно заметить и в психологии. В рамках этой науки мы тоже перешли от интереса к внешнему поведению — к особенностям деятельности и результатам работы психики, а особенно к разнообразным символическим средствам, используемым людьми. Отказавшись от мнения, что символические средства (т. е. способы передачи символов) — это прозрачный механизм, представляющий одно и то же содержание, некоторые исследователи — в том числе Дэвид Фельдман, Дэвид Олсон, Гавриэль Саломон и я — пришли к выводу, что первоочередное внимание необходимо уделить символическим системам человека. По нашему мнению, в процессе познания и обработки информации применение различных символических систем играет заметную роль. Эмпирическим остается вопрос о том, отличаются ли способности, необходимые для функционирования одной символической системы, например речи, от тех, что используются в случае с музыкой, жестами, математикой или изображениями. Точно так же еще не выяснено, является ли информация, полученная с помощью одного средства ее передачи (например, фильма), той же, что и полученная с помощью другого (скажем, книги).
Развивая такую символическую теорию, мы не предлагаем забыть о том ребенке, который фигурировал в теории Пиаже. Можно сказать, что мы, скорее, стараемся применить предложенные Пиаже методы и схемы, направив их на изучение не только лингвистических, логических или цифровых символов из его классической теории. В нашу задачу входит исследование всего диапазона символических систем, в том числе музыки, тела, пространства и даже личностных символических систем. Цель, в нашем понимании, состоит в том, чтобы разработать алгоритм развития каждой из этих систем и на практике установить, какие возможны между ними связи и различия.
Проблемой примирения плюралистического подхода к познанию с однолинейной схемой развития, которую предложил Пиаже, вплотную занялся Дэвид Фельдман. Согласно утверждениям этого психолога, изучающего развитие человека с точки зрения его образования, когнитивные достижения могут иметь место в самых разных областях. Некоторые культурные сферы, например логико-математическая, которую изучал Пиаже, универсальны. Их должны постигать (и постигают) люди во всем мире просто в силу своей принадлежности к одному виду, а также из-за необходимости существовать в свойственном ему физическом и социальном окружении. Другие сферы культуры специфичны. Например, способность читать важна во многих культурах, но неизвестна (или практически не ценится) в других. Если человек живет в обществе, где отсутствует данная культурная сфера, то он и не будет в ней совершенствоваться. Б то же время распространенность некоторых сфер ограничена отдельными узкими субкультурами в рамках одной культуры. Например, картографирование играет важную роль в некоторых субкультурах, но необязательно в других. Различаются также сферы, которые можно назвать крайне идиосинкразическими. Умение играть в шахматы, искусное владение правилами японской игры «го», способность легко разгадывать кроссворды несущественны для какого бы то ни было слоя общества, и тем не менее некоторые люди добиваются выдающихся успехов в этих областях в рамках определенной культуры.
Наконец, как противовес универсальным культурным сферам, существуют также и уникальные сферы, т. е. те области знания, овладеть которыми изначально может весьма ограниченное число людей. В качестве примера можно вспомнить об ученых-новаторах или о художниках, работающих в техниках, которыми в совершенстве владеют только они. Особенно притягательным кажется тот факт, что некоторые уникальные культурные сферы могут в конце концов стать настолько исследованными и изученными одним человеком или небольшой группой, что будут уже подвластны и другим людям. Многие научные и художественные достижения, например овладение счетом или теория эволюции, сначала были уникальными культурными сферами, но теперь доступны широким кругам населения. Возможно, те же процессы происходили и в прошлом в таких отраслях, как топография или чтение.
Внимание к совершенствованию в различных культурных сферах влечет за собой некоторые предположения. Одно из них заключается в том, что в рамках одной культурной сферы существует несколько этапов, или ступеней, совершенствования, начиная от уровня новичка, затем подмастерья и вплоть до статуса специалиста или профессионала. Независимо от культурной сферы должна существовать поэтапная последовательность, которой предстоит проследовать человеку (это полностью согласуется с теорией Пиаже). Однако люди значительно отличаются друг от друга по скорости, с которой они поднимаются по этим ступеням. Таким образом, вопреки утверждениям Пиаже, успех в овладении одной культурной сферой не обязательно связан с успешным совершенствованием в другой. По этому критерию культурные сферы можно отличать друг от друга. Более того, успех в определенной культурной сфере зависит не только от действий самого человека. Скорее, большая часть информации о той или иной культурной сфере содержится в самой культуре, ведь именно она определяет этапы и устанавливает пределы возможностей человека. Необходимо понять, что человек и его культура воплощают определенную последовательность этапов, при этом значительная часть информации, необходимой для развития, присуща непосредственно культуре, а не содержится лишь внутри черепа человека.
Такое внимание к развитию человека в той или иной культурной сфере подтолкнуло Фельдмана к решению заняться изучением детей-вундеркиндов. Вундеркиндом можно считать человека, который овладевает одной или несколькими культурными сферами с невероятной скоростью, и этот темп, как кажется, и отличает его от других людей. По мнению Фельдмана, само существование вундеркиндов является любопытным «совпадением» нескольких факторов. Среди них врожденная склонность, сильное давление со стороны родителей и семьи, великолепные учителя, высокая мотивация и, возможно, самое главное — культура, в которой у имеющейся склонности будет шанс развиться в полной мере. Изучая феномен вундеркиндов, можно наблюдать весь процесс обучения обычного человека в «ускоренной съемке». В отличие от человека в теории Пиаже, который продвигался по пути, общему для всех людей на планете, в основном благодаря самому себе, вундеркинд — это примечательное соединение «огромного количества» природной склонности с активным поощрением и структурой, присущими тому обществу, в котором он растет.
Пример вундеркиндов наглядно демонстрирует некоторые основные характеристики этого нового подхода к интеллектуальному развитию. Прежде всего, само существование вундеркиндов порождает проблему, с которой не способна справиться теория Пиаже: как человек может в столь раннем возрасте добиться совершенства всего в одной сфере развития? (От себя добавлю, что ни один из рассмотренных до этого подходов тоже не в состоянии адекватно ответить на этот вопрос.) Во-вторых, исследование вундеркиндов помогает разобраться в самом понятии особых символических сфер, поскольку вундеркинды чаще встречаются в одних областях (математика, шахматы) и почти не отмечены в других (литература). Изучение достижений таких чудо-детей подтверждает мысль Пиаже о том, что существует определенная последовательность этапов развития, поскольку продвижение вундеркинда вперед можно наглядно описать в виде набора этапов или ступеней. И поскольку появление вундеркинда невозможно без поддержки социального окружения, исследования в этой области помогают выяснить влияние общества на становление человека. Наконец, обращая внимание на людей, в чем-то отличных от других, например вундеркиндов, исследователи различных видов интеллекта имеют возможность на практике выяснить природу и функционирование определенных интеллектуальных возможностей в их первозданном виде.
Неудивительно, что каждый из упомянутых ученых, работающих над проблемой символических систем, проявляет интерес к тому или иному аспекту данной тематики. Например, Гавриэль Саломон, психолог из Израиля, исследует исключительно средства передачи: он занимается modus operandit[13] телевидения, книг и фильмов, а также тем, каким образом различными культурами подбираются те или иные символические системы и передаются средствами массовой информации. Кроме того, его также интересует вопрос, как можно заставить человека более полноценно воспринимать информацию из этих источников. Дэвид Олсон, психолог, занимающийся когнитивным развитием в Исследовательском институте образования в Онтарио, первым приступил к разработке данной темы, доказав, что даже при выполнении такого простого задания, как построение диагонали, способ донесения задачи во многом влияет на качество работы ребенка. В последнее время Олсон начал глубже изучать роль символических систем для грамотности. Он получил свидетельства, что если человек вращается в обществе, где ценится грамотность, то он учится (и размышляет) иначе, чем те, кто пользуются другими символами, в культурах с неразвитой системой образования.
Работая над гарвардским Проектом «Зеро», мы с коллегами пытались установить глубинную структуру развития в рамках отдельно взятой символической системы. Мы стремились определить, нет ли общих процессов, присущих различным символическим системам, а может быть, каждая символическая система возникла и развивалась по своим особым причинам. Затем во время дополнительных исследований в Бостонском медицинском центре для ветеранов мы с коллегами занялись противоположным вопросом. Как изменяются различные символические способности человека при травмах мозга? Оценивая информацию с точки зрения психологии развития и нейропсихологии, мы прилагали усилия для того, чтобы дать более точное определение структуры и организации символических способностей человека. Наша цель заключалась в том, чтобы обнаружить «естественные» символические системы: семейства взаимосвязанных (или противоположных по своему значению) символических систем, а также способы их репрезентации в нервной системе человека.
На мой взгляд (не рискну говорить за других в том, что касается теории символических систем), ключевой вопрос заключается в следующем: каково определение и структура отдельных символических сфер? Воспользовавшись логикой, можно заметить признаки неравенства среди различных символических систем. Именно это решили сделать Нельсон Гудман и другие философы. Можно также согласиться с исторической или культурной точкой зрения, воспринимая просто как данность набор символических систем или культурных сфер, которые были выбраны в рамках данной культуры для образования и общения. Продолжая развивать эту мысль, мы снова возвращаемся к топографии, шахматам, истории или географии, которые можно рассматривать в качестве подобных сфер просто потому, что они получили такой статус в рамках всей культуры. Кроме того, можно воспользоваться эмпирическим подходом тех ученых, которые проводят тестирование интеллекта: при этом нужно лишь определить, какие символические задачи могут быть выражены в терминах статистики, и предположить, что полученные результаты реально отражают уровень владения данной способностью. Если пойти этим путем, то окажется, что исследования ограничиваются природой используемых заданий. Следовательно, можно легко ошибиться, особенно если использовать идиосинкразический набор заданий.
Наконец, можно воспользоваться теорией нейропсихологии, которая изучает нарушения способности к символическому восприятию в результате повреждений мозга. Но даже у этого подхода (которому я так предан) имеются свои недостатки. С одной стороны, физическая близость тех или иных участков нервной системы не обязательно свидетельствует об их сходстве. Соседние участки коры головного мозга могут выполнять совершенно разные функции. С другой стороны, то, как культура «формирует» или «эксплуатирует» неокрепшие способности, может повлиять на весь набор этих умений. Возможно, именно поэтому в различных культурах встречаются разные модели умственных расстройств, как, например, бывает, когда в рамках двух культур развиваются радикально противоположные виды письменности, при этом в одной из них важную роль играет пиктография, а в другой — соответствие букв звукам. Травма, после которой в одной культуре (например, в Италии) нарушается способность читать, не наносит никакого вреда этим навыкам, если они развивались на основе иных механизмов (предположим, в Японии).
Нейропсихологический подход сталкивается и с другими трудностями. Хотя расстройства помогают лучше изучить организацию внутренних способностей, нельзя слепо утверждать, что подобное нарушение обычной деятельности мозга полностью объясняет особенности функционирования данного навыка. Причина, по которой сломалось радио (например, из-за повреждения штепсельной вилки), не всегда подскажет вам, как лучше всего описать режим обычной работы радиоприемника. Понимания того, что выключить радио можно, выдернув вилку из розетки, будет недостаточно, чтобы до конца понять механические и электрические принципы работы устройства.
Учитывая эти и другие недостатки каждого подхода к символическим системам, в последующих главах я намеренно старался придать материалу обобщенный характер. Я изучил информацию многочисленных источников — в том числе сведения о развитии, психометрические находки, описания специфических популяций, например умственно отсталых или вундеркиндов — и все это с единственной целью: найти оптимальный вариант описания каждой культурной сферы познания и символизации. Однако каждый исследователь не до конца объективен, и в моем случае я считаю, что самая ценная информация (и самая правдоподобная) возможна только благодаря глубокому пониманию работы нервной системы: как она устроена, как развивается, как происходят расстройства ее работы. Открытия в сфере изучения мозга, на мой взгляд, служат спасительным средством, главным арбитром среди соперничающих теорий познания. Поэтому, прежде чем приступать к изложению своей теории множественного интеллекта, я подробнее остановлюсь на некоторых последних достижениях биологии, имеющих отношение к нашей теме.
3 Биологические основы интеллекта
Всестороннее изучение жизни должно охватывать также природу и разнообразие человеческого интеллекта. Учитывая заметный прогресс, наметившийся в последние годы в таких отраслях, как биохимия, генетика и нейрофизиология, у нас есть все основания надеяться, что в конечном счете биологические науки смогут разобраться в этих явлениях. Действительно, уже давно пора дополнить наше понимание интеллекта человека открытиями, сделанными в различных отраслях биологии со времен Франца Йозефа Галля. Но поскольку психологи и биологи работают в разных направлениях, объяснение особенностей интеллекта лишь недавно вошло в сферу интересов биологии.
Изучив современные открытия в области исследования мозга и других отраслей биологии, я понял, что особенно очевидна их взаимосвязь с двумя вопросами, которые будут рассматриваться в данной книге. Первый вопрос касается гибкости человеческого развития. Основная проблема в этой сфере заключается в том, чтобы выяснить, насколько внешнее воздействие может повлиять на интеллектуальный потенциал и способности отдельного человека или группы. С одной стороны, развитие можно рассматривать как относительно неизменный, стабильный процесс, перемены в котором возможны лишь частично. Но существует и противоположное мнение, согласно которому развитию присуще намного больше гибкости или пластичности: если в критический период на человека оказать влияние извне, организм в результате приобретет значительно больше устойчивых способностей (и ограничений). С вопросом о гибкости тесно связана проблема обнаружения тех видов внешнего воздействия, которые окажутся самыми эффективными, а также понимание своевременности использования этих средств и осознание роли критических периодов, во время которых могут произойти самые значительные изменения. Только после того, как будут найдены ответы на эти вопросы, можно будет определить, какие именно модели образования принесут лучшие плоды и помогут человеку в полной мере развить свой интеллектуальный потенциал.
Второй вопрос, ожидающий своего решения, касается сущности, или природы, интеллектуальных способностей, которые человек может в себе развить. С одной точки зрения, о которой я уже говорил в связи с учеными, придерживающимися мнения о существовании общего интеллекта (д-фактора), человек наделен очень мощными возможностями, механизмом всесторонней обработки информации, которым можно воспользоваться в неограниченном количестве случаев. Противоположная точка зрения утверждает, что человек, как и другие виды животных, склонен выполнять определенные интеллектуальные операции и неспособен к выполнению других. Еще одна проблема, связанная с этим вопросом, заключается в следующем: нам необходимо понять, насколько готовы различные участки нервной системы выполнять эти отдельные операции. Исследовать этот вопрос можно на разных уровнях, начиная с функций отдельных клеток и заканчивая функциями обоих полушарий головного мозга. Наконец, как один из подпунктов вопроса о сущности интеллекта, биолог должен объяснить те способности (например, речевые), которыми в значительной степени владеют все нормальные люди, и противопоставить их другой группе способностей (скажем, музыкальным), где наиболее очевидны разительные различия между отдельными индивидами.
В целом все эти вопросы являются составной частью поисков общих принципов, которые руководят природой и развитием интеллектуальных способностей человека, а также определяют, каким образом эти способности организованы, функционируют и меняются в процессе жизни. Большое количество биологических исследований, как мне кажется, имеют отношение к этим вопросам, хотя полученная информация часто не рассматривается с данной точки зрения. Поэтому я предпринял попытку переворошить все эти груды результатов исследований и отобрать из них те, которые больше других касаются изучения человеческого мозга.
На мой взгляд, подавляющее большинство доказательств подталкивает нас к следующим выводам. Развитие человека происходит очень пластично и гибко, особенно в первые месяцы жизни. Но даже эта пластичность строго регулируется генетическими ограничениями, которые возникают с самого начала и направляют развитие в одну, а не в другую сторону.
Что касается вопроса сущности интеллекта, то появляется все больше свидетельств того, что человек предрасположен выполнять определенные интеллектуальные операции, природу которых можно установить с помощью тщательных экспериментов и наблюдений. Образование необходимо организовывать на основе знаний об этих интеллектуальных склонностях, а также о периодах их максимальной гибкости и приспособляемости.
Вот к каким выводам можно прийти, взвесив соответствующие открытия в биологии. Те, кто уже знаком с находками в биологии и сопутствующих ей науках, а также люди, которым не хватает терпения разбираться в тонкостях «непростых» наук, могут сразу перейти к главе 4, в которой я рассказываю о критериях интеллекта. Тех же, кого интересуют детали, лежащие в основе сделанных выводов, я приглашаю в царство генетики.
Если вы решили взглянуть на вопрос с точки зрения биологии, то неизбежно столкнетесь с тонкостями генетики. Более того, учитывая сенсационный прорыв в этой области после того, как около 30 лет назад Джеймс Уотсон и Франсис Крик «разгадали генетический код», не приходится удивляться, что психологи пытаются найти правильный ответ на загадку интеллекта в составе ДНК, РНК и их любопытном взаимодействии. Но, к сожалению, уроки этой отрасли науки совсем не так просты.
Несомненно, что для любого исследования в биологии за основу необходимо взять открытия генетиков. Ведь как бы там ни было, но мы представляем собой живые организмы, и в некотором смысле все, чего мы когда-либо сможем достичь, уже заложено в нашем генетическом материале. Более того, разница между генотипом (строением организма, обусловленным генами обоих родителей) и фенотипом (внешне выраженными характеристиками организма, проявляющимися в определенных условиях) играет важнейшую роль в понимании поведения и интеллектуального профиля любого человека. Не менее важно и значение вариативности: поскольку от каждого из родителей человек получает огромное количество генов, которые могут сочетаться в неограниченном количестве комбинаций, не стоит удивляться тому, что любые два человека (за исключением идентичных, или однояйцевых, близнецов) не будут похожи друг на друга или что у любых двух человек окажутся сходные интеллектуальные профили.
Самого заметного прогресса генетика добилась в объяснении простых особенностей простых организмов. Мы очень многое знаем о генетической основе строения и поведения плодовых мушек, а благодаря изучению моделей наследственности мы поняли, как передаются некоторые патологии человека, например серповидноклеточная анемия[14], гемофилия[15] и дальтонизм[16]. Но когда речь заходит о более сложных способностях человека — умении решать уравнения, ценить или создавать музыку, совершенствоваться в иностранных языках, — мы все еще не имеем понятия, какой генетический компонент за это отвечает и как он проявляется в фенотипе. Прежде всего, эти способности нельзя изучить в ходе лабораторных экспериментов. Более того, сложные особенности зависят не от одного гена или небольшой группы генов, а, скорее, отражают действие множества генов, количество которых может быть полиморфным (т. е. в разных ситуациях проявляться по-разному). Действительно, когда дело доходит до таких обширных и расплывчатых способностей, как интеллект человека, возникают сомнения, можно ли в этом случае вообще говорить об «особенностях».
Ученые, связанные с генетикой, конечно же, задумались над вопросом, что такое талант. Согласно одному из мнений, определенные комбинации генов могут взаимодействовать друг с другом и привести к выработке энзимов[17], которые влияют на структуру в одном из участков мозга. В результате воздействия энзимов эти структуры могут расширяться, увеличивать число своих соединений или осуществлять большее торможение, а любая из этих возможностей может проявиться в виде возрастания потенциала для значительных достижений. Но один тот факт, что все эти предположения построены на таком количестве недоказанных суждений, свидетельствует о том, насколько они далеки от реальности. Мы не знаем даже, проявляют ли люди, наделенные талантом (или страдающие явным умственным расстройством) , наследственную тенденцию формировать определенные нервные соединения (которые в таком случае можно было бы обнаружить и у их близких родственников), или же они просто представляют собой один из способов случайной комбинации генов (а значит, похожие черты могут быть в равной степени присущи двум разным людям, не состоящим в родстве).
Возможно, самые эффективные результаты исследований человеческих талантов можно получить, изучая близнецов. Сравнивая монозиготных близнецов с дизиготными или близнецов, выросших раздельно, с теми, кто рос вместе, мы можем многое понять из того, как наследственность влияет на черты. И тем не менее, ученые, располагающие одними и теми же сведениями, — и даже не подвергающие их сомнению, — могут прийти к совершенно разным выводам относительно наследственности. Так, на основе определенных математических и научных предположений некоторые исследователи, занимающиеся проблемой наследуемости интеллекта (на материале данных тестов интеллекта), полагают, что он передается по наследству на 80%. Другими словами, эти ученые отстаивают точку зрения, что до 80% изменчивости ответов на вопросы теста в пределах данной группы можно отнести на счет генетической составляющей. Другие исследователи, изучавшие те же факты, но пользующиеся другими предположениями, оценивают наследуемость интеллекта в 20% и даже ниже. Естественно, большинство ученых придерживаются золотой середины, и чаще других называются цифры от 30 до 50%. Никто не отрицает того, что физические черты явно обусловлены генетически и что особенности темперамента тоже зависят от генетического набора. Но когда речь заходит об особенностях когнитивного поведения человека или о его личности, высокий процент наследуемости не кажется столь убедительным.
В литературе по генетике мало встречается недвусмысленных ответов на вопросы, интересующие исследователя мозга. И тем не менее, существуют полезные концепции, которые могут помочь нам в наших изысканиях. Начнем с хорошо известного факта, что некоторые люди вследствие своего генетического строения относятся к «группе риска», считаясь предрасположенными к некоторым заболеваниям (например, гемофилии) или нарушениям развития нервной системы (подобно разнообразным задержкам развития). Этот факт сам по себе не утверждает, что они обязательно заболеют этими недугами, ведь здесь еще играют определенную роль факторы вероятности, воздействия окружения или специального ухода. Мы можем только утверждать, что при наличии равных условий у этих людей больше вероятность заболеть, чем у тех, кто не наделен подобной генетической предрасположенностью.
Проводя аналогию, было бы полезно считать определенных людей «предрасположенными» к развитию особого таланта. И опять, такое утверждение не гарантирует, что они обязательно многого добьются: человек не станет великим шахматистом или просто любителем, если у него нет шахматной доски. Но если он живет в среде, где играют в шахматы, и почувствует стимул к этому, то сможет быстрее овладеть тонкостями игры и стать в ней настоящим профессионалом. Предрасположенность — обязательное условие для становления вундеркинда. Однако благодаря особым методам обучения, например Программе развития дарования Сузуки по обучению игре на скрипке, даже человек, не проявляющий генетической склонности выше среднего уровня, может добиться значительных успехов за короткое время.
Еще одно направление предположений касается разнообразия характеристик и моделей поведения, на которые способны люди. В крупном и гетерогенном обществе, подобном нашему, где распространены межнациональные браки, можно выделить большое разнообразие черт. Но со временем яркие характеристики становятся менее заметными или полностью исчезают. Напротив, определенные народы (например, проживающие на изолированных островах южных морей) тысячелетиями жили своей обособленной группой и избегали каких бы то ни было контактов с другими народностями. У таких людей отмечается генетический дрейф: в процессе естественного отбора они развивают общий генофонд, который может разительно отличаться от генетического набора других популяций.
Из всех особенностей, которые накладываются необычным природным окружением или экзотической культурой, не всегда просто выделить чисто генетические факторы. И все же, как утверждает вирусолог Карлтон Гайдузек, изучавший многие примитивные сообщества, народы, подверженные генетическому дрейфу, часто обладают примечательным набором характеристик, в том числе редкими заболеваниями, иммунитетом, физическими чертами, поведенческими паттернами[18] и обычаями. Очень важно изучить эти факторы прежде, чем они окончательно исчезнут или станут невидимыми из-за вымирания группы или ее интенсивной ассимиляции с другими народами. Только благодаря тщательному документированию таких групп можно будет установить весь диапазон человеческих возможностей. Действительно, как только исчезнут такие народы, мы даже не сможем понять, какими способностями и качествами они обладали. Но если установить, что какая-то группа — более того, любой человек — добилась определенного совершенства в чем-то, то можно начинать поиски такой же черты у других представителей нашего вида. (То же самое возможно и в случае с нежелательными качествами в человеке, которые нужно выявить и избавиться от них.) Возможно, мы никогда определенно не установим, что у данной характеристики имеется генетическая составляющая, однако подобное доказательство не имеет значения для той цели, которую мы преследуем: задокументировать все разнообразие проявлений человеческой природы.
Посмотрим на этот вопрос с другой точки зрения. Наше генетическое наследие настолько разнообразно, что можно без доказательства принять наличие всевозможных способностей и навыков (а также болезней и расстройств), которые еще не появились или о которых мы еще не узнали.
Благодаря генной инженерии перед нами возникает бесчисленное количество возможностей. Человек с развитым воображением легко может представить некоторые из них. Однако самой разумной стратегией было бы собирать доказательства среди народов, населяющих нашу планету и живущих на разных ступенях развития, чтобы выяснить, какие способности уже действительно развились. Изучение удаленных и изолированных групп — находка для генетика — очень полезно и для психолога. Чем разнообразнее популяции людей, тем больше вероятность, что классификация видов интеллекта человека, составленная на основе их изучения, окажется точной и обстоятельной.
В то время как генетика по-прежнему лишь ограниченно применяется к изучению интеллекта, обзор нейробиологии — в том числе таких ее разделов, как анатомия нервной системы, нейропсихология и нейрофизиология — обещает быть намного полезнее. Знания о нервной системе накапливаются так же быстро, как и сведения о генетике, а находки намного ближе, если так можно сказать, к феномену познания и разума.
Кананизирование или пластичность
Данные нейробиологии дают ответы на два главных вопроса, которые я затрону в этой главе. Мы можем выяснить как общие принципы, так и специфические нюансы, касающиеся гибкости развития и выявления человеческих способностей. Данный обзор я начну с рассмотрения вопроса гибкости, особенно с тех открытий, которые доказывают относительную пластичность нервной системы на ранних этапах развития. Продолжая мысль о гибкости, я обращусь к тем исследованиям, которые помогут разобраться в способностях и операциях человеческого интеллекта. Хотя основная тема моей книги — разнообразные способности человека и то, до какой степени их можно расширять с помощью подходящего вмешательства, большинство открытий, о которых пойдет речь, были сделаны в ходе экспериментов над животными, как позвоночными, так и беспозвоночными. И в этом отношении мне особенно помогли две исследовательские работы, углубившие наше понимание принципов развития, — исследование, которое проводили Дэвид Хьюбел, Торстен Вайзл и их коллеги, изучавшие развитие зрительной системы млекопитающих, а также работа Фернандо Ноутбома, Питера Марлера и Марка Кониши, занимавшихся развитием певческих способностей птиц. Хотя применять результаты этих исследований к людям следует с осторожностью, особенно в том, что касается интеллекта, однако открытия в этих областях слишком значительны, чтобы их можно было проигнорировать.
Ключевой термин, необходимый для понимания развития и совершенствования нервной системы, — это канализирование. Впервые это понятие сформулировал С. X. Уоддингтон, генетик из Эдинбургского университета (Великобритания). Оно означает склонность любой системы органов (например, нервной) следовать в своем развитии определенными путями. Действительно, нервная система совершенствуется точно по графику и в соответствии с установленной программой. Появление клеток в нервной зародышевой трубке, их миграция в те участки, где из них со временем сформируется мозг и позвоночник, наблюдаются с предсказуемым постоянством в пределах одного вида животных (и в некоторой степени — у разных видов). Нервные соединения, которые нельзя назвать случайными, обусловлены высокоточным биохимическим контролем. Становится заметной удивительная эпигенетическая последовательность, в рамках которой каждый этап процесса является основой для следующего и упрощает его осуществление.
Разумеется, развитие любой системы отражает также влияние окружающей среды: если в ходе эксперимента изменить химический баланс, то можно повлиять на миграцию определенных клеток или заставить одну клетку выполнять функции, которые изначально были присущи другой. По мнению Уоддингтона, вызвать подобные изменения заложенной программы развития (в данном случае — формирования нервной системы) очень сложно. Как говорит сам ученый, «...очень сложно заставить развивающуюся систему не добиться заложенного в ней конечного результата». Даже если попытаться заблокировать или еще каким-то образом повлиять на привычную модель формирования, организм все равно будет стремиться найти способ выполнить свою задачу и добиться «нормального» статуса. Если мешать его развитию, то организм не вернется к исходной точке, а постарается продолжить формирование в определенном направлении.
До сих пор в своем описании развития нервной системы я касался неизменных, генетически обусловленных механизмов. Это необходимо. Но не менее удивительная грань биологического развития заключается в его гибкости, или, применяя более профессиональный эпитет, в его пластичности. Организм демонстрирует свою пластичность разными способами. Начнем с того, что существуют определенные периоды в развитии, когда относительно большое количество внешних факторов могут оказывать воздействие. (Например, если младенца в течение первого года жизни постоянно пеленать, то на втором году он все равно будет нормально ходить.) Более того, если молодой организм в чем-то ущемляется или страдает от какой-либо травмы, то он может проявить более мощную способность к восстановлению. Несомненно, пластичность оказывается наиболее эффективной на ранних этапах развития. Например, даже если младенец лишается основной части обоих полушарий мозга, он все равно может научиться говорить. Однако наступает момент, когда Рубикон уже перейден, и пластичность начинает убывать. Подросток или взрослый, лишившийся полушария, будет серьезно травмирован.
Но даже такие обобщенные высказывания относительно пластичности необходимо разъяснить. Прежде всего, иногда травма в раннем детстве может иметь весьма серьезные последствия. (Неспособность пользоваться одним глазом в первые месяцы жизни не позволяет развиваться бинокулярному зрению.) Во-вторых, некоторые способности или навыки демонстрируют значительную устойчивость даже при травмах в старшем возрасте, тем самым давая основания полагать, что остаточная пластичность сохраняется в течение всей жизни. У некоторых взрослых речь восстанавливается, даже несмотря на серьезные повреждения левого (или доминирующего) полушария мозга, и многие заново учатся пользоваться парализованными конечностями. В целом пластичность нельзя рассматривать отдельно от времени, когда осуществлялась определенная манипуляция или вмешательство, а также без учета природы затронутой функции.
Пластичность ограничивается и другими способами. Основываясь на основных положениях теории бихевиоризма, некоторые психологи рискнули утверждать, что при условии подходящего обучения большинство организмов можно заставить делать почти все, что угодно. Поиски «горизонтальных» «законов научения» отражают такую уверенность. Похожие утверждения делались и в отношении человеческих существ, например мысль о том, что в любом возрасте можно учиться чему бы то ни было. Однако последние исследования во многом поколебали подобный оптимизм. Новое предположение гласит: каждый вид — в том числе и человек — «предрасположен» воспринимать определенный вид информации, при этом для того же организма будет невероятно трудно, почти невозможно, овладеть другими видами информации.
Здесь необходимо привести несколько примеров такой «предрасположенности» и «непредрасположенности». Мы знаем, что многие птицы могут выучить песни, а некоторые даже разучивают большое их количество. И тем не менее, воробьихи могут быть так тонко «настроены», что воспринимают только особую разновидность пения, свойственную самцам их местности. Крысу очень легко обучить бегать или прыгать, чтобы избежать электрического разряда, но для того чтобы она привыкла нажимать на рычаг, дабы избежать неприятного воздействия, необходимо приложить массу усилий. Более того, существуют некоторые ограничения и для возможности прыгать. Если прыжок для уклонения от электрического тока кажется «естественной» или «заданной» реакцией, то для выработки реакции запрыгивания в коробку с закрытой крышкой уйдет чрезвычайно много времени. Легкость, с которой все нормальные люди (и многие с отклонениями в развитии) овладевают речью (несмотря на ее очевидную сложность), позволяет предположить, что наш вид в целом предрасположен к развитию в себе этих способностей. А трудности, с которыми сталкиваются большинство людей, обучаясь логическому мышлению, — особенно если условия предложены в абстрактной форме, — говорят об отсутствии специальной склонности к этому виду деятельности и, возможно, даже о предрасположенности следить скорее за конкретными особенностями ситуации, чем за ее логическим подтекстом. Хотя никто не понимает причин избирательной предрасположенности, может оказаться, что определенные нервные центры активизируются, стимулируются, программируются или подавляются легче, а другие — значительно труднее.
Б свете этих общих замечаний о пластичности в поведении теперь мы можем тщательнее изучить свидетельства о степени неизменности (или гибкости), которая является характеристикой развивающегося организма. В рамках нашего обзора мы затронем особенности пластичности с момента рождения, воздействие различного рода раннего опыта на дальнейшее развитие, а также вероятность того, что разные виды обучения можно проследить на неврологическом или биохимическом уровне.
Принципы пластичности на ранних этапах жизни
Хотя каждому виду присущи свои особенности, исследования пластичности на первом этапе жизни позволили сформулировать несколько принципов, которые можно считать общими. Первый принцип гласит: максимальная гибкость присуща организму в самом начале жизни. Рассмотрим один пример, который стоит нескольких, описанных в литературе. Как объяснил Максвелл Коуэн, нейробиолог калифорнийского Института Солка, и передний мозг, и нейроны сетчатки глаза развиваются из одного участка эктодермы[19]. Если на раннем этапе развития удалить небольшой участок эктодермы, соседние клетки начинают усиленно размножаться, и развитие мозга и глаза продолжается в нормальном режиме. Но если ту же операцию произвести несколько позже, то либо в переднем мозге, либо в глазу сохраняется значительное повреждение, а серьезность этой травмы зависит от того, какой именно участок ткани был удален. Такая прогрессирующая «блокировка» приводит к тому, что за каждым отдельным участком мозга закрепляются только ему свойственные функции. Исследования других нейробиологов, таких как Патриция Гольдман, доказывают, что в самом начале жизни нервная система может гибко приспособиться к серьезной травме или экспериментальному вмешательству. Некоторое время спустя в ней может развиться альтернативный путь или не менее адекватное соединение. Однако если травма или вмешательство имеют место слишком поздно с точки зрения процесса развития, соответствующие клетки либо будут соединяться в случайной последовательности, либо полностью атрофируются.
Второй связанный с этим принцип подчеркивает важность так называемых критических периодов в процессе развития. Например, критический период в развитии зрения у кошки длится с третьей по пятую неделю после рождения. Если в это время один глаз будет постоянно спрятан от света, то его центральные связи изменятся и он утратит способность видеть. Подобный результат закрепляется навсегда. Другими словами, складывается впечатление, что организм наиболее уязвим в подобные периоды чувствительности. Необратимый вред для центральной нервной системы наступает даже в результате самого незначительного воздействия, если оно случается в такое время. И наоборот, при соответствующих условиях, созданных в критический период, можно добиться интенсивного развития организма.
Согласно третьему принципу, степень гибкости зависит от участка нервной системы. Те, что развиваются позже, например передние доли мозолистого тела, соединяющего два полушария мозга, оказываются более гибкими, чем те, что сформировались в первые дни и недели жизни, например сенсорная кора. Поразительная степень нефиксированности, присущая таким участкам, как мозолистое тело, говорит как о том, что определенные участки коры должны иметь возможность приспосабливаться, так и о необходимости особого внешнего воздействия, которое в конечном итоге установит, какие кортикальные связи будут развиваться. Действительно, когда дело доходит до самых сложных из имеющихся в нашем распоряжении способностей, таких как речь, то человек может справиться даже с серьезными повреждениями, в том числе и с удалением всего полушария в первые годы жизни, не утратив способности относительно нормально говорить. Это свидетельствует о том, что большие участки коры головного мозга остаются нефиксированными в своем назначении в раннем детстве (и поэтому могут менять свои функции).
Четвертый принцип касается тех факторов, которые способствуют развитию или влияют на него. Организм не сможет нормально развиваться, если не испытает на себе определенного воздействия. Например, зрение у кошки будет нарушено — а некоторые участки глаза вообще атрофируются, — если после рождения животное не испытывает на себе воздействия света. Более того, кошка должна находиться в яркой обстановке, в которой необходимо пользоваться двумя глазами и двигаться, чтобы изучить ее. Если животное видит только горизонтальные направления, то клетки, задача которых — обрабатывать информацию о вертикальных направлениях, или атрофируются, или начнут выполнять другие функции. Если кошке позволить использовать только один глаз, то клетки, предназначенные для бинокулярного зрения, дегенерируют. А если животное не может активно передвигаться в окружающей обстановке — например, если его просто переносить с одного места на другое, — у него также не сможет развиться нормальное зрение. Похоже, участок нервной системы, отвечающий за зрение, развивается по четкому графику, в рамках которого «предусмотрено» визуальное воздействие во время периода чувствительности. Если необходимая стимуляция отсутствует, то поставленная цель не будет достигнута, и животное не сможет нормально функционировать в своей среде.
Последний принцип относится к долгосрочному эффекту, который оказывает травма на нервную систему. Если воздействие некоторых повреждений заметно сразу, то другие могут сначала оставаться скрытыми. Например, предположим, что тот участок мозга, который в дальнейшем должен выполнять важную функцию, был поврежден в начале жизни. Вполне возможно, что последствия этой травмы некоторое время не будут очевидны. Скажем, повреждения лобных долей мозга у приматов незаметны в первые годы жизни, но могут проявиться позже, когда животному придется следовать сложным, организованным моделям поведения, за что как раз и отвечают лобные доли. Ранняя травма мозга может также привести к определенной анатомической перестройке, которая в конечном счете окажется непродуктивной. Например, могут сформироваться соединения, благодаря которым животное сможет выполнять важные действия в настоящий момент, но в дальнейшем они не позволят развиться другим необходимым навыкам. В таких случаях склонность нервной системы к канализированию может привести к неадекватным долгосрочным последствиям.
Результаты изучения этих пяти принципов свидетельствуют, что невозможно сделать какой-либо простой вывод относительно предрасположенности или гибкости. В пользу каждого фактора говорят убедительные доказательства, поэтому оба они оказывают значительное влияние на развитие молодого организма. Предрасположенность (или канализирование) обуславливает для большинства органов возможность выполнять те функции, от которых зависит нормальная жизнь вида. Гибкость (или пластичность) позволяет приспособиться к изменившимся обстоятельствам, в том числе к аномальной окружающей обстановке или ранним травмам. Несомненно-одно: если уж суждено пережить травму, то лучше, чтобы это случилось как можно раньше, но все же за любое отклонение от нормального развития придется платить.
Ранний опыт
До этого момента я рассматривал преимущественно влияние, оказываемое с помощью особого внешнего воздействия (например, различных ослепляющих повязок) на относительно предопределенные в своих функциях участки мозга (взяв для наглядности зрительную кору больших полушарий). Но психологи и неврологи изучали также вопрос общего воздействия стимуляции (или ее ограничения — депривации) на функционирование всего организма в целом.
Первые исследования провели Марк Розенцвейг и его коллеги из Калифорнийского университета в Беркли. С начала 1960-х годов группа Розенцвейга разводила животных (преимущественно крыс) в условиях обогащенной окружающей среды: здесь было много других крыс, а также различные «игрушки», например лестницы и колеса. Вторую группу крыс выращивали в обедненной обстановке, где было достаточно пищи, но никаких особых развлечений. «Обогащенные» крысы лучше выполняли различные поведенческие задачи и были более приспособлены к жизни, чем их откормленные, но более глупые сородичи. После 80 дней жизни в таких контрастных условиях мозг всех крыс был отправлен на изучение. Основное открытие таково: кора головного мозга «обогащенных» крыс весила на 4% больше, чем кора более упитанных животных из второй группы. Что еще важнее, увеличение мозга произошло на участках, которые отвечают за зрительное восприятие, т. е. тех, которые подвергались особому воздействию в обогащенной среде.
Многочисленные исследования на крысах и других животных подтвердили, что в обогащенной среде поведение становится более утонченным, а мозг заметно увеличивается в размере. Эффект может оказаться удивительным. Команда Розенцвейга доказала, что если особым образом развивать только одно полушарие мозга, то только в нем будет заметно изменение клеточной структуры. Уильям Гриноу наглядно показал, что у животных, выросших в обогащенной среде, в определенных участках мозга насчитывается больше нервных клеток, а также синапсов[20] и синаптических соединений. Ученый делает вывод: «Значительное локальное изменение размера мозга, сопутствующее разнице в опыте, связано с переменами на нейронном уровне, касающимися количества, структуры и качества синаптических соединений».
Также были вскрыты и другие интригующие и крайне специфические изменения в строении мозга. Фернандо Ноутбом, изучая пение самцов канареек, выявил корреляцию между размерами двух ядер в мозге птицы и ее пением. Он обнаружил, что во время самых интенсивных периодов пения эти ядра вдвое увеличиваются в размере по сравнению с тем, как они выглядят в наименее продуктивное время, в период летней линьки. Затем, когда осенью мозг увеличивается, развиваются новые нервные волокна, формируются свежие синапсы, и в результате песенный репертуар снова расширяется. Очевидно, что у птиц обучение этому виду двигательной активности (или повторное овладение им) зависит непосредственно от размера соответствующих ядер, количества нейронов и качества соединений между ними.
Насколько мне известно, ученые не отваживались обсуждать в печати изменение размеров мозга, сопровождающее (или вызывающее) изменения в разнообразных способностях человека. Из-за отсутствия подходящих экспериментальных методов такая осмотрительность кажется обоснованной. Но все же стоит вспомнить о наблюдениях двух талантливых нейроанатомов, О. и А. Фогт. В течение долгих лет они проводили нейроанатомические исследования мозга многих людей, в том числе и одаренных художников. У одного из художников, чей мозг был обследован, оказался очень большой четвертый слой клеток зрительной коры, а у музыканта, с детства наделенного абсолютным слухом, наблюдался аналогичный рост клеток слуховой коры. Поскольку гипотезы такого рода теперь рассматриваются всерьез, а также поскольку широкое применение получили неоперативные методы изучения размера, формы и функций мозга, я бы не удивился, если бы современная наука поддержала высказываемые в прошлом утверждения френологии.
Но больше — не всегда означает лучше, и большое количество клеток или волокон не обязательно благо само по себе. Одно из самых удивительных открытий последних лет в нейробиологии говорит в пользу такого осторожного замечания. Изначально нервная система вырабатывает значительный излишек нейронных волокон. В процессе развития многие из лишних соединений, необходимость в которых отсутствует, атрофируются, поскольку они могут повредить нормальной работе мозга. Самые заметные исследования в этой сфере провели французские ученые Жан-Пьер Шанже и Антуан Данчен. Они заметили, что в различных участках мозга сначала образуется больше нейронов, чем остается впоследствии. Как правило, период «избирательного отмирания клеток» наступает в то время, когда нейроны начинают формировать синаптические соединения с предназначенными для этого «целями». В результате такого отмирания исчезает от 15 до 85% первоначального количества нейронов.
Отчего появляется такой излишек, а также почему одни соединения сохраняются, а другие атрофируются? Существует предположение, что избыточное «прорастание» нейронов на раннем этапе развития обуславливает гибкость в период роста. У этой обычной особенности развития имеются свои преимущества адаптивного характера. Если случается какая-либо травма в тот период, когда еще существуют лишние соединения, у организма больше шансов выжить, несмотря на повреждение. В пользу такого мнения говорит тот факт, что невероятно быстрый рост клеточных соединений происходит сразу после травмы, и иногда развитие, соответствующее шестинедельному росту, занимает всего 72 часа. Аналогично, если при рождении удалить один глаз, то отмирание нервных окончаний сетчатки оставшегося глаза, которое должно произойти в первые две недели после появления на свет, заметно снижается.
Можно найти еще одну вероятную причину подобной плодовитости клеток и образования синапсов. Во время такого избытка между клетками происходит напряженная конкуренция, в результате которой больше шансов выжить у тех, которые окажутся самыми эффективными при формировании соединений подходящей прочности. Возможно, в полном соответствии с теорией Дарвина, такая плодовитость приводит к конкуренции, благодаря которой в организме остаются лишь самые здоровые нервные волокна.
Избыток нервных волокон в начале жизни может привести и ко временному проявлению функциональных и поведенческих особенностей. В этом случае имеет место так называемый U-образный феномен, где поведение недоразвившегося организма (левая половина буквы U) удивительно напоминает поведение, присущее, как правило, только взрослому организму (правая половина буквы U). Вполне возможно, что некоторые ранние рефлексы у человека — например, плавания или ходьбы — отражают быстрый рост соединений, от которых зависит временное проявление таких преждевременных моделей поведения. Вполне возможно также, что очень быстрое обучение, на которое способен молодой организм, особенно в определенные критические периоды, тоже связано с избытком нейронных соединений, часть которых вскоре исчезнет. Например, у человека стремительно увеличивается плотность синапсов в течение первых месяцев жизни и достигает максимума в возрасте одного или двух лет (примерно половина средней плотности у взрослого человека). Затем от двух до шести лет количество этих соединений снижается и до 72 лет остается практически неизменным. Некоторые ученые предполагают, что очень быстрое обучение маленького ребенка (например, в речевой сфере) зависит о того, что в это время задействуется большое количество существующих синапсов.
Что же происходит после того, как они исчезают? Здесь мы имеем функциональное определение зрелости — того времени, когда упразднены лишние клетки и задействованы изначально определенные соединения. Гибкость юности, похоже, закончилась. Благодаря выживанию самых приспособленных нейронов их количество теперь соответствует размеру того участка, который они должны обслуживать. (Если хирургическим путем добавляется новая «цель», то количество нейронов не будет уменьшаться, как можно было бы предположить, поскольку появилось новое пространство для формирования синапсов.) Очевидно, что критический период заканчивается, когда снижение количества синапсов достигает той отметки, при которой больше не остается соперничающих нейронов. Большинство ученых склоняются к мысли, что в дальнейшей жизни изменения на нейронном уровне тоже происходят. Но по-прежнему неясным остается вопрос, что именно происходит со старением: постепенное снижение синаптической плотности, прогрессирующее уменьшение длины и разветвлений дендритных отростков или более избирательные потери (ограниченные определенными участками коры головного мозга).
Биологические основы обучения
Естественно, что большая часть нейробиологических исследований, связанных с человеком, проводилась на приматах, при этом особое внимание обращалось на основные сенсорные системы, которые, как предполагается, работают одинаково для всего этого биологического отряда. Но не так давно предпринимались попытки понять основы обучения, исследуя виды, далекие от человека. Поскольку открытия наводят на размышления, приведу два примера.
На мой взгляд, большое количество убедительных доказательств, повлиявших на взгляды когнитивно-ориентированных исследователей, были получены учеными, изучающими пение птиц. Хотя птицы относятся к другому биологическому отряду, нежели люди, их пение представляет собой очень сложный вид деятельности, которая большей частью зависит от деятельности левого полушария мозга птицы и овладение которой происходит в раннем возрасте.
Поскольку многочисленные виды птиц весьма отличаются друг от друга, оправданными можно считать лишь некоторые обобщения. В начале первого года жизни самец способен на так называемое первичное пение — невнятные звуки, которые продолжаются несколько недель. Затем наступает более продолжительный период пластичного пения, когда птица тренируется использовать разнообразные виды песен, с помощью которых она, в конечном итоге, будет общаться на своей территории с соседями, а также подыскивать партнера в брачный период. Эти «игривые» репетиции напоминают исследовательскую деятельность приматов.
Виды пернатых отличаются друг от друга гибкостью и условиями обучения пению. Некоторые птицы, например вяхирь, в конце концов обязательно научатся петь так, как это свойственно их виду, даже если перед ними не будет образца для подражания. Другие птицы, например канарейки, вдохновляются своим собственным пением, а не какой-либо моделью. (Если такую птицу лишить слуха, то она не сможет овладеть типичным для этого вида репертуаром.) А для третьей группы птиц, например зябликов, необходима модель, с помощью которой они могут выучить необходимую песню. Некоторые птицы постоянно поют одни и те же мелодии, а другие меняют репертуар ежегодно. (Очень важно понять биологические предпосылки для подобных «культурных» различий.) Но самое удивительное заключается в том, что во время обучения птица исполняет намного больше песен и трелей, чем будет затем использовать во взрослой жизни. Более того, птицы разучивают именно те трели, которые должны знать представители их вида, и не обращают внимания на пение других видов или даже иные диалекты в рамках своего собственного вида.
Как я уже говорил, пение птиц зависит от структуры левой половины нервной системы. Травмы в этой области оказывают намного более разрушительное воздействие, чем повреждения в соответствующих правых долях мозга. В результате у птицы можно даже вызвать афазию. Но канарейка, страдающая подобным нарушением, сможет восстановить свою первоначальную способность петь, потому что гомологичные[21] участки правого полушария обладают потенциалом к аналогичному использованию. С точки зрения такого «восстановления функций», птицам повезло намного больше, чем взрослым людям.
Благодаря изучению пения птиц была разработана любопытная модель того, как организм овладевает совершенно особым навыком благодаря комплексному воздействию нескольких факторов: стимуляции со стороны окружающей среды, собственной исследовательской практике и предрасположенности определенных структур нервной системы к развитию. На мой взгляд, когда-нибудь некоторые из принципов, которые были сформулированы в процессе изучения птиц, можно будет применить и к высшим организмам (в том числе и к людям) , описывая процесс освоения ими когнитивных и символических систем на своем уровне. Еще одно, отличное от других направление исследований на примере простейшего моллюска под названием Aplysiu Californica обещает пролить дополнительный свет на биологические основы обучения.
Эрик Кейндел и его коллеги из Колумбийского университета изучали простейшие формы обучения у этого моллюска. Ученый занимался вопросом, как этот организм, наделенный сравнительно небольшим количеством нейронов, привыкает к стимуляции (феномен габитуации) (и долгое время не реагирует на нее), становится чувствительным к стимуляции (и может реагировать даже на менее значительный сигнал) и вырабатывает условные рефлексы (классическое обусловливание[22]) — может реагировать на условные раздражители таким же образом, как и на безусловные, или рефлекторные, раздражители. В результате Кейндел выделил четыре основных принципа.
Во-первых, элементарные аспекты обучения не диффузно распределены по всему мозгу, а, скорее, локализованы в деятельности определенных нервных клеток. Для научения некоторым моделям поведения может потребоваться не больше 50 нейронов. Во-вторых, обучение происходит в результате изменения синаптических соединений между клетками: вместо возникновения новых соединений укрепляются уже существующие. В-третьих, продолжительные и стойкие изменения синаптических соединений наступают вследствие изменения количества трансмиттера[23], который выделяется в окончаниях нейронов — тех участках, с помощью которых одни клетки общаются с другими. Таким образом, например, в процессе габитуации каждый новый потенциал действия приводит к выработке все меньшего количества трансмиттера; следовательно, в клетку выбрасывается меньше вещества-передатчика. Наконец, эти простые процессы укрепления синаптических соединений можно объединить, чтобы объяснить, как происходят все более сложные умственные процессы, тем самым формируя, по выражению Кейндела, «клеточную грамматику», которая лежит в основе различных видов обучения. Это значит, что те же процессы, которые объясняют простейшие формы габитуации, как бы служат алфавитом, с помощью которого можно составить более сложные виды обучения, как, например, классическое обусловливание. Кейндел так обобщает свои открытия.
Основные формы научения, габитуации, сенсибилизации[24] и классического обусловливания отбирают необходимые соединения среди большого запаса первоначально имеющихся и изменяют их силу... Это позволяет предположить, что потенциал многих моделей поведения, на которые способен организм, закладывается при формировании мозга и контролируется генами и самим процессом развития. Факторы окружающей среды и обучения пробуждают эти латентные способности, изменяя эффективность первоначальных соединений, тем самым приводя к появлению новых паттернов поведения.
Благодаря Кейнделу и простейшему моллюску некоторые основные формы обучения, которые исследуют психологи, можно описать с точки зрения событий, происходящих на клеточном уровне, в том числе и некоторые возможные химические взаимодействия. Похоже, что наконец-то перекинут мост через пропасть между поведением и биологией, которая раньше казалась непреодолимой. Работа Кейндела и его коллег объясняет также вопросы, касающиеся специфичности определенных видов деятельности, которые будут интересовать нас в последующих главах. Кажется, что одни и те же принципы действуют для всех нервных клеток, независимо от видовой принадлежности организма или формы научения, что подтверждает «горизонтальный» взгляд на последнее. Кроме того, Кейндел утверждает, что организмы сами по себе способны на одни модели поведения, а не на другие, поэтому с этим явлением тоже придется считаться, если придерживаться биологического подхода к феномену познания.
В отличие от генетики, где связей между основным направлением науки и вопросами человеческого познания совсем немного и они Не очень убедительны, интересы нейробиологии оказались намного ближе к нашей теме. Были сформулированы четкие принципы пластичности и гибкости, предрасположенности и канализирования. Вполне справедливо будет предположить, что при известной модификации эти же принципы можно применить к тому, каким образом развиваются когнитивные системы человека, как он овладевает определенными интеллектуальными навыками, следуя в одном направлении, а не в другом. Явное и несомненное воздействие обогащенного (и обедненного) раннего опыта, оказываемое на общие функции организма, также было убедительно доказано. А из исследований, посвященных влиянию на человека недостаточного питания, мы уже знаем, что аналогичный эффект наблюдается и у нашего вида, причем он приводит к разрушительным последствиям как для эмоционального, так и для когнитивного функционирования. Например, благодаря изучению таких непохожих на нас животных, как певчие птицы и калифорнийский моллюск, мы получили обнадеживающие свидетельства того, как различные формы обучения проявляются в нервной системе, а также на клеточном и биохимическом уровне. Хотя между этими простейшими формами поведения и разнообразием обучения и развития сложнейших способностей человека по-прежнему существует огромный разрыв, но по крайней мере некоторые из результатов, полученных в ходе исследований, можно применить и в изучении человека.
Элементы нервной системы
До этого момента я иногда мирился с удобным вымыслом, будто нервная система относительно недифференцирована, а различия в размере, плотности и соединениях можно рассматривать безотносительно того, где именно они имеют место. Однако изучение нервной системы выявило поразительно тонко организованную архитектонику, отличающуюся невероятной четкостью внешнего вида и строения. Более того, различия в организации, похоже, тесно связаны с различиями в функциях, которые контролируют те или иные участки мозга. Например, понятно, что те участки коры, которые формируются раньше других, вовлечены в первичные сенсорные функции (восприятие отдельных образов и звуков), в то время как формирующиеся позже ассоциативные зоны коры головного мозга отвечают за выявление смысла стимула и связывают между собой различные сенсорные модальности (например, соотносят увиденный объект с его услышанным названием). Для наших целей организационную структуру нервной системы можно рассматривать на двух отдельных уровнях: с точки зрения молекулярной структуры и более крупной, или молярной, структуры. Хотя такая аналогия достаточно удобна, она далеко не случайна. Правильность такой точки зрения признали в 1981 году, когда Нобелевскую премию разделили между собой Роджер Сперри, в течение последних лет занимавшийся молярной структурой, а также Дэвид Хьюбел и Торстен Байзл, исследовавшие молекулярную структуру. Кроме того, такой взгляд имеет непосредственное отношение к нашим поискам ответа на вопрос о функциях человеческого интеллекта.
Молекулярный уровень
Как утверждает Верной Маунткастл из Университета Джонса Хопкинса, можно считать, что кора головного мозга человека состоит из столбиков, или модулей. Эти столбики, длиной и шириной около 3 мм, высотой от 0,5 до 1 мм, расположены у поверхности коры. Ученые все больше склонны рассматривать их как отдельные анатомические образования, которые развивают различные квазинезависимые функции. Восприятие и память могут быть распределены по нервной системе «в лице» этих «когнитивных демонов» специального назначения.
Впервые такие столбики обнаружили в том участке коры головного мозга, который отвечает за зрение. Д. Хьюбел и Т. Вайзл говорят следующее.
Учитывая то, что уже известно о первичной зрительной коре, становится понятно, что ее элементарной частицей можно считать блок площадью около одного и глубиной два миллиметра. Поняв организацию этого участка ткани, мы поймем организацию всего [зрительного участка коры]; целое должно представлять собой интегрированный вариант этой элементарной частицы.
В свете последних открытий кажется вероятным, что и другие сенсорные зоны тоже состоят из подобных столбиков. Было даже высказано предположение, что лобные доли головного мозга — участок, отвечающий за более абстрактные и менее топографически соотнесенные знания — также обладают сходной структурой.
Чему соответствуют эти столбики или составляющие их нейроны? В случае со зрением они отвечают за ориентацию — горизонтальную, вертикальную, наклонную, а также за глазное доминирование — разную степень предпочтения, «оказываемую» одному или другому глазу. Менее изученные кортикальные клетки в зрительной системе, возможно, отвечают также за цвет, направление движения и глубину. В соматосенсорной системе столбики заведуют восприятием размеров участка тела, который подвергается стимуляции, и расположением рецепторов на коже. В лобных долях мозга столбики отвечают за пространственную и временную информацию об объекте, который присутствовал в поле восприятия организма. Взятые вместе, сенсорная и моторная доли, похоже, содержат двухмерные карты репрезентируемого мира. Когда информация от органов зрения, слуха или осязания передается от одного участка коры к другому, карта все больше размывается, и передаваемая информация становится более абстрактной.
Может оказаться, что столбики были фундаментальным элементом организации на протяжении всего процесса эволюции. Они не отличаются по размеру и форме не только внутри одного вида, но и между различными видами животного царства. Например, у различных видов обезьян мозг может быть разного размера и содержать разное количество столбиков, но размеры непосредственно самих столбиков остаются неизменными. Патриция Гольдман и Марта Константин-Патон предположили, что когда количество однонаправленных аксонов[25] превышает критический уровень, столбики являются проверенным временем и эффективным средством заполнить пространство. И действительно, если в период зародышевого развития лягушке привить еще один глаз, то у нее сразу же образуется соответствующий столбик.
Но правильно ли будет думать о нервной системе только как о совокупности столбиков или модулей? Верной Маунткастл, чьи работы привели к открытию столбиковой организации нервной системы, выделяет мини-столбики (которые могут состоять всего лишь из сотни клеток и, таким образом, представлять собой неделимую единицу коры обонятельного мозга) и макростолбики, объединяющие несколько сотен мини-столбиков каждый. Переходя к следующему уровню организации, Франсис Крик высказывает мысль о существовании более крупных отдельных участков. Например, у одного из видов обезьян выделяют как минимум восемь первичных зрительных зон коры головного мозга, причем все они имеют очень четкие границы. По мнению ученого, в коре мозга человека насчитывается от 50 до 100 отдельных зон. С оттенком юмора он заявляет: «Если бы каждую зону можно было постмортально тщательно изучить, то мы бы точно увидели, сколько их, каковы их размеры и как именно они связаны друг с другом. Таким образом, мы сделали бы большой шаг вперед». Сейчас уже понятно, что нервную систему можно разделить на составляющие разного размера. Для нашего исследования важно то, что с помощью различной структуры и расположения этих нейронных единиц природа предоставляет нам важные подсказки о том, что собой представляют ее процессы и функции.
Молярный уровень
Говоря о более крупных зонах коры головного мозга, мы переходим к тому, что в изучении мозга получило название молярного уровня, — он состоит из участков, различимых невооруженным глазом. Если молекулярные исследования во многом полагаются на наблюдения за отдельными клетками, видимыми лишь при многократном увеличении, то основной источник информации о молярности мозга — это клинические исследования пациентов с травмами мозга.
В результате удара, травмы или других несчастных случаев в мозге человека может пострадать значительный, но все же ограниченный участок. Могут разрушиться, полностью или частично, лобные доли мозга, травма может затронуть височную или теменную долю. Результаты таких повреждений можно заметить с помощью радиологического исследования (сканирования мозга), и, конечно же, детально их можно изучить при вскрытии. Вот когда приходит время науки. Теперь возможно соотнести потерю значительной части мозговой ткани с определенными нарушениями поведения и познавательной деятельности.
На сегодняшний день наибольший ажиотаж вызвало открытие, что два полушария мозга выполняют неидентичные функции. Хотя каждая половина контролирует моторные и сенсорные способности противоположной стороны тела, одно из полушарий обязательно доминирует: это доминирование предопределяет, будет человек правшой (если главенствует левое полушарие) или левшой (если доминирует правое). Для нашего исследования еще более показателен, чем это относительное механическое разделение труда, тот факт, в котором сейчас уже не осталось сомнений: левое полушарие отвечает за речь у большинства правшей, а правое доминирует (хотя и в меньшей степени) при выполнении пространственнозрительных функций.
Это известно всем биологам. Менее распространено понимание того, что специфичность когнитивной функции можно намного точнее связать с отдельными участками коры головного мозга человека. Данное положение лучше всего было изучено в речевой сфере. Мы выяснили, что повреждение лобных долей мозга — особенно того участка, который называется зоной Брокя — вызывает трудности с воспроизведением грамматической речи, хотя при этом понимание относительно сохранено. В свою очередь травма височных долей (на участке под названием зона Вернике) позволяет говорить довольно бегло и сохранять знание грамматики, однако в этом случае наблюдаются значительные трудности с пониманием речи. Другие лингвистические нарушения, к которым относятся проблемы с повторением, перечислением, чтением и письмом, тоже можно связать с отдельными участками мозга.
Таким образом, нет сомнений, что у нормального взрослого человека когнитивную и интеллектуальную функции можно соотнести с определенными зонами мозга, которые во многих случаях сохраняют четкие границы. Дэвид Хьюбел убедительно доказывает такую точку зрения.
Мы должны понять, что каждый участок центральной нервной системы ставит перед нами свои проблемы, которые требуют индивидуального решения. В случае со зрением нас интересуют контуры, направление и глубина. В случае с аудиальной системой, с другой стороны, множество проблем связано с временным взаимодействием звуков различной частоты, и трудно представить, что один и тот же механизм нервной системы имеет дело со всеми этими явлениями. [...] Для большинства аспектов функционирования мозга не существует универсального решения.
Многие из этих давно известных вопросов снова возникли в контексте человеческого познания. Например, левое полушарие «обязано» отвечать за речь, но если на раннем этапе жизни эту половину мозга приходится удалять, большинство людей по-прежнему могут относительно нормально говорить. Конечно, у такого пациента речь несколько нарушена, но обнаружить это можно только с помощью специальных тестов. Другими словами, при овладении речью очевидна пластичность, но такая гибкость резко идет на убыль сразу после достижения половой зрелости. Даже сравнительно небольшое повреждение левого полушария у мужчины в возрасте около 40 лет обязательно приведет к постоянной истощающей афазии[26].
Возможно, речевые зоны формируются со временем, чтобы выполнять функции слушания и говорения, при этом не сворачивают свою деятельность, даже если человек глух. На самом деле те зоны, которые изначально отвечают за речь, могут различными способами активизироваться, чтобы воспринимать язык жестов или другие замещающие коммуникативные системы. Например, глухие дети, которые живут в семье, не знающей языка жестов, будут его изобретать самостоятельно или в группе. Тщательные лингвистические анализы обнаружили явные аналогии между таким общением и естественной речью слышащих детей — например, в способе построения сочетаний из двух слов. Таким образом, похоже, канализирование имеет место не только в использовании определенных участков мозга, но и в том, как развивается коммуникативная система. Наконец, если в результате жестокого обращения человек испытывает речевую депривацию вплоть до начала пубертата, а затем получает возможность научиться говорить, то возможен прогресс в некоторых аспектах речи. Но в одном тщательно изученном случае такое продвижение в овладении речью стало возможным благодаря участию правого полушария мозга. Вполне возможно, что некий критический период для мобилизации структур левого полушария был упущен, поэтому наибольшее количество нарушений в речи этого человека будет наблюдаться в таком аспекте деятельности левого полушария, как грамматика.
Хотя другие когнитивные функции понятны еще не настолько хорошо, как та, что относится к овладению речью, существуют особые корковые структуры, отвечающие и за все остальные функции высшей мозговой деятельности. Нарушение этих функций также происходит по предсказуемой схеме. Предоставление данных об остальных видах интеллекта человека — задача, которую я постараюсь решить в последующих главах книги. А сейчас было бы уместно затронуть некоторые противоборствующие мнения относительно связи между интеллектом и строением мозга, а также вспомнить о попытках соотнести познание с отдельными способностями, зависящими от деятельности нейронных столбиков или участков.
Дискуссии о связи интеллекта и мозга отражают доминирующее в научном мире мнение об общей организации мозга. Когда впервые прозвучало предположение о локализации, уже существовала идея о связи, подразумевающая, что различные участки мозга отвечают за разные когнитивные функции. Иногда в дискуссии затрагивался вопрос о «горизонтальных» подвидах — считалось, что восприятие сосредоточено в одной зоне, а память — в другой. Хотя намного чаще в процессе таких дискуссий говорят о «вертикальной» структуре — обработка зрительной информации осуществляется в затылочной доле, центр речи находится в левой височной и лобной долях. Было время, когда мозг считали устройством для общей обработки информации, «эквипотенциальным» органом, где любой участок нервной системы выполняет любые функции и отвечает за все навыки. В таких условиях ученые все больше разделяли мнение приверженцев концепции общего интеллекта (g-фактор) и считали, что интеллект — это унитарная способность, связанная со всей массой мозговой ткани.
50 лет назад в науке главенствовали холисты. Нейропсихолог Карл Лешли в своем известном труде высказал предположение, что не отдельное образование в мозге (как извилины), а общее количество мозговой ткани определяет, сможет ли организм (например, крыса) выполнить задачу. К. Лешли указал, что можно удалить участки мозга практически в любой его доле, а крыса все равно будет в состоянии бегать по лабиринту.
Хотя это открытие казалось смертным приговором идеям локализаторов, последующие исследования в данном направлении выявили основной его недостаток. Поскольку крыса в продвижении по лабиринту полагалась на дополнительные подсказки из нескольких сенсорных зон, то действительно не имело значения, какие участки ее мозга удалили, если хотя бы несколько еще остаются. Когда исследователи начали уделять внимание особым видам подсказок и уменьшили количество этих дополнительных сигналов, то даже незначительные повреждения в центральных областях приводили к нарушениям работы мозга.
Параллельные тенденции можно заметить и в изучении познания человека. Время «процветания» для холистов, или генералистов (к представителям которых относятся, например, Генри Хед и Курт Гольдштейн), наступило полвека назад. И снова интеллект соотносили с тканью мозга вообще, а не с отдельной локализацией. Действительно, казалось, что многие интеллектуальные задачи человек может выполнять даже при значительных повреждениях мозга; но при более детальном изучении задачи его зависимость от определенной зоны мозга становилась очевидной. Недавние исследования обнаружили, что теменные доли, особенно в левом полушарии, очень важны для решения задач, в ходе которых необходимо оценить «сырой» интеллект (например, прогрессивные матрицы Равена[27]). При всем отрицательном отношении к тестированию интеллекта становится ясно, что нервная система далеко не однородна.
Таким образом, мы приходим к консенсусу относительно мозговой локализации. Мозг можно разделить на отдельные участки, каждый из которых важнее для одних задач и не столь важен для других. Играет роль не вся совокупность или одна из зон, определенное значение имеет каждый участок. Точно так же редкие задачи зависят исключительно от одной зоны мозга. Если рассмотреть довольно сложное задание, то можно заметить, что сигналы поступают от нескольких участков коры, и роль каждого из них незаменима. Например, при рисовании отдельные структуры левого полушария важны для обозначения деталей, а образования в правом полушарии точно так же необходимы для прорисовки контуров изображаемого объекта. Повреждение какой-либо части мозга приведет к нарушению, однако особенности этого нарушения можно понять, только зная, в каком именно участке произошла травма.
Хотя с таким описанием структуры мозга согласятся большинство нейропсихологов, ему еще предстоит повлиять на когнитивную психологию в США. (В Европе нейропсихология получила широкое распространение, возможно, благодаря тому, что ею занимаются преимущественно специалисты с медицинским образованием.) И действительно, как мы уже видели, большинство исследователей в когнитивной области не считают, что сведения о строении мозга относятся к интересующей их теме, или же убеждены, что процессы в нервной системе необходимо соотносить с результатами изучения познания, а не наоборот. Образно говоря, «аппаратное обеспечение» считается не имеющим отношения к «программному». В кругах американской когнитивистики бытует мнение, что существуют общие способности к решению задач, не зависящие от темы или содержания, которыми может руководить любой участок нервной системы. Теперь, хотя локализация и доказала свою состоятельность как самое точное описание работы нервной системы, многие все же допускают существование таких самых общих механизмов решения задач, а также значительных «горизонтальных» структур, полагая при этом, что восприятие, память, обучение и т. п. одинаковы для любого содержания. И все же, кажется, для психологов пришло время серьезно отнестись к возможности того, что молярный — и даже молекулярный — анализ нервной системы имеет непосредственное отношение к когнитивным процессам.
Рассматривая познание с самых разных точек зрения, философ Джерри Фодор, психолог и физиолог Пол Розин, нейропсихолог Майкл Газзанига и когнитивный психолог Алан Оллпорт пришли к выводу, что человеческое познание состоит из нескольких когнитивных механизмов «специального назначения», предположительно зависящих от «жесткого диска» нервной системы. Высказываются различные мнения относительно важности тех или иных механизмов, к некоторым из них мы обратимся в главе 11, однако в свете наших теперешних интересов утверждения, по которым достигнуто согласие, таковы.
В ходе эволюции люди развили в себе определенное количество специальных механизмов по обработке информации. Некоторые из них общие для людей и животных (восприятие лиц), другие присущи исключительно человеку (синтаксический анализ). Некоторые из этих механизмов определенно молекулярного типа (определение линий), другие же имеют молярную структуру (контроль произвольного действия).
Функционирование этих механизмов можно рассматривать автономно в двух значениях. Во-первых, каждый из механизмов работает по своим особым принципам и не «подчиняется» никакому другому модулю. Во-вторых, механизм по обработке информации может работать и без специального указания, это можно представить в виде простого анализа поступающей информации. Несомненно, функционирование этих механизмов не управляется сознанием, поэтому ему трудно или даже невозможно помешать. Может быть, такой механизм «запускается» определенным событием или сведениями из окружающей обстановки. (На профессиональном языке эти устройства «когнитивно непостижимы» или «инкапсулированы».) Не исключено также, что некоторые из них можно включать сознательно или произвольно. Более того, возможно, в будущем люди научатся осознавать работу своих механизмов по обработке информации, и это будет особенностью (и настоящим даром) человека. Как бы там ни было, доступ к «когнитивному бессознательному» не всегда возможен, и даже понимания его работы может быть недостаточно для того, чтобы влиять на него. (Вспомните, что происходит, когда человек знает: то, что он видит или слышит, — иллюзия, и все же не может верифицировать действительность.)
Тем не менее существуют возражения: приверженцы так называемой модульной точки зрения негативно относятся к представлению о человеке как о наборе механизмов для обработки информации. Гомункулусы сейчас не в моде. Не намного больше сторонников и у предположения об общей памяти или складе сведений, к которому могут в равной степени обращаться все механизмы по обработке информации особого назначения. Многие ученые считают, что каждый интеллектуальный механизм работает по своей особой программе, используя свои собственные возможности восприятия и запоминания, благодаря чему ему не нужно посягать на пространство другого модуля. В процессе эволюции, возможно, заимствования между системами или даже комбинациями систем действительно существовали, если многие механизмы привычно работают вместе над решением общих задач. Но в любой момент истории можно выделить составляющие каждого механизма по обработке информации, или, если вам так больше нравится, каждого вида интеллекта.
Читатели не удивятся, когда узнают о моих симпатиях к этой «модульной» теории. Насколько я могу судить об имеющихся доказательствах, и открытия психологов, касающиеся силы различных символических систем, и находки неврологов относительно строения нервной системы человека говорят в пользу следующего представления о человеческом разуме: он состоит из нескольких относительно обособленных и независимых механизмов по обработке информации. Общие свойства и общие участки тоже, вероятно, существуют, но они, несомненно, не являются основными и не играют особой роли в процессе обучения.
Соотнесение такого модульного анализа с более общими принципами пластичности и ранним опытом, о которых говорилось выше, — вот задача, которую еще только предстоит решить. Вполне может оказаться, что принципы пластичности распространяются на всю нервную систему и их можно применить независимо от того, о каком механизме по обработке информации идет речь. Подобный результат сам по себе не будет представлять проблему для изложенной здесь точки зрения. И все же кажется намного более вероятным, что у каждого вида интеллекта имеются свои формы пластичности и свои собственные критические периоды. Они не обязательно наступают одновременно или с равными промежутками, а также не обязательно требуют одинаковых затрат или приносят одинаковую пользу. Существует точка зрения, называемая «гетерохронностью», которая гласит, что различные нервные системы могут развиваться с разной скоростью или разными способами, в зависимости от того этапа эволюции приматов, когда они начали функционировать, а также от целей, которые перед ними поставлены.
Какой же представляется нам нервная система человека, особенно в свете нашего столь беглого обзора нейробиологии? План окончательного развития, несомненно, заложен в геноме, и даже если учесть относительно большие отклонения (или стрессовые обстоятельства), развитие, скорее всего, пойдет по заданной программе. Человек вряд ли сохранился бы как вид в течение стольких тысячелетий, если бы не существовало вероятности того, что мы сможем говорить, воспринимать и запоминать различную информацию относительно похожими способами. Нет сомнения, что к нервной системе также применимы принципы пластичности, особенно в самом начале роста, и система благодаря своим ответвлениям и избавлению от излишков может очень хорошо адаптироваться и приспосабливаться к обстановке. Это тоже способствовало выживанию. Но развитие по альтернативным путям, которое становится возможным благодаря пластичности, не всегда оказывается преимуществом. Новообразованные соединения могут выполнять одни функции адекватно, но не подходят для других или же оказывают долгосрочное негативное воздействие. Программируемость, специфичность, значительная гибкость на раннем этапе взамен некоторых потерь — вот основные принципы работы нервной системы, к которым мы пришли в ходе анализа. У нас есть все основания полагать, что такие же принципы действуют и в том случае, когда человек начинает решать разнообразные интеллектуальные задачи и осваивать различные символические сферы.
С помощью последних исследований в неврологии мы убедительно доказали, что нервная система состоит из функциональных единиц, которые руководят микроскопическими способностями и располагаются в столбиках сенсорной и лобной долей головного мозга человека. Существуют и более крупные элементы, видимые невооруженным глазом, которые отвечают за более сложные функции человека, например обработку лингвистической или пространственной информации. Это является предпосылкой для существования биологической основы различных видов интеллекта. Но в то же время мы видели, что даже самые прилежные исследователи нервной системы не сходятся во мнении об уровне модулей, которые можно считать самыми важными для научных или практических целей. Несомненно, Природа не может дать нам исчерпывающее объяснение «видов познания» в качестве награды за наше беспристрастное изучение основ функционирования нервной системы.
Однако, изучая открытия нейробиологии на молярном и молекулярном уровне, мы получаем более или менее полное впечатление о том, какие «естественные виды» человеческого интеллекта существуют. Из этого уравнения нельзя (даже если бы мы и захотели) исключать культуру, поскольку она оказывает воздействие на любого человека (за исключением, возможно, некоторых сумасшедших) и поэтому обязательно наложит свой отпечаток на интеллектуальный потенциал каждого. Но универсальное влияние культуры тоже можно считать преимуществом для нашего анализа. Благодаря ей мы можем изучать развитие и взаимосвязь различных видов интеллекта с разных точек зрения: какую роль играют социальные ценности; каким образом человек развивает свой профессионализм; как происходит обособление тех культурных сфер, в которых проявляется одаренность или несостоятельность человека; как можно проводить обучение различным навыкам.
Вот в чем заключается цель этой книги: свести воедино сведения о познании, полученные из разных направлений как со стороны культуры, так и с точки зрения биологии; понять, какие комбинации интеллектов будут самыми удачными. Нам осталось лишь четче определить критерии, по которым мы будем действовать.
Теперь я могу приступать к изложению своих взглядов на интеллект. В ходе обзора предыдущих исследований интеллекта и познания мы предположили, что существует несколько видов интеллекта, каждый из которых, вероятно, развивался по-своему. Рассмотрев последние открытия в нейробиологии, мы также можем предположить, что в мозге выделяются участки, которые соответствуют, по крайней мере обобщенно, различным формам познания. В тех же исследованиях высказывается мысль о наличии нейронной структуры, с помощью которой возможны разные способы обработки информации. В сфере психологии и нейробиологии в полном соответствии с духом времени у человека признают наличие нескольких интеллектов.
Но наука никогда не продвигалась вперед исключительно индуктивно[28]. Мы можем провести все доступные психологические тесты и эксперименты или же изучить всю литературу по вопросам нейроанатомии, но так и не дать определение этим пресловутым видам интеллекта. В данном случае мы сталкиваемся с вопросом не столько о достоверности знаний, сколько о том, как получить эти знания. Необходимо выдвинуть гипотезу или теорию, а затем проверить ее. Только после того, как станут известны сильные стороны и недостатки этой теории, можно будет говорить о правдоподобии высказанного предположения.
Наука никогда не признавала исключительно правильный и окончательный ответ. Существует как прогресс, так и регресс, взлеты и падения, но не было еще открытия, равного по значению находке Розеттского камня[29], единственного ключа к разгадке насущных вопросов. Такое положение сохранялось и в самых тонких вопросах физики и химии. И уж тем более это справедливо в отношении социальных и биологических наук.
Поэтому следует сказать раз и навсегда, что нет и не может быть единственно возможной и неоспоримой классификации видов человеческого интеллекта. Никогда исследователи не составят эталонную классификацию из трех, семи или трехсот видов. Мы можем приблизиться к этой цели, придерживаясь только одного уровня анализа (скажем, нейропсихологии), но если мы ставим перед собой задачу разработать всестороннюю теорию человеческого интеллекта, то можно предположить, что наши поиски никогда не завершатся.
Зачем же, в таком случае, идти по столь сомнительному пути? Затем, что мы нуждаемся в более качественной классификации интеллектов человека, чем та, что есть у нас сейчас; затем, что в последнее время в ходе научных исследований, кросс-культурных наблюдений и изучения учебного процесса появляются все новые сведения, которые необходимо рассмотреть и классифицировать; и возможно, прежде всего потому, что в наших силах составить подобную классификацию видов интеллекта, которая пригодится очень многим исследователям и практикам, позволив им продуктивнее обсуждать это любопытное и невыясненное пока понятие — интеллект. Другими словами, синтез, к которому мы стремимся, не является окончательной целью для всего человечества, но он может предоставить сведения для многих заинтересованных сторон.
Прежде чем переходить к рассмотрению непосредственно видов интеллекта, мы должны остановиться на двух вопросах. Во-первых, каковы предпосылки интеллекта, т. е. каковы общие требования, которым должен удовлетворять набор определенных интеллектуальных навыков, чтобы его можно было внести в классификацию видов интеллекта? Во-вторых, каковы действительные критерии, по которым мы в состоянии судить, можно ли внести кандидата, прошедшего «первый тур», в число избранных? Как подпункт вопроса о критериях важно также указать те факторы, которые дают основание предполагать, что мы идем по ложному пути, если навык, казавшийся отдельным видом интеллекта, не подходит под это определение или если какой-то очень важный аспект оказывается вне нашего поля зрения.
На мой взгляд, отдельная интеллектуальная способность человека должна предполагать наличие определенных умений по решению проблем, благодаря которым человек может устранить проблемы или трудности, с которыми он столкнулся, и, когда это возможно, выработать эффективный продукт. Кроме того, такой набор навыков должен обладать потенциалом формулировать проблемы, тем самым закладывая основы для приобретения новых знаний. Вот какие предпосылки я учитываю, обращая внимание на те виды интеллекта, которые играют важную роль в рамках культурного контекста. В то же время я признаю, что идеал ценностей будет значительно, а иногда и радикально, отличаться в зависимости от культуры, в которой живет человек, поскольку в некоторых сообществах создание нового продукта или постановка новых вопросов не является столь важным умением.
Предпосылки — это способ убедиться, что рассматриваемый вид интеллекта полезен и важен, по крайней мере в данной культурной среде. Только по одному этому признаку можно отбросить некоторые способности, которые при других обстоятельствах удовлетворяли бы всем требованиям, которые я перечислю ниже. Например, способность распознавать лица кажется относительно автономной и регулируется особым участком нервной системы человека. Более того, развитие ее тоже шло особыми путями. И все же, как мне кажется, хотя некоторые люди испытывают серьезные трудности с распознаванием лиц, эта способность не играет важной роли в рамках различных культур. Кроме того, в данной сфере трудно сформулировать определенную новую проблему. Точность работы сенсорных систем — вот еще один кандидат в отдельный вид человеческого интеллекта. Но когда речь заходит об остроте вкусовых или обонятельных ощущений, эти способности тоже не имеют серьезного значения во многих культурах. (Признаю, что люди, больше меня интересующиеся кулинарией, могут не согласиться с этим утверждением.)
Не проходят такой проверки и другие способности, занимающие центральное место во взаимоотношениях людей. Например, очень важны способности, которыми пользуется ученый, религиозный лидер или политик. Но поскольку в теории эти социальные роли можно представить в виде сочетания нескольких видов интеллекта, то сами по себе они таковыми не являются. С противоположной точки зрения, многие навыки, которые постоянно исследуют психологи, — от удержания в памяти наборов бессмысленных слогов до продуцирования необычных ассоциаций — тоже не подходят под наше определение отдельного вида интеллекта, поскольку возникают скорее как выдумка экспериментатора, нежели умение, ценимое в той или иной культурной среде.
Конечно, попытки дать название и подробнее описать важнейшие виды интеллекта предпринимались неоднократно, начиная со средневековых тривиума и квадривиума и до пяти моделей коммуникации, выделенных психологом Ларри Гроссом (лексическая, социально-жестовая, иконическая, логико-математическая и музыкальная) , а также до семи отдельных форм знания, предложенных философом Полом Херстом (математика, физические науки, межличностное понимание, религия, литература и изобразительные искусства, мораль, философия). Априори[30] в этих классификациях все верно, и они могут во многом пригодиться для определенных целей. Однако наибольшая сложность с этими классификациями состоит в том, что все они — именно априорная попытка вдумчивого человека (или культуры) установить видимые различия между видами знаний. Здесь я призываю к тому, чтобы выделить те виды интеллекта, которые отвечают определенным биологическим и психологическим требованиям. Если поиски эмпирически обоснованных видов интеллекта завершатся неудачей, нам снова придется вернуться к априорным схемам, подобным той, что предложил Херст. Но все же стоит приложить усилия и попытаться найти более прочные основания для наших предположений.
Я не настаиваю на том, что предложенная здесь классификация видов интеллекта окончательна. Меня бы очень удивил такой поворот. И в то же время есть нечто отталкивающее в классификации, в которой заметны явные пробелы или которая не учитывает все многообразие ролей и навыков, необходимых в человеческой культуре. Таким образом, предпосылки для теории множественного интеллекта следующие: она охватывает относительно полный набор способностей, которые важны для человека в любой культурной среде. Мы должны учесть как умения шамана и психоаналитика, так и навыки йога или святого.
Перейдем теперь от предпосылок нашей затеи к определению критериев интеллекта, или его «признаков». Здесь я изложу соображения, которые показались наиболее значимыми и на которые я больше всего полагался при выделении видов интеллекта, поскольку считаю их самыми общими и чрезвычайно полезными. Само слово «признаки» подразумевает, что эти критерии должны быть временными: я не включал в эту классификацию некоторые пункты просто потому, что они отвечают одному или двум из этих признаков, а также не отмахивался от кандидатов на звание отдельного вида интеллекта, если он не соответствует общепринятым требованиям в каком-либо аспекте. Скорее можно говорить о том, что я предпринял попытку исследовать как можно больше критериев и внести в список возможных кандидатов те виды, которые покажутся самыми достойными. Следуя модели, которую предложил специалист по компьютерам Оливье Селфридж, эти признаки можно воспринимать как группу демонов, каждый из которых начнет подавать признаки жизни, если рассматриваемый вид интеллекта совпадает с «требованиями» этого демона. Если зазвучат сразу несколько демонов, тогда тот или иной вид интеллекта включается в список, если же значительное их количество не реагирует, то от дальнейшего рассмотрения этого вида интеллекта можно отказаться.
Конечно, было бы желательно иметь алгоритм для отбора того или иного вида интеллекта, чтобы любой профессиональный исследователь мог определить, соответствует ли возможный кандидат всем критериям. Но в настоящий момент следует согласиться, что признание (или исключение) возможного вида интеллекта основывается больше на творческом суждении, чем на научной оценке. Если воспользоваться понятием из статистики, то всю процедуру можно считать «субъективным» анализом фактов. В чем моя программа все же соприкасается с наукой, так это в том, что все основания для подобного суждения становятся известными широкой общественности, поэтому другие исследователи также могут изучить накопленные сведения и прийти к своим собственным выводам.
Ниже приводятся восемь «признаков» интеллекта.
Потенциальная изоляция в результате мозговой травмы
Поскольку в результате травмы мозга отдельная способность может быть повреждена или сохраняется в изоляции, то вероятной кажется ее относительная автономия от других способностей человека. Ниже я в значительной степени прибегаю к открытиям в сфере нейропсихологии, особенно к крайне показательному эксперименту, проведенному природой, — поражению определенного участка мозга. Последствия такой травмы могут стать самыми убедительными доказательствами в вопросе об отличительных способностях, лежащих в основе человеческого интеллекта.
Существование умственно отсталых, вундеркиндов и других необычных индивидов
Вторым по убедительности после травмы мозга является существование людей, наделенных крайне неоднородным профилем способностей и недостатков. В случае с вундеркиндом мы имеем дело с человеком, который невероятно одарен в одной или нескольких областях знания. При работе с так называемыми учеными идиотами (и другими людьми с психическими расстройствами, в том числе детьми, больными аутизмом) мы часто видим, как на фоне средних или крайне заторможенных показателей в одних сферах одна из способностей человека сохраняется в уникальной чистоте. И снова тот факт, что такие люди существуют, позволяет нам наблюдать за интеллектом человека в относительной — и даже превосходной — изоляции. Если учесть, что развитие вундеркинда или ученого идиота во многом можно приписать генетическим факторам или действию особых участков нервной системы (выявленному с помощью неинвазивных[31] методов) , то утверждение об отдельном виде интеллекта тем более оправдано. В то же время избирательное отсутствие интеллектуального навыка, которое наблюдается у детей, страдающих аутизмом, или у подростков с различными расстройствами обучения, тоже служит доказательством «от противного».
Различимый набор основных операций
Центральным в моем понимании интеллекта является наличие одной или нескольких основных операций или механизмов по обработке информации, которые работают с разными видами получаемых сведений. Можно даже взять на себя смелость обозначить интеллект человека как нейронный механизм или механизм по обработке информации, который генетически запрограммирован на то, что будет активизироваться с помощью определенной внутренней или внешней информации. Чувствительность к высоте звука как основу музыкального интеллекта или способность имитировать движение как главное умение телесного (кинестетического) интеллекта можно отнести к самым ярким примерам.
Учитывая такое определение, решающей становится возможность выделить эти основные операции, определить их нейронные соответствия и доказать, что они действительно независимы друг от друга. Компьютерное моделирование — один из многообещающих способов выяснить, что основная операция действительно существует и может привести к развитию отдельного вида интеллекта. Выделение основных операций в настоящее время по-прежнему во многом строится на догадках, но важность его от этого не уменьшается. Соответственно, невозможность выделить основную операцию говорит о том, что что-то упущено из виду: возможно, мы столкнулись со смесью интеллектов, которую необходимо разделить на составляющие.
Особая история развития и отличительный набор «конечных» характеристик
Вид интеллекта должен иметь свою особую историю развития, через которую проходят как «нормальные», так и одаренные люди в процессе онтогенеза. Несомненно, интеллект не сможет развиться в изоляции, за исключением неординарных случаев, поэтому необходимо обратить внимание на те роли или ситуации, где этот вид интеллекта играет главенствующую роль. Кроме того, необходимо, чтобы в процессе развития интеллекта можно было выделить отдельные уровни владения им — от универсальных основ, через которые проходит любой новичок, до невероятных высот компетентности, доступных только тем людям, которые обладают особым талантом или проходят специальное обучение. Необходимо выделять критические периоды в истории развития, а также отдельные вехи, связанные либо с обучением, либо с физическим становлением. Выделение истории развития интеллекта и анализ его восприимчивости к изменениям и обучению — одна из первоочередных задач для тех, кто занимается проблемами образования.
Эволюционная история и эволюционная пластичность
Сферы проявления интеллекта (и невежества) выделяются у всех видов животных, и люди — не исключение. Те виды интеллекта, которыми мы сегодня обладаем, уходят своими корнями в многомиллионную историю эволюции. Отдельный вид интеллекта настолько заметен, что можно обнаружить его эволюционных предков, в том числе и те способности (например, пение птиц или социальную организацию приматов), которые являются общими для других организмов. Кроме того, нужно обращать внимание и на особые способности, которые функционируют в изоляции у других биологических видов, но активно проявились только у человека (например, отдельные аспекты музыкального интеллекта проявляются у нескольких биологических видов, но вместе они встречаются только у людей). Периоды стремительного роста в начале истории человечества, мутации, которые наделили нас особыми преимуществами перед другими видами, а также эволюционные тупики — все это должно представлять большой интерес для исследователя интеллекта. Но все же необходимо подчеркнуть, что это та область, где особенно силен соблазн высказывать необоснованные предположения, а твердых доказательств особенно мало.
Поддержка со стороны экспериментальной психологии
Многие парадигмы, которым отдается предпочтение в экспериментальной психологии, проливают свет на работу отдельных видов интеллекта. Пользуясь методами когнитивной психологии, можно, например, с поразительной точностью изучить детали обработки лингвистической или пространственной информации. Возможно также исследовать относительную автономность отдельного вида интеллекта. Особенно многообещающими считаются исследования тех задач, которые вмешиваются (или не могут вмешаться) в деятельность друг друга; задач, которые передаются через различные виды контекста; а также выделение форм памяти, внимания и восприятия, которые могут оказаться особыми для отдельного вида поступающей информации. Подобные эксперименты могут оказать существенную поддержку тому утверждению, что отдельные способности являются (или не являются) проявлениями тех же видов интеллекта. Учитывая, что разные механизмы по обработке информации работают слаженно, экспериментальная психология может также выявить способы, которыми модульные или специфичные для определенной культурной сферы способности взаимодействуют при выполнении сложных задач.
Поддержка со стороны психометрии
Результаты психометрических экспериментов служат еще одним источником информации, имеющей отношение к интеллекту, а результаты стандартизированных тестов (например, тестов на определение IQ) также говорят о многом. Хотя в предыдущих главах я не очень одобрительно отзывался о традиции тестирования интеллекта, тем не менее оно имеет непосредственное отношение к моей задаче. Учитывая тот факт, что задания, с помощью которых оценивается один вид интеллекта, тесно связаны между собой и меньше — с теми заданиями, которые должны оценивать другой вид интеллекта, моя формулировка лишь подтверждает достоверность. А помня о том, что данные психометрических тестов во многом противоречат тому списку интеллектов, который я предлагаю, об этом стоит задуматься. Однако следует заметить, что тесты интеллекта не всегда выявляют именно то, что должны по своей сути. Например, для выполнения многих заданий необходимо использовать более одной способности, на диагностику которой изначально этот тест нацелен, а другие задачи можно решить различными способами (например, построить определенные аналогии или матрицы можно, воспользовавшись лингвистическими, логическими и/или пространственными способностями). Кроме того, акцент на тестировании с помощью письменных заданий часто мешает адекватной диагностике отдельных способностей, особенно тех, которые связаны с активной работой в заданных условиях или взаимодействием с другими людьми. Следовательно, интерпретация психометрических исследований не всегда имеет решающее значение.
Восприимчивость к расшифровке символических систем
Значительная часть изложения и передачи знаний между людьми происходит посредством символических систем — сформировавшихся в определенных культурных условиях смысловых систем, которые содержат важные виды информации. Язык, изобразительные образы и математика — вот три системы символов, которые стали особенно важны для выживания и развития человечества. На мой взгляд, одна из особенностей, благодаря которой первоначальная способность обрабатывать информацию стала использоваться человеком, — это ее восприимчивость к кодировке в виде принятой в данной культуре символической системы. С противоположной точки зрения, символические системы, возможно, появляются только в тех случаях, когда уже существует некий механизм по обработке информации, который может развиваться в определенной культуре. Хотя интеллект может функционировать без своей символической системы или без какой-либо другой культурной находки, первоочередная особенность интеллекта человека состоит в том, что он «естественным образом» тяготеет к воплощению в виде символической системы.
Таковы критерии, по которым можно оценивать кандидатов на звание отдельного вида интеллекта. К ним мы будем прибегать постоянно в каждой из следующих глав. И здесь уместно вспомнить о некоторых критериях, по которым исследователь может исключить возможного кандидата из классификации видов интеллекта.
В одну из групп возможных видов интеллекта входят те, выделение которых кажется очевидным. Например, может показаться, что способность обрабатывать последовательность звуков — это достойный кандидат на звание интеллекта, и действительно, многие экспериментаторы и психометристы выделяли такое умение. Но изучение воздействия мозговой травмы неоднократно доказывало, что музыкальные и лингвистические сигналы обрабатываются по-разному, а качество обработки зависит от особенностей повреждения. Поэтому, несмотря на видимую привлекательность такого навыка, его все же лучше не считать отдельным видом интеллекта. Другие способности, о наличии которых у определенных людей часто говорили, — например, чрезвычайно развитый здравый смысл или интуиция, — тоже, как кажется, могли бы быть признаками интеллектуальной «одаренности». Но в этом случае, похоже, такие понятия недостаточно изучены. В ходе более тщательного анализа обнаруживаются разные формы интуиции, здравого смысла и проницательности в различных интеллектуальных сферах. При этом интуиция в социальных вопросах не обязательно свидетельствует о наличии у человека интуиции в области музыки или механики. Поэтому голословное выдвижение такого «кандидата» тоже не подходит.
Конечно, существует вероятность того, что нашу классификацию видов интеллекта можно считать подходящей в качестве фундамента для основных интеллектуальных способностей, но могут возникнуть некоторые более общие способности, которые так или иначе повлияют на количество основных видов интеллекта. Среди часто упоминаемых кандидатов можно отметить чувство «Я», которое представляет собой результат особой комбинации интеллектов; «исполнительную способность», активизирующую разные виды интеллекта для выполнения разных задач; синтезирующую способность, благодаря которой объединяются выводы, полученные в нескольких интеллектуальных сферах. Это чрезвычайно важные явления, достойные того, чтобы их если не объяснили, то хотя бы исследовали. Но такую дискуссию лучше отложить до тех времен, когда, изложив свои взгляды на виды интеллекта, я предоставлю слово своим критикам в главе 11. С другой стороны, вопрос о том, как взаимосвязаны отдельные виды интеллекта, как они дополняют друг друга или уравновешиваются при выполнении более сложных, обусловленных культурой задач, — один из самых насущных, поэтому я уделю ему внимание в некоторых главах этой книги.
Как только установлены самые важные критерии, или признаки, для выделения отдельного вида интеллекта, необходимо также установить, чем интеллект не является. Начнем с того, что интеллект не тождественен сенсорной системе: он ни в коем случае не зависит полностью лишь от одной сенсорной системы, а сенсорная система не находит свое воплощение в интеллекте. По своей природе виды интеллекта могут реализовываться (хотя бы частично) через более чем одну сенсорную систему.
Интеллекты необходимо воспринимать шире, чем как крайне специализированные механизмы по обработке информации (например определение линий) , но все же уже, чем такие общие способности, как анализ, синтез или чувство «Я» (если будет доказано существование этих явлений отдельно от комбинаций нескольких видов интеллекта). И все-таки в самой природе интеллектов заложено, что каждый из них действует по своим программам и имеет отдельную биологическую основу. Поэтому было бы ошибкой пытаться сравнивать разные виды интеллекта по всем характеристикам. Каждый из этих видов необходимо воспринимать как отдельную систему со своими собственными правилами. Здесь может пригодиться биологическая аналогия: хотя глаза, сердце и почки — это отдельные органы тела, было бы ошибкой сравнивать их по всем возможным критериям; поэтому тех же ограничений следует придерживаться и в случае с интеллектами.
Виды интеллекта не поддаются описанию в оценочных терминах. Хотя в нашей культуре само слово «интеллект» имеет положительную окраску, нет оснований полагать, что его всегда используют лишь с добрыми намерениями. На самом деле можно применять лингвистический, логикоматематический или личностный интеллект в крайне гнусных целях.
Лучше всего воспринимать интеллекты независимо от определенной программы действий. Конечно, виды интеллекта яснее всего проявляются, когда необходимо выполнить ту или иную программу действий. И все же правильнее будет думать об интеллекте как о потенциале: можно сказать, что для человека, наделенного интеллектом, нет никаких препятствий к тому, чтобы им воспользоваться. Вопрос о том, насколько он готов следовать по этому пути (и до каких пределов может воспользоваться своим интеллектом) в нашей книге не рассматривается. (См. примечания.)
В процессе изучения навыков и способностей стало традицией различать знания «как» (скрытые знания о том, как выполнить определенную задачу, или процессуальные знания) и знания «что» (явные знания о действиях, необходимых для выполнения операции, — пропозициональные, или содержательные, знания). Например, многие из нас имеют скрытые знания о том, как ездить на велосипеде (т. е. успешно умеют это делать), но не обладают явными знаниями того, что входит в состав этого действия. И наоборот, многие имеют явные знания о том, что (по рецепту) необходимо делать для приготовления суфле, но не знают, как (реально) довести эту задачу до успешного завершения. Хотя я не готов полностью принять такое резкое различие, но все же разные виды интеллекта можно представить себе в виде набора знаний «как» — операций для выполнения действий. Что же касается явных знаний об интеллекте, то в одних культурах им уделяется особое внимание, а в других к этому вопросу не проявляют никакого интереса.
Задача этих замечаний — настроить читателя на правильную волну, прежде чем переходить к описанию различных видов интеллекта, которые даны в последующих главах. Конечное же, в книге, где рассматривается весь спектр интеллектов, невозможно уделить особое внимание какому-то одному из них. Ведь даже чтобы серьезно изучить отдельный вид интеллекта — например, речь, — этому нужно посвятить по крайней мере один объемный том. Самое большое, на что я могу рассчитывать в моем случае, — это дать понять, что представляет собой каждый отдельный вид интеллекта, рассказать кое-что о его основных операциях, высказать предположения о его развитии и кульминации, а также попытаться разобраться в его неврологической основе. В каждой области я буду полагаться преимущественно на несколько основных примеров и свидетельства знающих «гидов», а также поделюсь своими впечатлениями (и надеждой!), что те же результаты можно получить и в исследованиях других ученых. Кроме того, я затрону несколько ключевых «культурных» ролей, для выполнения которых необходимо воспользоваться сразу несколькими видами интеллекта, но которые могут помочь в изучении отдельных их видов.
Представление о других данных, которыми я пользуюсь в ходе анализа, а также сведения о дополнительной литературе по каждому виду интеллекта можно получить из примечаний к главам. Но я также вынужден признать, что сбор большего количества убедительных свидетельств в пользу каждого из видов интеллекта придется отложить до лучших времен и для других исследователей.
И наконец, последнее, ключевое замечание, прежде чем перейти непосредственно к видам интеллекта. Человек постоянно подвергается соблазну принимать на веру привычное — вероятно, потому, что оно помогает лучше разобраться в ситуации. Как уже говорилось в начале этой книги, понятие интеллекта тоже из числа такого «привычного». Мы так часто им пользуемся, что уже начали верить, будто он существует как некий реальный, измеримый объект, а не просто удобный способ обозначать явления, которые, возможно, существуют, а возможно, и нет.
Такой риск для абстрактного явления стать материальным особенно заметен при попытке изложить новую научную концепцию. И я, и разделяющие мое мнение читатели, скорее всего, будем думать — а заодно и по привычке утверждать, — что обладаем «лингвистическим», «внутриличностным» или «пространственным интеллектом». Но это не так. Все эти виды интеллекта — фикция, в лучшем случае, полезная выдумка, которая помогает изучать процессы и способности, неразрывно связанные друг с другом, как и все в нашей жизни. В Природе нет таких четких различий, какие представлены здесь. Все виды интеллекта выделяются и описываются так обособленно только для того, чтобы пролить свет на научные вопросы и затронуть насущные практические проблемы. Мы вполне можем согрешить и материализовать неуловимое явление, поэтому необходимо постоянно осознавать то, что мы делаем. И потому, приступая к рассмотрению отдельных видов интеллекта, я должен повторить, что они существуют не как физические объекты, а лишь как потенциально полезные научные понятия. Но поскольку именно язык заводит нас в эту опасную трясину, видимо, будет уместно начать обсуждение существующих видов интеллекта с изучения слова, наделенного, как известно, особой силой.
Теория
А правда, что белый человек умеет летать? Он может общаться через океан; в работе тела он действительно совершеннее нас, но у него нет таких песен, как у нас, а его поэты не могут сравниться с певцами нашего острова.
В письменной речи задействованы все те же природные инстинкты, срабатывающие у людей, которые без единого урока умеют играть на музыкальных инструментах, или у детей, с ходу понимающих работу двигателя внутреннего сгорания.
ПОЭЗИЯ: ВОПЛОЩЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В начале 1940-х годов Кейт Дуглас, молодой британский поэт, начал переписку с Т. С. Элиотом, который в то время уже был старейшиной среди английских поэтов. Ответы Элиота, неизменно полезные, многое говорят о том внимании, с которым нужно подходить к выбору слова и его последующему звучанию в стихотворной строке. Говоря о нежелательности использования «неэффективных прилагательных» Элиот критикует фразу «неустойчивое здание»: «Эту неустойчивость необходимо было четко передать в предыдущих строках стихотворения». После того как молодой поэт сравнивает себя с колонной в стеклянном доме, Элиот спрашивает: «То есть Вы имеете в виду, что тоже сделаны из стекла?» Отмечая строку, в которой поэт сравнивает себя с мышью, Элиот снова указывает на очевидную непоследовательность: «Мне кажется, не нужно быть в одной строфе и колонной, и мышью». О стихотворении в целом Элиот отзывается так.
Я думаю, общий настрой не совсем последователен. Например, ближе к концу вы говорите об изгнании мертвой девушки из комнаты на верхнем этаже. Можно говорить об изгнании привидений из материального дома, но в данном случае складывается впечатление, что девушка, о которой идет речь, намного более материальна, чем сам дом, куда вы ее поместили. Вот что я имею в виду под последовательностью.
Высказывая свои суждения, Элиот во всеуслышанье заговорил о некоторых процессах, через которые должен пройти поэт при написании стихотворения. Из заметок Элиота мы узнаем о том, насколько серьезно он относился к этому и как часто ему приходилось страдать, подбирая нужное слово. Например, в стихотворении Four Quarters он перебирал фразы «на рассвете», «первый слабый луч», «когда погаснут фонари» «время фонарей», «сумеречный час», «предрассветная тьма» и только потом последовал совету друга и остановился на выражении «слабеющий сумрак». Многие современники Элиота в этом самом вдумчивом веке так же ответственно подходили к выбору подходящего слова. Например, Роберт Грейвс рассказывал о своих попытках найти замену для слова «хитросплетение» в предложении «и затерялся в тесном хитросплетении сомнений». Он раздумывал над вариантами «структура сомнений» (слишком официально) и «западня» (слишком негативная окраска). Наконец, на прогулке к морю его осенило: «и затерялся в тесном коконе сомнений». Проверив по толковому словарю, Грейвс выяснил, что у этого слова есть все необходимые ему оттенки значения.
Стивен Спендер вспоминает, как на полях записной книжки он выстраивал стихотворение:
Бывают дни, когда море лежит, как арфа, распростертое между утесами. Волны подобно струнам горят медными отблесками солнца.
Он не меньше 20 раз пытался скомпоновать эти строки, стараясь прояснить сцену, заставить зазвучать скрытую в ней музыку, оживить этот «внутренний образ» бренности земной жизни и смерти моря. Среди вариантов были такие:
Волны — это струны,
Поящие тайную песню огня.
День догорает на дрожащих струнах,
И его музыка отливает золотом в глазах.
День сияет на дрожащих струнах,
И золотая музыка звучит в глазах.
День сияет на дрожащих струнах,
И словно волны золотой музыки бегут к глазам.
Полдень догорает над волнами,
И музыка слепит глаза.
Полдень золотит свои звонкие струны,
Превращая их в зримую тихую музыку для глаз.
В каждом из этих двустиший была своя проблема. Например, в первом, открытом утверждении «волны — это струны» создается не совсем подходящий образ, потому что он слишком преувеличен. По мнению Спендера, поэт должен избегать откровенного выражения своих чувств. В шестом варианте, «зримая тихая музыка для глаз», смешано столько образных выражений, что вся фраза кажется несколько неуклюжей. Окончательный вариант, на котором остановился Спендер, располагает образы в рамках широкого контекста:
Бывают дни, когда счастливый океан лежит
Внизу, как нетронутая арфа.
Полдень золотит все серебряные струны,
Превращая их в пылающую музыку для глаз.
И хотя в результате эффект стихотворения, напоминающего о Гомере и Блейке[32], возможно, не настолько поражает, как первые попытки, окончательный вариант верно и точно передает подстрочный импульс Спендера, тот исходный образ, которым он стремился поделиться.
Наблюдая за поисками, в ходе которых поэт подбирает подходящие слова для строки или строфы, можно выделить некоторые основные аспекты лингвистического интеллекта. Поэт должен обладать утонченной чувствительностью к оттенкам значений слова и даже более того — он обязан не избавляться от излишних скрытых значений, а наоборот, сохранять как можно больше оттенков смысла искомого варианта. Вот почему «кокон» был самым лучшим вариантом с точки зрения Грейвса. Более того, значения слова нельзя рассматривать изолированно. Поскольку у каждого слова есть свои оттенки смысла, поэт должен проследить, чтобы значение слова в одной строке стихотворения не противоречило впечатлению, которое производит то же слово в другой строке, находясь в окружении других слов. Вот почему Элиот предупреждает о несочетаемости слов «колонна» и «мышь» в одной строфе и о необходимости изгонять призрак девушки из материального дома, а не наоборот. Наконец, слова должны как можно точнее передавать эмоции или образы, которые и послужили толчком к написанию стихотворения. Варианты, рассматриваемые Спендером, можно назвать или удивительными, или приятными, но если они не передают тот образ, который был у него вначале, то эти строки нельзя считать стихотворением, — или, вернее, они будут основой другого стихотворения, не того, что изначально собирался создавать поэт.
Обсуждая значения или смысл слов, мы попадаем в область семантики, той науки о смысле, которая выступает общепризнанной основой речи. Т. С. Элиот однажды заметил, что логика поэта так же несокрушима, как логика ученого, хотя и излагается иначе. Он также сказал, что расположение образов требует «такой же основательной работы разума, как и построение доказательств». Если для логики ученого необходима чувствительность к взаимосвязи одной гипотезы (или закона) с другой, то логика поэта основывается на чувствительности к оттенкам значения и к тому, как они влияют на соседние слова. Не признавая законы логической дедукции, нельзя стать ученым. Точно так же человек не может стать поэтом, если лишен чувствительности к лингвистическим значениям.
Но для молодого поэта важны и другие аспекты речи. Он должен чувствовать фонологию: звуки, составляющие слова, и их музыкальную связь друг с другом. Основной метрический аспект поэзии, несомненно, зависит от этой восприимчивости на слух, и поэты часто утверждали, что во многом полагаются на звуковое оформление своих стихов. У. X. Оден отмечал, что ему «...нравится бродить рядом со словами и слушать, что они говорят». Герберт Рид, еще один поэт из поколения Элиота, говорит, что «в зависимости от своей поэтичности... слова автоматически вызывают скорее слуховые, нежели визуальные ассоциации». И «тесный кокон» Грейвса настолько же полагается на звучание, насколько зависит от семантики этих слов.
Мастерское владение синтаксисом, т. е. правилами расположения слов и словообразования, — вот еще одно обязательное условие поэзии. Поэт должен интуитивно понимать правила построения фразы, а также случаи, когда допустимо нарушить синтаксис и соединить слова, которые по нормам грамматики не должны встречаться вместе. И наконец, поэт должен разбираться в прагматических функциях, т. е. правилах, согласно которым используется речь: ему необходимо знать самые разнообразные виды поэтических речевых актов, начиная от любовной лирики и заканчивая эпическим описанием, и владеть как неоспоримостью приказа, так и утонченностью мольбы.
Поскольку совершенное владение речью играет решающую роль и так важно для поэтического призвания, то именно любовь к языку и стремление изучить все его тонкости являются характерной особенностью любого молодого поэта. Зачарованность языком, легкость в обращении со словами, а не желание выражать свои идеи, — вот отличительные признаки будущего поэта. Хотя это, возможно, и не обязательное требование, но способность подхватывать и запоминать фразы, особенно излюбленные выражения других поэтов, — бесценный дар стихотворца. Критик Хелен Вендлер вспоминает, как присутствовала на мастер-классах Роберта Лоуэлла, где этот ведущий американский поэт легко декламировал великих поэтов прошлого, время от времени (и всегда намеренно) исправляя строку, в которой видел какой-либо изъян. Наблюдая за этой лингвистической способностью, Вендлер замечает: «Ты чувствуешь себя отставшей в своем развитии эволюционной формой, которая столкнулась с неизвестным, но превосходящим тебя во всем существом». Это существо — поэт — наделено такой связью со словами, которая выходит за пределы возможностей обычного человека; становится хранилищем всех возможных значений, в которых эти слова использовались в других стихотворениях. Подобное знание истории лексических значений готовит поэта к созданию собственных комбинаций в процессе творчества. Как утверждает Норторп Фрай, именно с помощью таких свежих сочетаний мы можем создавать новые слова.
В работе поэта наглядно можно проследить все основные речевые операции в действии. Это чувствительность к значению слов, при которой человек понимает оттенок различия между тем, что чернила пролиты «намеренно», «умышленно» или «нарочно». Чувствительность к порядку слов — способность следовать правилам грамматики, а в подходящем случае и нарушать их. На несколько более тонком уровне находится чувствительность к звукам, ритму, склонению и стихотворному размеру — именно благодаря ей стихотворения на иностранном языке могут казаться мелодичными на слух. Выделяется также и чувствительность к разным функциям речи — к ее способности волновать, убеждать, побуждать к действию, передавать информацию или просто доставлять удовольствие.
И хотя мы в большинстве своем не поэты — даже в самом общем понимании этого слова, — однако в значительной мере наделены подобной чувствительностью. Несомненно, не разбираясь хотя бы поверхностно в этих аспектах речи, невозможно по-настоящему ценить поэзию. Более того, человек, плохо владеющий фонологией, синтаксисом, семантикой и прагматикой речи, не имеет шансов добиться значительного положения в обществе. Лингвистическая осведомленность — это именно тот вид интеллекта, который, похоже, является самым распространенным талантом среди людей. Если музыкант или художник, не говоря уже о математике или гимнасте, проявляют способности, которые обычному человеку кажутся чем-то недоступным и даже таинственным, то поэт, как считается, довел до совершенства те свои качества, которыми в состоянии овладеть все нормальные — и даже многие не соответствующие общепринятым нормам — люди. Поэтому поэта можно считать надежным гидом, показывающим путь в царство лингвистического интеллекта.
Но можно ли выделить еще какие-либо сферы применения речи для тех из нас, кто не может отнести себя к настоящим поэтам? Из многочисленных кандидатов я бы выделил четыре аспекта лингвистических знаний, которые чрезвычайно важны в человеческом обществе. Во-первых, существует риторический аспект речи — способность пользоваться речью для того, чтобы побуждать других людей к действию. Именно эти качества оттачивают в себе политические лидеры и специалисты в юриспруденции, но такие же способности начинает развивать и трехлетний карапуз, требующий добавки пирожного. Во-вторых, речь наделена мнемоническим потенциалом — это способность использовать данный инструмент для запоминания информации, начиная от списка личных вещей до правил игры, от инструкций по ориентированию на местности до навыков работы на новом оборудовании.
Третий аспект речи — это ее роль при объяснении. Большая часть обучения происходит с помощью языка — в основном благодаря устной речи, когда прибегают к стихотворениям, пословицам и поговоркам или к простым объяснениям, а в настоящее время так же часто используется и письменное слово. Наглядный пример данного аспекта речи предоставляет нам наука. Несмотря на бесспорную важность логических и математических умозаключений, а также символических систем, письменная речь по-прежнему остается оптимальным вариантом для изложения основных понятий в учебнике. Кроме того, в речевом пространстве возникают метафоры, играющие ключевую роль при разработке и объяснении нового направления в науке.
Наконец, речь наделена потенциалом объяснять свою собственную деятельность — это возможность использовать ее для размышления о ней самой, для проведения «металингвистического» анализа. Задатки к такому применению можно заметить у ребенка, который говорит: «Ты имел в виду то или это?» тем самым побуждая собеседника задуматься над первоначальным значением высказывания. Еще более поразительные примеры металингвистических размышлений появились в XX веке, особенно за последние 30 лет. Благодаря революции в психолингвистике, зачинателем которой был Ноам Хомский, мы теперь лучше понимаем, что собой представляет речь и как именно она работает, а также можем выдвигать смелые гипотезы о ее роли в сферах человеческой деятельности. Если в нашей культуре явным знаниям о речи (знания «что») уделяется значительно больше внимания, чем во многих других, тем не менее интерес к системным аспектам речи нельзя назвать характерным лишь для западных стран или других культур с развитой наукой.
Главная задача данной главы — рассказать о тонкостях всех этих граней речи. Прежде всего, мы обратимся к речи потому, что она является превосходным примером человеческого интеллекта. Кроме того, этот вид интеллекта был изучен лучше и тщательнее других, поэтому мы можем чувствовать себя относительно уверенно, говоря о развитии лингвистического интеллекта и рассматривая различные нарушения лингвистических способностей в результате мозговых травм. Достоверная информация получена также благодаря изучению эволюции человеческой речи, ее кросс-культурных проявлений и взаимосвязи с другими видами интеллекта. Поэтому, изучая современные знания о лингвистическом интеллекте, я старался не только свести воедино сведения об этой отдельной стороне человеческой деятельности, но и предложить возможные методики анализа, которые, я надеюсь, пригодятся в будущем для рассмотрения всех остальных видов интеллекта.
РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Корни устной речи прослеживаются в лепете младенца в первые месяцы жизни. И действительно, даже глухие дети начинают лепетать очень рано, а в течение первых месяцев все новорожденные производят звуки, и отдаленно не напоминающие их родной язык. Но к началу второго года жизни характер лингвистической деятельности меняется: становятся заметны отдельные слова: «мама», «папа», «каша», а через некоторое время — соединение пар слов в осмысленные выражения: «ням-ням каша», «пока, мама», «ляля ай-ай». Проходит еще год, и трехлетний малыш произносит уже целые цепочки предложений значительно сложнее, в том числе вопросы: «Куда мы пойдем?» повествовательные предложения: «Я не хочу спать» и сложные предложения: «Я возьму конфету, можно?» К четырем-пяти годам ребенок умеет исправлять небольшие синтаксические неточности в этих предложениях и уже говорит очень бегло, при этом его речь близка к высказываниям взрослых.
Более того, в столь юном возрасте дети выходят за пределы буквальных выражений. Обычный четырехлетний ребенок способен на поразительные обороты речи (например, сравнить ощущения в затекшей ноге с пузырьками газировки), он может рассказать небольшую историю о своих приключениях и придуманных им самим персонажах, а также менять тон разговора в зависимости от того, к кому он обращается — ко взрослым, своим ровесникам или детям младше его. Более того, ребенок уже способен на добродушное металингвистическое подтрунивание: «Что значит слово X», «Нужно говорить X или У?», «Почему ты не сказал об X, когда упомянул У?» Короче говоря, умения четырех-пятилетнего ребенка затмевают любую лингвистическую компьютерную программу. Даже самые искусные лингвисты в мире не могут написать правила, которые учитывали бы все разнообразие формы (и содержания) высказываний детей.
Все сказанное выше относительно речевого развития является бесспорным фактом, с которым согласны (насколько я знаю) все ученые без исключения. Существует и несколько более противоречивое, но также широко распространенное мнение, что для совершенствования речи необходимы особые когнитивные процессы, отличные от тех, на которых строятся другие виды интеллекта. Самый горячий и самый убедительный сторонник этой теории — Ноам Хомский, который утверждает, что дети появляются на свет со значительным багажом «врожденных знаний» о правилах и форме языка, а также с самого начала умеют расшифровывать эти сведения и говорить на своем или любом другом «природном» языке. Утверждения Хомского строятся на том факте, что невозможно объяснить, почему речевые навыки осваиваются так быстро и точно, несмотря на несовершенство речевых моделей, которые слышит ребенок, а другие способности остаются относительно неразвитыми. Другие ученые, такие как Кеннет Уэкслер и Питер Каликавер, развили эту идею и заявили, что дети не смогли бы вообще научиться говорить, если бы изначально не строили определенные предположения о том, как этот код следует — и не следует — применять, при этом подобные предположения, вероятно, являются врожденной чертой нервной системы человека.
Все нормальные дети и многие из страдающих психическими расстройствами овладевают речью, как правило, за несколько лет, в соответствии с четкой схемой. Этот факт подтверждает мнение тех ученых, которые доказывают, что речь — это особый процесс, действующий по своим собственным правилам. В то же время данное свидетельство представляет собой дополнительные трудности для тех, кто (подобно Пиаже) утверждает, что овладение речью происходит в результате общих психологических процессов. Вполне может быть, что правы обе стороны. Синтаксические и фонологические процессы, похоже, — особые процессы, присущие только людям, и для их развития необходимо воздействие внешних факторов. Другие же аспекты речи, например семантика и прагматика, вероятно, основываются на более общих механизмах по обработке информации и не столь тесно связаны с «речевым центром». В том, что касается моих «критериев» интеллекта, можно сказать, что синтаксис и фонология служат основой лингвистического интеллекта, а для семантики и прагматики необходима поддержка других видов интеллекта (например, логико-математического и личностного).
Хотя описанные процессы присущи всем детям, несомненно, все люди отличаются друг от друга. Это проявляется и в том, какие слова дети произносят первыми (некоторые сначала говорят названия предметов, а другие избегают существительных и предпочитают различные восклицания); в том, до какой степени дети имитируют сигналы взрослых (некоторые повторяют их, а другие вообще не пользуются мимикой); а также в том, с какой скоростью и мастерством дети овладевают основными аспектами речи.
Юный Жан-Поль Сартр в этом отношении был очень развитым ребенком. Будущий писатель так хорошо пародировал взрослых, в том числе их стиль и манеру говорить, что к пяти годам уже очаровывал многочисленных зрителей беглостью своей речи. Вскоре после этого он начал писать и очень быстро создавал целые книги. В полной мере он нашел себя в литературе, в выражении своих мыслей с помощью ручки, и ему было совершенно безразлично, читает ли его слова кто-то еще.
И потом мне было девять лет. Единственный сын, лишенный товарищей, я и представить себе не мог, что моя изоляция не вечна. Следует отметить, что литератором я был совершенно непризнанным. Я опять начал писать. Мои новые романы, за неимением лучшего, походили как две капли воды на прежние, но никто их не читал. Даже я сам. Мне это было неинтересно. Мое перо двигалось так стремительно, что у меня часто болело запястье; я сбрасывал на пол исписанные тетради, потом забывал о них, они пропадали; поэтому я ничего не завершал: стоит ли рассказывать конец истории, если начало утеряно. [...] Сочинительство — мой безвестный труд — было ото всего оторвано и потому осознавало себя самоцелью: я писал, чтобы писать. Не жалею об этом. Читай меня кто-нибудь, я старался бы нравиться и опять стал бы вундеркиндом. На нелегальном положении я сохранял подлинность.[33]
Таким образом, этот ребенок обнаружил в себе большой талант благодаря непрерывному совершенствованию лингвистического интеллекта.
Очень много времени посвящая сочинительству и в полной мере проявив себя в качестве молодого писателя, Сартр следовал по пути тех, кто в результате становится литератором, будь то поэты, эссеисты или романисты. В этом виде деятельности, как и в любом интеллектуальном труде, практика — вот основная составляющая успеха. Писатели говорят о своем даре как о мышцах, для которых необходимы ежедневные тренировки. «Ни дня без строчки» — вот их девиз, которому следовал и Сартр.
Вспоминая свое развитие, многие писатели выделяли как важные положительные факторы, так и ловушки, которые влияют на становление молодого литератора. Уистон Хью Оден говорил, что у молодого писателя талант проявляется не в оригинальности идей или силе чувств, а в технических навыках владения речью. Он проводит интересную аналогию с молодым человеком, ухаживающим за девушкой.
В самом начале своего развития, до того как молодой поэт найдет свой особый стиль, он обручается с языком и, как и любой другой юноша, ухаживающий за девушкой, считает само собой разумеющимся, что он должен быть рыцарем у нее на службе, носить за ней сумки, подвергаться проверкам и унижению, часами ждать на улице и выполнять малейшие капризы своей любимой. Но когда он докажет свою любовь и на его ухаживания ответят согласием, тогда все меняется. Как только молодой человек женился, он должен стать хозяином в своем доме и отвечать за свою семью.
Еще один ключевой элемент мастерства, по словам Спендера, — это абсолютная память на события.
Память, прошедшая особую подготовку, — вот природный дар поэтического гения. Поэт, прежде всего, — это человек, никогда не забывающий ощущения, которые он пережил и которые он может снова и снова воскрешать в их первозданной свежести... Поэтому не удивительно, что хотя я не могу запомнить телефонные номера, адреса, лица и то, куда положил сегодняшнюю почту, но отлично помню те чувства, которые охватывали меня в определенные моменты жизни, они выкристаллизовались во мне и вызывают теперь особые ассоциации. Я могу доказать это на примере собственной жизни, когда огромное количество ассоциаций внезапно переполняет меня и возвращает назад в прошлое, особенно в детство, и я полностью теряю связь с настоящим.
Как правило, молодой поэт начинает свое самообразование с чтения произведений других поэтов и подражания их стилю, насколько это ему по силам. Такая имитация формы и стиля мастера уместна и, наверное, необходима, если со временем она не начинает мешать развитию собственного поэтического дара. В этот период заметны множество признаков поэтической незрелости, в том числе чрезмерное подражание образцу; слишком частое подчеркивание своих эмоций, «натянутых нервов» и переполняющих автора идей; жесткое следование заданному ритму и стихотворному размеру; слишком самоуверенные попытки импровизировать со звуками и смыслом. Присуще данному этапу и стремление к «настоящей» эстетике, в результате чего такие элементы красоты и формы не заметны читателю с первого взгляда и становятся понятны лишь после того, как прочитано все произведение.
По мнению Одена, такой «неразвившийся» поэт может заявить о себе по крайней мере тремя способами. Он может казаться охваченным смертельной скукой; он может спешить и поэтому писать стихи, небрежные в техническом отношении или подборе выражений (вспомните о первых стихотворениях Кейта Дугласа) ; или же его произведения могут показаться намеренно безвкусными или мишурными. Как говорит Оден, такой «мусор» появляется, когда человек с помощью поэзии пытается достичь того, чего можно добиться только собственными поступками, образованием или молитвой. Чаще всего этим грешат подростки: если у них есть талант и они поняли, что с помощью поэзии действительно можно многое передать, они зачастую впадают в заблуждение, будто любую мысль можно высказать посредством рифмы.
На пути к поэтической зрелости молодые поэты часто ставят перед собой определенные задачи, например написать стихотворение по конкретному поводу. Едва оперившиеся поэты выбирают задачи разной сложности: некоторые из них нужны лишь для того, чтобы совершенствоваться в определенной форме. Оден объясняет смысл (и ограниченность) подобных упражнений: «Чтобы написать десяток строк гекзаметром, нужно приложить немало усилий, но я более чем уверен, что результат не будет иметь никакой поэтической ценности». Следуя таким сложным путем, как становление поэта, часто бывает полезно ставить перед собой задачи попроще. В этом случае ранее усвоенные навыки включаются автоматически, и слова текут ручьем. Торнтон Уайлдер поясняет: «Я считаю, что сочинительская практика состоит в том, чтобы все схематические операции все больше сводить к уровню подсознания». Уолтер Джексон Бейт рассказывает о том, что случилось, когда Ките[34] на какое-то время умерил свои амбиции: «Когда он решил написать не слишком мудреное стихотворение более простой формы, оказалось, что источник вдруг забил с новой силой, и он начал писать не только очень быстро, но и легко находя те идиомы и обороты, над которыми ему приходилось долго трудиться ранее». Благодаря тренировке поэт добивается такой беглости, что, как Оден или «одержимый поэт» Сью Леньер, может писать стихи буквально «по команде», с той же легкостью, с которой другие говорят прозой. Но вот в чем парадокс — когда стихотворения получаются слишком быстро, это не позволяет автору добиться глубины и задерживает его развитие на уровне поверхностной бойкости.
Наконец, автор, будущий талантливый поэт, естественно, должен найти подходящую форму для выражения своих мыслей. Вот как однажды сказал поэт Карл Шапиро.
Гений в поэзии — это, наверное, всего лишь интуитивное знание формы. В словаре собраны все слова, а в учебнике поэзии говорится обо всех стихотворных размерах, но ничто не подскажет поэту лучше, чем его интуитивное знание формы, какие именно выбрать слова и ритм.
Будущие писатели — это люди, лингвистический интеллект которых расцвел благодаря труду и, вероятно, благодаря генетической склонности. Другие, менее удачливые люди могут сталкиваться с определенными речевыми трудностями. Иногда последствия этого не очень серьезны: говорят, Альберт Эйнштейн начал говорить достаточно поздно, но его детская молчаливость, возможно, позволила ему освоить и воспринять мир менее традиционным способом. Многие дети, нормальные или близкие к нормальным в других аспектах, сталкиваются с проблемой избирательности при овладении речью. Иногда трудности возникают преимущественно с восприятием на слух: поскольку эти дети с трудом расшифровывают быстрый поток фонем, у них могут возникать трудности не только с пониманием, но и с правильной артикуляцией. Способность быстро обрабатывать лингвистические сообщения — необходимое требование для понимания нормальной речи, — похоже, зависит от целостности левой височной доли, поэтому травмы или отклонение в развитии этой зоны, как правило, приводят к речевым нарушениям.
Хотя очень многие дети сталкиваются с избирательными трудностями именно в фонологическом аспекте, встречаются дети с нарушением и других лингвистических компонентов. Некоторые нечувствительны к синтаксическим факторам: если им необходимо повторить предложение, они вынуждены прибегать к упрощениям, подобным следующим.
| Исходное предложение | Искаженная имитация |
| Они не хотят со мной играть | Они не играть со мной |
| У него нет денег | Он не иметь денег |
| Она не очень старая | Она старая нет |
| Я не умею петь | Я не уметь петь |
Удивительно, но такие дети оказываются совершенно нормальными при решении разнообразных проблем, если только им удается избежать использования речевого канала.
В отличие от таких относительно нормальных детей, за исключением избирательных трудностей с речью, у многих детей с другими расстройствами речь сохраняется. Я уже говорил, что многие дети с психическими проблемами обладают поразительной способностью овладевать речью — особенно ее основными фонологическим и синтаксическим аспектами, — хотя не всегда могут совершенствовать свою устную речь. Еще удивительнее то, что встречаются дети, которые, несмотря на отставание в развитии или аутизм, умеют читать в очень раннем возрасте. Если обычный ребенок начинает читать, как правило, в пять или шесть лет, эти «гиперлексические» дети часто способны расшифровывать тексты в два или три года. Более того, те самые дети, которые практически не говорят осмысленно (и часто могут лишь повторять услышанное), входя в комнату, сразу же хватают любой подходящий для чтения материал и начинают читать вслух, как будто выполняя какой-то ритуал. Чтение настолько увлеченное, что его трудно прекратить, оно продолжается независимо от содержания текста — материал может быть из букваря, технического журнала или собрания ничего не значащих высказываний. Иногда гиперлексия развивается у ребенка с признаками задержки умственного развития или аутизма. Например, такой ученый идиот, которого изучали Фриц Дрейфус и Чарльз Мехеган, мог сходу сказать, в какой день недели произошло то или иное историческое событие в далеком прошлом, а другой прекрасно запоминал числа.
У нормального человека-правши, как я уже говорил, речь неразрывно связана с деятельностью определенных зон левого полушария головного мозга. Соответственно, возникает вопрос, как будет развиваться речевая способность у детей, значительные участки левого полушария которых приходится удалять вследствие различных травм. Как правило, если значительный участок полушария удаляется в первый год жизни, ребенок все-таки сможет говорить практически нормально. Видимо, в начале жизни мозг наделен достаточной пластичностью, поэтому речевые способности будут развиваться в правом полушарии даже за счет некоторых повреждений зрительных и пространственных функций, которые изначально располагаются в этой области.
Следует, однако, отметить, что подобное выполнение правым полушарием мозга речевых функций не проходит без ущерба. Тщательное изучение таких детей показывает, что они пользуются лингвистическими стратегиями, которые отличаются от тех, что задействованы в речи людей (нормальных или с отклонениями) с полноценно функционирующим левым полушарием мозга. Индивиды, зависящие от аналитических механизмов правого полушария, практически во всем отталкиваются от семантической информации: они расшифровывают предложения, исходя из значения основных лексических единиц, и не в состоянии использовать синтаксические подсказки. Только те дети, речевые функции которых основаны на работе левого полушария, могут обращать внимание на такие синтаксические тонкости, как порядок слов. Например, как те, так и другие понимают предложения, значение которых можно понять, просто зная значение составляющих.
Кошку сбил грузовик. Сыр съеден мышью.
Но только те дети, у которых функционирует левое полушарие мозга, в состоянии расшифровать предложения, где основная разница в значении зависит исключительно от синтаксических подсказок.
Грузовик столкнулся с автобусом. Автобус столкнулся с грузовиком.
Создается впечатление, что дети без левого полушария уступают тем, у которых нет правого, при выполнении заданий, где нужно воспроизводить речь и понимать значение слов. В целом они зачастую медленнее учатся говорить.
Как я уже отмечал в главе 3, феномен канализирования, которое управляет процессом овладения речью, подтверждается исследованием также иных специфических популяций. Глухие дети слышащих родителей сами создают свой собственный язык жестов, которому присущи все основные черты обычной речи. В случае с такими спонтанно развивающимися языками жестов заметны проявления базовых синтаксических и семантических свойств, которые идентичны тем, что характерны для первых устных высказываний слышащих детей. Недавно был описан случай с Дженни, девочкой, которая подверглась в раннем детстве столь жестокому обращению, что так и не научилась говорить. Наконец, вырвавшись из своего жестокого заточения, Дженни на втором десятке лет заговорила. Она быстро расширяла словарный запас и могла правильно классифицировать предметы, но испытывала значительные трудности с синтаксисом, поэтому общалась в основном отдельными словами. Что еще показательнее — обработка лингвистической информации происходила у нее именно в правом полушарии мозга. Изучив всего один случай, конечно, нельзя с уверенностью назвать причины той или иной модели мозговой деятельности. Но кажется разумным предположение, что склонность речевых функций к локализации в левом полушарии может ослабеть с возрастом, возможно, в связи с окончанием критического периода для овладения речью. Как следствие, человек, которому приходится учиться говорить после достижения половой зрелости, будет, вероятно, пользоваться механизмами, локализованными в правом полушарии.
В случае с маленькими детьми мы сталкиваемся с системой, которая все еще находится в развитии, поэтому проявляет значительную (хотя ни в коем случае не всеобщую) гибкость в том, что касается нервной локализации и способа воспроизведения. Но с возрастом локализация речевых функций становится намного более жесткой. Это означает, во-первых, что у нормального человека-правши в случае определенных повреждений левого полушария наблюдаются специфические нарушения функций.
Во-вторых, вероятность полного восстановления этих функций в других участках мозга значительно снижается.
В ходе столетнего изучения влияния, которое оказывает односторонняя травма мозга на лингвистические способности, были собраны убедительные доказательства в поддержку представленного здесь анализа речевых функций. В том числе можно выделить повреждения, вызывающие особые трудности при различении и воспроизведении звуков, в прагматическом использовании речи и, что самое важное, в семантическом и синтаксическом аспектах речи. Более того, возможно изолированное нарушение каждого из этих аспектов: встречаются люди, у которых поврежден синтаксис, но сохраняются прагматическая и семантическая системы. Точно так же бывают люди с нарушенной коммуникативной речью, избирательно сохранившие свои синтаксические способности.
В чем смысл такой поразительной специализации и локализации? Без сомнения, ответ частично кроется в истории (и тайне) эволюции речевых функций. Это вопрос, волновавший ученых многие века, ответ на который до сих пор не найден, потому что он скрыт если не в истории о Вавилонской башне, то, во всяком случае, теряется во тьме доисторических времен. Некоторые механизмы присущи и животным — например, различение границ фонем происходит так же и у других млекопитающих, скажем, у шиншиллы. Другие механизмы, например синтаксические, похоже, являются отличительной особенностью человека. Одни лингвистические механизмы локализованы в достаточно четко очерченных участках мозга — например, синтаксические процессы выполняются так называемой зоной Брока. Другие же механизмы выполняются более крупными участками левого полушария, как, скажем, семантическая система. Отдельная группа функций, кажется, всецело зависит от правого полушария, например прагматическая функция речи. Но что не вызывает сомнений, так это тот факт, что с возрастом у нормального человека-правши эти функции все более централизуются[35]: усложняющиеся взаимоотношения, которые характеризуют нашу повседневную жизнь, зависят от непрерывного потока информации между этими основными лингвистическими отделами.
Наиболее ярко проявляется природа этих взаимоотношений при декодировании письменной речи. Было убедительно доказано, что письменная речь зависит от устной в том смысле, что невозможно нормально читать, если повреждены участки мозга, отвечающие за восприятие речи и вокализованную речь. (Такое нарушение способности к чтению происходит даже у тех людей, которые обладали навыками беглого чтения, без проговаривания про себя или движений губами.) Но если афазия практически всегда влечет за собой нарушение чтения, то серьезность этой проблемы будет зависеть от особенностей грамотности. Поучительно то, что способы репрезентации способности к чтению в нервной системе отличаются разнообразием и зависят от типа кодирования, которому отдается предпочтение в той или иной культуре. В западных системах, основанных на фонологии, чтение зависит в основном от тех участков мозга, которые обрабатывают лингвистические звуки; но в тех системах (на Востоке), где чтение преимущественно идеографическое, оно в значительной степени основывается на деятельности центров, призванных обрабатывать изобразительный материал. (Такая же зависимость наблюдается и у глухих, научившихся читать.) Наконец, в случае с японским языком, в котором развита как слоговая система чтения (капа), так и идеографическая (kanji), у одного человека развиваются два механизма чтения. Поэтому одна травма больше повлияет на расшифровку символов капа, а вторая затронет способность читать знаки kanjі.
Когда мы лучше разобрались с этими механизмами, у нас появилась возможность изменить и некоторые педагогические принципы. Теперь мы понимаем, как можно обучать чтению на разных языках в целом нормальных детей, у которых по той или иной причине возникают проблемы с освоением кода, характерного для их культуры. Учитывая то, что читать можно научиться по крайней мере двумя разными способами, дети со специфическими нарушениями обучения могут прибегнуть к «альтернативному варианту», тем самым постигая основные принципы письменного иностранного языка, если у них возникли трудности с освоением письменности своей собственной культуры. И действительно, оказалось, что идеографические системы больше подходят для детей, с трудом воспринимающих чтение на основе фонологии.
Хотя последствия мозговой травмы свидетельствуют в пользу предложенного мной анализа составляющих речевых функций, мы все же должны рассмотреть и ее влияние на речь как отдельную полуавтономную способность — или, в нашем понимании, отдельный вид интеллекта. Здесь доказательства не столь убедительны. Не вызывает сомнений, что в случае с серьезной афазией возможны нарушения более общих интеллектуальных способностей, особенно умения формировать понятия, правильно классифицировать объекты и решать абстрактные задачи, подобные тем, что включены во многие тесты для диагностики невербального интеллекта. В этом смысле, по крайней мере, сложно утверждать, что повреждена лишь лингвистическая зона, а участки мозга, отвечающие за понимание и логику, остались незатронутыми.
И тем не менее, на мой взгляд, подавляющее большинство свидетельств говорит в пользу понимания лингвистического интеллекта как отдельного вида. Более того, это именно тот вид интеллекта, который самым убедительным образом соответствует всем критериям, изложенным в главе 4. Несомненно, существуют люди, которые страдают афазией в очень большой степени, но могут достаточно успешно — в пределах нормы — решать когнитивные задачи, не связанные с речью. Пациенты с афазией утратили способность стать писателями (к сожалению, даже хорошо развитые навыки не спасают от разрушительного воздействия мозговой травмы) , и все же они вполне могут стать музыкантами, художниками или инженерами. Ясно, что такое избирательное сохранение профессиональных навыков было бы невозможно, если бы речь была нераздельно связана с другими видами интеллекта.
Таким образом, в самом строгом понимании, обращая внимание на фонологические, синтаксические и определенные семантические характеристики речи, мы видим, что речь представляет собой относительно автономный вид интеллекта. Но если учесть более широкие аспекты, например прагматические функции, утверждение о лингвистической автономии становится менее убедительным. И действительно, оказывается, что пациенты с выраженной афазией часто сохраняют способность к оценке и самостоятельному выполнению различных коммуникативных действий, а люди с сохранившимися семантическими и синтаксическими способностями вследствие повреждения недоминантного полушария проявляют значительное отклонение от нормы при выражении своих намерений, а также при понимании намерений и мотивов окружающих. Хотя в ходе исследований высказывалось предположение о том, что прагматику можно выделить в отдельный аспект речи, все равно не вызывает сомнений, что она тесно связана с основными лингвистическими способностями. Возможно, это объясняется тем, что «речевой» или «коммуникативный» акт как отдельный феномен во многом характерен и для других видов приматов, поэтому в меньшей степени связан с эволюцией отдельных речевых отделов головного мозга, которые у человека сосредоточены в левом полушарии. Кроме того, чувствительность к повествованию, в том числе и способность передать то, что случилось в серии эпизодов, похоже, теснее связана с прагматическими функциями речи (а значит, при травмах правого полушария им наносится значительный ущерб), чем с основными синтаксическими, фонологическими и семантическими функциями, о которых я говорил.
Как уже отмечалось, даже легкая афазия может лишить человека литературного дара. И все же изучение влияния, которое оказывают мозговые травмы на речь, дает богатую пищу для размышлений относительно природы литературного воображения. Оказывается, что локализация мозговой травмы определяет особенности речевых нарушений. В случае с той формой афазии, которая связана с травмой зоны Брока, речь успешно передает существительные и простые утверждения, но мало способна к видоизменениям, — нечто вроде карикатуры на литературный стиль Эрнеста Хемингуэя. Если афазия связана с повреждением зоны Вернике, то речь оказывается насыщенной разнообразными синтаксическими и словарными формами, но возникают трудности с передачей сути, — это некая пародия на литературный стиль Уильяма Фолкнера. (К речевым нарушениям относятся также идиоглоссия, когда больной создает свой собственный говор, и шизофреническая речь, синтаксис которой также расстроен.) Наконец, при аномической афазии, которая наступает в результате повреждения угловой извилины коры мозга, в речи отсутствуют названия объектов, зато много слов наподобие «штука», «это самое», «типа того» и других заменителей, — такая речь типична для литературных персонажей Деймона Раньяна, но совершенно не свойственна поэту, который почитает точность высказываний. Было бы смешно искать источники этих особых стилей в отдельных участках мозга, и все же тот факт, что мозговая травма может подтолкнуть человека к определенным стилистическим предпочтениям, которые талантливый писатель выбирает намеренно, доказывает, что различные способы выражения своих мыслей определяются на нейронном уровне.
До последнего времени было широко распространено мнение, что два полушария мозга анатомически неотделимы друг от друга. Этот факт успокаивал тех, кто придерживался нелокализаторских убеждений и был твердо уверен, что мозг человека равнозначен такому понятию, как речь. Новейшие открытия не подтверждают эту точку зрения. В настоящий момент имеются доказательства, что два полушария в анатомическом плане не идентичны и что у большинства людей речевой отдел в левой височной зоне намного больше, чем соответствующий отдел правого полушария. Другие важные примеры асимметричности двух полушарий обнаруживаются, как только их начинают специально искать. Вооружившись этой неожиданной информацией, ученые, занимающиеся эволюцией, начали изучать строение черепной коробки и доказали, что такая асимметрия, незаметная у обезьян, прослеживается вплоть до неандертальца (30–100 тыс. лет назад) и, возможно, характерна и для человекообразных обезьян. Поэтому разумно было бы предположить, что интеллектуальные способности к овладению речью зародились задолго до того, как человек начал изучать собственную историю. Были обнаружены надписи, сделанные 30 тыс. лет назад, говорящие о зачатках письменности, хотя фонетический алфавит был изобретен всего лишь несколько тысяч лет назад.
Вопреки теории «постепенной эволюции», некоторые выдающиеся ученые, например лингвист Ноам Хомский и антрополог Клод Леви-Стросс, утверждают, что все знания о языке приобретаются одновременно. Мне кажется, вероятнее все же, что лингвистические способности человека являются результатом соединения отдельных систем, эволюция которых насчитывает несколько тысячелетий. Вполне возможно, что различные прагматические характеристики речи человека возникли на основе средств эмоционального выражения и жестов (указывание, кивки), свойственных как людям, так и человекообразным обезьянам. Возможно, существуют также определенные формальные или структурные черты, которые отражают или основываются на музыкальных способностях, прослеживающихся у намного более далеких видов, например у птиц. Такие когнитивные способности, как классификация объектов и умение соотносить название или знак с предметом, тоже, вероятно, имеют давнюю историю: они могли появиться в результате упрощения тех квазилингвистических систем, которые не так давно были зафиксированы у некоторых шимпанзе.
Чем человек уникален — так это наличием голосового канала, способного к четкой артикуляции. Отличается он также эволюцией нервных механизмов, с помощью которых заложенные в этом канале свойства смогли развиться в быструю речь. Если звуки производятся и понимаются достаточно быстро, то отдельные фонемы можно соединять в слоги — это позволяет использовать речь для ускорения общения. По утверждению Филиппа Либермана, главного сторонника подобной теории эволюции речи, все речевые компоненты имелись уже у неандертальца, а возможно, и у австралопитека, за исключением подходящего голосового аппарата. Только в результате этого последнего этапа развития возникло быстрое лингвистическое общение, оказавшее глубинное влияние на становление различных культур.
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ
Как только возникла речь, она сразу же начала выполнять множество функций. Кое-что из этого разнообразия можно проследить, изучив всего несколько способов использования речи представителями разных культур, а также то, как люди, добившиеся значительных успехов в этой области, были отмечены в рамках своей культуры. Наверное, самой поразительной можно назвать способность некоторых бардов исполнять наизусть огромные поэмы, зачастую на протяжении всей ночи. Как доказали фольклорист Миллман Парри и его студент А. Б. Лорд, поразительная продуктивность этих современных Гомеров объясняется тем, что они заучили определенные структуры или схемы, согласно которым излагают то или иное содержание и которые они разнообразными способами комбинируют, создавая все новые произведения.
Тот факт, что устную поэзию, как и все сложные произведения, можно разложить на составляющие элементы, ни в коей мере не умаляет ценности этого достижения. Прежде всего, одни лишь требования к заучиванию этих формул и правила их соединения устрашают: они ни в чем не уступают мастерству шахматиста, который знает больше 50 тысяч комбинаций, или знаниям математика, способного запомнить сотни и даже тысячи доказательств. В каждом случае эти модели или схемы осмыслены, а не просто зазубрены, и такая осмысленность, конечно же, способствует их запоминанию. И все же способность выучить такое большое количество подобных моделей — настоящее достижение. Более того, такие способности особенно хорошо развиты у людей, не владеющих грамотой. В этой связи можно вспомнить одно из последних открытий И. Ф. Даба, который обнаружил, что неграмотные африканцы лучше запоминали истории, чем жители Африки или Нью-Йорка, получившие хорошее образование.
Способность удерживать в памяти такую информацию, как очень длинные стихотворения, давно была одной из любимых сфер для изучения западными психологами и представляет собой еще одну форму лингвистического интеллекта, которая особенно ценилась в традиционных необразованных сообществах. Грегори Бейтсон в своей книге Naven говорит, что эрудированный представитель племени ятмулов знает от 10 до 20 тысяч клановых имен. Хотя для запоминания этих названий применяется особая техника (например, выделение имен с похожим звучанием) и значение каждого из них неустойчиво, подобное умение все же поражает. Похожие примеры таких способностей можно найти и на заре нашей цивилизации: в период античности и Средневековья были разработаны детальные системы для облегчения запоминания, в том числе нумерованные списки, взаимосвязанные образы, пространственные коды, зодиакальные системы и астрологические схемы.
Если человек с хорошей памятью был когда-то в большом почете, то с распространением грамотности и с появлением возможности хранить информацию в книгах, доступных каждому, значение развитой вербальной памяти несколько снизилось. Позже благодаря появлению книгопечатания эта способность еще больше утратила свою важность. И все же в некоторых кругах эти способности по-прежнему ценятся. К. Андерс Эриксон и Уильям Чейз недавно доказали, что умение запоминать последовательность цифр можно значительно усовершенствовать и увеличить привычное количество знаков от семи до 80 и даже больше. Это достигается с помощью упражнения, в котором укрупняются запоминаемые элементы. Ведь всем известно, что намного проще запомнить последовательность
14921066177620011984,
если представить ее в виде знаменательных дат англо-американской истории[36]. Учебники для тренировки памяти и люди-мнемоники не утратили своей популярности. Наконец, в некоторых сферах хорошая вербальная память имеет решающее значение. Философ Сузан Ланджер рассказывает следующее.
Моя вербальная память похожа на бумагу от мух. В этом есть как хорошие, так и плохие стороны, потому что в таком случае мозг заполняется и нужными, и бесполезными сведениями. Например, я до сих пор помню любой куплет из рекламных роликов, которые видела в детстве, и они всплывают в моей голове в самые неожиданные и неподходящие моменты. И в то же время я помню множество хороших стихов, прочитанных много лет назад, которые очень приятно иногда процитировать. Хотя моя вербальная память, наверное, скорее исключение, чем правило, я не могу похвалиться хорошей зрительной памятью... Плохая зрительная память особенно мешает при работе с обширным исследовательским материалом. Вот почему мне пришлось разработать свою систему карточек с записями.
Умение запоминать большой объем информации — это очень важный дар в необразованных сообществах. Люди, наделенные такой способностью, выделяются на общем фоне, а обряды инициации иногда настолько сложны, что способствуют выявлению у человека такого таланта. Конечно, подобные способности можно развивать и культивировать, но намного лучше, если человек в состоянии запоминать множество сведений без особых усилий, как это было в случае с мнемоником, которого изучал Александр Лурия[37], и в чуть меньшей степени — в примере, описанном Сузан Ланджер.
Иногда хорошая память ценится сама по себе, но намного чаще она важна вместе со способностью соотносить слова с другими символами, например с числами или изображениями. В данном случае мы сталкиваемся с возникновением неких тайных кодов, прежде всего вербальных, к которым человек может прибегнуть при выполнении заданий, требующих развитых навыков. Способность представителя западной цивилизации решать кроссворды или разгадывать акростихи можно сравнить с умением жителей других культур с ходу выдавать каламбур или изобретать и осваивать бессмысленный язык. В почете были словесные поединки. Например, у народности чамула в мексиканском штате Чиапас распространена игра, в которой один участник подает фразу, имеющую как явный, так и скрытый смысл (как правило, сексуальный). Его соперник должен ответить своей фразой, которая в незначительной звуковой детали отличается от первой и тоже имеет двойное значение. Если он не может подобрать вариант, то проигрывает. Например.
Мальчик 1 (начинает): ak’bun avis («дай мне твою сестру»).
Мальчик 2 (отвечает): ak’bo avis («дай это твоей сестре»).
Состязания в ораторском искусстве, во время которых участники соревнуются, подбирая подходящие цитаты из известных пословиц или песен, описаны у многих народностей. Это способ, который мог бы одобрить Уильям Джеймс, искавший «нравственный эквивалент» войны. Действительно, соревнования по произнесению речей у маори, например, зачастую заменяли военные сражения, так как те полагали, что победа в подобных состязаниях убедительно доказывает превосходство той или иной общины. И, как будто чтобы подчеркнуть важность устной речи, в языке цельталь семьи майя существует больше 400 терминов, описывающих возможности ее использования.
Помимо этих относительно редких случаев использования речи известны примеры, когда величайшего успеха в политике добивались именно те люди, которые обладали исключительными ораторскими способностями. Конечно, не случайно многие выдающиеся лидеры в Африке и Азии завоевали всеобщее признание как талантливые риторы, а их стихи до сих пор декламируются в народе. Такая поэзия, как и пословицы, часто применялась в качестве легко запоминающегося способа передачи важной информации. Ораторское искусство входит в список обязательных предметов для изучения аристократией в странах с традиционной кастовой системой, и очень часто бывает так, что для представителей более низких слоев населения такие способности имеют решающее значение для дальнейшей жизни. Традиционный источник авторитета для старейшин рода — это их понимание смысла пословиц и популярных изречений, которые по-прежнему остаются загадкой для менее уважаемых членов сообщества. Например, в языке народности кпелле в Либерии существует особый говор, «глубокий кпелле», — сложный язык, богатый пословицами, понять который молодые члены общины не в силах. Более того, в некоторых традиционных сообществах способность красноречиво представить свое дело в суде часто играет решающую роль при вынесении вердикта.
В племени чиди в Ботсване реальная власть вождя определяется его умением выступать в публичных дебатах, которые по окончании тщательно анализируются другими членами группы. Элементы подобных ценностей можно заметить и в некоторых сферах жизни нашей собственной цивилизации — например, среди выпускников частных школ в Великобритании или у жителей южных штатов США, где до сих пор с детства изучают политическую риторику, а совершенные навыки сохраняются до конца жизни. Корни такого уважения теряются в эпохе Древней Греции, где политическую власть удерживали лишь те, кто обладал превосходными ораторскими навыками. Вот что пишет Эрик Хавлок, изучавший ораторское искусство тех времен.
В определенных пределах лидерство в общине принадлежало тем, кто превосходил других в понимании мелодичности и ритма речи. Примером этого служит эпический гекзаметр. Такие же способности проявлялись и в умении сочинять rhemata — емкие высказывания, в которых помимо метрических приемов использовались также ассонанс и параллелизм. Хороший исполнитель на пиру ценился не только как талантливый актер, но и как прирожденный лидер... Признанный судья или полководец чаще всего были людьми с отличной устной памятью... В целом в процессе социальных взаимоотношений в Греции больше всего ценился интеллект, и он же отождествлялся с властью. Под интеллектом мы понимаем отличную память и превосходное чувство словесного ритма.
Ошибкой было бы считать, что в нашем обществе значение ораторского искусства постепенно сошло на нет (здесь уместно вспомнить политические заслуги таких талантливых ораторов, как Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, а в последнее время — Рональд Рейган). И все-таки по сравнению с прошлым складывается впечатление, что в нашей культуре устная речь ценится не столь высоко. Логико-математический интеллект, сфера применения которого не столь широка, ценится все же не меньше лингвистического. И если в традиционных сообществах устная речь, риторика и игра слов по-прежнему играют важнейшую роль, то в нашей цивилизации большее значение имеет письменное слово — от хранения информации в книгах до умения ясно выражать свои мысли в письменном виде.
Хотя и устная, и письменная речь, несомненно, базируются в основном на одних и тех же способностях, но для того, чтобы четко формулировать мысли в письменной форме, требуются особые дополнительные умения. Человек должен уметь доступно изложить ту дополнительную информацию, которая при устном общении становится понятной из невербальных источников (жесты, интонация и обстоятельства разговора). Здесь необходимо высказать все, что требуется, лишь с помощью слов. Эти сложности не приходят человеку на ум, когда он впервые пробует себя в литературе. Если он совершенствует свое умение высказывать мысли с помощью одного выразительного средства, овладеть другими ему будет не всегда просто (хотя всегда были и будут поразительные исключения из этого правила, например Уинстон Черчилль или Шарль де Голль).
Создание объемного труда — романа, исторической пьесы, учебника — требует иных способностей, чем при написании литературных произведений малой формы, например письма или стихотворения, или же в устных выступлениях, будь то краткая речь, длинная лекция или декламация поэзии. Если в стихотворении акцент делается на подборе каждого слова и его подаче в относительно небольшом числе строк, на том, чтобы в этой краткой форме передать одну или несколько мыслей, то в случае с романом необходимо изложить намного больше тем и идей, которые зачастую сложно переплетаются друг с другом. Подбор слов по-прежнему остается важным, но уже не играет той роли, что сохраняется за выражением идей, тем, настроения или описанием сцены. Конечно, некоторые романисты (например, Джеймс Джойс, Владимир Набоков или Джон Апдайк) проявляются как истинные поэты в выборе лексики, другие же (Оноре де Бальзак, Федор Достоевский) отличаются намного большим интересом к тематике и идеям.
Я обратил основное внимание на те сферы, где речь как таковая играет важнейшую роль. Будь то написание стихотворения или победа в ораторском турнире, правильный выбор слова имеет решающее значение. Но в большинстве сообществ и, что самое удивительное, в таком сложном обществе, как наше, речь является скорее инструментом — средством для достижения определенной цели — и далеко не всегда оказывается в центре внимания.
Вот некоторые примеры. Несомненно, ученые используют речь, чтобы сообщить другим о своих открытиях. Более того, как я уже отмечал, прорывы в науке часто оформляются в виде удачных оборотов речи или хорошо скомпонованных заметок. И все же внимание при этом обращается не на собственно речь, а скорее на передачу мыслей, которые явно можно было бы выразить и другими словами (здесь не требуются такие страдания, которые переживал Спендер) либо, в крайнем случае, не менее адекватно передать в виде картинок, диаграмм, уравнений или других символов. Возможно, Зигмунду Фрейду сначала потребовалась метафора — образ неудержимого всадника на лихом коне, — чтобы передать суть отношений между «Я» и «Оно». Вероятно, Чарльзу Дарвину помогли найти термин «борьба за выживание», но в конечном итоге их концепции могут понять и те люди, которые ни слова не слышали об этих ученых и не знакомы с изначальными словесными формулировками их теорий.
На первый взгляд может показаться, что другие ученые, например историки или литературные критики, намного больше зависят от речи не только как источника того, что они изучают, но и как средства выражения своих выводов. И действительно, ученые-гуманитарии с намного большим вниманием относятся к словам как в текстах, которые они исследуют, так и в письмах к коллегам и в собственных рукописях. Однако и здесь речь является жизненно важным, возможно, незаменимым средством, но все же не основной темой проводимой работы. Цель ученого — точно описать проблему или ситуацию, которую он намерен изучить, и убедить других, что его видение, его интерпретация этой задачи правильна и соответствует действительности. Гуманитарий во многом зависит от доказательств — фактов, записей, артефактов, находок предшественников, и если его идея существенно отличается от того, что уже было высказано раньше, его, возможно, не воспримут всерьез. Однако сам по себе формат его изложения четко не определен, и как только его точка зрения или вывод сформулированы, то слова, которые для этого выбрал ученый, теряют свое значение, предоставляя говорить за себя самой идее. Мы не сможем придумать никакой замены для стихотворений Т. С. Элиота, но легко поймем основные мысли его критических статей даже в чужом изложении (хотя в случае с Элиотом сила его мысли во многом основывается на необычно удачном построении фраз).
Наконец, вспомним о писателе — романисте, эссеисте. Конечно, здесь выбор слова играет важнейшую роль, и мы вряд ли согласились бы на невыразительный подстрочник вместо работ Льва Толстого или Гюстава Флобера, Ралфа Эмерсона или Мишеля Монтеня. И все же первоочередная задача здесь не совпадает или, по крайней мере, несколько отличается от той, которую ставит перед собой поэт. Ведь, как однажды сказал Генри Джеймс, больше всего прозаик стремится вырвать суть, истину, «фатальную тщетность факта» из «неуклюжей жизни». Писатель-прозаик видит или воображает обстоятельства или эмоции, и его цель состоит в том, чтобы как можно точнее донести свои наблюдения до читателя. Как только это удалось, сами по себе слова, использованные при выполнении этой задачи, теряют свою важность, хотя, конечно же, по-прежнему очень нужны для того, чтобы в полной мере насладиться мыслью послания, и остаются элементом «речи, привлекающим внимание к самому себе». Если смысл стихотворения основывается на словах, то значение романа не столь тесно связано с ними: перевод, который не способен достоверно передать всю выразительность поэзии, в случае с большинством романов не составляет особого труда — хотя и не со всеми, и особенно это касается романов, написанных поэтами.
Хотя речь можно передать с помощью жестов или письма, по сути она остается результатом работы голосового канала и слуха. Понимание эволюции человеческой речи и ее функционирования на уровне мозга окажется далеким от истины, если не учитывать неразрывную связь речи человека с его слухом и голосовыми связками. В то же время исследователь феномена речи, обращающий внимание только на эти анатомические характеристики, упустит из виду ее удивительную гибкость и то многообразие способов, которыми люди — как одаренные, так и с задержками развития — используют это лингвистическое наследие для общения и передачи своих мыслей.
Моя убежденность в исключительной роли слуха и голоса в работе речи повлияла на интерес, с которым я изучаю деятельность поэта как пользователя речью par excellence[38], а также на то, что я рассматривал примеры афазии как убедительное доказательство в пользу анатомии речи. Если бы речь можно было считать визуальным средством коммуникации, то она была бы напрямую связана с пространственным интеллектом. Но тот факт, что способность к чтению всегда нарушается в связи с травмой речевого центра мозга, но сохраняется, несмотря на обширные повреждения зрительно-пространственных центров, свидетельствует об обратном.
И все же я старался не называть эту способность слухо-голосовым видом интеллекта. Для этого имеются две причины. Во-первых, тот факт, что глухие люди могут научиться говорить — а кроме того, способны разработать и освоить систему жестов, — служит решающим доказательством того, что лингвистический интеллект нельзя назвать простой разновидностью слухового интеллекта. Во-вторых, существует другая форма интеллекта с не менее давней историей и несомненной автономией, также связанная со слухо-голосовой модальностью. Естественно, я говорю о музыкальном интеллекте — способности человека различать смысл и значение в определенной последовательности ритмичных звуков, а также с коммуникативной целью производить такие последовательности звуков. Эти способности тоже во многом зависят от слуха и голоса и еще меньше поддаются переводу в зримую форму, чем речь. И все же, вопреки предположению, музыкальные способности связаны с отдельными участками нервной системы и состоят из отдельных элементов.
Появившись в самом начале эволюции, музыка и речь, вероятно, развивались из одного выразительного средства. Но если предположения здесь не имеют никакой научной ценности, все же не вызывает сомнений, что на протяжении многих тысячелетий эти способности развивались в различных направлениях и теперь выполняют разные функции. Что у них осталось общего — так это удаленность от мира физических объектов (в отличие от пространственного и логикоматематического интеллектов) и других людей (в отличие от личностного интеллекта). Поэтому, приступая к рассмотрению следующего вида интеллекта, я перехожу к природе и функционированию музыкального интеллекта.
[Музыка — это] воплощение интеллекта, скрытого в звуке.
Из всех талантов, которыми может быть наделен человек, самым первым проявляет себя музыкальный дар. Хотя рассуждения по этому поводу имеют многолетнюю историю, но до сих пор не выяснено, почему музыкальные способности проявляются так рано и какова природа этого дара. Изучение музыкального интеллекта поможет нам понять особенность музыки и в то же время объяснит взаимосвязь этих способностей с другими видами интеллекта.
Получить представление о разнообразии источников раннего музыкального дарования можно, побывав на воображаемом прослушивании троих детей дошкольного возраста. Первый ребенок играет на скрипке сюиту Баха технически верно и эмоционально. Второй исполнитель выступает с полной арией изттперы Моцарта, до этого услышав ее всего один раз. Третий ребенок садится за фортепиано и играет простой менуэт, который он сам сочинил. Три выступления троих музыкальных вундеркиндов.
Но возникает вопрос: достигли ли они вершин своего юного таланта одним и тем же путем? Не обязательно. Первый ребенок, маленький японец, с двух лет обучающийся по Программе развития дарования Сузуки, как и тысячи его ровесников, освоил принципы игры на струнных инструментах еще до того, как пошел в школу. Второй может быть жертвой аутизма, ребенком, не общающимся ни с кем и имеющим нарушения в эмоциональной и когнитивной сферах. И тем не менее, он может демонстрировать изолированную сохранность музыкального интеллекта, например безошибочно повторять любую услышанную мелодию. Третий ребенок, вероятно, вырос в музыкальной семье, где и начал создавать собственные произведения, как это было в случае юного Моцарта, Мендельсона или Сен-Санса.
Наблюдения проводились за многими детьми с такими же способностями, поэтому можно с уверенностью заявлять, что подобные выступления — это пример настоящей гениальности. Раннее музыкальное развитие может стать результатом обучения по специально разработанной программе, благодаря жизни в обстановке, наполненной музыкой, или же несмотря на определенное заболевание (или в связи с ним). В основе каждого из вариантов может быть врожденный талант, но несомненно и то, что здесь сказывается влияние и других факторов. Например, степень проявления таланта зависит от социального окружения, в котором воспитывается человек.
Однако такие ранние способности, какими бы очаровательными они ни были, — это всего лишь начало. Любой из этих детей может и дальше совершенствоваться в музыке, но так же высока вероятность того, что он не достигнет значительного уровня. И точно так же, как я начинал разговор о лингвистическом интеллекте с описания поэтического дара, теперь мне хотелось бы приступить к исследованию данного вида интеллекта с примеров очевидных музыкальных достижений в зрелом возрасте. Это те навыки, которые наиболее явно проявляются у людей, зарабатывающих на жизнь сочинением музыки. Рассказав о «конечном состоянии» музыкального интеллекта, я затрону некоторые основные способности, лежащие в основе музыкального интеллекта у обычных людей, — как относительно незаметные навыки, так и характеризующиеся широтой. Стремясь подробнее изучить способности, которыми обладают трое детей, описанных в начале, я расскажу об аспектах нормального развития и о совершенствовании музыкального интеллекта. Кроме того, я затрону и такую проблему как нарушение музыкального интеллекта, и в ходе этого исследования расскажу об особенностях строения мозга, благодаря которым возможны достижения на музыкальном поприще. Наконец, изучив сведения об автономном музыкальном интеллекте как в нашей, так и в других культурах, я опишу некоторые способы взаимодействия музыкальных способностей с другими видами человеческого интеллекта.
СОЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Американский композитор XX века Роджер Сешонз подробно рассказал о том, что значит сочинять музыку. Как он говорит, композитора можно узнать по тому, что у него «в голове всегда звучит мелодия» — т. е. он постоянно полуосознанно слышит звучание, ритм и целые музыкальные отрывки. Хотя большая часть этой информации не имеет никакой музыкальной ценности и может оказаться всего лишь заимствованием, композитор всегда изучает и обрабатывает эти мелодии.
Сочинение начинается в тот момент, когда эти идеи начинают кристаллизоваться и приобретать определенную форму. Зародыш музыкального образа может быть представлен в любой форме — от простейшего мелодического, ритмического или гармонического фрагмента до чего-то более совершенного. Но в любом случае эта идея привлекает внимание композитора, и его музыкальное воображение начинает работать над ней.
В каком направлении пойдет эта работа? Как рассказывает Сешонз, первоначальная идея содержит в себе множество подтекстов. Часто она вызывает к жизни нечто контрастирующее или дополняющее, при этом оба мотива станут частями единого целого. Все идеи, возникшие за первой, будут каким-либо образом связаны с ней, по крайней мере, до тех пор, пока первоначальный замысел не будет воплощен или окончательно отброшен. В то же время композитор почти всегда уверен, какие элементы подходят для развития оригинальной идеи, а какие нет.
Предполагая, как и я, что идея довольно прочна и стабильна, можно прийти к выводу, что с этого момента она руководит каждым движением композитора. Решения принимаются в рамках определенной структуры, которая, разрастаясь, оказывает все большее воздействие на результат.
Стороннему наблюдателю этот процесс может показаться таинственным, но для композитора в нем скрыта его собственная убедительная логика.
Я называю логическим музыкальным мышлением последовательную обработку сохранившегося музыкального импульса, чтобы достичь заложенного в нем результата. Это ни в коем случае не рассудительное вычисление того, что должно произойти дальше. Слуховое воображение — это просто слух композитора, неизменно надежный и уверенный в своем движении, состоящий на службе, у ясно осознанной идеи.
При этом композитор полагается на упомянутую выше технику контраста, а также на другие элементы, связанные со слухом, — пассажи, связанные с оригинальной идеей, отрывки, которые уравновешивают или дополняют элементы первоначального замысла. Работая с тонами[39], ритмами и, прежде всего, с общим ощущением формы или движения, композитор должен решить, сколько повторений и в каких гармонических, мелодических или ритмических вариациях необходимо для осуществления его идеи.
Другие композиторы согласны с таким описанием процесса, к которому сами имеют отношение. Например, Аарон Копланд утверждает, что сочинение музыки так же естественно, как сон или еда: «Это то, с чем композитор рождается, и поэтому в его глазах такие способности уже не воспринимаются как некий дар». Рихард Вагнер говорил, что сочиняет музыку, как корова дает молоко, а Каммль Сен-Сане связывал это с появлением плодов на яблоне. Единственный элемент таинственности, по мнению Копланда, — это источник первоначальной музыкальной идеи. Как считает сам музыкант, темы приходят к композитору как дар с небес, почти как автоматическое письмо. Вот почему многие композиторы не расстаются с блокнотом. Как только появляется идея, за ней с поразительной естественностью и неизбежностью следует процесс развития и совершенствования, во многом благодаря навыкам и доступу к структурным «схемам», сформировавшимся за многие годы. Как сказал Арнольд Шенберг,
«в музыкальном произведении происходит лишь бесконечное изменение первоначальной формы. Или, другими словами, в музыкальной пьесе происходит лишь то, что рождается из темы, отталкивается от нее и что всегда можно проследить вплоть до первоначального источника».
Каковы же истоки музыкального хранилища, из которого появляются идеи? Еще один американский композитор XX века, Гарольд Шаперо, помогает нам понять музыкальный лексикон.
Музыкальный разум основывается преимущественно на механизмах тональной памяти. Пока в ней не отложится богатое разнообразие тональных оттенков, эта память не сможет функционировать творчески... Функционирование физиологически сохранной музыкальной памяти достаточно неразборчивое — огромная часть всего услышанного хранится в подсознании и ждет своего часа.
Но материалы, которыми пользуется композитор, рассматриваются иначе.
Творческая составляющая музыкального разума работает избирательно, а тональный материал, который она задействует, претерпел изменения и уже отличается от того, что было впитано изначально. В процессе метаморфоз первоначальная тональная память дополняется пережитыми эмоциями, и именно в ходе подсознательного творчества возникает нечто большее, чем просто последовательность тонов.
Хотя признанные композиторы достигли согласия относительно естественности процесса создания музыки (если не относительно источника первоначальной идеи), ни у кого не возникает сомнений в том, чем музыка не является. Р. Сешонз прилагает массу усилий, доказывая, что в процессе сочинения музыки речь не играет никакой роли. Однажды в разгар сочинения музыкальной пьесы он попытался описать молодому другу причины своих затруднений. Но это было совсем не то средство, которое могло бы помочь творческим поискам композитора.
Я хотел бы особо отметить, что в процессе создания музыкального произведения нигде и никогда не были задействованы слова... Но то, что было сказано другу, никоим образом не помогало — да и не могло помочь — мне найти именно тот элемент, которого недоставало в пьесе. Я мучительно старался подобрать подходящие слова, чтобы описать ход мысли, содержащейся в самой музыке, — под этим я понимаю звуки и ритмы, слышимые в воображении, но никак не представленные зримо или явно.
Игорь Стравинский идет еще дальше: как он заметил в беседе с Робертом Крафтом, создание музыки — это действие, а не размышление. Оно происходит не в результате работы мысли или воли, а возникает непроизвольно. Арнольд Шенберг вспоминает высказывание Артура Шопенгауэра: «Композитор открывает сокровеннейшую сущность мира и высказывает глубочайшую мудрость на языке, непонятном его разуму, подобно тому, как сомнамбула в магнетическом состоянии сообщает о вещах, о которых наяву не имеет никакого понятия»[40]. Хотя тот же Шенберг жестко критикует этого философа музыки, «когда он пытается изложить доступными нам словами детали этого языка, который недоступен разуму» (курсив оригинала). По мнению Шенберга, дело именно в музыкальном материале: «Сомневаюсь, что композитор сможет создать музыку, если вместо тонов ему предоставить числа» — это было сказано человеком, которого обвиняли в том, что он отмахнулся от мелодии и представил всю музыку в виде системы цифр.
Для тех из нас, кто не очень силен в сочинении музыки, — т. е. для людей, не принятых в круг избранных, «разум которых — это тайная музыка», — все описанные процессы кажутся чем-то далеким и непонятным. Возможно, проще будет представить это на примере человека, исполняющего произведения, написанные другими (например, музыканта или певца), или человека, в задачу которого входит интерпретация, т. е. дирижера. И все же, как говорит Аарон Копланд, навыки, необходимые для того, чтобы слушать музыку, тесно связаны с теми, что задействованы при ее создании. По словам Копланда, «образованный слушатель должен быть готов расширить свое понимание музыкального материала и того, что с ним происходит. Он должен внимательнее слушать мелодии, ритмы, гармонию и оттенки звуков. Но прежде всего, чтобы понять мысль композитора, он обязан знать основные принципы музыкальной формы». Исследователь музыки Эдвард Т. Кон предполагает: «Активное слушание, как говорит Сешонз, особенно зависит от “внутреннего воспроизведения музыки”». По мнению Кона, отсюда вытекает задача исполнителя — лучше всего исполнить музыкальное произведение можно, лишь поняв самому и донеся до слушателя ритмическое содержание фрагмента. Композитор и слушатель объединены друг с другом в высказывании Стравинского о том, для кого предназначена его музыка.
Когда я что-то сочиняю, то всегда рассчитываю, что мое творение поймут правильно. Я пользуюсь языком музыки, и грамматика моего высказывания будет понятна музыканту, достигшему тех же высот в музыке, что я и мои современники.
Для человека с музыкальными способностями существует несколько ролей — от композитора-авангардиста, пытающегося создать новое течение, до неопытного слушателя, который старается понять суть детских песен (или другой музыки «начального уровня»). Каждая из ролей может быть представлена своей иерархией, например, к исполнителю предъявляется больше требований, чем к слушателю, а композитор должен обладать более глубоким (или хотя бы иным) пониманием музыки, чем исполнитель. Вероятно также, что некоторые виды музыки — например, рассматриваемые здесь классические формы — труднее для восприятия, чем народные. Существует также ряд основных способностей, необходимых для любой музыкальной деятельности в рамках данной культуры. Ими должен обладать любой нормальный человек, регулярно сталкивающийся с любым видом музыки. И теперь я перехожу к определению этих основных музыкальных способностей.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Ученые пришли к единому мнению о том, каковы основные составляющие музыки, хотя и по-разному определяют их отдельные аспекты. Главные понятия — это высота (или мелодия) и ритм: звуки, издаваемые на определенной частоте и сгруппированные по разработанной системе. В некоторых культурах основную роль играет высота — например, в тех восточных странах, где различаются крошечные интервалы в четверть тона[41]. Ритм же имеет особое значение в районе пустыни Сахара в Африке, где ритмические соотношения могут достигать умопомрачительной метрической сложности. Частично музыка организована горизонтально — отношения между тонами при их последовательном звучании; а частично имеет вертикальную структуру — эффект, который достигается при одновременном воспроизведении двух или более звуков, в результате чего возникает гармония или диссонанс. Следующим по значению после высоты и ритма считается тембр — характерные особенности звука.
Из-за этих основных элементов — «основ» музыки — возникает вопрос, какую же роль в восприятии музыки в целом играет слух. Любые сомнения показались бы бессмысленными. И все же не менее ясно и то, что по крайней мере один из центральных аспектов музыки — ритмическая организация — может существовать независимо от слухового восприятия. Именно благодаря ритмическому аспекту музыки люди, лишенные слуха, тоже могут приобщиться к этому виду творчества. Некоторые композиторы, например Александр Скрябин, подчеркивали важность этого аспекта музыки, «переводя» свои работы в ритмическую последовательность цветовых образов. А другие, подобно Стравинскому, делали особый акцент на необходимости наблюдать за исполнением музыки, будь то оркестр или танцевальный коллектив. Поэтому, вероятно, было бы справедливо сказать, что определенные аспекты музыкального опыта доступны даже тем людям, которые (по той или иной причине) не могут насладиться музыкой с помощью слуха.
Многие специалисты пошли еще дальше и соотнесли воздействующие аспекты музыки с ее основными принципами. По словам Роджера Сешонза, «музыка — это контролируемое движение звука во времени. Она создается людьми, которые ценят ее, наслаждаются и любят». Арнольд Шенберг, которого едва ли можно было заподозрить в сентиментальности, сказал так.
Музыка — это последовательность тонов и их комбинаций, организованная таким образом, что производит благоприятное впечатление на слух, а ее воздействие на разум можно явственно осознать... Такое впечатление может затронуть забытые тайники нашей души и нашу сентиментальность, оно переносит человека либо в страну грез, где исполняются заветные желания, либо в воображаемый ад.
Говоря о впечатлении и удовольствии, мы сталкиваемся с тем, что можно назвать главной загадкой музыки. С точки зрения «сухой» позитивистской науки, музыку желательно было бы описать с помощью исключительно объективных физических терминов: обратить внимание на тональность и ритм произведения, возможно, отметить тембр и композицию. С другой стороны, вряд ли следует самоуверенно объяснять любое понятие лишь на основе того, какое воздействие оно производит на человека. Действительно, попытки соотнести музыку с математикой, которые предпринимались не одно столетие, похоже, слишком полагаются на рациональность музыки (если вообще не отрицают ее эмоциональную силу). И все же едва ли кто-либо, имеющий отношение к этой сфере жизни, рискнет не упомянуть воздействие, которое оказывает музыка на эмоции. Это то влияние, под которым находится слушатель; подчас намеренные попытки композиторов (или исполнителей) передать определенные чувства; или же, говоря научным языком, утверждение, что если музыка сама по себе не передает эмоции, то содержит разновидности чувств. Свидетельства этого можно найти даже при беглом обзоре. Сократ уже несколько тысячелетий назад признавал связь между различными мелодическими ладами и особенностями характера человека. Например, он соотносил ионический или лидийский лад с леностью и мягкостью, а дорический или фригийский — с мужеством и решительностью. Сешонз разделяет это мнение.
Музыка не может выражать страх, который, несомненно, является сильной эмоцией. Но в своем движении, в тонах, ударениях и ритмическом построении она может быть беспокойной, взволнованной, яростной и даже тревожной... Музыка не может передать отчаяние, но она может развиваться медленно, постепенно идя на спад. Ее строение может стать тяжелым, его еще можно назвать мрачным, или же она исчезнет окончательно.
И даже Стравинский, одно из высказываний которого выражает совершенно противоположную мысль («музыка способна передать все что угодно»), позже изменил свое мнение: «Сегодня я бы сказал иначе. Музыка выражает себя саму... Композитор работает над воплощением своих чувств, и, конечно же, этот процесс можно рассматривать как их выражение или символизацию». Работая в экспериментальной лаборатории, психолог Поль Витц доказал в ходе нескольких исследований, что высокие тона вызывают у слушателей более положительные ощущения. И даже «беспристрастные» исполнители признают такую взаимосвязь: широко известно, что музыканты настолько попадают под влияние определенного произведения, что часто просят исполнить его у себя на похоронах. Единодушие этих свидетельств убедительно доказывает, что когда ученые, наконец, обнаружат неврологические основы музыки — причины ее влияния, импульса и долговечности, — то смогут объяснить, как эмоциональные и мотивационные факторы взаимосвязаны с восприятием.
Помня об этих основных способностях, психологи попытались изучить механизм, с помощью которого происходит восприятие музыкальных произведений. Выделяются два радикально противоположных подхода к психологическому исследованию музыки. Более распространенная школа предпочла теорию, которую можно назвать подходом «снизу вверх». Это изучение процесса, в ходе которого человек постигает составляющие элементы музыки: отдельные тона, элементарные ритмические модели и другие единицы, которые позволяют участникам эксперимента понять смысл произведения независимо от особенностей исполнения. Испытуемых просят сказать, какой из двух звуков выше, определить, одинаковы ли две ритмические модели, издаются ли два звука одним инструментом. Точность, с которой выполняются подобные исследования, привлекает к ним внимание исследователей. И все же музыканты часто ставили под сомнение возможность связать открытия, сделанные таким искусственным путем, с более крупными музыкальными структурами, которые, как правило, выделяются у человека.
Подобный скептицизм относительно того, можно ли определить сущность музыки с помощью ее составляющих, характерен для второго подхода к восприятию музыки — «сверху вниз», при котором участники эксперимента прослушивают целые музыкальные пьесы или, по крайней мере, законченные фрагменты произведения. В ходе таких исследований, как правило, изучаются реакции на более общие свойства музыки (она звучит медленнее или быстрее, громче или тише?), а также метафорические характеристики (музыка тяжелая или легкая, победная или трагическая, наполненная или одинокая?). Если в отношении достоверности этот подход выигрывает, то уступает он в возможности осуществить экспериментальный контроль и проанализировать накопленный материал.
Скорее всего, неизбежно и для многих просто желательно, чтобы наконец появилась «золотая середина» между этими подходами. В данном случае цель заключается в том, чтобы вскрыть такие музыкальные структуры, которые были бы достаточно крупные для того, чтобы отличаться от изначальных акустических особенностей, но в то же время поддавались анализу, в результате чего стало бы возможным проведение систематических экспериментов. Как правило, в ходе подобных опытов участникам предлагаются небольшие пьесы или незаконченные отрывки из музыкальных произведений, в которых четко прослеживается тональность или ритм. Испытуемые должны сравнить фрагменты друг с другом, скомпоновать их по ритму или тональности или же придумать свое окончание. Результаты говорят, что все, кроме самых неспособных субъектов, замечают что-то в структуре музыки. Например, прослушав пьесу в определенной тональности, они могут определить, какой финал подходит лучше или хуже других. Услышав отрывок определенного ритма, они могут соотнести его с другими или подобными моделями либо выбрать подходящее окончание. Люди с недостаточным музыкальным образованием или чувствительностью к музыке способны понять отношения в пределах одной тональности, т. е. осознать, что доминанта или субдоминанта связаны преимущественно с тональностью. Кроме того, они разбираются в том, какие тональности близки друг к другу, в результате чего между ними возможны модуляции. Такие люди также различают свойства музыкальной канвы, поэтому замечают, например, когда одна музыкальная фраза противоречит другой. Нотная шкала воспринимается как последовательность звуков с определенной структурой, более того, высказываются правильные предположения по поводу количественной величины интервалов, каденций и других составляющих музыкального произведения. На самом общем уровне люди, как оказалось, обладают «схемами» или «структурами», отвечающими за восприятие музыки. Это значит, что они понимают, какой должна быть хорошо построенная музыкальная фраза или отрывок пьесы. Кроме того, они способны закончить отрывок так, чтобы он имел смысл в музыкальном отношении.
Здесь могла бы пригодиться аналогия с речью. Точно так же, как можно разделить речь на уровни — от основного фонологического уровня подняться через чувствительность к порядку слов и их значению до способности различать более крупные единицы, например отдельные истории, — в музыке тоже можно выделить чувствительность к отдельным тонам или фразам, а также проследить, как они объединяются в большие музыкальные структуры и следуют определенным правилам. И подобно тому, как при рассмотрении литературного произведения, например поэмы или романа, можно и необходимо применить анализ на разных уровнях, в оценке музыкальной пьесы должны быть задействованы как локальный анализ подхода «снизу вверх», так и схематические построения «сверху вниз» гештальт-подхода. Исследователи музыки все чаще уклоняются от Сциллы пристального внимания к деталям и аранжировке и Харибды тщательного исследования внешней формы. Ученые предпочитают такой анализ, который учитывает все аспекты любого из этих уровней, и стремятся разработать схему окончательного анализа. Возможно, в будущем исследователи, занимающиеся оценкой музыкального дарования, смогут применить по отношению к музыкальному интеллекту и этот эклектический подход.
РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В Европе в начале XX века значительный интерес вызывало становление художественных способностей у детей, в том числе и развитие музыкального дарования. Пример, который я привел в начале главы, полностью соответствует духу времени, царившему в Вене 75 лет назад. По причинам, о которых можно только догадываться, эти веяния не были известны на другом берегу Атлантики. Поэтому о нормальном развитии музыкального интеллекта в рамках любой культуры нашей науке было известно мало.
И тем не менее, можно сделать хотя бы черновой набросок того, как происходит развитие этого интеллекта на раннем этапе. В младенческом возрасте нормальные дети и поют, и лепечут одновременно: они могут издавать отдельные звуки или волнообразные мелодии, а также с поразительной точностью повторяют звуки и фрагменты мелодий, пропетые другими. Более того, недавно Матильда и Ханус Папусеки выступили с утверждением, что младенцы в возрасте двух месяцев способны правильно повторять тон, громкость и мелодическую канву песен матери, а в четыре месяца точно имитируют и ритмическую структуру. Ученые заявляют, что младенцы особенно предрасположены улавливать эти аспекты музыки — намного лучше, чем основные характеристики речи, — и они играют со звуками так, что это во многом напоминает творческий процесс.
На втором году жизни дети переживают важный период своей музыкальной жизни. Впервые они начинают самостоятельно издавать последовательность отдельных звуков с небольшими интервалами — секундами, малыми терциями, большими терциями и квартами. Они спонтанно создают песни, которые трудно записать, а некоторое время спустя начинают воспроизводить небольшие фрагменты («характерные элементы») знакомых мелодий, услышанных от окружающих. В течение года между спонтанным пением и повторением «характерных элементов» из знакомых песен происходит напряженная борьба. Но к трем или четырем годам мелодии из доминантной культуры побеждают, а создание спонтанных песен и игра со звуками постепенно исчезают.
Различия между маленькими детьми в том, как они учатся петь, намного больше, чем это заметно при овладении речью. Некоторые могут повторять большие отрывки песен к двум или трем годам (в этом они сходны с ребенком, страдающим аутизмом), а многие другие в этом возрасте способны только на более чем приблизительное воспроизведение мелодий (ритм и слова обычно менее подвержены изменениям) и демонстрируют трудности с точным воспроизведением музыкальной канвы вплоть до пяти-шести лет. И все же можно с определенной уверенностью сказать, что многие дети в нашей культуре представляют себе, что такое песня, и могут довольно правильно повторять мелодии, которые слышат вокруг себя.
За исключением детей с необычными музыкальными способностями или тех, кому выпадает особый шанс, у большинства детей с достижением школьного возраста музыкальное развитие прекращается. Конечно же, музыкальный репертуар расширяется, и они могут правильнее и выразительнее исполнять песни. Кроме того, углубляются познания в музыке, и многие дети учатся читать ноты, высказывать свое мнение по поводу выступления музыкантов, а также пользоваться категориями из музыкальной критики, например «сонатная форма» или «двухтактный метр». Но если в случае с речью в школе делается особый упор на дальнейшее развитие лингвистических способностей, то музыка в нашей культуре занимает относительно скромную нишу, поэтому допустимой считается музыкальная безграмотность.
Если сравнить ситуацию в разных странах мира, то в том, как там относятся к музыке, заметно большое разнообразие. На одной чаше весов находится племя анангов из Нигерии. Младенцы, которым едва исполнилась неделя от роду, уже участвуют в песнях и танцах вместе с матерями. Отцы изготовляют для детей маленькие барабаны. В два года дети попадают в группы, где изучают основные культурные навыки, в том числе пение, танцы и игру на музыкальных инструментах. К пяти годам маленький ананг может спеть сотни песен, играет на нескольких ударных инструментах и знает десятки сложных танцевальных па. У народности венда в Северном Трансваале маленькие дети начинают двигаться под музыку, но даже и не пробуют петь. Гриоты, народные музыканты из Сенегала, обучаются своему искусству несколько лет. В некоторых культурах существуют разительные отличия между людьми: например, в племени эве из Ганы менее одаренных заставляют ложиться на землю, а искусный музыкант отбивает ритм на их телах и душах. И наоборот, уже упоминавшиеся ананги утверждают, что все люди обладают музыкальными способностями, а антропологи, которые изучали это племя, говорят, что им не встречался «немузыкальный» человек. В некоторых современных культурах музыкальный дар также ценится весьма высоко: в Китае, Японии и Венгрии, например, все дети должны научиться петь и, если возможно, играть на музыкальных инструментах.
Наше понимание уровней музыкальных способностей сложилось во многом благодаря Жанне Бамбергер, музыканту и специалисту в области психологии развития из Массачусетсского технологического института. Бамбергер анализировала музыкальное развитие в соответствии с теорией Жана Пиаже, хотя утверждала, что в музыкальном мышлении действуют свои собственные правила и ограничения, поэтому его нельзя напрямую сравнивать с лингвистическим или логико-математическим интеллектом. В ходе одного из исследований ей удалось выделить такие виды понимания ребенком принципа сохранения[42], которые присутствуют в пространстве музыки, но несводимы к традиционным. Например, маленький ребенок не различает звук колокольчика и сам колокольчик, который его издает; кроме того, он не может постичь, что разные колокольчики могут звучать одинаково или что колокольчик не утратит своего голоса, если его переместить с одного места на другое. С другой стороны, маленький ребенок чувствует разницу между двумя вариантами исполнения одной песни. Такие свидетельства говорят о том, что понятие «одинаковый» означает в музыке отнюдь не то же самое, что в сфере математики.
Бамбергер привлекла внимание к двум противоположным способам обработки музыки, которые приблизительно соответствуют скрытым (процессуальные) и явным (пропозициональные) знаниям. При образном типе мышления ребенок воспринимает главные характеристики музыкального фрагмента — становится он громче или тише, быстрее или медленнее, — а также выделяет «ощутимые» признаки совокупностей — издаются звуки одновременно или между соседними последовательностями есть временной промежуток. Подход интуитивный, он основан исключительно на том, что воспринимается слухом, и не требует никаких теоретических знаний о музыке. В отличие от него человек с формальным типом мышления может излагать свои знания о музыке в виде определенных принципов. Представляя музыку в виде системы, он понимает, что происходит в каждый отдельный период времени, и анализирует пассажи на основе их временных характеристик. Таким образом, он выделяет (и записывает) тот или иной музыкальный пассаж в виде количества ударов на отрезок времени, тем самым устанавливая определенную ритмическую модель.
Безусловно, любой человек в нашей культуре, желающий развить свои музыкальные способности, должен изучить формальный музыкальный анализ и нотную запись. Но, по крайней мере, в начале такое стремление к новому уровню «знаний о музыке» потребует некоторых затрат. Определенные важные аспекты музыки, которые воспринимаются «естественно» благодаря «образному» типу обработки информации, на какое-то время отойдут на второй план («сотрутся»), когда человек попытается оценить и классифицировать все согласно формальному типу мышления — заменить образную интуицию предполагаемыми знаниями.
И действительно, противоречия между формальным и образным мышлением могут стать причиной кризиса в жизни юного музыканта. По словам Бамбергер, дети, которых окружающие считают вундеркиндами, часто многого добиваются за счет своего образного понимания музыки. Но в определенный момент для них важно дополнить свое интуитивное понимание систематизированными знаниями о законах и специфике музыки. Такое осознание того, что раньше воспринималось (или игнорировалось), представляет трудности для подростков, особенно тех, которые зависели исключительно от своей интуиции и теперь сопротивляются предполагаемым знаниям (лингвистическим или логико-математическим) об особенностях музыки. Так называемый кризис среднего возраста наступает у вундеркиндов в юности, в период между 14 и 18 годами. Если на него не обратить должного внимания, этот кризис может привести к тому, что ребенок вообще бросит занятия музыкой.
Для юного исполнителя можно разработать особую модель развития. До восьми или девяти лет, подобно литературным занятиям юного Сартра, ребенок продвигается вперед исключительно за счет своего таланта и энергии: он легко разучивает произведения благодаря чувствительному музыкальному слуху и памяти, получает восторженные отзывы о своих технических навыках, но при этом не прилагает чрезмерных усилий. Период более осознанного развития навыков наступает около девяти лет, когда ребенку нужно начинать серьезно заниматься, что даже может сказаться на его учебе в школе и отношениях с друзьями. Иногда это приводит к первому «кризису», когда ребенок осознает, что для продолжения музыкальной карьеры ему, возможно, придется пожертвовать другими ценностями. Второй, более серьезный кризис наступает в ранней юности. В дополнение к противоречию между образным и формальным мышлением подросток должен задаться вопросом, действительно ли он собирается связать свою жизнь с музыкой. До этого он был инструментом (часто покладистым) в руках амбициозных родителей и учителей, теперь же ему нужно подумать, хочет ли он сам следовать этому призванию, жаждет ли он выражать с помощью музыки свои чувства, готов ли он пожертвовать другими удовольствиями и возможностями ради неизвестного будущего, где решающую роль зачастую играют удача и факторы, не связанные с музыкой (например, межличностные умения).
Говоря о музыкально одаренных детях, я имею в виду ту небольшую группу, которая была выделена родственниками и окружающими. Неизвестно, насколько могло бы увеличиться это число, если бы изменились ценности и методы обучения. И опять-таки, приведенный в начале главы пример многое объясняет.
В Японии великий музыкант Ш. Сузуки доказал, что очень многие могут научиться хорошо (по западным стандартам) играть на музыкальных инструментах даже в раннем возрасте. Естественно, большинство из этих учеников не станут профессиональными музыкантами. Но такой результат не смущает Сузуки, который считает своей целью развитие характера, а не виртуозного исполнения. Ученики Сузуки в какой-то степени приходят к нему сами. И все же удивительное исполнение некоторых японских детей — а также «учеников Сузуки» из других стран — говорит о том, что подобного уровня способен достичь намного больший процент населения, чем в США. Наличие совершенных певческих навыков в определенных культурах (венгры, пользующиеся методом Кодали, или члены племени анангов в Нигерии), исключительная техника игры на скрипке среди русских евреев или умения музыкантов с острова Бали позволяют предположить, что достижения в музыке не являются следствием только врожденных способностей, а также испытывают на себе влияние культуры и обучения.
С другой стороны, если и существует область человеческих достижений, в которой очень важно иметь соответствующие генетические предпосылки, то это именно музыка. Тот факт, что благодаря музыке существовали целые династии — как это было в случае с Моцартом, Бахом или Гайдном, — может служить одним из доказательств. Но при этом не менее важны и негенетические факторы (такие как система ценностей или методы обучения). Вероятно, еще более убедительными будут свидетельства о существовании детей, которые, даже несмотря на неблагоприятную обстановку в семье, способны очень хорошо петь, различать и повторять разные мелодии, подбирать песни на пианино или других инструментах.
Решающим в этом случае может оказаться малейший толчок. Более того, как только такой ребенок получает настоящее музыкальное образование, он очень быстро развивает в себе необходимые навыки, — как сказал Лев Выготский, они обладают значительной зоной ближайшего развития[43]. Такие способности можно считать проявлением тонкой генетической склонности правильно слышать, запоминать, осваивать (и, в конечном счете, воспроизводить) музыкальные последовательности. Похоже, что и ребенок с аутизмом, и юный композитор из описанной в начале ситуации обладают значительным генетическим потенциалом в сфере музыки.
Особенно яркий пример огромного таланта — это жизнь выдающегося пианиста XX века Артура Рубинштейна. Он родился в семье, где, по его словам, ни у кого не было «ни малейших музыкальных наклонностей». В Польше, еще будучи ребенком, он обожал все существующие звуки, в том числе заводские сирены, пение старых евреев-разносчиков и гудки тележек мороженщиков. Отказываясь говорить, он всегда очень хотел петь, поэтому дома стал настоящей сенсацией. Более того, его способности вскоре вызвали появление новой забавы, когда каждый пытался расшевелить его песней, а он сам научился различать людей по их мелодиям.
Когда ему исполнилось три года, его родители купили пианино, чтобы другие дети в семье могли брать уроки. Хотя сам Рубинштейн тогда не учился с ними, он вспоминал следующее.
Гостиная стала для меня раем... Частично ради удовольствия, частично серьезно я научился различать тональности, а сидя спиной к инструменту, мог назвать ноты в любом аккорде, даже самом диссонансном. С тех пор изучение клавиатуры стало «детской игрой», и вскоре я уже играл сначала одной рукой, затем двумя, и любая мелодия привлекала мое внимание... Все это, естественно, поражало моих родственников, ни у кого из которых, как я теперь понимаю, не было никаких музыкальных способностей... К трем с половиной годам мои склонности стали настолько очевидными, что семья решила что-то делать с этим моим талантом.
Семья Рубинштейнов показала отпрыска Йозефу Иоахиму, выдающемуся скрипачу XIX века, который сказал, что юный Артур станет великим музыкантом, потому что обладает выдающимся талантом.
Но даже при наличии большого таланта за ним не обязательно последуют заметные достижения в музыке. Из каждых десяти вундеркиндов (талант которых, предположительно, врожденный) некоторые совсем оставили музыку, а другие старались, но так и не смогли добиться особых результатов. (Даже Рубинштейну пришлось пережить несколько кризисов, переоценивая собственный талант и готовность служить музыке.)
В данном случае решающее значение имеют мотивация, личность и характер — хотя роль удачи тоже немаловажна. В нашей культуре музыкант должен обладать не только отточенными техническими навыками. Ему нужно уметь интерпретировать музыку, понимать замысел композитора, осознавать и реализовывать собственные идеи, а также быть убедительным как исполнитель. Рудольф Серкин, один из ведущих современных пианистов, сказал так.
Айвен Галамиан (известнейший скрипач и учитель середины XX века) предпочитает набирать юных учеников, от 10 до 12 лет. И я тоже. В этом возрасте уже можно распознать талант, но не характер или личность... Если ребенок — настоящая личность, то он станет чем-то необычайным. Если же нет, то, по крайней мере, научится хорошо играть.
Почти все композиторы начинают как исполнители, хотя некоторые исполнители начинают сочинять музыку в первые десять лет жизни. (Для того чтобы умение создавать музыкальные произведения развилось до мирового уровня, требуется минимум десять лет, независимо от степени одаренности человека.) До сих пор не выяснено, почему так мало исполнителей становятся композиторами, хотя предполагается, что существуют как положительные (склонность и навыки), так и отрицательные (застенчивость, неуклюжесть) факторы, которые приводят к такому результату. В ходе собственного изучения этого вопроса я обнаружил одну общую закономерность. Люди, которые позже становятся композиторами (возможно, в дополнение к мастерству исполнителя), осознают свои способности к 10–11 годам, экспериментируя с пьесами, которые играют, изменяя их, превращая в другие, — словом, сочиняя их по-своему. Игорь Стравинский вспоминал, как пытался подобрать на пианино услышанные аккорды, «как только оказывался рядом с инструментом. Но в процессе я находил другие сочетания, и это сделало меня композитором». Будущие композиторы, подобно Стравинскому, испытывают большее удовольствие от изменений, которые могут совершить, чем от простого исполнения пьес на самом высоком техническом уровне.
Как бы там ни было, свойства личности при этом играют ключевую роль. Источники наслаждения в случае с сочинением музыки отличаются от тех, что доставляют удовольствие при исполнении, — потребность создавать и анализировать, сочинять и изменять основывается на других мотивах, нежели желание играть или просто интерпретировать. Композиторы, вероятно, напоминают поэтов в том, что касается понимания оригинальной идеи, необходимости изучать и осуществлять ее, переплетая при этом эмоции и мысли.
В ходе исследования я частично затрагивал и западную культуру в период до эпохи Возрождения. В Средневековье культ композитора и исполнителя был не столь развит, и до сих пор во многих культурах нет четкого различия между исполнением и созданием музыки. Музыканты одновременно и исполнители, и композиторы; они постоянно вносят небольшие изменения в то, что играют, и в конце концов создают собственные творения, но они сознательно не называют себя композиторами. Изучение межкультурных различий говорит о том, что к созданию музыки в разных странах относятся по-разному. Представители народности басонгье из Конго предпочитают не оценивать роль отдельного человека в творении нового музыкального произведения. Индейцы Великих равнин стремятся отметить создателей музыки, насколько это было заметно при визуальном наблюдении. А эскимосы Гренландии определяют результат поединка между мужчинами по тому, кто из противников сможет сочинить песню, которая лучше других расскажет о его участии в битве. Мы просто не знаем, испытывают ли представители других культур то же, что ощущал в детстве участник группы Beatles Джон Леннон.
Такие люди, как я, осознают свою так называемую гениальность в десять, девять, восемь лет... Мне всегда было интересно: почему никто не открыл мой талант? Разве в школе не видели, что я умнее любого другого ученика? Что все учителя — тоже тупицы? Что у них была только та информация, которая мне никак не могла пригодиться? Мне это было совершенно очевидно. Почему меня не отдали в художественное училище? Почему меня не учили? Я отличался, всегда отличался от других. Почему меня никто не замечал?
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКИ
Истоки эволюции музыки окутаны пеленой тайны. Многие ученые склоняются к мысли, что лингвистическое и музыкальное выражение и общение происходят из одного корня и отделились друг от друга несколько сотен тысяч лет назад, а возможно, даже около миллиона. Найдены доказательства того, что музыкальные инструменты существовали еще в каменном веке, а также свидетельства той роли, которую играла музыка в организованной деятельности группы, во время охотничьих танцев и при исполнении религиозных обрядов. Но это одна из тех сфер, где слишком просто выдвигать теории, однако очень сложно их опровергнуть.
И все же, изучая онтогенез музыки, мы имеем по крайней мере одно преимущество, которого лишены ученые, занимающиеся исследованием речи. Если число связей между человеческой речью и другими формами коммуникации в животном царстве ограничено и довольно противоречиво, то среди животных есть как минимум один пример, сходство которого с музыкой у человека трудно не заметить. Речь идет о пении птиц.
При обсуждении биологических предпосылок интеллекта я говорил, что в области развития пения у птиц в последнее время было сделано множество открытий. Из того, что может быть интересным для наших целей, я хотел бы особо подчеркнуть следующие аспекты. Прежде всего, бросается в глаза поразительное разнообразие моделей, в соответствии с которыми развивалось пение птиц, — одни виды ограничиваются только одной песней, которую исполняют все его представители (в том числе виды, представители которых лишены слуха); другие разучивают несколько мелодий и диалектов, на что оказывают несомненное влияние особенности среды обитания. У птиц выделяется заметная смесь врожденных и внешних факторов, которые можно изучить в ходе экспериментов, недопустимых в случае со способностями человека.
Несмотря на большое разнообразие путей развития, у птиц можно выделить общую модель становления певческих способностей. Все начинается с периода первичного пения, затем наступает стадия пластичного пения, и наконец, птица овладевает пением, свойственным ее виду. Этот процесс отличается поразительным сходством с тем, как маленькие дети начинают лепетать и постепенно учатся повторять фрагменты песен, которые слышат от окружающих. Несомненно, развившиеся певческие способности человека намного шире и разнообразнее, чем самый разносторонний репертуар птицы, и об этом различии между двумя поющими видами нужно все время помнить. Однако очевидные аналогии в развитии пения должны подтолкнуть ученых к проведению экспериментов, в ходе которых могут быть выявлены общие аспекты музыкального восприятия и исполнения.
Но, конечно же, самый интригующий аспект пения у птиц, с точки зрения изучения человеческого интеллекта, — это его представленность на уровне нервной системы. Оказывается, птичье пение — это один из тех редких примеров в животном царстве, когда определенный навык имеет четкую локализацию — в данном случае он связан с левой половиной нервной системы птицы. Травма в этой зоне разрушит певческие способности, в то время как такое же повреждение в правой половине нервной системы приведет к не столь катастрофическим последствиям. Более того, при исследовании мозга птицы можно обнаружить явные соответствия природе и богатству песен, на которые она способна. Даже в пределах одного вида птицы отличаются по богатству своего репертуара, и все эти различия отражаются в мозге. Запас песен меняется в зависимости от сезона, и эти перемены заметны при изучении расширения или сужения соответствующих ядер мозга, которые происходят в разное время года. Таким образом, хотя задача птичьего пения совершенно отличается от той, что стоит перед песней человека («пение птицы — это обещание музыки, но для того, чтобы сдержать его, нужно быть человеком»), механизм, в соответствии с которым организованы его основные составляющие, во многом напоминает человеческий.
В действительности трудно определить, есть ли какая-либо прямая филогенетическая связь между музыкой птицы и человека. Птицы значительно отличаются от людей, поэтому нельзя всерьез сравнивать развитие слухо-голосовой деятельности у этих двух видов. Многие, вероятно, удивятся, но у приматов нет ничего похожего на птичье пение. Однако люди издают достаточно выразительные звуки, которые можно легко понять. Скорее всего, в случае с пением у человека имеет место сочетание нескольких способностей. Некоторые из них (например, имитация вокального образца), возможно, существуют и у других видов в какой-то иной форме, а другие (например, чувствительность к относительной и абсолютной высоте тона или способность уловить разнообразные музыкальные трансформации) свойственны лишь человеку.
Возникает непреодолимый соблазн проводить определенные аналогии между музыкой и речью человека. Даже в труде, посвященном доказательству автономности этих интеллектов, я не могу удержаться от проведения подобных параллелей, чтобы точнее передать смысл. Поэтому необходимо отметить, что у такого разделения имеются экспериментальные основания. Ученые, изучающие как нормальных людей, так и тех, кто страдает различными нарушениями мозговых функций, убедительно доказали, что процессы и механизмы, задействованные при обработке человеком музыки и речи, различны.
Некоторые доказательства в пользу этого утверждения были получены исследовательницей музыки Дайаной Дойтч, которая в своей работе придерживается подхода «снизу вверх». Дойтч доказала, что вопреки утверждениям многих психологов, изучающих восприятие, механизмы, с помощью которых улавливается и оценивается мелодия, отличаются от механизмов, обрабатывающих другие звуки, а особенно — человеческую речь. Неопровержимые свидетельства получены с помощью экспериментов, в ходе которых участники должны были запомнить определенную тональную последовательность, а затем воспроизвести ее в сопровождении различного рода интерферирующего материала. Если этот интерферирующий материал имел другую тональность, это существенно снижало способность испытуемых к воспроизведению первоначальной тональной последовательности (в ходе одного из экспериментов ошибки составили 40%). Но если интерферирующий материал был представлен в вербальном виде — например, цифровая последовательность, — испытуемые успешно выполняли задание даже при значительном количестве интерферирующего[44] материала, при этом их способность к воспроизведению звуков практически не страдала (2% ошибочных ответов). Особенно примечательно в этом открытии то, что сами участники эксперимента были удивлены таким результатом. Очевидно, люди ожидают, что предъявление вербального материала негативно скажется на музыкальной памяти, поэтому откровенно не верят, что на самом деле он им не мешает.
Подобную обособленность музыкального восприятия наглядно доказывает изучение тех людей, мозг которых пострадал в результате ушиба или другой травмы. Конечно, бывают случаи, когда у человека в результате развития афазии наблюдается также и снижение музыкальных способностей. Но главное открытие в этом исследовании заключается в том, что выраженная афазия далеко не всегда сказывается на музыкальном восприятии, и точно так же можно полностью утратить музыкальные способности, но сохранить основные функции лингвистического интеллекта.
Факты таковы: если лингвистические способности у нормального человека-правши почти полностью локализованы в левом полушарии мозга, то основные музыкальные способности, в том числе и чувствительность к высоте звука, у большинства нормальных людей располагаются в правом полушарии. Поэтому поражение правой фронтальной и височной долей приводит к значительным трудностям при различении звуков и их правильном воспроизведении, в то время как поражения соответствующих участков левого полушария (с которыми связаны проблемы с обычной речью), как правило, не влияют на музыкальные способности. Восприятие музыки также нарушается вследствие поражений правого полушария (как видно из самого названия, амузия[45] — это расстройство, отличное от афазии).
Приступив к более тщательному изучению, можно увидеть значительно более сложную картину, отличную от той, которую мы наблюдаем в случае с речью. Если синдромы речевых расстройств, скорее всего, одинаковы даже в разных культурах, то в одной и той же стране можно встретить различные синдромы музыкальных расстройств. Соответственно, если у одних композиторов (например, Мориса Равеля) начинается амузия, которая возникает вслед за афазией, то другие продолжают успешно сочинять музыку, даже несмотря на серьезную афазию. Русский композитор Шебалин[46] писал хорошую музыку, невзирая на значительную афазию, связанную с зоной Вернике; некоторые другие, в том числе и один композитор, которого исследовали мы с коллегами, также сохранили свои музыкальные способности. И точно так же — хотя способность воспринимать и оценивать музыкальное исполнение, похоже, зависит от структур правого полушария — у некоторых композиторов возникали сложности с музыкой после травмы левой фронтальной доли мозга.
Недавно было обнаружено еще одно любопытное явление. В ходе многочисленных тестов нормальных людей было выявлено, что музыкальные способности сосредоточены также в правом полушарии. Например, в результате исследования дихотического слуха (слушание разных сообщений каждым ухом одновременно) установлено, что люди лучше обрабатывают слова и согласные, услышанные правым ухом (левое полушарие), но успешнее запоминают музыкальные тона (и другие внешние шумы), если они услышаны левым ухом (т. е. представлены правому полушарию). Однако есть и дополнительный фактор. Если эти же или более сложные задания выполняют люди с музыкальным образованием, наблюдается усиление деятельности левого и снижение функции правого полушарий. Чем более глубокое музыкальное образование получил человек, тем больше вероятность того, что при решении задачи, с которой новичок справился бы с помощью механизмов правого полушария, он будет задействовать, хотя бы частично, механизмы левого.
Но не стоит слишком серьезно рассматривать случаи, когда музыкальные способности в результате обучения переходят в другое полушарие по мозолистому телу. Во-первых, такое происходит далеко не со всеми музыкальными навыками. Например, Гарольд Гордон установил, что даже музыканты анализируют аккорды скорее правым, чем левым полушарием. Во-вторых, до конца так и не ясно, почему полученное образование оказывает воздействие на левое полушарие. Хотя сами по себе процессы музыкальной обработки могут менять локализацию, вполне может оказаться, что простое добавление словесных понятий к музыкальным фрагментам свидетельствует о несомненном доминировании левого полушария при анализе музыки. Профессиональные музыканты могут пользоваться «формальными» лингвистическими классификациями как подспорьем, а люди без специального образования полагаются лишь на свое образное мышление.
Однако в рамках данного обзора необходимо особо подчеркнуть, что в нервной системе человека музыкальные способности представлены удивительно разнообразно. На мой взгляд, этому есть две причины. Во-первых, у людей выделяют огромное количество самых разных музыкальных способностей. Поскольку люди существенно различаются в том, что способны делать, то естественно, что в нервной системе должно отражаться все разнообразие необходимых для этого механизмов. Во-вторых, люди могут познакомиться с музыкой с помощью разных средств и постоянно заниматься ею таким идиосинкразическим способом. Таким образом, если каждый нормальный человек знакомится с естественной речью, слушая окружающих, то с музыкой он может столкнуться по различным каналам: пение, игра на музыкальных инструментах руками или ртом, чтение нот, прослушивание фонограмм, наблюдение за танцами и т. п. Если учесть, что даже то, какие средства передачи письменной речи используются в данной культуре, отражается на уровне нервной системы, то различные способы обработки музыки мозгом, вероятно, обуславливают многообразие способов создавать и воспринимать музыку.
Если принять во внимание значительную вариабельность мозговой репрезентации, то как это повлияет на мое утверждение, что музыкальные способности можно рассматривать как отдельный вид интеллекта? На мой взгляд, вариабельность мозговой репрезентации не противоречит этой мысли. Если у одного человека музыкальные способности имеют одну локализацию, то у другого человека их локализация может оказаться иной (ведь если учитывать всех левшей, то вариабельность лингвистической локализации окажется намного большей, чем если их не принимать в расчет). Во-вторых, очень важно установить, связаны ли другие способности с музыкой настолько, что при разрушении музыкального таланта затрагиваются и другие. Насколько я знаю, ни одни свидетельства о нарушении музыкальных способностей не подтверждают того, что они обязательно связаны с другими (например, обработкой лингвистической, цифровой или пространственной информации): музыка обособлена так же, как и речь.
Наконец, я считаю, что, по большому счету, у всех людей музыкальные способности представлены во многом сходно. Такое сходство может усиливаться в зависимости от того, как произошло знакомство с музыкой, насколько глубоко полученное человеком музыкальное образование, какие музыкальные задачи он обычно решает. Учитывая это разнообразие, нам, вероятно, придется изучить множество людей, прежде чем станет очевидным подлинное сходство. Возможно, если удастся разработать точный метод анализа музыкального интеллекта, обнаружится, что он еще более локализирован и обособлен, чем человеческая речь. И действительно, последние исследования правого полушария мозга позволяют предположить, что оно отвечает за музыку так же централизованно, как левое за лингвистические функции.
Случаи уникального нарушения музыкальных способностей служат убедительным доказательством автономности музыкального интеллекта. Еще одно подтверждение тому — избирательное сохранение этих способностей или их раннее проявление у человека. Я уже высказывал предположение, что необычная склонность к музыке, как правило, сопутствует определенным отклонениям, например, в случае с аутизмом. И действительно, в научной литературе приводится множество примеров, когда дети, страдающие аутизмом, проявляли необычайный музыкальный и акустический дар. Имеются также свидетельства о многих так называемых ученых идиотах — индивидах, которые, несмотря на нарушения интеллектуального развития, обладали необычными музыкальными умениями. Одна такая девочка по имени Гарриет могла сыграть песенку Happy Birthday («С днем рождения!») в стиле разных композиторов, в том числе Моцарта, Бетховена, Верди и Шуберта. О том, что это не простое запоминание, говорил тот факт, что девочка могла узнать вариант, который ее врач исполнил в стиле Гайдна. Гарриет проявляла свои музыкальные пристрастия и другим способом — например, она знала биографию каждого музыканта из Бостонского симфонического оркестра. Когда ей было три года, мама звала ее, играя незаконченные мелодии, которые девочка доводила до конца, исполняя их в нужной тональности и правильной октаве. Другие дети, описанные в литературе, могли запоминать сотни мелодий или подбирать знакомые песни на самых разных инструментах.
Если ребенок с психическими отклонениями или аутизмом испытывает интерес к музыке потому, что эти способности остаются затерянным островком среди безбрежного моря умственных нарушений, то существуют и более положительные признаки изоляции, когда обычный ребенок просто проявляет врожденный талант к музыке. Есть множество рассказов о юных музыкантах. Один композитор вспоминает: «Я никогда не понимал, как человек не может различать звуки или разбираться в музыкальных моделях. Мне это удавалось по крайней мере с трех лет». Игорь Стравинский однажды рассказал о первой услышанной им музыке в жизни.
Морской оркестр из флейтистов и барабанщиков недалеко от нашего дома... Эта музыка, а также та, что исполнял оркестр, сопровождающий конную гвардию, наполняла каждый день моего детства, и ее звуки, особенно голос тубы, пикколо и барабанов, были самым большим удовольствием для меня... Шум колес, цоканье лошадиных копыт, щелчки кнутов извозчиков проникли в мои самые первые сны: это самое раннее воспоминание об улице моего детства.
Стравинский вспоминает, что когда ему было два года, крестьянки-соседки, возвращавшиеся домой с поля, пели очень красивую и печальную песню. Когда родители спросили, что он услышал, мальчик ответил, что видел крестьян и слушал их песню, после чего повторил эту мелодию. «Все были поражены и удивлены, а я услышал, как мой отец сказал, что у меня замечательный слух». И все же, как мы уже видели, даже самым одаренным детям нужно около десяти лет, чтобы достичь того уровня исполнительского и композиторского мастерства, который мы связываем с совершенным владением музыкой.
Тщательно изучая музыкальное исполнение в иных культурах, можно выделить другие музыкальные способности. В традиционных культурах значительно меньше внимания уделяется индивидуальному исполнителю или разработке нововведений к привычным нормам, но гораздо больше ценятся люди, мастерски овладевшие всеми жанрами своего народа и умеющие их трансформировать. В необразованных сообществах есть люди, обладающие поразительной способностью запоминать мелодии и дополнять их рассказами. (Действительно, музыкальную одаренность часто приравнивают к умению запоминать слова песен.) Вооружившись основными схемами, эти музыканты могут объединять фрагменты мелодий в бесконечное количество комбинаций, которые услаждают слух и подходят к ситуации, для которой были созданы.
Характеристики, ценящиеся в разных культурах, тоже играют свою роль в том, кого из детей отберут для активного участия в музыкальной жизни общины. Например, если большое значение имеют ритм, танец или участие в совместном музицировании, то особенно будут цениться люди, одаренные в этом отношении. Но порой на первый план выходят факторы, которые в нашем понимании имеют слабое отношения к музыке, например приятное для глаз исполнение.
Ограниченные культурные ресурсы тоже могут претерпевать качественное изменение. Например, Грегори Бейтсон в книге Naven рассказывает такую историю: два человека играли на флейтах, ни на одной из которых не было клапанов. Сыграть мелодию полностью на одном инструменте было невозможно. Поэтому музыканты решили чередоваться, чтобы вся мелодия звучала как неразрывное целое.
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИНТЕЛЛЕКТА
Различные свидетельства, изложенные мною в этой главе, позволяют предположить, что, как и речь, музыка является отдельным видом интеллекта, который не зависит от физических объектов в мире. Как и в случае с речью, музыкальные способности можно в значительной степени усовершенствовать, развивая свой слухоголосовой канал. Более того, вряд ли можно считать обычным совпадением, что два вида интеллекта, которые с самого начала своего развития не имеют отношения к физическим объектам мира, основываются на слухо-голосовой системе. Хотя, как оказывается, они во многом отличаются на неврологическом уровне.
Но в заключение важно упомянуть также и о тех неразрывных связях, которые установились между музыкальным интеллектом и другими его видами. Рихард Вагнер отвел музыке центральное место в своем произведении Gesamtkunstwerk («Панартистический труд»), и это не было продиктовано излишней самоуверенностью: на самом деле музыка действительно взаимосвязана с различными символическими системами и видами человеческого интеллекта. Более того, именно потому, что она не используется для явного общения или иных очевидных целей выживания, ее неизменное расположение в центре человеческой активности остается загадкой. Антрополог Клод Леви-Стросс — один из многих ученых, которые утверждают, что если мы сможем объяснить музыку, то найдем ключ ко всему человеческому мышлению. Он также разделяет мнение, что нежелание воспринимать музыку всерьез не позволяет адекватно разобраться в сути человеческой деятельности.
Многие композиторы, и среди них Сешонз, подчеркивали тесные связи между музыкой и языком тела или жестов. После некоторого размышления становится понятно, что саму музыку правильнее всего было бы представить в виде продолжительного жеста — это вид движения, который осуществляется телом, пусть даже и имплицитно. Соглашаясь с таким утверждением, Стравинский настаивал, что для того, чтобы правильно понять музыку, ее нужно увидеть. Так, он был неравнодушен к балету как части представления и всегда требовал, чтобы музыканты во время исполнения были на виду. Маленькие дети естественным образом соотносят музыку и движение, поэтому для них практически невозможно спеть песню, не помогая себе при этом жестами. Благодаря различным исследованиям эволюции музыки ее можно связать с первобытным танцем. Многие современные методики обучения музыке задействуют при этом голос, руки и тело. И действительно, только в последнее время и только в западной цивилизации музыку начали рассматривать отдельно от движений тела, как исключительно «вокальное» явление.
Связь между музыкой и пространственным интеллектом не столь очевидна, тем не менее она существует. Расположение музыкальных способностей в правом полушарии позволяет предположить, что определенные музыкальные навыки могут быть тесно связаны с пространственными. Физиолог Лорен Харрис приводит доказательства того, что для композитора необходимо наличие развитых пространственных способностей, с помощью которых можно построить, оценить и изменить сложную архитектонику музыкального произведения. Он также утверждает, что малое количество женщин-композиторов объясняется не трудностями музыкальной обработки (вспомните о большом количестве женщин-певиц и исполнительниц), а, скорее, несовершенством пространственных способностей женщин.
Недавно обнаружилась любопытная аналогия между музыкальными и пространственными способностями. Артур Линтген, врач из Филадельфии, удивлял восторженных зрителей своей способностью узнавать мелодию, просто изучив рисунок бороздок на граммофонной пластинке. В этом нет никакого чуда. По словам Линтгена, бороздки отличаются контурами и промежутками между ними в зависимости от динамики и частоты музыки. Например, те из них, где звучит тихая музыка, кажутся черными или темно-серыми, а когда музыка становится громче и сложнее, бороздки принимают серебристый оттенок. Линтген показывает свой трюк, пользуясь знаниями о характерном звучании классической музыки и соединяя их с отличительным рисунком бороздок на пластинках, в том числе и с теми произведениями, которых он прежде не встречал в записанном виде. Для нас может быть интересен один из аспектов демонстраций Линтгена — это мысль, что у музыки имеется аналог в нашей сенсорной системе. Возможно, в таком случае глухой человек сможет понять хотя бы кое-что о музыке, изучив эти модели (хотя, вероятно, и не в такой степени, как слепой, который может «почувствовать» скульптуру). А в культурах, где на эффект, оказываемый музыкой, влияют не только звуковые элементы, эти свойства будут полезны для тех, кто по той или иной причине не слышит мелодию.
Я уже говорил о повсеместно признаваемой связи между музыкальным исполнением и чувствами человека. А поскольку чувства занимают центральное место в личностном интеллекте, здесь будут уместны некоторые пояснения. Музыка может служить для выражения чувств, знаний о чувствах и их формах, она помогает передать их от исполнителя или создателя внимательному слушателю. Пока еще не установлены неврологические процессы, которые осуществляют такую передачу или способствуют ей. Однако можно предположить, что музыкальный интеллект зависит не только от аналитических механизмов коры головного мозга, но и от тех подкорковых структур, которые считаются основой ощущений и мотивации. Люди, у которых нарушены подкорковые структуры или связь между корой и подкоркой, часто воспринимаются как равнодушные к какому-либо воздействию. И хотя в неврологической литературе этот вопрос не рассматривался, я считаю, что у таких людей нет никакого интереса к музыке. Вспоминается один поучительный случай: человек после серьезной травмы правого полушария мог и дальше обучать музыке и даже писать об этом книги, но утратил как возможность, так и желание сочинять музыку. По его собственным словам, он больше не чувствовал все произведение, не мог понять, что подходит для него, а что нет. Еще один музыкант, страдающий нарушением деятельности правого полушария, утратил все эстетические чувства по отношению к своей игре. Возможно, такие чувственные аспекты музыки оказываются особенно хрупкими при повреждении структур правого полушария независимо от того, носят они корковый или подкорковый характер.
В этой главе значительное внимание было уделено сравнению музыки и речи. Для доказательства моего утверждения об автономности интеллектов важно показать, что у музыкального интеллекта есть своя траектория развития, а также свои соответствия на уровне нервной системы, иначе всеядные челюсти человеческой речи раздавят его. Но я совершил бы большую ошибку, если бы не вспомнил о непрекращающихся попытках исследователей музыки и таких известных музыкантов, как Леонард Бернстайн, найти оригинальные параллели между музыкой и речью. В последнее время эти попытки были направлены на то, чтобы применить, хотя бы частично, предложенный Ноамом Хомским анализ генеративной структуры речи по отношению к генеративным аспектам восприятия и создания музыки. Эти исследователи незамедлительно указали на то, что не все аспекты речи абсолютно аналогичны музыкальным. Например, семантика в музыке практически не развита, и строгие правила грамматики также не действуют, поскольку в музыке зачастую особенно ценятся нарушения всяческих норм. И все же, если помнить об этих предостережениях, действительно существуют оригинальные параллели между такой схемой анализа, которую можно применить, с одной стороны, к естественной речи, а с другой — к классической музыке Запада (1700–1900 годы). Но до сих пор не установлено, возникают такие параллели преимущественно (или только) на уровне формального анализа или же затрагивают фундаментальные особенности обработки информации в этих двух интеллектуальных сферах.
Напоследок я оставил тот вид интеллекта, который, по расхожему мнению, наиболее тесно связан с музыкой, — математический. Восходя к открытиям времен Пифагора, связь между музыкой и математикой часто привлекала внимание мыслителей. В Средние века (и во многих культурах вне западного мира) тщательное изучение музыки во многом было схоже с занятиями математикой, например интерес к пропорциям, особым коэффициентам, повторяющимся моделям и другим отличительным элементам. До эпохи Палестрины[47] и Лассо[48], т. е. до XVI века, математические аспекты музыки все еще оставались в центре внимания, хотя математические или числовые слои в музыке уже обсуждались не так активно, как прежде. Когда внимание обратилось к гармонии, математический аспект музыки отошел на второй план. Но в XX веке — впервые с появлением двенадцатитоновой музыкальной системы, а в последнее время — в связи с повсеместным использованием компьютеров — отношения между математическим и музыкальным интеллектами снова вызывают большой интерес.
Как мне кажется, в музыке присутствуют если не элементы высшей математики, то явно математические составляющие, и от этого нельзя отмахиваться. Чтобы понять действие ритмов в музыке, человек должен обладать определенными познаниями в математике. Для исполнения требуется чувствительность к соотношениям и пропорциям, что может представлять особые трудности. Но все это можно назвать математическим мышлением лишь на относительном уровне.
Когда речь идет о понимании основных музыкальных компонентов и о том, как их можно повторять, изменять, запечатлевать или еще как-либо соотносить друг с другом, применяется математическая мысль более высокого порядка. Такая взаимосвязь бросилась в глаза некоторым музыкантам. Стравинский говорит следующее.
[Музыкальная форма] намного ближе к математике, чем к литературе... и уж тем более — к математическому мышлению и математическим взаимоотношениям... Музыкальная форма имеет отношение к математике, потому что она идеальна, а форма всегда такова... Но хотя математика здесь важна, композитор не должен пытаться вывести математическую формулу.
Я знаю, что эти явления одинаково абстрактны.
Чувствительность к математическим моделям и соотношениям была присуща многим композиторам, от Баха до Шумана, которые проявляли свой интерес к этому вопросу подчас явно, а иногда — играя с возможностями. (Моцарт даже сочинял музыку по игральным костям.)
Очевидно, что обнаружить связь между аспектами музыки и особенностями других видов интеллекта довольно просто. На мой взгляд, такие аналогии можно найти между любыми двумя интеллектами, а одна из самых больших радостей изучения одного из видов интеллекта состоит в исследовании его взаимоотношений с другими интеллектуальными сферами. Как форма эстетики, музыка особенно легко поддается сравнению с другими видами интеллекта и символики, особенно в руках (или ушах) склонных к творчеству людей. И все же, согласно моему собственному анализу, основные операции музыки не совпадают с основными операциями в других сферах, поэтому музыку следует рассматривать в качестве отдельного вида интеллекта. Более того, на этой автономности необходимо сделать особый акцент, когда в следующей главе мы подробнее рассмотрим тот вид интеллекта, с которым музыку сравнивают чаще других, — логико-математический.
Как мне кажется, задача, которую выполняют музыканты, кардинально отличается от той, что занимает настоящего математика. Математик интересуется формой ради нее самой, его привлекают разновидности формы как таковые, а не как средство общения или достижения какой-либо другой цели. Возможно, он захочет изучать музыку и даже добьется в этом определенных успехов, но с точки зрения математики музыка представляет собой совершенно иную сферу. Для музыканта элементы модели представлены в виде звуков и окончательно объединяются особым образом не в результате формального размышления, а потому, что наделены экспрессивной силой и воздействием. Несмотря на свои ранние высказывания, Стравинский признает, что «музыка и математика не похожи». Математик Г. X. Харди помнил об этих различиях, когда говорил, что именно музыка может вызывать эмоции, учащать сердцебиение, лечить астму, вызывать эпилепсию или успокаивать младенца. Формальные модели, которые для математика являются raison d’etre (смысл и причина существования, фр.), помогают и музыканту, но не могут быть названы незаменимыми для выражения чувств.
7 Логико-математический интеллект
И первый же человек, заметивший аналогию между семью рыбами и семью днями, осуществил значительный сдвиг в истории мышления. Он был первым, кто ввел понятие, относящееся к науке чистой математики.[49]
ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ Ж. ПИАЖЕ
Жану Пиаже очень нравилась история о ребенке, который хотел стать настоящим математиком. Однажды этот будущий математик столкнулся с рядом предметов и решил пересчитать их. Он установил, что объектов всего 10. Затем он указал на каждый из предметов, но в разном порядке, — и о чудо! — их снова получилось 10. Ребенок в восторге повторил эксперимент несколько раз и наконец понял — раз и навсегда, — что число 10 совсем не связано с результатом его повторяющегося упражнения. Это число относилось к совокупности предметов независимо от того, в какой последовательности их пересчитывать, главное — не упустить ни один из виду и учесть его всего один раз. С помощью такой игры ребенок понял (как и все мы, каждый в свое время) фундаментальный принцип, относящийся к миру чисел.
В отличие от лингвистических и музыкальных способностей, интеллект, который я называю «логико-математическим», не зависит от слухоголосовой сферы. Истоки его относятся к взаимодействию с миром физических объектов. Ведь именно в ходе такого взаимодействия, при расположении и классификации этих объектов и при определении их количества, маленький ребенок приобретает свои первые и самые прочные знания о логико-математической сфере. С этого момента логико-математический интеллект быстро отдаляется от материального мира. В данной главе речь пойдет о том, как человек учится понимать действия, которые можно выполнить над объектами, отношения между этими действиями, утверждения (или предположения), которые можно выдвинуть о действительных или потенциальных действиях, а также связь между этими утверждениями. В процессе развития человек переходит от объектов к утверждениям, от действий к отношениям между ними, от сенсорно-моторной сферы к сфере чистой абстракции, и наконец — к вершинам логики и науки. Цепочка длинна и сложна, но ни в коем случае не должна быть таинственной: корни высочайших достижений логической, математической и научной мысли можно найти в простых действиях, которые выполняют маленькие дети над физическими объектами в своем мире.
Описывая раннее развитие речевых способностей, я пользовался трудами многих ученых. Когда же речь идет об онтогенезе и становлении логико-математического интеллекта, важнейшее значение приобретают работы одного ученого. Поэтому в данной главе я основываюсь на исследованиях признанного специалиста в области генетической психологии, швейцарца Жана Пиаже.
По мнению Пиаже, все знания — а особенно логико-математическое понимание, которое вызывало его живой интерес — основываются в первую очередь на действиях человека в этом мире. Следовательно, изучение мысли следует (или даже необходимо) начинать с младенческого возраста. Маленький ребенок исследует самые разнообразные объекты — соски, погремушки, чашки — и очень скоро начинает строить предположения, как эти объекты будут вести себя в определенных обстоятельствах. В течение многих месяцев знания ребенка о предметах и простых связях между ними неразрывно связаны с его непосредственными действиями с ними. Поэтому когда эти объекты исчезают из виду, они больше не занимают его ум. Только в полтора года ребенок окончательно понимает, что предметы продолжают существовать, даже если их удалили из его актуальной пространственно-временной структуры. Такое понимание постоянства объекта — того, что предметы существуют независимо от действий, которые человек выполняет над ними в данный момент — важнейший фундамент, на котором строится все умственное развитие в будущем.
Как только ребенок начинает чувствовать постоянство объектов, то может думать о них даже в их отсутствие. Кроме того, он уже может заметить сходство между определенными предметами, например тот факт, что все чашки (несмотря на разницу в размере или цвете) относятся к одному классу. Более того, всего через несколько месяцев ребенок уже умеет группировать предметы по некоему признаку: он может собрать вместе нее игрушечные грузовики, все желтые машинки, все игрушки для малышей[51] — хотя в столь юном возрасте он делает это лишь время от времени и только если находится в подходящем настроении для таких занятий.
Способность к сериации — «явное проявление» того, что ребенок уже понимает: у определенных объектов есть общие свойства. Если хотите, это говорит о его понимании класса или ряда. Но в течение нескольких лет этому пониманию не хватает количественного аспекта. Ребенок знает, что стопка может быть маленькой и большой, что монеток или конфет может быть больше или меньше, но такое понимание в лучшем случае остается приблизительным. Несомненно, ребенок может уже разбираться в очень маленьких количествах — два или три объекта, — которые он (как некоторые птицы или приматы) узнает при беглом осмотре. Но ему не хватает главного понимания — существования правильной числовой системы, в которой каждый порядковый номер означает на одну единицу больше (+1), чем предыдущий, или того, что любой ряд предметов означает определенное их количество. Такая неспособность к пониманию сохранения числа (т. е. инвариантности) обусловлена хрупкостью «счета» перед напором конкурирующих сигналов. Например, если у ребенка есть две пачки леденцов, причем одна из них занимает больше места, чем другая, то он может решить, что в ней, соответственно, больше конфет, даже несмотря на то, что вторая пачка заметно тяжелее. За исключением очень маленьких чисел, количественные характеристики по-прежнему затмеваются воспринятыми сигналами, в которых содержится какой-то подвох, например масса или протяженность в пространстве.
Часто в таком возрасте ребенок умеет считать — т. е. может повторять последовательность цифр. Но до четырех или пяти лет такие способности — преимущественное проявление лингвистического интеллекта — не связаны с его простой оценкой небольшого количества предметов или с умением оценить количество более крупных групп предметов. Но вот происходят важные события. Ребенок узнает, что последовательность цифр можно применить к ряду предметов. Если он произнесет одно число и покажет при этом на один предмет, а затем повторит этот процесс с каждым последующим объектом, то сможет точно определить, сколько предметов находится в этой группе. Первый предмет — это номер 1, второй — номер 2, третий — номер 3 и т. д. Четырех-пятилетний ребенок понимает, что последнее число, которое он произнесет вслух, означает общее количество объектов в группе.
Наконец, к шести-семи годам ребенок достиг того уровня, на котором находится будущий математик из примера Пиаже. Изучая две группы предметов, он может установить количество объектов (леденцов или шариков) в каждой из них, сравнить результаты и определить, в какой группе предметов больше. Он уже не будет ошибаться, например, спутав протяженность в пространстве с количеством или получив неправильный результат, потому что не смог одновременно указывать на предмет и называть соответствующее число. Более того, он вполне овладел верным методом определения количества и в то же время понял, что означает это понятие.
В том, как Пиаже понимал интеллект, важную роль играют процессы, с помощью которых приобретаются эти знания. Сравнивая две группы предметов по принципу количества, ребенок создает две мысленные последовательности или две группы ментальных образов. После этого он может сравнивать, соотнося число из первой группы с числом из второй, даже если сами наборы предметов отличаются по своему внешнему виду или даже если их невозможно потрогать.
Как только освоен процесс соотнесения, ребенок может осуществлять дополнительные операции. Он может добавить к обеим группам одно и то же количество предметов, и в результате такого добавления получатся одинаковые суммы. Он может отнять одинаковое количество, и снова убедится в равнозначности результата. Теперь ему доступны и более сложные действия. В случае неодинакового количества предметов в обеих группах он может добавлять к каждой группе одинаковое число предметов, убеждаясь при этом, что неодинаковость сохраняется. Самостоятельно (или с помощью взрослых) ребенок может приобрести знания, необходимые для выполнения основных арифметических операций: сложения, вычитания, умножения и деления. И точно так же он должен быть в состоянии прибегать к этим действиям в своей повседневной жизни — покупая товары в магазине, обмениваясь с друзьями, следуя указаниям кулинарных рецептов, играя в шарики, карты или компьютерные игры.
Описанные действия могут — и сначала это так и есть — выполняться физически над объектами материального мира, т. е. ребенок, считая шарики или конфеты, перекладывает их с одного места на другое. Другие элементарные формы логикоматематического мышления — например, первое осознание обычных взаимосвязей между предметами или первые попытки сериации объектов — тоже сначала проявляются путем наблюдения и воздействия на физические объекты. Иными словами, согласно данному анализу, основой всех логико-математических форм мышления является деятельность с реальными предметами.
Однако эти действия можно производить в уме, и со временем они становятся интериоризированными (т. е. перешедшими из внешнего во внутренний план). Ребенку больше не нужно прикасаться к предметам, он может просто выполнять все необходимые сравнения, сложение или деление «в уме» и все равно получать правильный ответ. («Если бы мне нужно было добавить к стопке два предмета, то я бы получил...» — думает он.) Более того, эти умственные операции становятся все более уверенными: ребенок уже не просто подозревает, что в результате двух разных способов счета все равно получится десять предметов, а уверен в этом. Эти операции теперь сопровождаются логической необходимостью, поскольку ребенок уже имеет дело с двумя истинными фактами, а не просто с эмпирическими открытиями. Дедукция, тавтология, силлогизмы и т. д. правильны не просто потому, что они подтверждают положение дел в мире, но и потому, что необходимо следовать определенным логическим законам: два ряда предметов содержат одинаковое их количество не потому, что так оказывается по результатам измерений, а скорее потому, что «ты ничего не добавил туда и не забрал, поэтому они должны остаться одинаковыми». И все же в рассматриваемый нами период (примерно в возрасте от семи до десяти лет) эти действия, физические или умственные, остаются привязанными к материальным объектам, которые хотя бы потенциально можно потрогать. Поэтому Пиаже называет такие операции «конкретными».
Прежде чем ребенок перейдет на следующую — а по Пиаже, на последнюю — ступень развития интеллекта, необходимо когнитивное совершенствование. В течение первых лет юности, по крайней мере в западном обществе, изучением которого занимались последователи Пиаже, нормальный ребенок овладевает формальными умственными операциями. Теперь он может работать не только с самими объектами и не только с ментальным образом или моделью этих предметов, но и со словами, символами или цепочками символов (например, уравнения), которые заменяют предметы. Он может выдвинуть ряд гипотез и изучить следствия каждой из них. Если прежде предметы менялись благодаря его действиям, то теперь он меняет последовательность символов с помощью умственных операций. Если раньше ребенок добавлял шарики к каждому ряду и уверенно заявлял, что общее количество осталось неизменным, то сейчас он добавляет символы к каждой части алгебраического уравнения, уверенный, что равенство сохраняется. Эта способность манипулировать символами играет важнейшую роль в разделах высшей математики, где символы заменяют объекты, отношения, функции или другие операции. Символами могут быть и слова, как это бывает в случае с силлогизмами, формированием научной гипотезы или другими формальными процессами.
Если работа с уравнениями знакома каждому, кто помнит математику из курса средней школы, то использование логического мышления в вербальной сфере нужно отличать от риторической речи, о которой мы говорили выше. Конечно, человек умеет делать логические умозаключения, которые не противоречат здравому смыслу. Но теми же правилами рассуждения можно воспользоваться и по отношению к откровенно несоединимым утверждениям. Например, услышав предложение «Если сейчас зима, то меня зовут Фредерик» и зная, что сейчас действительно зима, можно предположить, что человека на самом деле зовут Фредерик. Но это умозаключение в обратном порядке невозможно. Знание того, что человека зовут Фредерик, никак не оправдывает предположения, что сейчас зима. Такой вывод был бы правильным, если бы изначально установка звучала как «Если меня зовут Фредерик, то сейчас зима». Подобные фразы, которые радуют логиков почти так же сильно, как раздражают нас, служат напоминанием, что логические операции можно выполнять (и, как правило, это происходит именно так) независимо от предпосылок здравого смысла, которые существуют в обычном языке. И действительно, только если воспринимать высказывания как элементы или объекты, над которыми можно производить определенные действия (а не смысловые предложения, над которыми необходимо раздумывать), возможно построить правильное умозаключение.
Обратите внимание, что в этих случаях те же операции, которые раньше применялись к объектам, используются теперь по отношению к символам — числам или словам, — заменяющим объекты и события из реальной жизни. Даже трехлетний ребенок может понять, что если нажать на рычаг А, то за этим последует результат Б; однако чтобы осознать такую же взаимосвязь в символической плоскости, необходимо учиться несколько лет. Подобные операции «второго» и «высшего уровня» становятся доступными только по достижении зрелости (а при определенной удаче и соответствующем развитии клеток мозга продолжаются и в последующие возрастные периоды). Иногда они могут быть настолько сложными, что даже высокообразованный человек не в состоянии проследить за всеми процессами в цепочке умозаключений.
Процесс развития, о котором здесь идет речь, — теория Пиаже о переходе от сенсорномоторных действий к конкретным операциям, а затем к формальным — представляет собой самую законченную гипотезу во всей психологии развития. Хотя во многом она не выдерживает критики, но по-прежнему остается единственной теорией, на основании которой оцениваются все остальные выдвигаемые предположения. Я проследил ее развитие по отношению к одной теме — понимание числа и связанных с ним операций, но было бы грубой ошибкой считать, что этот процесс развития ограничен только осознанием чисел. В действительности все как раз наоборот: согласно теории Пиаже, такой же процесс наблюдается во всех сферах развития, относится и к тем категориям, которыми так интересовался Иммануил Кант, — время, пространство и причинность. Фундаментальные этапы развития, предложенные Пиаже, подобны когнитивным волнам, которые спонтанно распространяются по всем важнейшим направлениям познания. Для Пиаже логикоматематическое мышление — это клей, соединяющий все виды познания.
В предыдущих главах я уже говорил о том, в чем принципиально не согласен с Пиаже. На мой взгляд, он создал превосходную картину развития в одной сфере — логико-математической, — но ошибочно предположил, что те же процессы присущи и другим областям, от музыкального до межличностного интеллекта. Значительная часть данной книги посвящена тому, чтобы привлечь внимание к различным точкам зрения, которые высказываются относительно развития различных сфер интеллекта. Но в данной главе с этим расхождением с Пиаже можно смириться: сейчас мы рассматриваем тот вид интеллекта, в котором труды этого ученого по сей день остаются ведущими.
Но и в этом разделе в связи со взглядами Пиаже возникают проблемы. На сегодняшний день собрана масса доказательств, что развитие логико-математического мышления идет менее последовательно, замкнуто и поэтапно, чем это представлял себе Пиаже. Этапы оказываются намного продолжительнее и разнообразнее. Более того, дети проявляют некоторые признаки операционального мышления в намного более раннем возрасте, чем считал Пиаже, но в то же время обладают далеко не совершенным формальнооперациональным мышлением даже при высоком уровне интеллектуального развития. Кроме того, представление Пиаже о высшем операциональном мышлении в основном относится к представителям среднего класса западного общества. Оно мало связано с членами традиционных сообществ или культур, не обладающих письменностью, а помимо этого не объясняет, в каком направлении должна развиваться научная мысль.
Здесь я хочу обратить особое внимание на тот факт, что Пиаже на самом деле сформулировал правильные вопросы и понял решающие моменты относительно главных факторов, которые обуславливают логико-математическое развитие. Он тщательно доискивался истоков логикоматематического интеллекта, изучая действия ребенка над предметами в физическом мире; значение осознания, что такое число; постепенный переход от физической манипуляции с объектами к интериоризированным трансформациям действий; важность отношений между этими действиями; особую природу высших уровней развития, на которых человек начинает работать с гипотетическими высказываниями и исследовать связи и следствия этих умозаключений. Несомненно, сферы чисел, математики, логики и науки не одинаковы, поэтому в данной главе будут изложены различия между этими проявлениями логико-математического интеллекта на основе исследований многих ученых. Но я не сомневаюсь, что в основе этих сфер лежит один вид интеллекта, и ценность работы Пиаже состоит в том, что он выделил некоторые связующие элементы.
Другие ученые, занимающиеся математикой, логикой и другими науками, также находили связь между этими областями знания. Математик Брайан Ротмен говорит, что «вся современная математика принимает как данность и основывается на понятии счета... на смысле, скрытом в последовательности 1, 2, 3». Великий математик XVIII века Леонард Эйлер подчеркивал важность числа как основы математического развития.
Свойства чисел, известные сегодня, в большинстве своем были открыты в ходе наблюдений, причем это случилось задолго до того, как их истинная ценность была доказана наглядными примерами... Мы должны воспользоваться такими открытиями как возможностью тщательнее изучить обнаруженные свойства и доказать или опровергнуть их. В обоих случаях мы можем узнать что-то полезное.
Уиллард Куин, возможно, самый выдающийся логик второй половины XX века, указывает, что логика работает с утверждениями, а математика имеет дело с абстрактными, неязыковыми единицами, но логика в своем «высшем проявлении» естественным путем перерастает в математику. Несомненно, числа составляют лишь небольшую часть математики в ее самом широком понимании: математики больше интересуются общими понятиями, чем отдельными вычислениями, стараясь сформулировать правила, которые можно было бы применить к самым разнообразным задачам. Но, как доказали Уайтхед и Рассел[52], в основе даже самого сложного математического утверждения лежат простые логические свойства — что-то напоминающее интуицию, которая свидетельствует о развитии у ребенка операционального мышления.
Как замечал сам Рассел, у логики и математики разная история, но в последнее время они нашли много точек соприкосновения: «Вследствие этого сейчас совершенно невозможно провести между ними черту, более того, эти две сферы уже стали одной. Они отличаются так же, как мальчик отличается от мужчины: логика — это юность математики, а математика — зрелость логики».
Какими бы ни были взгляды специалистов в этих двух дисциплинах, но с психологической точки зрения, похоже, было бы оправданно говорить о ряде взаимосвязанных способностей. Начиная с наблюдения за объектами в материальном мире, человек переходит ко все более абстрактным формальным системам, отношения между которыми становятся скорее вопросом логики, чем эмпирического наблюдения. Уайтхед сказал кратко: «Когда вы имеете дело с чистой математикой, вы вступаете в сферу полной и абсолютной абстракции»[53]. И действительно, в конечном итоге математики работают в мире выдуманных объектов и понятий, у которых нет прямых соответствий в реальной жизни, а первоочередной интерес логика связан с отношениями между утверждениями, а не с тем, как эти утверждения связаны с миром эмпирических фактов. Именно ученый-естествоиспытатель в первую очередь непосредственно связан с практикой.
Он должен выдвигать утверждения, модели и теории, которые, помимо того, что являются логически обоснованными и поддающимися математической обработке, должны еще и быть неразрывно связаны с фактами, установленными (и которые еще предстоит открыть) о жизни в этом мире. Однако даже эти характеристики должны быть временными. Научная теория часто выживает, даже несмотря на ее очевидное противоречие определенным эмпирическим фактам, а математическая истина может изменяться в связи с новыми открытиями и новыми требованиями, которые возникают перед характеристиками математических систем.
Если результат работы людей, одаренных в отношении лингвистического или музыкального интеллекта, доступен широкой общественности, то в математике наблюдается прямо противоположная ситуация. За исключением нескольких энтузиастов, большинство из нас может лишь издалека восхищаться идеями и трудом математиков. Эндрю Глисон, ведущий математик современности, использует образные обороты речи, чтобы описать такое удручающее положение дел.
Невероятно трудно объяснить неспециалисту истинное положение дел в математике. Топология, наука об организации пространства, похожа на величественные храмы некоторых религий. Иными словами, непосвященные в ее тайны могут любоваться этой красотой лишь снаружи.
Майкл Полани, известный ученый и философ, признавался, что ему самому недоставало необходимых интеллектуальных навыков, чтобы овладеть многими аспектами современной математики, которые другим специалистам, посвященным в тонкости этой науки, показались бы относительно банальными (как любят говорить сами математики). Понять, что требуется для математического мышления, можно, рассмотрев трудности расшифровки одного высказывания.
Невозможно доказать утверждение, которое было получено путем замены переменной — т. е. названия формы рассматриваемого утверждения — в форме этого высказывания: «Невозможно доказать утверждение, полученное путем замены в нем названия формы высказывания, которое находится под рассмотрением».
Как говорит Полани, для того чтобы понять это высказывание, необходимо перевести его в последовательность символов, а затем произвести над ними определенные действия. Ясно, что для понимания последовательности подобных символов требуется нечто большее, чем простое владение правилами лингвистического синтаксиса и семантики (хотя нужно особо отметить, что такие знания являются необходимой основой для «решения» подобного утверждения).
Чтобы глубже изучить мыслительный процесс математика, для меня (как и для многих других) особенно полезными были размышления Анри Пуанкаре[54], одного из ведущих мировых математиков начала XX века. Пуанкаре затронул любопытную проблему: почему вообще возникают трудности с пониманием математики, если математик применяет лишь правила логики, которые, как предполагается, понятны любому нормальному человеку? Чтобы найти ответ, он просит нас представить длинную цепочку силлогизмов, в которой вывод одного служит условием для следующего. Поскольку между тем, как мы узнаем вывод первого силлогизма и воспринимаем его в качестве условия для следующего, проходит некоторое время, то существует вероятность, что несколько звеньев цепи будут утрачены — мы либо забудем условие, либо неосознанно в чем-то его изменим.
Если бы такая способность помнить и применять условие была неотъемлемой составляющей математического интеллекта, тогда (как считает Пуанкаре) математику потребовалась бы очень хорошая память или необычная способность концентрировать внимание. Но многие талантливые математики не отличаются ни мнемоническими задатками, ни хорошим вниманием, а большое количество людей с хорошей памятью и превосходной способностью сосредотачиваться не обладают никакой склонностью к математике. Причина, почему память не подводит математика при построении сложных умозаключений, по мнению Пуанкаре, заключается в том, что она управляется рассуждениями.
Математическое построение — это не только сопоставление силлогизмов. В данном случае эти силлогизмы располагаются в определенной последовательности, и порядок их расположения намного важнее, чем сами элементы. Если по отношению к этому построению у меня возникают особые чувства так сказать, интуиция, которая позволяет одним взглядом охватить всю це почку рассуждений, то мне больше не нужно бояться, как бы не забыть какой-либо элемент, ведь у каждого из них есть свое, установленное место в системе для запоминания которого мне не приходится прилагать никаких усилий.
А. Пуанкаре выделяет два вида способностей. Один из них — запоминание последовательных этапов в цепочке рассуждений, которого может быть достаточно и для удержания в памяти некоторых доказательств. Вторая способность — на его взгляд, намного более значимая — это понимание природы связей между умозаключениями. Если такое понимание присутствует, то подробности этапов построения доказательств уже не играют большой роли, потому что при необходимости их можно восстановить или даже создать заново. Применение такой способности на практике можно наблюдать, просто попытавшись воссоздать размышления самого Пуанкаре, как это было изложено выше. Если осознается суть доказательства, то его восстановление оказывается довольно простой задачей. Но когда человек не понял ход умозаключений, ему приходится полагаться на свою вербальную память, которая если и спасет его в данных обстоятельствах, вряд ли окажется очень устойчивой в будущем.
Хотя умственные способности, важные для любой деятельности, распределены среди населения неравномерно, можно назвать лишь несколько сфер, где совершенное владение этими навыками очевидно, а врожденный дар играет большую роль. Как говорит Пуанкаре, способность следовать цепочке умозаключений не так уж и уникальна, а вот умение делать значительные открытия в математике встречается намного реже.
Любой человек в состоянии создавать новые комбинации математических единиц... Но делать открытие означает создание не бесполезных комбинаций, а тех, которые имеют смысл и не очень распространены: открытие — это распознание, выбор... Среди выбранных комбинаций самыми плодотворными будут те, которые состоят из элементов, взятых из не связанных между собой плоскостей.
Очень мало найдется тех, кто способен стать значительным математиком. Не существует исключительно талантливых математиков. В каждом поколении есть всего несколько одаренных представителей, но математика просто не заметит отсутствия всех остальных. Люди, обладающие настоящим даром, проявляют себя буквально сразу же, и (по сравнению с другими дисциплинами) здесь очень мало энергии расходуется на ревность, горечь или обиду, ведь талант одаренных в математике людей не вызывает сомнений.
Каковы же отличительные черты таких людей? По словам Адлера, способности математика редко выходят за пределы этой области знания. Математики почти не бывают талантливыми финансистами или юристами. Что отличает такого человека, так это любовь к абстракции, «к исследованию сложных проблем под давлением мощных внешних сил, ведь за результаты своего труда ученый в конечном итоге отвечает перед реальной жизнью». Математик должен быть беззаветно предан своему делу и обладать развитым скептицизмом: он не должен принимать на веру ни один факт, если тот не был убедительно доказан в ходе рассуждений, которые основываются на предварительно принятых универсальных принципах. Математика предоставляет ученому большую свободу для рассуждений — можно создать любую систему по своему желанию, но в конце концов любая математическая теория должна соответствовать законам физической реальности либо явно, либо через связь с основными принципами науки, которые в свою очередь напрямую соотносятся с материальным миром. Математика поддерживает и толкает вперед вера в то, что он может добиться совершенно нового результата, который навсегда изменит представление окружающих о математическом порядке: «Абсолютно новая математическая доктрина — это триумф, в котором чувствуется намек на бессмертие». Высказывания Адлера сходны с мыслями, которыми делился признанный математик старшего поколения Г. X. Харди.
Не вызывает сомнений тот факт, что математический дар — это один из самых специфических талантов, а математики как класс не слишком почитаются за их общие способности или многосторонность... Если человека можно в определенном смысле назвать настоящим математиком, то существует вероятность сто к одному, что в математике он окажется намного лучше, чем в любом другом виде деятельности... Он совершил бы глупость, если бы не воспользовался любым подходящим случаем развивать свой талант, а предпочел все время показывать средние результаты в иных сферах.
Подобно художнику или поэту, математик создает узоры, но их отличительная особенность состоит в том, что эти узоры более долговечны, ведь они состоят из идей: «У математика нет никакого материала для работы, поэтому его модели, скорее всего, будут долговечнее, поскольку идеи исчезают не так легко, как слова», — замечает Харди.
Вполне возможно, что основная и незаменимая составляющая математического дара — это способность мастерски управляться с длинными цепочками умозаключений. Если бы биолог задумал изучить процесс движения у амебы, а затем применить эти сведения ко всем более совершенным уровням животного царства, заканчивая теорией о принципах ходьбы у человека, мы сочли бы такого ученого эксцентричным. Но, как заметил Эндрю Глисон, математик постоянно занимается именно этим. В очень запутанном контексте он применяет теории, возникшие на основе очень простых, и считает, что полученные результаты будут истинными не только в общих чертах, но и в мельчайших деталях. Первоначально такой процесс развития умозаключений может быть интуитивным. Многие математики говорят, что чувствуют решение или направление мысли задолго до того, как закончили тщательную проработку каждого этапа. Станислав Улам, современный математик, признается: «Если ты хочешь сделать что-то оригинальное, то речь уже идет не о цепочке силлогизмов. Иногда в подсознании появляются ощущения, которые как бы суммируют или подталкивают дальнейшее развитие проводимых поисков, при этом, вероятно, многие участки мозга действуют симультанно (т. е. одновременно. — Примеч. ред.)». Пуанкаре говорит о математиках, которые «руководствуются своей интуицией и при первом же намеке делают быстрые, иногда случайные выводы, подобно стремительному продвижению кавалерии в авангарде». Но для того чтобы математическая теория показалась убедительной и для остальных, ее необходимо тщательно проработать, устранить малейшие неточности в определениях или в цепочке умозаключений, и этот аполлонический[55] аспект остается жизненно важным для работы математика. Более того, как ошибки упущения (например, пропущенный этап рассуждений), так и ошибки добавления (выдвижение ненужных предположений) могут свести к нулю всю ценность математического открытия.
Развитие отрасли науки — в данном случае математики — начинается, когда находки нового поколения добавляются к тем, что были сделаны предыдущим. В прошлом образованный человек мог проследить за ходом математической мысли вплоть до ее современного состояния. Однако теперь, по крайней мере последнее столетие, это уже невозможно. (Примечательно, что хотя культурные сферы, которые стимулируют развитие разных видов интеллекта, продолжают совершенствоваться, ни одна из них не движется вперед столь таинственно, как логико-математическая мысль.) Более того, напоминая развитие человека, о котором я уже говорил, математика с годами становится все более абстрактной.
Альфред Адлер прослеживает этот путь. Первая абстракция — это идея числа как такового, а также идея того, что с его помощью становится возможным отличать друг от друга различные величины. Этот шаг был сделан в каждой культуре. Затем следует создание алгебры, в которой числа рассматриваются как система и можно вводить переменные вместо определенных чисел. Переменные, в свою очередь, — это просто отдельные случаи более обобщенной сферы — области математических функций, где одна переменная находится в систематическом соотношении с другой. Эти функции не ограничиваются реальными понятиями, такими как длина или ширина, а могут придавать особое значение другим функциям, функциям функций или более длинным цепочкам последовательностей.
Другими словами, как отмечает Адлер, абстрагируясь и сначала обобщая понятие числа, затем понятие переменной и, наконец, понятие функции, можно подняться на чрезвычайно абстрактный и общий уровень мышления. Естественно, с каждым шагом вверх по лестнице абстракции некоторые будут сталкиваться со все большими трудностями, слишком болезненными или недостаточно оправданными, поэтому «сойдут с дистанции». Следует также упомянуть, что в математике существует и заметная тенденция находить простые выражения и возвращаться к фундаментальному понятию числа. Поэтому в данной отрасли науки найдется место и для тех, кто не слишком способен следовать длинной цепочке умозаключений или чересчур абстрактным методам анализа.
Решиться стать математиком непросто. Неудивительно потому, что для стороннего наблюдателя может показаться, что математиками становятся благодаря врожденному дару работать с числами и страстью к абстракции. Мир математиков отличается от мира обычных людей, и чтобы выжить в нем, нужно быть настоящим отшельником. Умение в течение многих часов направлять энергию на решение, казалось бы, неразрешимых проблем является нормой, поэтому нельзя допустить, чтобы повседневное общение с окружающими отвлекало ваше внимание. Речь тоже оказывается не слишком полезной. Человек остается один на один с карандашом и бумагой, вооружившись лишь своим разумом. Приходится напряженно думать, поэтому человек часто страдает от чрезмерной усталости и даже нервных срывов. Но в математике можно найти и защиту от беспокойства. Станислав Улам высказывает предположение: «Математик находит себе монастырскую келью и счастье в ней, занимаясь поисками, не связанными с повседневной жизнью. Не испытывая удовольствия от жизни в реальном мире, математик находит в науке успокоение».
Если изоляция достаточно строгая, а концентрация внимания требует больших усилий, то результаты труда кажутся действительно потрясающими. Математики, рассказывающие о своих чувствах во время решения сложной задачи, часто говорят о приятном возбуждении, которое охватывает их в момент открытия. Иногда первой проявляется интуиция, и тогда действительно нужно разобраться в подробностях решения. В другой раз решение становится возможным в ходе продуманной поэтапной работы. И изредка интуиция и дисциплина включаются одновременно и действуют слаженно. Но каким бы ни был стиль работы ученого, решение сложной и важной задачи — а именно на такие проблемы математики готовы тратить свою энергию (или же в стремлении доказать, что проблему невозможно решить в принципе) — приводит человека в особое восторженное состояние.
Но что именно радует математика? Один очевидный источник радости — это решение проблемы, которая давно считалась неразрешимой. Создание новой отрасли математики, открытие элемента, который относится к фундаментальным, или обнаружение связи между явно несвязанными областями — все это тоже вызывает у ученого чувство особой гордости.
Более того, способность не просто заметить аналогию, но увидеть аналогию между разными видами подобий, — вот источник настоящего восторга для математика. Похоже, что, работая с компонентами, которые противоречат интуиции, ученые тоже ощущают удовлетворение. Путешествуя в царстве воображаемых и иррациональных чисел, парадоксов, возможных и невозможных миров, каждый из которых обладает своими характеристиками, можно испытать непередаваемую радость. Вероятно, не случайно один из выдающихся изобретателей мира, противоречащего действительности, Льюис Кэрролл, был к тому же первоклассным логиком и математиком.
Порода математиков во многом отличается от других людей, поэтому ее представители склонны держаться вместе. Однако в пределах самой этой дисциплины люди часто возражают друг другу. Скорость и сила абстрагирования являются надежным средством для классификации, и вполне вероятно, именно эти качества оказываются решающими. Парадоксально, что в математике до сих пор не учреждена Нобелевская премия, ведь это, возможно, единственный вид человеческого интеллекта, достижение консенсуса в котором относительно личного вклада отдельного ученого было бы всеобщим. Но при обсуждении математического дара часто затрагиваются и другие аспекты. Например, одни ученые склонны намного больше ценить и применять интуицию, а другие признают лишь систематические доказательства.
В наши дни много говорится о величайшем математике прошлого — Джоне фон Неймане. В таких рассуждениях к относительным критериям относят способность определять проблему и устанавливать, имеется ли в ней что-либо интересное для изучения. Помимо этого говорят о мужестве заниматься сложными и на первый взгляд неразрешимыми задачами, а также умении невероятно быстро думать. Говоря о фон Неймане, которого он хорошо знал, Улам замечает следующее.
Как математик фон Нейман был быстрым, выдающимся, умелым человеком, он проявлял интерес к самым разнообразным научным вопросам помимо математики. Он знал о своих технических способностях; у него была виртуозная способность следить за сложными умозаключениями и делать правильные выводы, и тем не менее ему не хватало уверенности в себе. Возможно, он думал, что не может на высшем уровне интуитивно предугадывать выводы или не обладает даром, казалось бы, необъяснимого предвидения доказательств или формулировки новых теорем... Может быть, это обуславливалось тем, что была пара случаев, когда его опережали или даже превосходили другие.
Иными словами, фон Нейман был мастером, но в некотором отношении и рабом своих технических способностей. Подробнее узнать об умениях фон Неймана можно из воспоминаний Джейкоба Броновски, который тоже профессионально занимался математикой. Фон Нейман пытался объяснить ему один момент, который Броновски не мог понять.
Ну нет [сказал фон Нейман], вы не понимаете. Для того чтобы разобраться с этим, ваш способ визуализации не подходит. Подумайте о проблеме абстрактно. Что происходит на этой фотографии взрыва? Первый дифференциальный коэффициент исчезает так же, вот почему проявляется второй дифференциальный коэффициент.
Инженер Джулиан Бигелоу вспоминает.
Фон Нейман — фантастический теоретик... Он мог записать задачу, услышав ее всего один раз, причем обозначения полностью подходили к ситуации... Он очень старался, чтобы то, что он говорит или пишет, правильно отражало его мысль.
По словам историка математики Стива Хаймса, такая способность выбирать правильные обозначения для записи проблемы говорит о том, что независимо от сути задачи фон Нейман сразу же схватывал форму. Тем самым он демонстрировал коллегам свою интуицию, в наличие которой у себя сам не верил. Один из ученых сказал: «Он лучше кого бы то ни было мог сразу же понять, о чем идет речь, и объяснял, как доказать теорему или заменить ее более подходящей».
С. Улам сравнивает себя с другими математиками, в том числе и с фон Нейманом.
Что касается меня, то я не могу сказать, что хорошо разбираюсь в технических аспектах математики. Скорее всего, у меня есть чувство сути или намек на него в нескольких математических областях. Можно иметь такую способность угадывать или чувствовать, что будет новым, уже известным или чего еще нет в разных сферах математики, которые тебе не известны досконально. Я думаю, у меня есть такая способность, и я часто могу сказать, известна эта теорема, т. е. уже доказана, или содержит новые, неизученные пока аспекты.
С. Улам делает интересный комментарий относительно такого умения и музыкального дара.
Я запоминаю звуки и могу правильно насвистывать разные мелодии. Но если я пробую сочинить какой-то новый мотив, то понимаю, что все мои попытки — это всего лишь банальная комбинация того, что я слышал раньше. В математике все совершенно не так — я уверен, что всегда могу предложить что-то новое при первом же толчке.
Кажется очевидным, что для математического таланта требуется способность обнаруживать многообещающую идею и отталкиваться от нее в своих рассуждениях. Улам легко может справиться с этим заданием в математике, но не обладает подобными способностями в музыке. С другой стороны, Артур Рубинштейн, о котором мы говорили в предыдущей главе, заявляет; для него математика — это нечто «невозможное».
В основе математических способностей лежит способность распознавать значимую проблему и решать ее. Но вот то, что касается предпосылок такого умения для математиков, представляет собой большой вопрос. Суть открытия остается загадкой, хотя (как и в музыке) ясно, что некоторые технически одаренные люди сразу же чувствуют открытие, а другие, наделенные равными (или даже большими) техническими навыками, не обладают такой способностью. Как бы там ни было, методам решения задач посвящена масса литературы. Математики разработали несколько эвристических способов, которые помогают решать задачи, а в процесс подготовки математиков часто входит знакомство с этой техникой и передача ее последующим поколениям. Многое можно почерпнуть из работ ученых, занимающихся решением математических задач, например Джорджа Полна, Герберта Саймона и Алена Ньюэлла. Математикам советуют пользоваться обобщением — переходить от условия конкретной задачи к более широкому ряду объектов, к которым она относится. И наоборот, они должны прибегать к конкретизации, т. е. переходить от данной группы объектов к более узкому ряду, находить аналогии, тем самым обнаруживая проблему или ситуацию, которая во многом похожа (или отличается) от рассматриваемой.
Часто говорят и о других методах. Математику, столкнувшемуся со слишком сложной проблемой, которая не поддается решению, советуют выделить в ней более простую задачу, найти решение, а затем отталкиваться от него. Можно также предложить возможное решение и идти от него назад к условию задачи, или же описать характеристики, которыми решение должно обладать, после чего попытаться найти их у него. Еще один распространенный метод — доказательство от противного: устанавливается утверждение, противоположное тому, что требуется доказать, и исследуются следствия из него. В некоторых разделах математики существует и более специфичная эвристика. Конечно, поскольку найти решение самых интересных задач труднее всего, то математик, умеющий пользоваться этими методами, обладает неоспоримыми преимуществами перед другими. Возможно, способность к овладению такими эвристическими методами и применению их, в дополнение к чисто логическим рассуждениям и пониманию того, что должно сработать, помогает определить «зону ближайшего развития» талантливого математика.
Хотя многие математики высоко ценят свою интуицию, они активно пользуются и описанными выше способами решения задач. Именно на них полагаются, когда вдохновение или интуиция вдруг подводит. Но подобные методы не являются прерогативой математики. Они так же полезны и для тех, кто решает проблемы в других сферах жизни, и помогают привязать интересы этого странного субъекта — математика — к потребностям окружающих. Особенно они могут пригодиться ученому-естествоиспытателю, который тоже должен формулировать, а затем самым эффективным способом решать различные проблемы.
Конечно, у естественных наук и математики много общего. Развитие — даже зарождение — той или иной науки в определенную историческую эпоху было связано с математикой, а каждое значительное математическое открытие оказывалось полезным с научной точки зрения. Приведу всего несколько примеров: изучение греками в 200 году до н. э. сечения конуса помогло Иоганну Кеплеру в 1609 году сформулировать законы движения планет. В недавнем прошлом теория интегральных уравнений, которую выдвинул Дэвид Гилберт, стала необходима для квантовой механики, а дифференциальная геометрия Георга Фридриха Римана послужила основой для развития теории относительности. И действительно, выдающийся прогресс западной науки, начавшийся с XVII века, во многом зависел от разработки дифференциального и интегрального исчисления. Химия и физика занимаются объяснением изменений — развитием физических систем, — а не описанием состояния покоя. Без исчисления работать с такими изменениями было бы весьма сложно, поскольку в таком случае приходилось бы рассчитывать очень маленькие этапы процесса. Но благодаря исчислению можно установить, как изменение одного количества влияет на другое, связанное с ним. Именно поэтому Ньютон, один из создателей исчисления, имел возможность изучать движение планет.
Математика необходима ученому-естествоиспытателю, поскольку «сырые» факты чрезвычайно громоздки, и поэтому упорядоченная схема абстрактных взаимоотношений, которую он может разработать с помощью математики, является основным средством разобраться в этом хаосе.
И все же основа той или иной естественной науки (например, физики) и математика значительно отличаются друг от друга. Если математик интересуется изучением абстрактных систем ради них самих, то ученым-естествоиспытателем движет желание объяснить физическую реальность. Для него математика — это лишь инструмент, хотя и незаменимый, для построения моделей и теорий, которые могут описать, а значит, и объяснить существование мира, будь то мира материальных объектов (физика и химия), живых существ (биология), людей (социальные и поведенческие науки) или человеческого разума (когнитивистика).
Во времена античности наука была тесно связана с философией (из которой она и черпала свои темы) и математикой (методы которой часто применялись при попытках разрешить отдельные вопросы). Со временем, однако, интересы науки стали приобретать все большую независимость, хотя она по-прежнему пересекалась с философией и математикой. К факторам, сыгравшим важную роль в становлении науки как отдельной (а в наши дни и все более дифференцирующейся) дисциплины, относятся: ее отделение от политики и теологии; возрастающий интерес к эмпирическим наблюдениям, измерениям и экспериментам, целью которых было проверить ту или иную модель или теорию относительно другой; распространение научных трудов, в которых подробно излагаются предположения и доказательства, что дает другим ученым возможность повторить исследования, подвергнуть их критике и провести собственные эксперименты, стараясь подтвердить, переформулировать или опровергнуть научные догмы своего времени.
Как много лет назад заметил Ж. Пиаже, эволюция науки в данном случае имеет много схожего с развитием у детей логикоматематического мышления. В обоих случаях прежде всего выделяются простые эксперименты с объектами, понимание моделей их взаимодействия и функционирования. Практика проведения тщательных измерений, выдвижения предположений о принципах работы Вселенной и систематическая проверка этих утверждений начинается на более позднем этапе эволюции человека, а также в сравнительно поздний момент развития научной мысли.
С момента становления современной науки также можно выделить несколько этапов. Во-первых, в начале XVII века Фрэнсис Бэкон подчеркивал важность систематического накопления фактов. Но, учитывая его неосведомленность в математике и неумение ставить содержательные вопросы, вклад Бэкона остается скорее теоретическим, нежели весомым. Вскоре после него Галилео Галилей начал внедрять математику в научную деятельность. Он не соглашался просто записывать цвета, вкусы, звуки и запахи, а утверждал, что этих элементов не существовало бы, если бы человеку не посчастливилось родиться с определенными органами чувств. Но даже внедрение Галилеем измерительной техники в арсенал науки не удовлетворяло растущие потребности нашего времени. Решить эту задачу выпало Исааку Ньютону, выдающемуся мыслителю, который провел подробное изучение находок в физике и, применив как анализ, так и синтез, сложил разрозненные детали в единую систему. Как сказал историк науки Герберт Баттерфилд, «один молодой человек, досконально изучивший достижения науки, благодаря своему гибкому уму с помощью нескольких подсказок интуиции смог сложить элементы в правильную систему». Способом, который порадовал бы последователей Пиаже, Ньютон сформулировал абсолютную структуру времени и пространства, в пределах которой физические события происходят согласно нескольким непогрешимым законам.
Хотя один и тот же человек может обладать как математическим, так и естественнонаучным даром (например, Ньютон), мотивы, скрывающиеся за интересами ученого-естествоиспытателя, мало похожи на те, что движут математиком. Похоже, Ньютона-естествоиспытателя подталкивало, в первую очередь, желание разгадать секреты или единственный секрет природы. Ньютон и сам понимал, что объяснить всю природу слишком сложно, но все же пояснил, как он понимает задачу исследователя.
Я не знаю, кем меня считает мир, но самому себе я кажусь всего лишь мальчиком, который играет на берегу моря и вдруг находит камешек или ракушку, красивее и лучше, чем обычно. При этом передо мной простирается безбрежный, неизведанный океан истины.
Джейкоб Броновски так говорит об удовольствии, которое охватывает ученого в момент открытия.
Когда внезапно все складывается именно так, то ты, как Пифагор, понимаешь, что секрет Природы находится у тебя на ладони. Законы Вселенной управляют величественным часовым механизмом неба, в котором движение Луны — всего лишь один элемент гармонии. Это ключ, который ты уже вставил в замочную скважину и сделал поворот, а природа раскрыла тебе свои разнообразные тайны.
Именно желание объяснить природу, а не создать законченный абстрактный мир, является «яблоком раздора» между учеными-естествоиспытателями и математиками. Математик может обвинять ученого-естествоиспытателя в излишней практичности и недостаточной заинтересованности в идеях как таковых. Ученый-естествоиспытатель в свою очередь может считать, что математик не осознает действительности и интересуется лишь идеями, даже если они ни к чему не ведут, т. е. не имеют практической ценности. Помимо таких предрассудков относительно «идеального или реального», таланты, особо почитаемые этими дисциплинами, тоже различны. Для математика важнее всего замечать варианты в любых ситуациях, уметь следовать цепочке своих рассуждений в любом направлении, куда бы они ни завели. Для ученого-естествоиспытателя необходимо твердо стоять на ногах и постоянно помнить о последствиях, которые абстрактная идея может иметь в физическом мире, чего не требуется от математика. Альберт Эйнштейн, который занимался обеими областями знаний, сказал: «Истину в физических вопросах никогда нельзя найти с помощью только математических или логических размышлений». А вот что он говорил о том, как выбирал профессию.
Конечно, то, что я в определенной степени пренебрег математикой, имеет свое основание. Причина не только в том, что меня больше интересовала наука, чем математика, но и вот в каком странном случае. Я понял, что математика делится на множество разрозненных отраслей, каждой из которых можно посвятить всю свою короткую жизнь. Конечно же, это объяснялось тем, что в сфере математики у меня была недостаточно развита интуиция... А вот в физике я скоро научился чувствовать, что может привести к истине, и отбрасывать все лишнее, что занимает разум и отвлекает его от сути.
Но какова же природа интуиции, свойственная выдающимся ученым такого калибра, как Ньютон или Эйнштейн? Начав со всепоглощающего интереса к физическим объектам и их функционированию, эти люди в конечном итоге начинают искать свод законов или принципов, которые могли бы объяснить поведение объектов. Самый значительный прогресс достигается тогда, когда соединяются разрозненные элементы, а простые правила могут объяснить увиденные взаимосвязи. Допуская, что эта способность отличается от аналогичного умения математика, Улам признает, что последнему трудно понять, что значит подсказка интуиции относительно какого-либо физического явления; он предполагает, что лишь немногие математики ощущают нечто подобное. Вернер Гейзенберг, в 32 года получивший Нобелевскую премию по физике (1932)[56], рассказывает об интуиции своего наставника Нильса Бора и о том, как она часто предвосхищала то, что было впоследствии доказано.
Бор, несомненно, знает, что отталкивается от противоречивого предположения, которое в своей нынешней форме не может быть истинным. Но он обладает непогрешимым инстинктом, помогающим использовать эти самые предположения и создавать на их основе убедительные модели атомных процессов. Бор использует классическую механику или квантовую теорию так же, как художник пользуется кистью и красками. Кисти не определяют картину, а цвет сам по себе не передает всей полноты ощущений, но если живописец мысленно видит свою картину то с помощью кисти может более или менее точно представить ее окружающим. Бор точно знает, как ведут себя атомы во время световой эмиссии, в химических процессах и во множестве других ситуаций, и это помогает ему создать интуитивную картину структуры разных атомов: совсем не обязательно, что сам Бор убежден, будто внутри атома движутся электроны. Но он уверен в истинности своей картины. Тот факт, что он не может адекватно описать ее лингвистическими или математическими средствами, — настоящая катастрофа. Но, с другой стороны, это и дерзкий вызов.
Подобная вера в силу интуиции в отношении истинной природы физической действительности часто встречается в воспоминаниях физиков. Говоря об Эйнштейне, Гейзенберг однажды заметил следующее.
Я, как и вы, думаю, что у простоты законов природы есть объективное обоснование, их нельзя назвать результатом экономии мысли. Если природа приводит нас к очень простым и красивым математическим формам — под формой я понимаю связную систему гипотез, действий и т. п. — к формам, никем прежде не замеченным, то нам лишь остается думать, что они «истинны» и раскрывают настоящие свойства природы... Но один тот факт, что мы никогда не пришли бы к этим формам самостоятельно, что они были скрыты от нас природой, говорит о том, что они сами по себе являются частью действительности, а не просто нашими размышлениями о ней... Меня очень привлекает простота и красота математических построений, в виде которых предстает природа. Вы тоже должны это ощутить: пугающую простоту и целостность взаимосвязей, которые нам внезапно раскрывает природа и к которым никто из нас совершенно не был готов.
На долю величайших исследователей выпало ставить перед собой вопросы, над которыми раньше никто не задумывался, а затем находить ответ, навсегда меняющий представление ученых (а в конечном итоге и неспециалистов) о Вселенной. Гений Эйнштейна заключается в том, что ученый постоянно сомневался в абсолютности времени и пространства. Еще подростком Эйнштейн задумывался над тем, какой была бы жизнь, если бы мы действовали с точки зрения света или, вернее, если бы могли двигаться на световом луче. Предположим, говорил он, мы смотрим на часы, но удаляемся от них со скоростью света. В таком случае время на часах застынет, потому что новый час всегда будет отставать от нас. Для светового луча время на часах останется неизменным.
Эйнштейн пришел к мысли, что, приближаясь к скорости света, можно все больше изолироваться в своем участке времени и пространства, а значит, все сильнее уходить от законов окружающего мира. Больше не существует такого понятия, как универсальное время: и действительно, для путешественника на световом луче ощущение времени будет отличаться от того, как его чувствует человек, остающийся дома. Однако все чувства человека на световом луче взаимосвязаны друг с другом: там по-прежнему наблюдаются те же отношения между временем, расстоянием, скоростью, массой и силой, которые описал Ньютон. Точно так же они взаимодействуют и в том месте, где располагаются часы. Просто фактические значения времени, расстояния и т. п. будут отличаться для путешествующего со светом и человека, находящегося поблизости от часов.
На то, чтобы развить эту мысль, дабы подтвердить ее открытиями прошлого (например, с помощью эксперимента Михельсона-Морли, в ходе которого было доказано отсутствие эфира) и гипотетическими опытами будущего, а затем чтобы разработать математическое обоснование теории относительности, Эйнштейну потребовались годы, и это событие является одним из выдающихся в истории нашего времени. Здесь нужно отметить, что оригинальность научной мысли Эйнштейна основывается на смелом определении проблемы, на постоянстве ее исследования со всеми ее тайнами и сложностями, а также на способности понять ее связь с основными вопросами природы и структуры Вселенной. Эйнштейну нужна была храбрость, чтобы самостоятельно в течение многих лет развивать свою теорию, несмотря на то, что в ней не было конвенциальной[57] мудрости, а также для того, чтобы не сомневаться, что окончательный результат действительно будет проще, доступнее и достовернее (а поэтому «правдивее»), чем всемирно признанный синтез Ньютона, который был осуществлен за два века до этого.
Как убедительно доказывал физик Джеральд Холтон, для подобной программы требуется нечто большее, чем просто технические способности, острый математический ум и наблюдательность, хотя каждая из этих характеристик, по-видимому, выступает необходимым условием. Ученые руководствуются также ключевой темой — убеждениями о том, как функционирует Вселенная и как лучше всего было бы изложить ее основные принципы. В случае с Эйнштейном именно эта убежденность, что должно существовать несколько простых законов, что они должны объединять различные явления и в этих законах не будет ничего случайного или неопределенного, является неотъемлемой частью его профессионального кодекса. Говорят, Эйнштейн заметил: «Бог не упустил бы возможности создать природу такой простой». Подобные понятия иногда могут вызвать больше дискуссий, чем объективные факты и цифры, с которыми, как правило, работают ученые. Холтон сказал: «Осознание понятий, которым иногда хранят слепую верность, может объяснить суть противоречий между соперниками намного лучше, чем это по силам научному контексту и окружению».
Обсуждение ключевой темы, положенной в основу системы какого-либо ученого, выдвигает на передний план загадочный, но очень важный аспект научной деятельности. Хотя в наше время образ ученого предполагает наличие дисциплинированности, систематичности и объективности, похоже, что в конечном итоге наука сама по себе является религией, представляет собой ряд верований, которых ученые придерживаются с убежденностью фанатика. Ученые не только искренне верят в свои методы и темы, но многие к тому же считают, что в их миссию входит использовать эти инструменты для объяснения всех тех сфер окружающей действительности, которые окажутся им по плечу. Такая убежденность, вероятно, и есть причина того, что великие ученые, как правило, интересовались глобальными вопросами, а в последние годы жизни часто были склонны к философским размышлениям, например, о природе действительности или о смысле жизни. Даже Ньютон, как было недавно установлено, многие годы жизни посвятил изучению различных аспектов мистики, метафизики и космологии, а также высказывал взгляды, которые мы сегодня сочли бы, по крайней мере, средневековыми, если не сказать странными. Как мне кажется, его интерес во многом объяснялся тем же желанием разъяснить устройство мира, которое в более сдержанном и дисциплинированном виде присуще физике. Фрэнк Мануэль, комментатор работ Ньютона, сказал по этому поводу следующее.
Высказывания Ньютона об основополагающих принципах религии, его толкования пророчеств, критические отзывы об исторических словах Писания, его система хронологии мира, космологические теории и интерес к языческой мифологии — все это говорит об одинаковом менталитете и стиле мышления. Как Природа находилась в согласии сама с собой, то же можно было сказать и о разуме Исаака Ньютона. На пике его возможностей в нем проявилось страстное желание обнаружить порядок и систему в том, что казалось хаосом, выделить из огромной беспорядочной массы материалов несколько основных принципов, которые охватили бы все и объяснили бы связь между составными элементами... В каком бы направлении он ни двигался, он всегда искал единую структуру.
В данном случае, без сомнения, мы видим отличия от сферы интересов большинства математиков, которые стремятся поскорее отвернуться от действительности и не пытаются охватить всю ее сложность и беспорядочность в своих уравнениях. Подобная страсть к единой унифицирующей системе может служить разделительной чертой между физическими науками и другими дисциплинами. Если ученые, занимающиеся другими отраслями науки, стремятся объяснить действительность — будь то биология, социология или когнитивистика, — то не вызывает сомнения, что они не испытывают желания искать всеобщие объяснения или смысл жизни. И другие люди, наделенные развитыми логико-математическими способностями, — например, шахматисты, — тоже вряд ли будут расходовать свою энергию в поисках ответов на вопросы устройства мира. Возможно, желание раскрывать основные философские секреты существования — это особая отличительная черта, присущая в детстве будущим ученым-физикам.
В возрасте четырех или пяти лет Альберт Эйнштейн получил в подарок магнитный компас. Его заворожила стрелка, далекая и недоступная, но, похоже, оказавшаяся во власти неведомой силы, которая притягивает ее к северу. Стрелка компаса стала откровением, поскольку поколебала уверенность ребенка в простоте устройства физического мира: «Я до сих пор помню — а может быть, всего лишь думаю, что помню, — что этот случай произвел на меня глубокое и неизгладимое впечатление». Слишком рискованным было бы приписывать такое влияние обычному воспоминанию из детства, и Эйнштейн, всегда осторожно относившийся к своим мыслям и словам, заявляет о сомнениях одной лишь фразой — «Я думаю, что помню». И все же стоит сравнить воспоминания Эйнштейна о ключевых переживаниях детства с тем, что рассказывали другие ученые с развитым логико-математическим интеллектом.
Например, уже известный нам математик Станислав Улам говорит, что в детстве его очаровал сложный узор на восточном ковре. Получившаяся картинка, казалось, содержала в себе «мелодию», в которой различные детали были созвучны друг другу. Улам предполагает, что такие паттерны (от англ. pattern — повторяющийся рисунок, узор. — Примеч. ред.) обладают признаками математической последовательности, к которой особенно восприимчивы некоторые дети. Во многом подобная чувствительность может основываться на особого рода острой памяти, с помощью которой ребенок может сравнить данный паттерн — будь то визуальный или числовой — с другими, встреченными в прошлом. В этой связи хочу упомянуть, что, наблюдая за маленькими детьми, мы с коллегами выделили группу малышей, которых особенно привлекают повторяющиеся узоры. Не зная о высказывании Улама, мы назвали этих детей «паттернализаторами» и сравнили их с другой группой детей, предположительно с более развитым лингвистическим интеллектом, которую определили как «драматизаторов». Конечно, мы до сих пор не знаем, действительно ли дети, интересующиеся узорами, «рискуют» стать в будущем математиками.
Что еще привлекает детей, наделенных логико-математическим интеллектом? В детстве Паскаль страстно желал изучать математику, однако ему не позволял отец, который запрещал даже говорить об этой дисциплине.
Но Паскаль начал мечтать об этом предмете. На стенах своей комнаты он делал отметки углем, стараясь найти способ нарисовать идеально круглую окружность или треугольник с равными сторонами и углами. Он самостоятельно обнаружил эти понятия, после чего начал искать существующие между ними связи. Он не знал никаких математических терминов, поэтому изобретал собственные... Пользуясь этими словами, он сформулировал аксиомы, а затем развил превосходные доказательства, пока наконец не дошел до тридцать второй теоремы Евклида.
Бертран Рассел вспоминает следующее.
Я начал изучать Евклида в 11 лет, а моим учителем был брат. Это было одно из главных событий в моей жизни, не менее головокружительное, чем первая любовь. Я и не представлял, что в мире есть что-то настолько увлекательное... С того самого времени и до 38 лет это было моим главным интересом в жизни и основным источником удовольствия... [Математика] не имеет отношения к человеку, к этой планете или вообще к этой случайным образом организованной Вселенной — ведь, как Бог у Спинозы, она не полюбит нас в ответ.
С. Улам предлагает одно возможное объяснение такой страсти. Сначала маленький ребенок выполняет удачные опыты с числами, потом экспериментирует дальше и накапливает собственные знания (и воспоминания) о работе в сфере чисел и символов. Наконец ребенок выходит за пределы собственных исследований (обусловленных его природным математическим любопытством), столкнувшись с задачами, которые интересовали математиков прошлого. Если ему дано многого достичь, то каждый день он должен много часов посвящать размышлениям над этими вопросами. Ведь факт остается фактом — в математике, как ни в какой другой дисциплине, решающими оказываются третье и четвертое десятилетия жизни. Способность удерживать в памяти в течение ограниченного периода времени и использовать в действии все переменные, необходимые для решения определенной математической задачи, — вот то умение, которое по той или иной (возможно, неврологической) причине становится уязвимым уже к тридцати (возможно, к сорока) годам.
Современный американский философ и логик Сол Крипке, которого считают самым талантливым философом своего поколения, делится другими воспоминаниями детства. В три года маленький Сол отправился к маме на кухню и спросил ее, действительно ли Бог находится везде. Услышав в ответ «да», он снова поинтересовался, не вытеснил ли он часть Бога из кухни, когда вошел туда и занял некоторое пространство. Как и положено вундеркинду-математику, Крипке начал самостоятельно и очень быстро осваивать эту науку и к четвертому классу дошел до алгебры. Например, он обнаружил, что при умножении суммы двух чисел на разницу между ними ответ получается таким же, как при вычитании квадрата меньшего числа из квадрата большего. Как только он понял, что это правило можно применить к любым числам, то осознал основы алгебры. Крипке однажды сказал матери, что он сам изобрел бы алгебру, если бы до этого она еще не была изобретена, поскольку дошел до нее столь естественным путем. Такая способность определять сферу интересов присуща всем вундеркиндам-математикам. Великий Декарт сказал: «В молодости, когда я слышал о гениальных изобретениях, то пытался повторить их самостоятельно, даже не читая ничего из трудов автора».
Эти биографические заметки подтверждают, что талант в логико-математической сфере проявляется очень рано. Изначально человек может быстро продвигаться вперед самостоятельно, как бы отдельно от личного опыта. Возможно, люди с таким даром могут по воле случая склониться к математике, логике или физике. Лично я думаю, что в ходе тщательного исследования можно обнаружить различные признаки раннего опыта: физик, возможно, особенно интересуется физическими объектами и их взаимодействием; математик может увлечься моделями как таковыми; философ почувствует интерес к парадоксам, вопросам о сути сущего и отношениям между различными предположениями. Конечно, вопрос, случайна ли подобная склонность или каждый человек тяготеет к тем объектам либо элементам, к которым у него есть врожденная склонность, остается загадкой, разгадать которую я предоставляю тому, кто наделен более острым логико-математическим интеллектом.
Каковы бы ни были причины столь раннего развития этого дара, важно то, что человек с развитым логико-математическим интеллектом быстро совершенствуется в этой сфере. Как мы уже видели, лучшие годы для оттачивания способностей такого рода — период около 40, возможно, около 30 лет. И хотя эффективная работа может продолжаться и после этого возраста, такие примеры относительно редки. Г. X. Харди говорит: «Я пишу о математике, потому что как и любой математик, доживший до шестидесяти лет, уже не обладаю той свежестью ума, энергией или терпением, которые необходимы, чтобы и дальше плодотворно трудиться на этом поприще». Изидор Айзек Раби, нобелевский лауреат по физике (1944)[58], замечает, что в этой области лидируют молодые люди, потому что у них еще есть нерастраченная физическая энергия. На вопрос, в каком возрасте способности физика притупляются, он отвечает так.
Это во многом зависит от человека... Я видел, как люди истощались в 30, в 40, 50 лет. Думаю, это определяется физиологией или особенностями нервной системы. Мозг больше не может работать с былой свежестью и остротой. Информация со всеми взаимосвязями как бы упускается из виду. Я знаю, что когда мне еще не было 20 лет, то весь мир казался мне фейерверком — непрекращающиеся салюты... Со временем такие ощущения уходят... Физика — это своего рода потусторонний предмет, для нее необходим вкус к невидимому, даже неслыханному, т. е. высшая степень абстракции... По мере взросления эти способности отмирают... Искреннее любопытство свойственно лишь детям. Мне кажется, что физики — это Питеры Пены человечества... Как только ты достигаешь зрелости, то знаешь уже слишком много. [Вольфганг] Паули однажды сказал мне: «Я очень много знаю. Я знаю слишком много. Я древний квант».
В математике ситуация, похоже, еще сложнее. Альфред Адлер говорит, что к 25 или 30 годам основная работа ученого уже закончена. Если к этому времени сделано мало, то еще меньше будет выполнено в будущем. С каждым десятилетием жизни продуктивность работы снижается, и то, что учитель понимает с трудом, его ученики схватывают на лету. Это приводит к тому, что даже величайшие математики, подобно молодым пловцам или бегунам, обречены провести большую часть своей сознательной жизни, осознавая, что уже пережили расцвет. Подобное не встречается во многих отраслях гуманитарных наук, где основные труды, как правило, появляются на пятом, шестом, а то и седьмом десятке жизни.
Как мы уже видели, способность быстро производить вычисления — это в лучшем случае случайное преимущество математика. Она, конечно же, не является основной составляющей его таланта, поскольку этот дар должен иметь более общую и абстрактную природу. Но все же существуют избранные, которые умеют невероятно хорошо считать, и в них можно заметить разновидность логико-математического интеллекта, которая действует относительно автономно.
Вероятно, самый наглядный пример такого типа — это ученые идиоты, т. е. люди, которые наряду с недостаточными, а то и нарушенными способностями в большинстве областей с раннего детства проявляют умение быстро и очень точно считать. Человек-калькулятор освоил лишь некоторые трюки: он может в уме складывать большие числа, запоминать длинные последовательности цифр, называть день недели любой даты в отдаленном прошлом. Нужно особо отметить, что такие люди, как правило, не интересуются выявлением новых проблем или решением уже ставших традиционными задач, а также тем, как их решали другие люди. Ученые идиоты не стремятся использовать математику как подспорье для решения проблем в повседневной жизни или поисков ответов на научные загадки. Вместо этого они овладели рядом приемов, благодаря которым отличаются от других, как некие уродцы. Бывали и исключения: математик Карл Фридрих Гаусс и астроном Трумэн Саффорд отменно умели считать; но в целом этот талант проявляется у людей, посредственных в остальных отношениях.
В большинстве случаев ученый идиот, похоже, обладает врожденной способностью к вычислениям, благодаря которой выделяется среди своих сверстников уже в раннем детстве. Например, ребенок по имени Обадия, исследованием которого занимались ученые, самостоятельно научился складывать, вычитать, умножать и делить, когда ему было только шесть лет. Способности Джорджа, умеющего определять календарные даты, заметили, когда он в шестилетнем возрасте сосредоточенно рассматривал вечный календарь в одном из альманахов и почти с самого начала никогда не ошибался в своих ответах. Л., 11-летний ребенок, изучением которого занимался невролог Курт Гольдштейн, мог запоминать практически бесконечные последовательности чисел, например железнодорожное расписание или финансовую страничку в газете. С раннего детства этот ребенок обожал пересчитывать предметы и проявлял особый интерес ко всем аспектам чисел и музыкальных звуков. Однако в других случаях, похоже, какой-либо выдающийся талант или способности отсутствуют. Скорее, будучи немного одареннее в этом отдельном направлении, человек, в остальном ничем не примечательный, прилагает множество усилий для того, чтобы превзойти окружающих в данном отношении. Если такое предположение верно, тогда появляется возможность отобрать людей с некоторыми недостатками и с помощью тренировки научить их достигать высот в математике. Но я лично полагаю, что в основе ранней одаренности в арифметике или вычислении календарных дат лежит усиленное развитие определенных участков мозга (подобно этому, гиперлексия представляет собой автоматический, неудержимый процесс, который не связан с осознанным совершенствованием отдельной способности).
Хотя некоторым людям и посчастливилось развить в себе отдельный компонент логикоматематического интеллекта, они оказываются ущербными в других аспектах математики. У некоторых могут возникать определенные трудности с числами, сходные с теми, с которыми сталкиваются дети в письменной речи (дислексия[59]) или, намного реже, — в устной (дисфазия[60]).
Самое любопытное проявление таких проблем наблюдается у людей, страдающих синдромом Герстмана. Дети с таким расстройством сталкиваются с трудностями при изучении арифметики, а также не могут перечислить названия собственных пальцев, не отличают правую сторону тела от левой. Хотя могут возникать некоторые трудности в письме, речь у этих детей развита нормально, вот почему можно сказать, что они не во всем ущербны. Неврологи высказали предположение, что у этих детей трудности возникают в тех участках — в ассоциативной теменной доле доминирующего полушария, — которые выполняют функцию распознавания упорядоченных систем и моделей из визуальной сферы. Согласно преобладающему мнению, подобные избирательные проблемы с порядком (особенно визуальнопространственного рода) моментально вызывают трудности с распознаванием пальцев, левой и правой стороны, а также с вычислениями. Тот факт, что большинство детей начинают считать с помощью пальцев, является еще одной загадкой этого экзотического синдрома.
Возможно, существуют и другие дети, сталкивающиеся с избирательными проблемами в логико-математическом мышлении. В тех случаях, где проблема не просто мотивирована, трудности вызывает понимание принципов последовательности или цепочек логических утверждений, без которых невозможно обойтись в математике, как только человек перешел от простого счета и элементарных вычислений к более сложным операциям. Педагог Джон Холт однажды задал несколько грустный вопрос: «Что это значит — так мало знать об устройстве мира, так плохо чувствовать упорядоченность, регулярность, ощутимость предметов?» Являясь полной противоположностью будущим физикам, такие дети не только не испытывают желания раскрывать секреты строения мира, но и могут настойчиво отрицать существование упорядоченности, которая очевидна для других.
По сравнению с речью и даже с музыкой мы знаем очень мало об эволюции числовых способностей и сравнительно мало об их локализации в мозге нормального современного человека. У других животных определенно имеются зачатки числовых способностей, к ним относятся: умение птиц узнавать последовательность из шести-семи предметов; инстинктивная способность пчел вычислять расстояние и направление, наблюдая за танцем своих сородичей; умение приматов понимать небольшие числа и таким образом делать простую оценку вероятности. Календарь и другие способы вычислений появились еще 30 тысяч лет назад, задолго до возникновения письменности: такой способ упорядочения жизни определенно был известен людям каменного века. Наши предки, несомненно, владели принципиальным понятием числа как бесконечной последовательности, где можно постоянно добавлять единицу, чтобы увеличить значение. Поэтому они не ограничивались небольшим количеством доступных наблюдению чисел, которые, как кажется, являются единственно понятными для первых человекообразных существ.
Что касается мозговой организации числовых способностей, то определенно существуют люди, которые утрачивают умение считать, хотя сохраняют речь, а еще большее количество страдают от афазии, но все равно могут играть в игры, где требуется вычисление, и сами разбираются со своими финансами. Как и в случае с речью и музыкой, речь и вычисление даже на самом элементарном уровне не связаны друг с другом. Более того, как подтверждают свидетельства, важные аспекты числовых способностей, как правило, располагаются в правом полушарии (и снова вспоминается музыка!). Большинство исследователей согласны, что возможно нарушение некоторых арифметических навыков: понимания цифровых символов; соотнесения знака и арифметического действия; понимания количества и математических действий как таковых (независимо от обозначающих их символов). Способности к пониманию математических знаков и оперированию ими чаще локализованы в левом полушарии, а понимание числовых соотношений и понятий, похоже, основывается на работе правого полушария. Элементарные трудности с речью могут повлиять на понимание числовых терминов так же, как нарушения ориентации в пространстве не позволят работать с бумагой и карандашом, чтобы решать задачи или делать геометрические построения. Проблемы с планированием, следующие за травмами лобных долей мозга, нарушают способность решать задачи, состоящие из нескольких этапов.
Несмотря на все это разнообразие, ученые пришли к хрупкому консенсусу, что определенный участок мозга — левые теменные доли, а также связанные с ними ассоциативные участки височной и затылочной долей — несут особую ответственность за логику и математику. Именно после травм на этом участке угловой извилины человек приобретает взрослый вариант синдрома Герстмана — состояние, при котором утрачивается способность считать, рисовать, распознавать левую и правую стороны и различать пальцы, но сохраняются все остальные когнитивные функции. А. Р. Лурия добавляет, что в результате таких повреждений может также снизиться способность ориентироваться в пространстве и понимать определенные грамматические структуры, например фразы с предлогами или конструкции в пассивном залоге.
Я намеренно говорю о «хрупком консенсусе». На мой взгляд, еще необходимо найти убедительные доказательства того, что именно этот участок мозга играет важнейшую роль в логикоматематическом интеллекте. Участки теменной доли, возможно, действительно важны для многих людей, но существует такая же вероятность того, что у других людей или по отношению к другим видам деятельности структуры в лобной доле или еще где-либо в правом полушарии тоже выполняют ключевые логико-математические функции.
Я хотел бы предложить другое видение неврологической организации, лежащей в основе логико-математических операций. Мне кажется, определенные нервные центры не менее важны для отдельных логико-математических операций, чем те, о которых я уже сказал. Но эти центры не кажутся столь незаменимыми для логикоматематического интеллекта в целом, как зоны в височной и лобной доле важны для речи или музыки. Другими словами, человеческий мозг проявляет значительную гибкость в том, как выполняются эти операции и логические построения.
На мой взгляд, решение кроется в трудах Ж. Пиаже. Способность выполнять логикоматематические операции проявляется с простейших действий младенца, постепенно развивается в течение первых 10–20 лет жизни и является результатом слаженной работы нескольких нервных центров. Несмотря на значительные повреждения, эти функции чаще всего сохраняются — ведь они располагаются не в определенном центре, а существуют в более обобщенном виде крайне разветвленной нервной организации. Логикоматематические способности страдают не вследствие заболеваний мозга, а в результате более общих болезней, например слабоумия, при котором довольно быстро разрушаются большие участки нервной системы. Я думаю, что операции, которые изучал Пиаже, не настолько прочно закреплены в нервной системе, как те, что мы рассматривали в предыдущих главах, и поэтому они оказываются более уязвимыми в случае общих сбоев в работе нервной системы. Более того, в ходе двух электрофизиологических исследований, проведенных в последнее время, обнаружено, что при решении математической задачи в значительной степени задействованы оба полушария. Один из авторов сказал: «Каждое задание вызывает во многих участках лобных и затылочных долей обоих полушарий мозга сложную, быстро меняющуюся картину электрической активности». В отличие от этих способностей такие виды интеллекта, как речь или музыка, в целом сохраняются при общих заболеваниях, если только поражению не подвергся определенный участок мозга.
Подводя итог, следует сказать: имеются основания считать, что логико-математические способности базируются на работе нервной системы, но эта зависимость носит более общий характер, чем в предыдущих случаях. Согласно принципу «бритвы Оккама», который гласит: «Не приумножай сущностей без необходимости», можно прийти к выводу, что логико-математические способности представляют собой не столь «чистую» или «автономную» систему, как те, что были рассмотрены выше, поэтому их стоит называть не отдельным видом интеллекта, а всего лишь неким более общим понятием. Иногда я сам склонялся к этой мысли и не хочу в данной главе показаться более непоколебимым, чем есть на самом деле. Но мне кажется, тот факт, что встречаются специфические нарушения логико-математических способностей, а также различная степень одаренности в этой сфере, не позволит отмахнуться от логико-математического интеллекта как отдельного вида. Ведь как бы там ни было, в случае с логико-математическим интеллектом присутствуют большинство признаков «автономного интеллекта». Более того, существует вероятность, что в логико-математическом интеллекте задействованы несколько других важных, но не таких развитых систем. Если бы их можно было разрушить вместе или по отдельности (что возможно лишь в ходе недопустимого экспериментального вмешательства), мы обнаружили бы множество синдромов, не уступающих по силе тем, что наблюдаются в случае с лингвистическим или музыкальным интеллектом.
ЛОГИКА И МАТЕМАТИКА В МИРОВЫХ КУЛЬТУРАХ
О том, что тема, которой посвящена данная глава, не ограничивается лишь западной цивилизацией, свидетельствуют многочисленные системы исчисления, разработанные в различных уголках планеты. Начиная со счета с помощью частей тела, распространенного среди папуасов Новой Гвинеи, и до применения раковин каури, заменяющих деньги в некоторых странах Африки, мы видим множество свидетельств того, что разум человека имеет естественную склонность к порядку и счету, которые в разных культурах выполняют крайне важные функции.
На протяжении всей истории западной антропологии не прекращаются споры между теми учеными, которые признают существенное сходство западного и других видов мышления, и теми, которые подчеркивают «примитивность» или дикость незападного разума. Не похоже, чтобы эти дебаты утихли в скором времени, хотя утверждения, что ум «дикаря» радикально отличается от нашего, уже не высказываются столь необдуманно, как это было несколько десятилетий назад.
Поскольку западное общество гордится прежде всего своей математикой и наукой, то неудивительно, что именно в этих отраслях знаний зазвучали первые утверждения о нашем «превосходстве». Была приложена масса усилий для того, чтобы определить, обладают ли представители примитивных сообществ логикой, похожей на нашу, могут ли они правильно считать, разработали ли собственную систему объяснений, которая позволила бы проводить эксперименты, и т. п. В общем, когда западные социологи в других странах применили свои методы тестирования и поисков мышления, похожего на их собственное, то не обнаружили ничего похожего. Поэтому первые попытки применить задания, разработанные Пиаже, в экзотических сообществах обнаружили, что лишь немногие их представители преодолели уровень конкретных операций, а иногда даже обнаруживалась неспособность понимать принцип сохранения. Однако когда были получены сведения о принятом в данной культуре способе мышления, то отличия между примитивным и цивилизованным разумом уже не были такими разительными, а подчас «примитивные дикари» даже превосходили своих исследователей.
Один из возможных способов найти ответ на эту загадку и не утонуть в противоречиях — посмотреть на культуры вне западной цивилизации с другой точки зрения. Если пытаться обнаружить в традиционных сообществах явные признаки математического или научного склада ума, как мы его себе представляем, вряд ли такие свидетельства найдутся. Желание выстроить сложную абстрактную систему математических соотношений ради нее самой или провести ряд экспериментов для проверки предположений об устройстве мира — это интересы западного мира, берущие начало еще во времена Древней Греции и достигшие расцвета в эпоху Возрождения (а теперь быстро распространяющиеся по всему миру). Точно так же накопление письменных свидетельств и дебаты по этим вопросам — западное изобретение последних столетий.
Но если взглянуть на вопрос иначе и начать поиски основных мыслительных операций, на которых базируется наука, то не остается сомнений в том, что логико-математический интеллект имеет универсальную природу. Вот несколько примеров. Там, где существует рыночная экономика, люди превосходно умеют торговаться в собственных интересах, исключать товар из продажи, если он не приносит дохода, а также заключать сделки либо равнозначные, либо приносящие прибыль. Там, где важно уметь классифицировать объекты, — будь то в ботанике или социологии, — люди умеют разрабатывать сложные иерархические системы и правильно их применять. Там, где желательно иметь календарь, который позволит регулярно повторять определенные действия, или способ быстрого и надежного вычисления (например, абак), другие сообщества нашли решения, не менее подходящие, чем наши. И хотя их научные теории не обсуждаются учеными Запада, бушмены Калахари пользуются теми же методами, что и мы, для получения необходимого результата. Например, на охоте они различают случаи, когда видели добычу собственными глазами, когда видели следы, а не самих животных, или же когда ситуация остается невыясненной, потому что никто добычу не видел и не говорил с теми, кому это посчастливилось. Николас Блартон-Джонс и Мел вин Коннер, изучавшие охоту бушменов, пришли к следующему выводу.
В результате полученные знания оказались подробными, разнообразными и точными... Процесс выслеживания в особенности предполагает построение предположений, их проверку и наличие лучших аналитических способностей человеческого разума. Определение с помощью следов движения животного, времени этого события, был ли зверь ранен, и если да, то каким образом, а также предсказание его дальнейшего пути и скорости передвижения — для всего этого необходимо постоянное выдвижение гипотез, их проверка с учетом новых сведений, дополнение ранее полученной информацией о передвижениях животных, отклонение тех предположений, которые не выдерживают критики, и, наконец, нахождение подходящего к данной ситуации.
Чтобы выяснить, каким образом логикоматематический интеллект развивается в рамках определенной культуры, необходимо охарактеризовать некоторые арифметические системы сообществ, не знающих письменности. Во многих обществах люди способны правильно оценивать количество объектов, других людей или организмов — более того, результаты таких оценок часто оказываются невероятно точными. Дж. Гай и М. Коул обнаружили, что взрослый представитель племени кпелле в Либерии намного лучше взрослого американца оценивает количество камней в груде, в которой их может быть от десяти до ста. По сравнению с алгоритмизированными вычислениями, которые применяются на Западе, системы, основанные на оценке, обладают тем преимуществом, что человек никогда не сделает грубую ошибку при подсчете. Пользуясь нашими алгоритмизированными вычислениями, мы имеем больше шансов получить точный ответ, но в то же время велика и вероятность того, что результат окажется совершенно неверным — если, например, мы ошибемся при сложении в столбик или нажмем не ту кнопку калькулятора.
Если необходимо привести пример высокоразвитых числовых способностей в Африке, то лучше всего начинать поиски с игры под названием kala (она также называется malang или Oh-War-ree). Для этой игры нужны ямки и камешки, и она считается «самой арифметической игрой в мире, у которой наибольшее число поклонников». Основная идея этой сложной игры — забросить зернышки seriatim в углубления вокруг доски и захватить зернышки противника, положив свое последнее зерно в ямку противника, где уже находятся одно или два зернышка. Наблюдая за игроками, Коул и его коллеги обнаружили, что победители пользовались четким и постоянным набором стратегий.
Победитель следит за тем, чтобы его защита не ослабела, он оценивает последствия каждого хода, оставляет время для себя, обманывает противника хитрыми ловушками, стремится к победе последовательно, а не рассчитывает на случай, и умеет приспосабливать свои действия к ситуации, готовясь к новым атакам.
Если учесть, что в одной партии может быть больше 300 ходов, то профессиональный игрок кпелле должен владеть этой стратегией в совершенстве. И действительно, лучшие игроки прославляют свою семью, их даже могут воспевать в песнях.
Некоторые случаи использования числовых способностей очевидны, как, например, в торговле или описи имущества. Но математическое мышление тесно связано также с религией и мистикой. Иудеи в характеристиках чисел часто усматривали различные толкования или пророчества. Во времена испанской инквизиции можно было получить пожизненное заключение или даже смертный приговор, если у человека обнаруживали арабскую рукопись по математике: «математики объявлялись величайшими еретиками». Средневековые мусульманские и христианские ученые верили, что магический квадрат (сумма чисел в котором во всех направлениях остается неизменной) может прогнать чуму или вылечить бесплодие. А во многих частях Африки существует табу на пересчет людей, домашних животных или ценных вещей. Связь между числовой системой и другими символическими системами лежит в основе деятельности множества сект. Средневековые индийцы заменяли запоминающиеся слова числами (луна — один, глаза или руки — два) и записывали математические или астрономические наблюдения в стихах. Даже сегодня работа со сложными системами, в которых слова и числа заменяют друг друга, а с помощью последовательности цифр можно передавать тайные сообщения, является искусством, которому обучаются мусульманские ученые.
Если речь идет о чувствительности к числовым свойствам, то как необразованные, так и цивилизованные общества признают важность этих навыков. Числовая основа математического интеллекта почитается повсеместно. И все же настоящим вызовом рациональному разуму со стороны примитивного становятся случаи, когда индивид делает утверждения, с логической точки зрения не согласующиеся друг с другом, утверждения, в которых важное место занимает сверхъестественная, оккультная составляющая. Как может рациональный человек верить, что одновременно является человеком и кошкой, что рождение ребенка происходит благодаря движению звезд, и т. п.? Первые научные комментаторы поддавались соблазну подчеркнуть такую очевидную нерациональность, но сейчас некоторые антропологи смотрят на ситуацию иначе. По их мнению, все люди, в том числе и представители нашего общества, придерживаются многих верований, которые нельзя объяснить с рациональной точки зрения. И действительно, невозможно быть мыслящим человеком, не имея множества убеждений, часть которых не согласуются друг с другом. Вспомним хотя бы утверждения нашей религии. И даже научные убеждения часто противоречат друг другу. (Например, вера в научные постулаты, не имеющие никаких логических доказательств, или убежденность некоторых физиков в существовании предсказуемости, равно как и неопределенности.)
Здесь важно отметить, что какими бы прочными ни были эти убеждения, они все же не влияют на принятие решений в повседневной жизни. (Более того, если их влияние становится заметным, человека считают сумасшедшим независимо от общества, в котором он живет.) Такие верования воспринимаются как космологические или метафизические теории, связанные с сущностью действительности, а не с тем, как человек поджаривает мясо, переходит с одного места на другое или заключает сделку со знакомым. Именно в таких ежедневных размышлениях — а совсем не в нашей космологии, мифологической или научной — проходит обычная жизнь человека.
В различных традиционных сообществах, где легко выявляются числовые способности, можно выделить и высокий уровень логического мышления. Изучая споры вокруг земельных участков на Тробриандских островах, Эдвин Хатчинс доказал, что стороны, участвующие в судебных процессах, способны на длинные и сложные умозаключения. Согласно исследованию Хатчинса, каждая сторона, которая хочет доказать свое право владения садом, должна представить на рассмотрение подробную историю этого участка, из которой было бы видно, есть ли у этого человека права на него. Кроме того, он может попытаться доказать, что в истории оппонента нет никаких оправданных свидетельств того, что участок принадлежит именно ему.
В некотором отношении задача каждого из противников сродни доказательству теоремы в математике или логике. Код культуры содержит аксиомы, или имплицитные условия системы. Историческое обоснование дела, особенно того периода в прошлом, когда истец получил сад в свое владение, представляет собой эксплицитные условия задачи. Теорема, которую нужно доказать, — это предположение, в котором обосновываются права истца на участок земли.
Согласно выводам Хатчинса, модель народной логики, развивавшаяся на основе исконно западных источников, оказывается убедительным свидетельством спонтанности цепочек умозаключений, которые создают судящиеся стороны на Тробриандских островах. Конечно, это нельзя назвать строгой аристотелевой логикой, поскольку содержащиеся в ней выводы и правдоподобны, и самоочевидны, но, как замечает Хатчинс, «то же самое можно сказать и о наших умозаключениях».
Однако если в результате таких исследований разницу в рассуждениях между «нами» и «ими» удалось свести к минимуму, то в последнее время была высказана мысль, что обучение в целом и грамотность в частности могут в значительной степени повлиять на то, что люди думают о себе и как общаются с другими. В главе 13 я расскажу о том, что в школе человек учится работать с информацией, не связанной с контекстом, в котором она, как правило, встречается; выдвигать абстрактные предположения и исследовать связь между ними с гипотетической точки зрения; разбираться в идеях независимо от того, кто их высказывает, или от интонации, с которой они произносятся; подходить критически, обнаруживать противоречия и пытаться устранить их. Кроме того, человек с уважением начинает относиться к накоплению знаний, к способам проверки утверждений, не представляющих большого интереса в настоящий момент, и к взаимосвязи различных отраслей знаний, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Такое почитание абстрактных ценностей, связь которых с действительностью обнаруживается только благодаря длинной цепочке выводов, и более близкое знакомство с «объективным» чтением, письмом и тестированием приучает человека к принципам науки и математики и заставляет его задуматься, насколько его взгляды и поведение соответствуют этим эзотерическим стандартам.
Во многих примитивных сообществах не принято задавать вопросы, сомневаться в известной мудрости, не доверять магическим или мистическим объяснениям. И наоборот, первоочередная задача «образованных» культур — поставить под сомнение высказывания, сделанные без доказательств, попытаться переформулировать ошибочные утверждения и даже создать собственные новые гипотезы. В результате получается общество, которое с искренним вниманием относится к вопросам логики, математики и науки, как я уже отметил в данной главе, даже за счет некоторых более эстетических или личностных видов интеллекта, о которых идет речь в этой книге.
МАТЕМАТИКА, НАУКА И БЕГ ВРЕМЕНИ
Говоря о влиянии обучения и грамотности на взаимоотношения людей, я хочу затронуть важный аспект логико-математического интеллекта, на который прежде не обращал достаточного внимания. Хотя ученым и математикам нравится думать, что сами они занимаются вечными ценностями, их изыскания быстро развиваются и уже претерпели значительные изменения. На протяжении столетий понимание этих дисциплин тоже менялось. Как отмечает Брайан Ротмен, для жителей Вавилона математика была средством астрономических расчетов; для пифагорейцев она служила воплощением гармонии Вселенной; для ученых эпохи Возрождения математика стала средством для раскрытия секретов природы; для И. Канта она была идеальной наукой, утверждения которой возникают в самых потаенных глубинах нашего рационального разума; а для Г. Фреге[61] и Б. Рассела эта дисциплина стала парадигмой ясности, с помощью которой можно оценить двусмысленность обычного языка. Взгляды на математику, без сомнения, будут меняться и в будущем. Более того, среди ведущих математиков существуют значительные расхождения во мнении о природе всей этой области знания, о том, какие цели считать первостепенными, какие методы исследований доступны, а какие — нет.
Наука, конечно, тоже меняется. Эти перемены часто воспринимаются как прогресс, но после дерзкого труда Томаса Куна толкователи уже сомневаются, что наука движется по непростому пути к окончательной истине. Мало кто заходит так далеко, как некоторые последователи Куна, которые утверждают, что наука — это просто замена одного мировоззрения другим. Немногие также отваживаются, как Пауль Фейрабенд, отрицать, что существует разница между наукой и ненаукой. Но существует распространенное мнение, что каждое мировоззрение объясняет определенные вопросы и игнорирует или не замечает другие, а также что цель единой науки — та, что прослеживается во всех сферах — это химера, которую следовало бы уничтожить. Изучая определенный научный труд, важно знать, кто против чего выступает и кто что стремится доказать. Действительно, в рамках «нормальной науки», где можно выделить основную парадигму, не должно быть повода дебатировать относительно основы чьей-то работы. И, вероятно, существует постоянный прогресс в нахождении ответов на вопросы отдельной отрасли знания. Но как только мы поймем, что завтра от научного консенсуса может не остаться и следа, то изменчивый характер науки становится просто одной из данностей нашей жизни.
Люди — создатели, но в то же время и жертвы этих перемен. Человек с определенным набором навыков может в свое время быть талантливым математиком или ученым, поскольку его способности — как раз то, что нужно в тот момент, а в последующую (или предыдущую) историческую эпоху эти умения окажутся совершенно бесполезными. Например, способность запоминать длинные последовательности чисел или представлять сложные взаимоотношения между формами может быть чрезвычайно важной в одну математическую эру и абсолютно ненужной в другое время, когда книги или компьютеры взяли на себя выполнение таких мнемонических функций или где пространственные отношения уже не воспринимаются как часть математики.
Таким ярким примером влияния времени может служить случай с индийцем Шринивасой Рамануджаном, который по общепринятому мнению считается одним из самых талантливых математиков последних столетий. К несчастью, Рамануджан родился в деревне, где современная математика была неизвестна. Самостоятельно в течение многих лет он изучал эту дисциплину и намного опередил ее современное развитие. Наконец Рамануджан переехал в Великобританию, но для него было уже слишком поздно делать какой-либо вклад в математику на том уровне, на котором она находилась в нашем веке. Г. X. Харди увлекся идеей обучать современной математике человека с развитыми инстинктами и интуицией, но который никогда не слышал о большинстве рассматриваемых в математике вопросов. Перед смертью Рамануджан рассказал своему учителю, Харди, что номер 1729 — такси, на котором тот приехал — это не простое число, как думал Харди, а самое маленькое, которое можно представить в виде суммы двух кубов двумя разными способами. Это было совершенно поразительным быстрым математическим инстинктом, но не тем вкладом, который мог бы заинтересовать математические круги Великобритании XX века. Помимо обладания природным даром, математик должен еще и находиться в нужное время в нужном месте.
Математика и наука, вероятно, развиваются и меняются, но разве в этих отраслях нет хотя бы нескольких фундаментальных законов, которые остаются неизменными? Признанный американский философ У. В. Куин отлично осветил этот вопрос. Как он говорит, мы меняем наше понимание истории и экономики чаще, чем представления о физике, а те в свою очередь — чаще, чем понимание математики и логики.
Математика и логика, занимая центральное место в концептуальной схеме человека, обладают такой невосприимчивостью, которая, при всем нашем консервативном стремлении к переменам, достаточно оберегает их от изменений; вероятно, в этом и кроется причина того, почему сохраняются математические законы.
И все же Куин отмечает, что в каждой области, в том числе в логике и математике, наблюдается постоянная тенденция к упрощению. В связи с этим математика и логика будут подвергаться пересмотру всякий раз, когда намечается существенное упрощение всех концептуальных основ науки.
Если наш век может быть показательным в этом отношении, то становится понятно, что перемены будут происходить все чаще. За несколько последних десятилетий наука прошла такой же путь развития, как за всю предыдущую историю человечества. Более того, с появлением новых отраслей и их гибридов, а также с развитием новых технологий, прежде всего компьютерных, уже невозможно представить научные интересы будущего без логического или математического таланта. Конечно, ученые еще активнее будут применять технические нововведения, и было бы опрометчиво сомневаться, что очень скоро компьютеры сами будут руководить этим процессом, не только разрешая проблемы, недоступные человеку «вручную», но и помогая определить, какими будут новые задачи и как их следует решать. (Формы жизни, созданные благодаря генной инженерии, и новые роботы с человеческими качествами еще больше усложнят эту картину.) И, вероятно, еще больше, чем в прошлом, люди, несведущие в этих достижениях (и в том, какими будут их последствия), вряд ли смогут эффективно функционировать в обществе.
СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИНТЕЛЛЕКТА
Перемены в нашем обществе и, вероятно, в других культурах тоже, выдвигают на передний план вопрос, не является ли логикоматематический интеллект в некотором отношении более важным, чем остальные его виды: более базовым в концептуальном смысле, поскольку находится в основе человеческого интеллекта, или более базовым с практической точки зрения, потому что направляет развитие истории человечества, его интересов, проблем, возможностей и, вероятно, его конструктивной или деструктивной судьбы в целом. Часто говорят: существует лишь одна логика, и понять ее могут только те, кто обладает развитым логикоматематическим интеллектом.
Я с этим не согласен. Из данной главы должно быть видно, что логико-математический интеллект имел особое значение в истории западной цивилизации, и эта его роль не изменится в ближайшее время. Но в других культурах этот вид интеллекта оказался не столь важным, и еще не известно, сохранятся ли в будущем современные «тенденции к унификации». На мой взгляд, было бы намного правдоподобнее считать, что логико-математический интеллект — это один из видов интеллекта, навык, прекрасно подходящий для решения определенных проблем, но ни в коем случае не превосходящий другие виды интеллекта. (На самом деле существуют различные логики, каждая из которых имеет свои сильные и слабые стороны.) Как мы уже видели в предыдущих главах, в речи и музыке также есть своя логика; но эти виды интеллекта функционируют по своим правилам, и даже весьма активное привлечение математической логики в эти сферы не повлияет на то, как работает их «природная» логика. Несомненно, между логико-математическим и пространственным интеллектом было и будет продуктивное взаимодействие в таких видах деятельности, как шахматы, инженерное дело и архитектура, а о некоторых из таких комбинаций мы подробнее поговорим в следующей главе, рассказывающей о пространственном интеллекте.
Несомненно, могут существовать самые разнообразные связи между логико-математическим и другими видами интеллекта, которые я выделяю. И поскольку естественные науки и математика продолжают развиваться, у нас есть все основания считать, что у логико-математического интеллекта установятся не менее прочные связи и с другими видами интеллекта. Но по мере того, как меняется определение этих видов, возникает еще один вопрос: стоит ли по-прежнему объединять логику и математику в один вид интеллекта и противопоставлять его другим? Только время сможет сказать, оправдана ли предложенная мною классификация. В настоящий момент я уверен, что процесс развития, описанный Ж. Пиаже, начинающийся с интуитивных подсказок относительно числа и понимания простой причины и следствия, можно проследить до высочайшего уровня современной логики, математики и науки.
А как быть со связью с музыкой, на которой заканчивалась предыдущая глава? Разве может быть случайностью тот факт, что так много математиков и ученых испытывали интерес к музыке? Что же можно сказать о поразительном сходстве между источником идей в таких сферах, как музыка, изобразительное искусство и математика, как это точно заметил Дуглас Хофштадтер в своей книге Godel, Escher, Bach («Гедель[62], Эшер[63], Бах»)?
Ответ на эту загадку можно найти в том факте, что если обладающих математическим даром людей часто привлекает упорядоченность или нахождение паттернов в явно далеких областях — от увлеченности Г. X. Харди крикетом до интереса Герберта Саймона к архитектурному планированию, — то такая увлеченность не обязательно должна порицаться. Можно быть великим скульптором, поэтом или музыкантом, не проявляя особого интереса или ничего не зная об упорядоченности или системности, которые лежат в основе логикоматематического интеллекта. В случае же с такими явными совпадениями отраслей мы имеем дело с интеллектом логика, ученого или математика, который применяется и к другим сферам знания. Конечно, порядок есть везде; иногда он очевиден, а иногда — нет. И нужен особый гений (или проклятие) логика и математика, чтобы замечать эти закономерности в любой обстановке.
Возможно даже, как думали многие ученые, от Платона до Г. В. Лейбница, и как продолжал надеяться А. Эйнштейн, что в таких перекликающихся совпадениях таятся какие-то секреты Вселенной. Но восприятие этих закономерностей и работа с ними — вот пример логико-математического интеллекта в действии, неважно, работает он хорошо или плохо, главное — что работа идет. При этом не видны основные операции других видов интеллекта, не понятно, в чем суть музыкального, лингвистического или телесного интеллекта. Чтобы увидеть работу этих видов интеллекта, необходимо посмотреть, какой роман мог бы написать Сол Беллоу[64] (возможно, рассказывающий о математиках) или какой балет поставила бы Марта Грэхем[65] (может быть, об уравнениях или доказательстве теоремы!). В каждом виде интеллекта есть свои механизмы, и в том, как интеллект добивается упорядоченной работы, отражаются его особые принципы и предпочитаемые средства. Возможно, на острове Бали одна или несколько разновидностей эстетики выполняют те же функции упорядочения, которые мы здесь, на Западе, склонны почти рефлекторно приписывать способностям, которыми наделены математик или логик.
Для того чтобы играть в шахматы, интеллект совершенно не нужен.
ГРАНИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Один из способов понять суть пространственного интеллекта — попытаться выполнить задания, специально разработанные исследователями этого вида интеллекта. На рис. 8.1 мы начнем с самого простого задания, для которого нужно всего лишь найти фигуру, идентичную данной.
Чтобы узнать изображение-образец, представленное под другим углом, требуется уже несколько большее усилие. На рис. 8.2 модель (или наблюдатель) изменила свое расположение в пространстве.
Тест пространственных способностей может быть и намного сложнее. Например, в задании, которое использовали в своем исследовании Роджер Шепард и Жаклин Метцлер, модель представляет собой изображение асимметричной трехмерной фигуры. Задача испытуемого состоит в том, чтобы определить, что представлено на второй картинке — повернутое изображение модели или совершенно другая фигура. На рис. 8.3 приведены три такие модели: на рис. 8.3(a) фигуры одинаковы, но расположены под углом 80° на плоскости; на рис. 8.3(б) фигуры также одинаковы, но развернуты на 80° в глубину; на рис. 8.3(в) фигуры отличаются друг от друга и не совпадают ни при каком вращении.
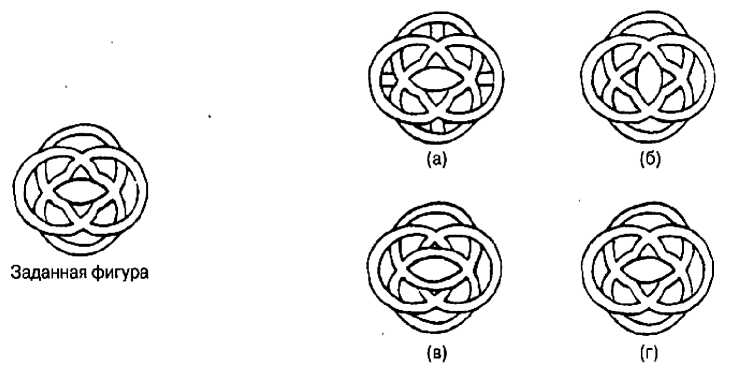
Рис. 8.1. Из представленных четырех фигур выберите идентичную заданной
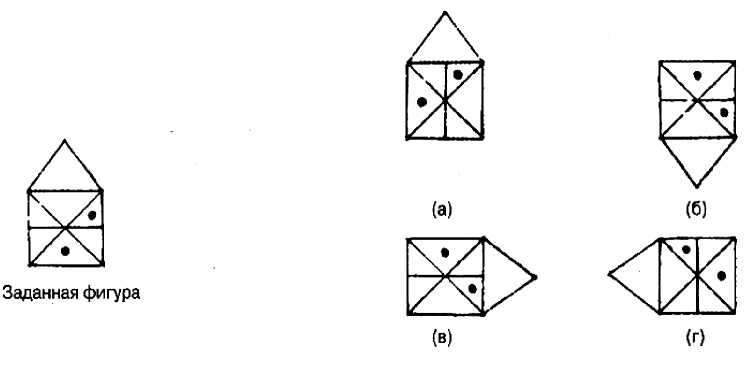
Рис. 8.2. Из представленных четырех фигур выберите идентичную заданной
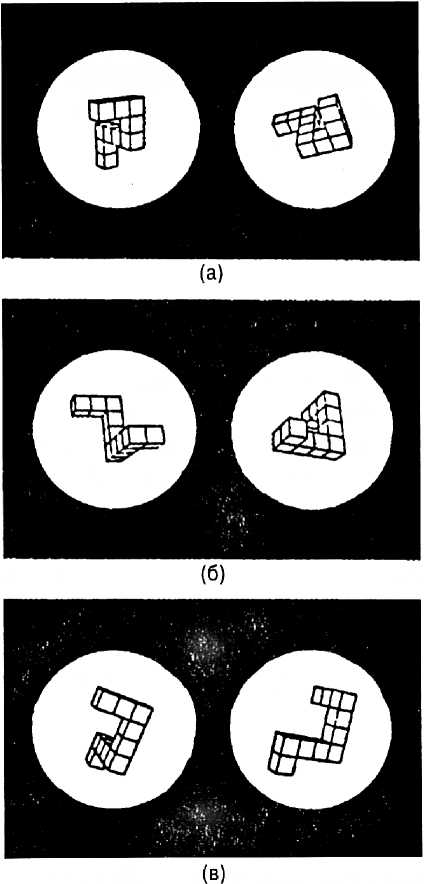
Рис. 8.3. Установите, идентичны ли фигуры в каждой из пар
Заметьте, что, как и в случае с фигурами на рис. 8.1 и 8.2, испытуемого могут попросить не просто выбрать одно из предложенных изображений, но и нарисовать необходимую фигуру.
Задания, связанные с пространственными способностями, можно выразить и исключительно в словесной форме. Например, возьмите квадратный листок бумаги, сложите пополам, а затем еще пополам. Сколько квадратов у вас получилось в результате? Проведем еще один тест: мужчина и девочка идут вместе, причем начинают ходьбу с левой ноги. Пока мужчина делает два шага, девочка успевает сделать три. В какой момент они оба одновременно поднимут правую ногу? Чтобы еще больше усложнить задание, попытайтесь следовать лингвистическому описанию, с помощью которого можно объяснить теорию относительности Эйнштейна.
Представим, что крупное тело А движется в пространстве по прямой. Направление движения — с севера на юг. Тело окружено огромной стеклянной сферой, на которую нанесены концентрические окружности, перпендикулярные направлению движения; все это напоминает огромную елочную игрушку. Имеется и второе тело Б, которое соприкасается со стеклянной сферой в одной из этих окружностей. Точка соприкосновения находится несколько ниже наибольшей из окружностей. Оба тела, А и Б, движутся в одном направлении. По мере движения тело Б перемещается по той окружности, с которой соприкасается со сферой. Поскольку тело Б постоянно меняет свое расположение, то по отношению к пространству и времени оно совершает движение по спирали, при этом время представляет собой направление на север. Но если на эту же траекторию взглянуть с поверхности тела А, изнутри стеклянной сферы, то она кажется не спиралью, а окружностью.
Наконец, вспомним о проблемах, связанных со способностью создавать изображения в уме. Представьте себе лошадь. Что находится выше — основание ее хвоста или нижняя часть головы? Вообразите слона и мышь. Теперь представьте ресницы этих животных. Какие проще вообразить? Наконец, представьте раковину на своей кухне. Где находится кран с горячей водой? Или представьте знакомый двор или площадь. Заметьте, как долго вы переходите от одного здания к другому, а затем определите, сколько времени вам потребуется для того, чтобы пристально осмотреть весь этот участок.
К этому моменту вы, вероятно, уже интуитивно установили, какие способности, по мнению исследователей, являются основными для пространственного (или, как его еще часто называют, визуально-пространственного) Интеллекта. Задействованы ли при выполнении этих заданий особые когнитивные механизмы? Возможно, у вас уже сформировалось определенное мнение по следующим спорным вопросам: существует ли визуальное или пространственное воображение как отдельная разновидность способностей? Можно ли решить проблемы, возникающие при выполнении пространственных задач, исключительно с помощью вербальных или логико-математических средств? Если, например, задачу о складывании листа бумаги вы решили, просто умножив 2x2x2, значит, вы пошли по логико-математическому пути. Кроме того, вы должны почувствовать, привычен ли для вас пространственный интеллект, как это бывает со многими людьми, наделенными даром к искусству, инженерному делу или наукам. А может быть, такие задания оказались для вас невероятно сложными, что встречается у людей, одаренных в других областях, например в лингвистическом или музыкальном отношении.
Основными способностями для пространственного интеллекта являются умение точно воспринимать зримый мир, выполнять трансформации и модификации согласно первому впечатлению, а также умение воссоздавать аспекты визуального опыта даже при отсутствии соответствующего физического объекта. Испытуемого могут попросить создавать фигуры или просто манипулировать теми, которые ему уже даны. Эти умения, конечно же, не идентичны: скажем, человек может обладать способностью к точному визуальному восприятию, но не уметь рисовать, воображать или трансформировать воображаемый мир. Так же как музыкальный интеллект состоит из способностей к восприятию ритма и высоты, а лингвистический — из навыков в области синтаксиса и прагматики, пространственный интеллект представляет собой соединение различных умений. И тем не менее, человек, наделенный навыками в нескольких упомянутых областях, вероятнее всего, добьется успеха и в сфере пространственного интеллекта. Тот факт, что практика в одной из указанных сфер стимулирует развитие навыков в связанных с ней сферах, служит еще одной причиной, почему пространственные способности можно считать родственными с ними.
Небольшой комментарий относительно термина «пространственный интеллект». С одной точки зрения, было бы правомерно воспользоваться понятием визуальный, поскольку у нормального человека пространственный интеллект тесно связан и напрямую основывается на наблюдениях за видимым миром. Для удобства многие примеры в данной главе взяты из визуально-пространственной сферы. Но как лингвистический интеллект не всецело зависит от слухо-голосового канала и может развиваться у людей, лишенных этих средств общения, так и пространственный интеллект может формироваться (как мы увидим) даже у тех, кто лишен зрения и поэтому не имеет прямого доступа к видимому миру. Поэтому я отбросил приставку слуховой в названии музыкального и лингвистического интеллекта и предпочел бы говорить о пространственном интеллекте, не привязывая его к определенным сенсорным способностям.
Чтобы подробнее разобраться в этом виде интеллекта, мы вернемся к примерам, приведенным в начале главы. Простейшая операция, на которой основываются остальные аспекты пространственного интеллекта, — это способность воспринимать фигуру или объект. Данную операцию можно проверить с помощью вопросов с несколькими вариантами ответов или попросив человека скопировать фигуру. Копирование, как оказалось, — более сложное задание, и часто с его помощью можно выявить скрытые проблемы в пространственном интеллекте. Между прочим, аналогичные задания можно разработать и для слепых, и людей с нарушениями зрения, которые могут выполнять их с помощью осязания.
Когда перед человеком стоит задача манипулировать фигурой (или объектом), понять, как она будет выглядеть под другим углом или как ее можно увидеть (или почувствовать) в перевернутом виде, то испытуемый погружается в пространственную сферу, поскольку для выполнения таких заданий необходима манипуляция в пространстве. Подобные задачи на трансформацию могут оказаться сложными, поскольку человеку необходимо «мысленно вращать» сложные фигуры, осуществляя при этом множество поворотов. Роджер Шепард, один из ведущих исследователей пространственного интеллекта, доказал, что время, необходимое для установления идентичности фигур (как на рис. 8.3), непосредственно связано с величиной угла, на который нужно повернуть объект, чтобы его положение точно совпало с заданным. Учитывая трудность словесного описания сложных фигур, человеку с неразвитым пространственным интеллектом особенно сложно выполнить такое задание. Более того, испытуемые при прохождении подобного теста пытались вращать фигуры на определенное число поворотов, как будто эти фигуры присутствуют в реальном пространстве.
Самые большие проблемы возникают именно в сфере «объектов» или «изображений». Действительно, задания на математический аспект топологии напрямую связаны со способностью манипулировать сложными фигурами в нескольких измерениях. Но если задачу сформулировать словесно, то для ее решения можно воспользоваться исключительно словами, не создавая ментального образа или «изображения в голове». Ведь каждую из рассмотренных выше задач можно решать именно так. Но и теоретические разработки, и результаты экспериментов свидетельствуют о том, что предпочтительным способом решения подобного рода задач остается создание ментального образа, с которым можно затем работать так же, как и с аналогичными объектами в реальном мире.
То, что способность эффективно выполнять такие задания в пространстве — особенная способность, отличающаяся от логических или лингвистических навыков, уже многие годы не вызывает сомнений у ученых, занимающихся изучением интеллекта. Исследователем, отстаивавшим независимое существование пространственного интеллекта, был Л. Л. Терстоун, один из первых психометристов, который считал пространственные способности одним из семи главных факторов интеллекта. Большинство исследователей интеллекта со времен Терстоуна подтвердили его мнение, что пространственные способности имеют особый характер, но в чем именно проявляется эта специфичность, единогласно пока не установлено. Сам Терстоун разделял пространственные способности на три составляющих: способность устанавливать идентичность объекта, увиденного под другим углом; способность представлять себе движение или внутреннее изменение конфигурации фигур; способность оперировать такими пространственными отношениями, в которых одним из ключевых условий является ориентация тела самого наблюдателя. Трумэн Келли, также один из первых исследователей пространственного интеллекта, выделял способность чувствовать и запоминать геометрические формы, а также умение мысленно манипулировать пространственными отношениями. Другой видный исследователь, А. А. X. Эль-Кусси, различал двух- и трехмерные пространственные способности, у каждой из которых есть как статичный, так и динамический аспект. Существуют и другие способы классификации.
Для наших целей мы рассмотрим самые активные споры психометристов, посвященные пространственному интеллекту. Выявление точного числа его составляющих и их определение не входит в мою настоящую задачу. Степень, в которой пространственные способности могут быть заменены вербальными, возможные различия между операциями в физическом и ментальном пространстве и философская неопределенность самого понятия «ментальный образ» тоже оставлю для рассмотрения специалистами. Мне же необходимо определить те аспекты пространственного интеллекта, которые выступают для него основными, а также изложить аргументы, которые оправдывают выделение пространственного интеллекта в отдельный вид.
Как мы уже видели из предыдущего обсуждения, пространственный интеллект основывается на нескольких относительно не связанных способностях: умении узнавать один и тот же элемент; умении трансформировать один элемент в другой или выявлять такое превращение; способности создавать ментальный образ, а затем изменять его; умении воспроизводить графическое подобие пространственных трансформаций и т. п. Несомненно, эти операции не зависят друг от друга и могут развиваться или нарушаться отдельно. Однако точно так же как ритм и высота звука вместе задействованы в сфере музыки, так и упомянутые способности, как правило, действуют одновременно в области пространственного интеллекта. Они функционируют как одна семья, и использование одной способности может повлечь за собой применение остальных.
Эти пространственные способности могут проявляться в самых разных случаях. Они важны для ориентации на местности, от комнаты до океана. Они используются при узнавании объектов и места действия, как в тех случаях, когда с ними сталкиваются в их первоначальном виде, так и в случае, если некоторые обстоятельства изменились. Кроме того, эти способности применяются при работе с графическими изображениями — двух- или трехмерными изображениями реальных объектов — и другими символами, например картами, диаграммами или геометрическими фигурами.
Еще два случая использования пространственных способностей более абстрактны и неуловимы. Первый — чувствительность к различным силовым линиям, которая опосредствует восприятие изображений или форм. В данном случае я имею в виду ощущения напряжения, равновесия и композиции, характеризующие произведение живописи, скульптуру или многие природные явления (например, огонь или водопад). Такие проявления, важные для способности представлять, привлекают внимание художников и ценителей искусства.
Последняя грань пространственного интеллекта основывается на подобии, которое может существовать между двумя, казалось бы, разными формами или, если уж на то пошло, между двумя, на первый взгляд, отдаленными областями знания. Я полагаю, что такая метафорическая способность находить сходство между различными сферами во многих случаях является проявлением пространственного интеллекта. Например, когда талантливый эссеист Льюис Томас проводит аналогию между микроорганизмами и человеческим обществом, описывает небо как мембрану или называет человечество грудой земли, тем самым он с помощью слов передает сходство, которое, вполне вероятно, сначала представляет себе в виде пространственной формы. И действительно, в основе многих научных теорий лежат различные образы: «древо жизни» Ч. Дарвина, представление З. Фрейда о психике, где бессознательное затоплено подобно подводной части айсберга, предложенная Джоном Дальтоном метафора атома как крошечной Солнечной системы — все это эффективные образы, которые дают толчок и помогают сформулировать ключевые научные концепции. Возможно, такие ментальные модели или образы играют важную роль и при решении более приземленных проблем. Как бы там ни было, подобные образы, вероятнее всего, возникают в визуальной форме, но каждый из них мог бы создать или понять человек, лишенный зрения.
Хотя эти образы, как правило, считаются хорошим подспорьем для мышления, некоторые авторы пошли еще дальше, называя его основным источником визуальные и пространственные образы. Ярым сторонником этой точки зрения был видный специалист в области психологии искусства Рудольф Арнхейм. В своей книге Visual Thinking («Визуальное мышление») он утверждает, что важнейшие мыслительные операции основываются непосредственно на нашем восприятии мира, при этом зрение служит идеальной сенсорной системой, которая играет главнейшую роль в процессе познания. Сам ученый говорит так: «Достойны восхищения механизмы, с помощью которых органы чувств воспринимают окружающую действительность, — это те же операции, которые были описаны в психологии мышления... действительно продуктивного мышления, к какой бы сфере ни относились эти образы». Арнхейм склонен преуменьшать роль языка в продуктивном мышлении: он предполагает, что если нам не удается создать образ какого-либо процесса или понятия, мы не можем ясно думать о нем. Существует и альтернативное мнение, согласно которому визуальный или пространственный интеллект способствует научной и художественной мысли, но не занимает того главенствующего положения, которое ему приписывает Арнхейм.
Исходя из представленных утверждений и в свете разностороннего анализа результатов тестов интеллекта кажется вполне оправданным выделение в отдельный вид пространственного интеллекта, т. е. набора соответствующих навыков и, возможно, тех специфических способностей, которые привлекли наибольшее внимание исследователей данного вопроса. С точки зрения многих ученых, пространственный интеллект — это «иной вид интеллекта», который следует противопоставить «лингвистическому интеллекту» и приписать ему не меньшее значение. Дуалисты говорят о двух репрезентативных системах — вербальном и образном коде, при этом первый локализован в левом полушарии, а второй — в правом.
Те, кто уже ознакомился с предыдущими главами, должны помнить, что я не согласен с подобной дихотомией. И тем не менее я признаю, что при выполнении большинства задач экспериментальной психологии лингвистический и пространственный интеллекты являются основными источниками накопления информации и формирования решения. Получив задание стандартного теста, люди используют слова или пространственные образы для обработки проблемы, ее декодирования, а также — хотя такое предположение намного более спорное — задействуют при решении проблемы речевые и/или образные средства. Некоторые наиболее убедительные свидетельства получены в ходе исследования, которое проводил Ли Р. Брукс. Этот ученый менял модальность как предъявления тестового материала (лингвистическая или образная), так и ответа (вербальная или пространственная — например, отметки на бланке). С помощью продуманных манипуляций различные задания активизировали использование либо лингвистической (например, запоминание предложения и определение его частей) , либо пространственной (например, создание ментального образа и отметки на бланке) обработки. Брукс установил, что у испытуемых возникали затруднения при выполнении задания всякий раз, когда им нужно было воспринимать информацию и выдавать ответ исключительно в одной модальности — лингвистической или пространственной. Но если участники эксперимента имели выбор и могли получать сведения посредством одной модальности, а затем давать ответ посредством другой, неконкурирующей модальности, подобной интерференции не наблюдалось. Точно так же, как обработка музыкальной и лингвистической информации выполняется разными центрами, не зависящими друг от друга, пространственные и лингвистические функции, похоже, осуществляются обособленно и взаимно дополняют друг друга.
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Хотя ведущая роль пространственного интеллекта уже давно была признана исследователями, работающими со взрослыми испытуемыми, сравнительно мало убедительных сведений получено относительно развития таких способностей у детей. Причины этого не совсем понятны. Возможно, диагностировать пространственные навыки сложнее, чем лингвистические или логические, а может быть, исследователи, занимающиеся развитием ребенка, не имеют развитой интуиции, хороших знаний или большого интереса к этому вопросу.
Исключение составляет Жан Пиаже, который провел несколько исследований становления пространственного интеллекта у детей. Неудивительно, что он считал пространственный интеллект неотъемлемой частью общей картины логического развития, которая сложилась у него по результатам многих наблюдений. Поэтому, высказываясь о развитии пространственного интеллекта, Пиаже говорил о сенсорно-моторном понимании пространства, которое формируется в младенчестве. Основными являются две способности: первичное понимание траекторий, по которым движутся объекты, и развивающееся на его основе умение ориентироваться в различных местах. В конце сенсорно-моторного периода раннего детства дети уже умеют создавать ментальные образы. Они могут представлять сцену или событие, для чего им не обязательно находиться именно там. Пиаже проследил становление таких навыков вплоть до того момента, когда ребенок воспринимает некий объект или событие и в то же время исследует его сенсорно-моторным способом. Ментальные образы, следовательно, выступают разновидностью интерналиаированного действия или отложенной имитацией, грубыми набросками или схемами действий, которые когда-то выполнялись (и, теоретически, могут по-прежнему выполняться) в реальном мире. Но в раннем детстве такие образы остаются статичными, и дети не могут на их основе осуществлять умственные операции.
Ввиду того, что как логико-математический, так и пространственный интеллект развиваются на основе действий, которые ребенок выполняет в предметном мире, может возникнуть вопрос, действительно ли они являются различными видами интеллекта. Похоже, даже Пиаже подозревал, что это так. Он выделял «образные» знания, в виде которых человек хранит воспоминания о конфигурации объекта (как и в случае с ментальным образом), и «оперативные» знания, где основное внимание уделяется трансформациям этой конфигурации (как в случае с манипуляцией образом). Как считал Пиаже, в определенный момент происходит раскол, отделяющий статичную конфигурацию от «действенной» операции. Для наших целей можно выделить относительно статичные и относительно действенные формы пространственных знаний, при этом как те, так и другие напрямую связаны с пространственным интеллектом.
Продолжая мысль Пиаже, нужно заметить, что с появлением конкретных операций в раннем школьном возрасте начинается важный этап умственного развития ребенка. Теперь он способен на значительно более сложные манипуляции образами и объектами в пространственном отношении. С помощью обратимых умственных операций ребенок уже понимает, как эти объекты воспринимает кто-то, находящийся в другом месте. Здесь мы сталкиваемся с хорошо известным явлением децентрации, когда ребенок может определить, каким видит место действия человек, сидящий в другой части комнаты, или как будет выглядеть объект, если его развернуть. И все же эти разновидности пространственного интеллекта по-прежнему ограничены конкретными ситуациями и событиями. Только на этапе формальных операций, в подростковом возрасте, ребенок может работать с идеей абстрактного пространства или с формальными правилами, которые управляют этим пространством. Таким образом, подросток (или ребенок с математическим даром), который может соотносить ментальные образы с условиями задачи и рассуждать о последствиях различных трансформаций, начинает понимать геометрию.
Итак, мы видим постепенное развитие пространственной сферы — от способности младенца двигаться в пространстве до умения малыша формировать статичные ментальные образы, затем до способности школьника манипулировать ими и, наконец, до умения подростка соотносить пространственные образы с формальными суждениями. Подросток, будучи способным понимать всевозможные построения в пространстве, находится в выгодном положении и может соединять логико-математический и пространственный интеллекты в единую геометрическую или научную систему.
Как и в других исследованиях, Пиаже разработал первую общую картину развития пространственного интеллекта, и многие из его наблюдений и характеристик выдержали проверку временем. Но в большинстве случаев он ограничивался работой испытуемых с бумагой и карандашом или «настольной» диагностикой пространственных способностей, во многом игнорируя понимание ребенком более широкого пространственного окружения. Недавно были проведены исследования общего понимания ребенком пространства и получены многообещающие результаты. Оказывается, дети в возрасте трех лет и младше могут вернуться назад по пути, который освоили на уровне моторики, но с трудом способны антиципировать[66], с чем им придется столкнуться в тех местах, где они не бывали, но о которых им многое известно (например, из словесного описания или после посещения соседнего места). Когда такие дети пытаются самостоятельно найти дорогу, ведущую роль для них играют подсказки ландшафта.
Репрезентация пространственных знаний претерпевает существенные изменения. Для детей более старшего возраста затруднительно переводить свои пока еще интуитивные пространственные знания в другой формат. Поэтому пяти- и шестилетние дети могут удовлетворительно ориентироваться на местности, даже если она им незнакома, но если попросить ребенка описать ее словесно или нарисовать рисунок либо карту он совершенно растеряется или чрезвычайно упростит свой маршрут (например, будет описывать извилистую тропинку как прямую). Для детей школьного возраста самой сложной задачей оказывается координация своих пространственных знаний, полученных из различных источников, и создание на их основе единой организованной схемы. Такие дети способны успешно находить дорогу по соседству или даже в целом по городу; при этом они с трудом могут почерпнуть из карты, плана или словесного описания информацию о взаиморасположении различных мест. Репрезентация ими своих разрозненных знаний в другой модальности или символической системе пока затруднена вследствие присущего этому возрасту уровня развития пространственного интеллекта. Другими словами можно сказать: хотя развитие пространственного интеллекта ребенка идет быстро, для него еще достаточно сложно понимать пространственные отношения с помощью другого вида интеллекта или иного символического кода.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Если при изучении проблемы детского развития пространственному интеллекту не уделялось должного внимания, то в нейропсихологических исследованиях он играл заметную роль. Более того, возможно, за исключением речи, ни один вид интеллекта не был изучен так хорошо, как пространственный.
Результаты этих исследований ясны и убедительны. Точно так же, как в ходе эволюции левое полушарие мозга взяло на себя руководство обработкой лингвистической информации, правое полушарие, особенно его затылочная часть, имеет наибольшее значение для пространственного (и визуально-пространетвенного) интеллекта. Несомненно, правое полушарие не имеет того ключевого значения при обработке пространственной информации, какое приобрело левое полушарие при работе с речью. Например, в результате травм затылочной части левого полушария могут в значительной степени пострадать и пространственные способности. Но если речь идет об ориентировании на местности, распознавании объектов, лиц и мест, внимании к мелким деталям и о многих других функциях, то повреждение правой затылочной доли вызовет нарушение этих способностей скорее, чем травмы других участков мозга. Более того, повреждение правого полушария приводит к появлению особого состояния, при котором человек обращает мало внимания (или полностью игнорирует) левую половину пространства вокруг себя. Поэтому выполнение заданий (или повседневных обязанностей), при которых необходимо осматривать обе половины пространства, вызывает у таких людей особенные трудности.
Фактические данные поступают из трех основных направлений исследований. Важнейшую роль играет клиническое изучение людей, мозг которых пострадал в результате удара или других травм. Было убедительно доказано, что повреждения правой затылочной доли приводят к проблемам со зрительным вниманием, пространственной репрезентацией и ориентацией, созданием образов и памятью. Чем сильнее травма, тем серьезнее проблемы. Наличие даже небольшого повреждения в левом полушарии, сопутствующее травме правого, оказывает разрушительное воздействие на пространственные функции человека.
Второе, и тесно связанное с первым, направление исследований — выполнение людьми с односторонними мозговыми травмами тестов на пространственное функционирование. В работах Нельсона Баттерса и его коллег из Бостонского медицинского центра для ветеранов содержатся убедительные доказательства того, что пациенты с повреждениями правого полушария сталкиваются с особыми трудностями при трансформации визуальных объектов, в антиципации того, как они выглядят под другим углом зрения, при чтении карты или ориентировании в незнакомом месте, при расшифровке и запоминании пространственной информации. Подобные травмы редко затрагивают лингвистические способности (например, понимание символов). Ключевая роль левого полушария при функционировании лингвистического интеллекта помогает сохранить речевые способности, несмотря на значительные повреждения правого полушария мозга.
Исследования в других лабораториях зафиксировали и иные трудности. Бренда Милнер и Дорин Кимура доказали, что у пациентов с травмами правой височной доли нарушена способность узнавать запутанные фигуры и складывать рисунок, соединяя точки одной линией. Элизабет Уорингтон зафиксировала у подобных пациентов проблемы с узнаванием знакомых объектов, расположенных под необычным углом, а некоторые исследователи отмечали, что люди с травмами правого полушария сталкиваются с особыми проблемами при рисовании. На рисунках таких пациентов некоторые детали располагаются не на своих местах, отсутствует общий контур и отмечается пренебрежение к левой половине пространства, что является типичным следствием заболевания правого полушария. Такие рисунки говорят об исключительной зависимости от явных, или пропозициональных, знаний относительно объекта (названия характеристик этого предмета) в ущерб чувствительности к актуально воспринимаемым контурам целого и его деталей, которые необходимо изобразить.
Здесь может возникнуть вопрос, нельзя ли обойти такие повреждения мозга с помощью лингвистических стратегий. Пациенты с травмами правого полушария действительно пытаются помогать себе словами: они вслух рассказывают о том, как идут к окончательному решению задачи, и даже проговаривают ответ. Но это помогает только самым удачливым из них. Мойра Уильяме рассказывает о наглядном случае со всемирно известным математиком, который потерял большую часть правого полушария мозга в результате автомобильной аварии. В ходе психодиагностического исследования с использованием стандартизированной батареи тестов интеллекта он получил обычное задание собрать предмет. Используя сохранившиеся лингвистические знания о принципах пространственных отношений, мужчина саркастически заметил: «Всегда остается возможность прибегнуть к геометрии».
Не так давно Эдуардо Бисиак и его коллеги из Милана зафиксировали случаи, когда пациенты с травмами правого полушария сталкивались с особенными трудностями в заданиях на направленное воображение. Оказывается, люди, не замечающие левую половину пространства в повседневной жизни, проявляют те же симптомы и при создании ментальных образов. Это значит, что такие пациенты могут представлять себе только правую половину объектов или места действия. Данное открытие было наглядно продемонстрировано, когда людей с травмами мозга просили представить известную площадь Дуомо, расположенную в центре Милана. Получив задание вообразить эту площадь с определенной точки, пациенты смогли описать все объекты в правой половине поля зрения, но ни одного в левой. Затем, когда необходимо было представить себя на противоположной стороне площади, они снова смогли назвать все предметы справа (те, что в первом случае были пропущены), но ни одного слева (названные в первом задании). Невозможно предположить, какое еще доказательство «психологической реальности» визуальных образов было бы более убедительным.
И наконец, последним источником сведений о той роли, которую играет правое полушарие при обработке пространственной информации, является работа с нормальными людьми. Испытуемых подвергают стимуляции либо в правом визуальном поле (связанном с левым полушарием мозга), либо в левом (которое соединено с правым полушарием); при этом их просят выполнить определенные задания. Результаты бесспорны — в каждом случае правое полушарие имеет большее значение при решении задачи, чем левое. Хотя необходимо отметить, что результаты исследований нормальных людей не столь наглядны, как работа с теми, чей мозг был травмирован.
Такое подтверждение роли правого полушария при решении пространственных задач, а особенно важность затылочной доли, похоже, не вызывает сомнений. И действительно, я убежден, что в обозримом будущем скорее будет выяснена нервная основа пространственного интеллекта, нежели какого-либо другого вида интеллекта из тех, что рассматриваются в данной книге. Здесь задействована функция, которая в своем простейшем виде выполняется относительно элементарными сенсорными рецепторами, а в самых сложных формах по-прежнему остается во многом более общей у человека и других организмов, чем, скажем, логический или лингвистический интеллект.
Давайте теперь вкратце рассмотрим сделанные открытия. Из исследований на клеточном уровне, которые проводили Дэвид Хьюбел и Торстен Вайзл, многое, что было сказано о восприятии линий, углов, граней и других строительных блоков, уже не вызывает сомнений. Благодаря исследованиям, которые осуществляли Чарльз Гросс, Мортимер Мишкин и другие ученые, изучавшие внутренние височные доли мозга приматов, многое теперь известно о восприятии и распознавании целостных объектов. Похоже, внутренние височные нейроны участвуют в кодировании физических характеристик визуальных раздражителей. При этом они, вероятно, служат для накопления информации о глубине, форме, цвете и размере, за которую отвечает кора головного мозга. Существует различие — но вполне преодолимое — между элементарным узнаванием объектов и способностью определять связь между ними, которая занимает центральное место в работе пространственного интеллекта. Безусловно, непосредственное участие принимают и другие участки мозга — например, лобные доли отвечают за запоминание расположения в пространстве, — но значимые связи можно легко выделить. Когда этот вопрос наконец выяснится, мы сможем объяснить функционирование пространственного интеллекта с точки зрения нервной системы. После этого появится возможность изучать еще более запутанные проблемы, связанные с тем, как этот вид интеллекта взаимодействует с другими его видами, которые характерны для вида Ното Sapiens.
Эволюция пространственного интеллекта продолжается дольше, чем других его видов, и ее следы прослеживаются вплоть до первых человекообразных существ. У многих приматов жизнь в группе — как сегодня, так и миллионы лет назад — тесно связана с пространственными навыками. Практически в любой ситуации пространственный интеллект играет важнейшую роль в выживании кочующего племени, занято ли оно собирательством или охотой. Когда людям было необходимо проходить большие расстояния и безопасно возвращаться домой — требовался развитый пространственный интеллект, иначе они рисковали заблудиться. Необходимость таких навыков нагляднее всего проявляется в современной Арктике: в связи с полной однородностью пейзажа значение имеет малейшая визуальная деталь, и «люди европеоидной расы, путешествовавшие с эскимосами, не раз отмечали их удивительную способность находить дорогу на, казалось бы, лишенной всяческих особенностей территории благодаря умению запоминать визуальные конфигурации». Пространственные навыки могут также объяснить, почему тендерные различия особенно четко проявляются именно в тестах на пространственный интеллект по сравнению с любыми другими исследованиями. Поскольку охота и путешествия были, как правило, мужскими видами деятельности, то в ходе естественного отбора мужчины с развитыми визуально-пространственными способностями имели преимущество, а их шансы погибнуть в раннем возрасте значительно снижались.
Специалисты по сравнительной психологии давно проявляли интерес к роли пространственных способностей при решении проблем. Необходимо вспомнить о первых исследованиях в этой области, которые Вольфганг Келер проводил во время Первой мировой войны над человекообразными обезьянами на острове Тенерифе. Он смог доказать, что, по крайней мере, некоторые обезьяны, а особенно легендарный Султан, способны изготавливать орудия путем соединения двух и более составляющих и умеют распознавать потенциальную визуально-пространственную интеграцию этих предметов. Хотя толкования Келера не во всем бесспорны, большинство аналитиков согласны с тем, что шимпанзе могли представлять — путем создания образа — тот результат, который они получат, если, скажем, соединят особым способом две палки. Такие способности, как оказалось, необходимы, а зачастую и незаменимы для решения проблемы и получения желаемого объекта. Здесь, в случае с приматами, можно заметить первое проявление того пространственного интеллекта, который у некоторых людей доходит в своем развитии почти до совершенства. В следующей главе мы рассмотрим вопрос, как пространственные способности вместе с телесными навыками задействуются при применении орудий.
НЕОБЫЧНЫЕ ФОРМЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИХ НАРУШЕНИЙ
До этого момента я говорил о развитии пространственных способностей у нормальных детей, а также о том, как они представлены в нервной системе нормальных взрослых и тех, кто пострадал в результате мозговой травмы. И хотя характеристики пространственного интеллекта в целом однородны, существуют явные отклонения от правила, и с помощью таких исключений можно подчас многое узнать о пространственном интеллекте.
Сразу же возникает вопрос о людях, лишенных зрения. Для слепого от рождения некоторые понятия, например цвет, навсегда утрачены, а осознать многие другие, такие как понимание перспективы, можно лишь с большим трудом. И тем не менее в результате работы со слепыми было установлено, что пространственные знания не полностью зависят от визуальной системы, и слепые могут даже понимать некоторые аспекты живописи.
Ведущий исследователь этого вопроса — Джон Кеннеди из Университета Торонто. Кеннеди и его коллеги доказали, что слепые испытуемые (а также нормальные люди, у которых были завязаны глаза), легко распознают геометрические фигуры, представленные в виде рисунков с рельефными линиями. Слепой человек выполняет это задание в несколько шагов (или движений пальцев), сделанных в определенном направлении и с необходимой скоростью. Размер можно установить с помощью косвенных методов, например, проведя рукой по объекту: чем большие движения приходится делать, тем большим оказывается предмет. Для распознавания более сложных фигур (разновидностей визуальных ментальных образов) слепой может исследовать такие свойства, как прямота, изогнутость и выпуклость. С точки зрения Кеннеди, существует система восприятия, которая включает в себя как тактильные, так и визуальные характеристики: понятия, доступные нормальным людям благодаря комбинации этих характеристик, могут быть сформированы и у слепых с помощью одних лишь тактильных впечатлений.
Исследование рисунков, которое провела Сьюзен Миллар из Оксфордского университета, дополняет эту картину. Слепые дети отражают в своих рисунках многие из тех признаков и проблем, которые свойственны младшим зрячим детям. Например, слепые дети не уверены, где и как расположить объект на картине. Изначально они не понимают, как изобразить тело в двух измерениях, т. е. нарисовать трехмерный предмет на плоском листе бумаги. Но как только они осознают, что можно рисовать рельефными линиями и с их помощью воссоздаются многие ощущения, знакомые на ощупь, их рисунки начинают походить на картинки сверстников. Миллар делает вывод, что рисование зависит от осознания правил, для которых предварительный зрительный опыт является облегчающим, но вовсе не необходимым условием. Отсутствие визуального восприятия во время рисования сказывается в основном на степени выразительности и точности изображения.
Глория Мармор расширила эту картину, доказав, что слепые дети тоже способны мысленно вращать фигуры и понимать, что значит зеркальное отражение. Она приходит к следующему выводу.
Не пользуясь ментальными образами, слепые дети преобразуют характеристики тактильных форм в их пространственные соответствия, которые, как и зрительные образы, позволяют одновременно отобразить все имеющиеся у объекта признаки. Кроме того, их вполне достаточно, чтобы ребенок смог создать зеркальное отражение предмета.
Возможно, самое убедительное свидетельство пространственных способностей слепых получено в ходе исследований Барбары Ландау и ее коллег из Университета Пенсильвании. В результате одного из экспериментов слепой от рождения ребенок в возрасте двух с половиной лет смог найти подходящую дорогу между двумя предметами, доходя до каждого из них только от третьего ориентира. Чтобы пройти по тому пути между объектами, который девочка не прокладывала сама, ей нужно было определить расстояние и угловое расположение знакомых путей, после чего на основе полученной информации проложить новый курс. Несомненно, ее успех при выполнении этого задания говорит о том, что метрические свойства пространства можно понять и при отсутствии визуальной информации. Более того, тот же ребенок в четыре года мог пользоваться тактильной картой, чтобы найти спрятанный где-то в комнате приз. Хотя девочка никогда прежде не пользовалась картой, она сразу же поняла ее суть, в том числе и условные обозначения, и смогла с ее помощью добраться до нужного места. Из таких находок Ландау и ее коллеги делают вывод, имеющий огромное значение и для нашего исследования: система пространственной репрезентации равно доступна как с помощью визуальных, так и тактильных ощущений, поэтому между поступающей зрительной информацией и пространственным интеллектом нет какой-либо особой связи.
Люди с другими патологиями также сталкиваются с характерными проблемами при восприятии пространственной информации. К этой группе относятся женщины с синдромом Тернера — заболеванием, при котором недостает второй X-хромосомы. В лингвистическом отношении жертвы этого синдрома остаются нормальными, но испытывают пространственные трудности, которые нельзя свести исключительно к визуальным проблемам. У людей с церебральным параличом наблюдается нарушение координированного движения глазных яблок, что в свою очередь приводит к проблемам с восприятием глубины и некачественным визуально-пространственным измерениям. Многие дети с мозговыми травмами тоже сталкиваются с особыми трудностями при выполнении визуальнопространственных заданий, например, при восприятии и понимании диагонали: существуют, по крайней мере, некоторые свидетельства того, что эти дети страдают детской разновидностью «синдрома правого полушария»[67].
Что касается визуальных образов, то имеются доказательства большого разнообразия индивидуальных характеристик. По мнению исследователя Стивена Косслина, многие люди не могут быть подходящими испытуемыми, поскольку утверждают, что обладают неразвитым визуальным воображением или не имеют его вообще. В ходе своего первого исследования данной проблемы Фрэнсис Гальтон обнаружил, что в ответ на просьбу подробно описать сегодняшний завтрак ученые, как правило, давали весьма немногочисленные образы (или не продуцировали их вовсе) , в то время как люди с явно скромными умственными способностями выдавали множество точных деталей. Это открытие поразило Гальтона, который сам обладал развитым воображением, в том числе и способностью четко представлять последовательность чисел от 0 до 200. Такие результаты поколебали бы и психолога начала XX века Э. Титченера[68], который твердо верил в силу воображения. Вот что он писал.
Разум в его обычных операциях представляет собой целую картинную галерею... Как только я слышу или читаю, что кто-то что-то сделал скромно, в замешательстве, с гордостью, покорно или любезно, то сразу же мысленно вижу скромность, замешательство, гордость, покорность или любезность. Величественная героиня сразу же представляется мне в виде высокой фигуры с единственной четкой деталью — рукой, которая строго придерживает серую юбку. Смиренный проситель видится мне склонившимся человечком, и единственная четкая деталь этого образа — согбенная спина, хотя иногда я вижу и руки, которые в отчаянии закрывают отсутствующее лицо... все описания должны быть либо очевидными, либо нереальными, напоминающими сказку.
Но романист Олдос Хаксли не понаслышке знал, что такое слабая способность создавать образы, ведь он сам признавался, что ему эта задача дается с трудом и слова не вызывают у него никакой мысленной картинки. Только приложив усилия, он мог создать довольно размытый образ. Возможно, это одна из причин, почему Хаксли в результате начал прибегать к наркотикам, благодаря которым «обделенный фантазией человек» может воспринимать действительность «не менее поразительную и значительную, чем мир, созданный Блейком».
У небольшого числа нормальных людей визуальные и пространственные способности достигают особенно высокого уровня развития. Например, изобретатель Никола Тесла[69] «мог представлять себе законченную картину любой части механизма, вплоть до мельчайших деталей». Такие образы были более четкими, чем любая фотография. Способность Теслы продуцировать ментальные образы была настолько развитой, что он мог создавать свои изобретения без чертежей. Более того, он утверждал, что может испытывать свои устройства в воображении, «заставляя их работать неделями, после чего ищет в них признаки износа». Художники тоже зачастую отличаются от остальных людей уровнем развития пространственных способностей. Например, Огюст Роден мог представлять различные части тела как проекцию внутреннего содержания: «Я заставлял себя каждой выпуклостью торса или конечностей передавать совершенство мышц или костей, скрытых глубоко под кожей». А Генри Мур способен представлять всю скульптуру так, будто она стоит у него на ладони.
Он воображает ее, независимо от размера, так, как если бы она полностью умещалась у него в руке. Мысленно он представляет сложную форму со всех сторон и, глядя на одну сторону, знает, как выглядит другая, Он соотносит себя с центром тяжести скульптуры, ее массой, весом. Он представляет себе ее объем в виде пространства, которое фигура занимает в воздухе.
В других случаях такие необычные пространственные способности наблюдаются у людей, ущербных во всем остальном. Английский художник Брайан Пирс продает свои картины по высокой цене, несмотря на IQ меньше нормы. Встречаются так называемые ученые идиоты, например японки Ямашита и Ямамура, необычайно развитые художественные способности которых особенно бросаются в глаза на фоне всех остальных посредственных талантов. И самый загадочный случай — это английская девочка-подросток Надя, которая, несмотря на тяжелую форму аутизма, еще в раннем детстве умела создавать чрезвычайно точные и изящные рисунки. (Один из них, который Надя нарисовала в пять лет, представлен на рис. 8.4.)

Рис. 8.4. Рисунок лошади, сделанный аутистичной девочкой Надей в пять лет
В случае с такими учеными идиотами и жертвами аутизма мы снова видим доведенный до совершенства один из видов интеллекта на фоне весьма слабого развития всех остальных способностей. Возможно, иногда такой расцвет визуальных и пространственных умений является в некотором роде компенсацией, когда с помощью родственников ребенок развивает относительно хорошо сохранившиеся способности. В самых крайних случаях, как, например, у Нади, подобное объяснение не кажется убедительным. К четырем или пяти годам Надя рисовала как одаренный подросток, а родители, похоже, и не подозревали о ее таланте (на который впервые обратил внимание лечащий врач девочки). У Нади была способность смотреть на объекты, запоминать их размер, форму и контуры, а затем передавать все это через определенные моторные паттерны, которые редко встречаются даже у самых талантливых нормальных детей. Возможно, одной из составляющих выступает эйдетический[70] образ — фотографическая способность удерживать в памяти вид предметов, увиденных всего однажды. (В ходе сравнения рисунков Нади с предварительно увиденными ею моделями подтвердилось предположение о том, что девочка обладала такими способностями.) Но умение переводить эти модели в определенную последовательность действий и комбинировать образы в произвольном и неожиданном порядке явно выходит за пределы обычных эйдетических способностей. Более того, ее графические способности были настолько совершенны, что девочке не нужно было рисовать элементы в первоначальной последовательности: она могла работать по желанию, начиная рисовать с любого угла листа, и была явно уверена, что сможет правильно передать требуемую форму.
И в то же время не вызывает сомнений, что дар Нади развивался за счет других способностей. Ей не хватало концептуальных знаний, необходимых для рисования. Она не могла сортировать объекты, когда нужно было сложить вместе предметы, относящиеся к одной категории. Более того, в собственных рисунках она не обращала особого внимания на то, что изображает. Иногда девочка бросала рисовать тот или иной объект на полпути или продолжала рисунок за пределами листа бумаги, как будто рабски следовала желанию передать форму, отложившуюся в памяти. Кроме того, она не могла создавать упрощенные рисунки объектов, всегда стремясь передать все замеченные ею детали.
На вопрос, являются ли способности Нади уникальными и присущими лишь одному ребенку с психическими отклонениями, наука пока не может дать ответ. Невозможно произвести все необходимые наблюдения. Но ее рисунки — красноречивое свидетельство того, что пространственный интеллект не зависит от других видов интеллекта и может достигать совершенства отдельно от них.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Доведенные до совершенства пространственные способности оказываются незаменимым подспорьем в нашей жизни. В некоторых случаях этот вид интеллекта играет важнейшую роль, например в жизни скульптора или математика-тополога[71]. Без развитых пространственных способностей невозможно добиться прогресса в этих сферах деятельности. Существует еще множество других ситуаций, где сам по себе пространственный интеллект не может привести к успеху но в совокупности с другими видами интеллекта придает деятельности человека необходимый толчок.
В науке значение пространственного интеллекта огромно. А. Эйнштейн обладал особенно развитыми способностями этого рода. Как и на Б. Рассела, на него произвели неизгладимое впечатление труды Евклида. Именно визуальные и пространственные формы, а также их комбинации особенно привлекали Эйнштейна: «Его интуиция уходила своими корнями в классическую геометрию. Он обладал очень сильным воображением и мыслил образами, т. е. проводил в уме целые эксперименты». Можно даже предположить, что самые фундаментальные умозаключения Эйнштейна основывались на пространственных моделях, а не только на математических рассуждениях. Сам ученый говорил так.
Слова, как в письменной, так и в устной речи, похоже, не играют никакой роли в моем мышлении. Физические единицы, служащие элементами мысли, — это знаки и более или менее четкие образы, которые можно создавать или комбинировать произвольно... Эти элементы в моем случае имеют визуальную, а некоторые — мышечную природу.
Ученые и изобретатели всегда признавали важность воображения для решения проблемы. Одним из самых известных примеров того, какое значение имеют подобные способности, остается случай с химиком Фридрихом Кекуле, который именно таким образом открыл формулу бензола. Он спал, и с ним случилось следующее.
И снова у меня перед глазами вращались атомы... Мой мысленный взгляд не замечал более крупные структуры... все двигалось и извивалось, подобно змеям. Но посмотрите! Что это? Одна из змей схватила себя за хвост, и эта фигура с насмешкой закружилась передо мной. Я проснулся, как от удара молнии.
Эти образы натолкнули Кекуле на мысль, что органические вещества, к которым относится и бензол, представляют собой не продолговатую, а кольцеобразную структуру. И еще один случай из новой истории, когда открытие молекулы ДНК Джеймсом Уотсоном и Франсисом Криком стало возможным благодаря способности представить самые разнообразные способы соединения молекул. Эти эксперименты — иногда проведенные в уме ученого, иногда на бумаге, а подчас с помощью трехмерной модели — в конце концов привели к правильной реконструкции двойной спирали.
Пространственный интеллект, подобно случаям, описанным в начале этой главы, может участвовать в развитии науки. Иногда проблема сама по себе является пространственной — например, построение модели ДНК, — поэтому для получения ответа необходимо мыслить (или даже непосредственно создавать модели) таким образом. Порой пространственный дар оказывается полезной, но отнюдь не незаменимой метафорой или моделью процесса, как это случилось, когда Ч. Дарвин представил себе происхождение видов в виде разветвленного дерева, а о выживании самых приспособленных думал как о гонке между представителями вида.
Прогресс в науке может быть тесно связан с развитием определенных пространственных способностей. Как утверждает Э. Фергюсон, многие проблемы, решением которых заняты ученые и инженеры, невозможно описать словами. Научное развитие в эпоху Возрождения, вероятно, имело непосредственное отношение к записи и передаче огромного запаса знаний в виде рисунков, как, например, было с известными набросками Леонардо да Винчи. Вместо того чтобы запоминать обширные перечни объектов или деталей (что часто приходилось делать в Средневековье), ученые-энтузиасты исследовали разнообразные машины и организмы, недоступные непосредственному визуальному наблюдению. Изобретение книгопечатания оказалось решающим для распространения этих изображений, что было не менее важно, чем распространение текстов. В общем, доступность книг сыграла важнейшую роль в популяризации науки и в распространении научного мышления.
Конечно же, пространственные знания могут пригодиться для самых разнообразных научных целей в качестве полезного инструмента, подспорья для мысли, способа сохранения информации, формулировки проблемы или непосредственного варианта решения задачи. Возможно, Макфарлейн Смит был прав, когда предположил, что после того, как человек приобретает необходимый минимум лингвистических знаний, именно его уровень владения пространственными способностями определяет, насколько он сможет продвинуться в науке.
Необходимо подчеркнуть, что в различных отраслях науки, искусства и математики пространственный интеллект имеет неодинаковое значение. В топологии эти способности важны намного больше, чем в алгебре, а физика зависит от пространственного интеллекта намного сильнее, чем традиционная биология или социальные науки (где несколько важнее лингвистические способности). Люди с отлично развитым пространственным интеллектом, например Леонардо да Винчи или современные ученые Бакминстер Фуллер и Артур Лоеб, пользуются преимуществом работать не только в этой сфере, но и в других областях, добиваясь особенных успехов в науке, инженерном деле или искусстве. Наконец, тот, кто желает овладеть этими видами деятельности, должен изучить «язык пространства» или «мышление в пространственной среде». Для подобного мышления требуется понимание того факта, что в пространстве допускается сосуществование одних структур и недопустимо появление других. Для многих людей
мышление в трехмерном пространстве напоминает изучение иностранного языка. Число четыре уже не больше трех и не меньше пяти, теперь оно означает количество вершин и граней тетраэдра. Шесть — это количество ребер тетраэдра, граней куба или вершин октаэдра.
Если для подтверждения важности пространственного интеллекта необходимо выбрать одну область знания, то лучше всего подойдут шахматы. Способность предвосхищать ходы и их последствия имеет непосредственное отношение к уровню воображения. И профессиональные шахматисты, как правило, всегда обладают отточенной зрительной памятью — или, как они сами говорят, визуальным воображением. При тщательном изучении этих способностей становится понятно, что такие люди наделены памятью особого рода.
В одном из первых исследований, проведенных около 100 лет назад, Альфред Бине, основатель тестирования интеллекта, изучал мнемоническую виртуозность шахматной партии вслепую. Это одна из разновидностей игры, когда шахматист с завязанными глазами играет несколько партий одновременно против соответствующего количества соперников. Каждый из соперников видит свою доску, а шахматист — нет. Единственная подсказка для него — это произнесение вслух последнего хода, сделанного его оппонентом, на основании которого он делает свой ответный ход.
Что же утверждают сами игроки? Из отчета Бине мы узнаем, что д-р Тарраш говорит так: «В некотором смысле, игра вслепую присутствует в каждой шахматной партии. Например, любая комбинация из пяти ходов прорабатывается в уме. Единственное отличие при этом — игрок сидит перед доской. Вид шахматных фигур зачастую мешает обдумыванию». Этот факт можно расценивать как свидетельство того, что партия, как правило, происходит на довольно абстрактном уровне, т. е. названия фигур, не говоря уже об их физических признаках, не имеют значения. Главное — это сила каждой фигуры, что она может и не может делать.
По мнению Бине, успешная игра вслепую зависит от физической выносливости, умения предельно концентрировать внимание, мастерства, памяти и воображения. Для шахматистов эта игра представляет собой наполненную глубоким смыслом деятельность, поэтому они стараются ухватить суть происходящего на доске. У каждой партии свой характер и форма, влияющие на чувствительность игрока. Как говорит г-н Гетц: «Я чувствую это так, как музыкант чувствует гармонию оркестра... Часто у меня возникает порыв описать характер сложившегося на доске положения общим эпитетом... Оно бывает либо простым и знакомым, либо оригинальным, волнующим и наталкивающим на размышления». Поэтому Бине комментирует это высказывание следующим образом: «Именно многообразие идей и предположений, возникающих во время игры, делает партию интересной и помогает ее запомнить». Игрок вслепую должен помнить основные цепочки умозаключений и стратегий. Пытаясь воссоздать данное положение, он вспоминает свои рассуждения до этого и таким образом понимает, какой ход нужно сделать. Он не помнит этого хода в отдельности, а, скорее, удерживает в памяти отдельный план нападения и тот ход, который необходимо было сделать, чтобы начать атаку. «Сам по себе ход — это вывод из всего долгого процесса размышлений; прежде всего, необходимо именно поразмыслить». Более того, один из методов, которым пользуются игроки, — изучить различные стратегии игры в каждой партии, благодаря чему партия становится более запоминающейся.
Что же можно сказать о памяти шахматистов? Она невероятно развита, особенно хорошо запоминаются значительные партии из личного опыта игрока. Но следует повториться, что память не сводится всего лишь к простому воспроизведению событий. Для хорошего игрока каждая партия обладает своим отличительным и индивидуальным характером, таким же, как и прочитанная пьеса, увиденный фильм или понравившаяся прогулка. Бине противопоставляет такую память памяти ученого идиота, который запоминает что-либо необдуманно, и как только данное действие совершается, память о нем стирается, потому что в ней не содержится ничего значительного для этого человека. В отличие от таких случаев, в памяти шахматиста информация удерживается намного дольше, поскольку в ней хранятся планы и идеи и она не является механическим запоминанием.
Однако игроку вслепую каким-то образом необходимо удерживать в уме положение на шахматной доске. Вот что вспоминает один из ведущих шахматистов.
Чтобы не забыть сложившееся положение, я постоянно держу его перед глазами во всей присущей ему пластичности. В уме у меня есть четкий образ шахматной доски, и чтобы не разрушить его визуальными раздражителями, я закрываю глаза. Затем все фигуры превращаются в живых людей. Из всех этих операций самой важной является создание ментального образа шахматной доски. Как только вы представляете себе доску, то вообразить детали уже не так трудно, прежде всего в их первоначальном расположении. И вот начинается игра... В мыслях у меня перед глазами на доске разворачиваются события, оригинальная картина немного меняется, и я пытаюсь запомнить ее уже в таком виде. Соперник отвечает, и в картине снова происходят изменения. Так я запоминаю изменившиеся образы один за другим.
Но по мнению Бине, чем лучше игрок и чем больше партий он играет, тем более абстрактной становится ментальная репрезентация игры. Нет необходимости ярко представлять себе каждую фигуру, не говоря уже о ее форме и размере. Главное теперь — абстрактное представление, при котором в уме удерживается общий ход игры и «внутренний сигнал» позволяет восстановить в памяти необходимый отрезок партии — не более того. Форма и цвет не имеют значения. Мастер Тарраш говорит об этом так.
Игрок, обдумывающий стратегию игры, не видит кусок деревяшки с головой лошади. Он представляет себе путь, по которому может передвигаться шахматный конь, в результате чего можно потерять три пешки, если они в тот момент неудачно располагаются на доске. Игрок может обдумывать решительное наступление или же размышлять над опасным положением, в которое его загнал противник.
А. Бине приходит к выводу, что лучшие игроки обладают зрительной памятью, но она в корне отличается от той, которой наделен художник. Хотя эта память и считается зрительной, однако она абстрактна, это скорее разновидность геометрической памяти. Можно сравнить вывод Бине с мнением Наполеона по поводу военных действий. Полководец, начинавший битву, имея перед глазами тщательно разработанный план, не может быстро менять этот сложившийся образ при возникновении каких-либо непредвиденных изменений на поле боя, поэтому остается всего лишь плохим полководцем. Более того, Наполеон утверждал, что люди, которые думают только конкретными ментальными образами, не способны командовать армией. В этом, вероятно, и заключается отличие между буквальным воображением ученого идиота или Нади у мольберта и более абстрактным интеллектом шахматиста, полководца или физика-теоретика. Будет оправданным подчеркнуть именно пространственную, а не чисто визуальную составляющую этого умения.
Открытия Бине подтвердились в ходе, современных исследований. Адриан де Грут и его коллеги из Гааги доказали, что профессиональные шахматисты обладают развитой способностью восстанавливать в памяти шахматную доску, которую они видели всего лишь несколько секунд, — при этом главное, чтобы фигуры на доске располагались со смыслом. Если же они поставлены произвольно, мастер-шахматист окажется ничем не лучше любого новичка. Это открытие говорит о том, что шахматисты в качественном отношении не отличаются от других людей в том, что касается зрительной памяти на произвольные конфигурации. Скорее, отличие заключается в способности соотносить увиденную ситуацию с теми, что встречались раньше, осмысленно расшифровывать ее и пользоваться этим для припоминания. Герберт Саймон, один из первых исследователей искусственного интеллекта, сотрудничавший с командой де Грута, считает, что профессиональные шахматисты освоили более 50 тысяч возможных моделей игры, и именно эти примечательные знания позволяют им так успешно действовать, даже когда игроки видят новое расположение фигур на доске всего несколько секунд. Однако эти исследователи не занимались вопросом, обладали ли эти люди, впоследствии ставшие мастерами по шахматам, врожденной склонностью к пониманию и запоминанию таких моделей игры.
На мой взгляд, невероятно быстрый прогресс, которого добились эти немногие избранные в течение первых десяти лет жизни, трудно объяснить иначе, чем врожденным интеллектом в одной или нескольких сферах. В отличие от замечания Капабланки, которое приводится в начале данной главы, пространственный и логико-математический интеллекты — это, вероятно, главные составляющие шахматных способностей, и их важность для каждого человека различна. Однако знания о шахматистах напоминают нам, что одни лишь развитые пространственные способности не сделают из человека гроссмейстера, главное — это умение соотносить увиденную модель с теми, что хранятся в памяти, и строить на основе сложившегося на доске положения целостный план партии. Именно это можно назвать настоящим шахматным талантом.
ВИЗУАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА
Если значение пространственного интеллекта в науке можно недооценить, то основное положение, которое он занимает в изобразительном искусстве, не вызывает сомнений. Для занятия живописью и скульптурой необходима тонкая чувствительность к визуальному и пространственному миру, а также способность воссоздавать его в произведении искусства. Определенное значение имеют и некоторые другие виды интеллекта, например умение контролировать тонкую моторику, но обязательным условием графического мастерства является именно совершенство пространственных способностей.
Неудивительно, что художники постоянно говорят о свойствах видимого мира и о том, как их лучше всего передавать на холсте. В письмах к брату Тео Винсент Ван Гог не раз возвращается к своим попыткам овладеть этими свойствами. Например, говоря о цвете, Ван Гог утверждает следующее.
У цвета есть такие признаки, которые я не моту найти в голландской живописи. Вчера вечером я рисовал влажную землю в лесу, покрытую увядшими и сухими березовыми листьями. Ты даже не можешь себе представить более красивого ковра, чем этот коричневато-красный покров, переливающийся в свете заходящего осеннего солнца под сенью деревьев. Вопрос, показавшийся мне очень сложным, заключался в следующем: как передать глубину цвета, огромную силу и твердость этой земли? И рисуя, я впервые осознал, как много было света в той темноте, как нужно передать его и в то же время сохранить сияние и глубину насыщенного цвета.
В одном из своих писем он говорит И О более общих задачах, стоящих перед художником.
Существуют законы пропорции, светотени, перспективы, которые необходимо знать, чтобы уметь хорошо рисовать. Без этих знаний рисование будет всего лишь бесплодной борьбой и ни к чему не приведет. Следующей зимой я постараюсь освоить основы анатомии, этого больше нельзя откладывать, иначе время будет просто потеряно зря.
Архитектор и живописец XX века Ле Корбюзье говорит о трудностях, с которыми сталкивается художник, пытаясь передать объект.
Наше понимание объекта основывается на знании его, на знании, полученном благодаря органам чувств, ощущениям, знании его материала, объема, строения и всех свойств. И обычный вид в перспективе является лишь применением на практике воспоминаний об этих знаниях.
Как правило, художники начинают с изучения техник, которые были разработаны их предшественниками. Если же такая техника пока недоступна, они постараются создать ее самостоятельно. Альбрехт Дюрер и его современники в эпоху Возрождения стремились изучить перспективу, которая не давалась предыдущим поколениям. На одной известной гравюре на дереве Дюрер предложил любопытное решение. Художник изобразил квадратную решетку на окне и похожую решетку на поверхности рисунка, благодаря чему квадрат за квадратом передает образ в перспективе, как будто увиденный через окно.
Кроме того, художники не должны забывать и о мире людей. Историк живописи эпохи Возрождения Джорджо Вазари так писал о да Винчи: «Леонардо всякий раз так радовался, когда замечал у кого-то странную голову или бороду, прическу или лицо, что следовал за этим человеком целый день и старался в точности его запомнить, чтобы, вернувшись домой, можно было нарисовать его так, как будто этот человек находится рядом».
Рассказывая о Микеланджело, Вазари помогает нам понять, как последователь Леонардо развивал свой дар.
У него была невероятно хорошая память, он мог запомнить произведения других и воспользоваться ими, увидев эти работы всего лишь один раз. В своих работах он никогда не повторялся, потому что помнил все, что когда-либо создал... В юности его друзья устроили состязание: они пытались по памяти воссоздать рисунки на стенах городских домов, которые делают некоторые невежи. Он помнил, что видел один из таких грубых рисунков на стене, и нарисовал его так, словно тот находился у него перед глазами. Так он превзошел всех остальных художников, что было очень сложно, учитывая его тогдашние познания в рисовании.
Возможно, Микеланджело от рождения обладал точной зрительной памятью и поэтому мог без усилий создавать или воссоздавать все виденные им раньше образы. Но художник Уильям Хогарт предоставляет нам свидетельства того, что способность к восприятию и запоминанию можно в себе развить.
Поэтому я решился приучать себя к тренировке технической памяти и, мысленно повторяя детали, из которых состоят объекты, научился комбинировать их и изображать с помощью карандаша... Таким образом я приобрел привычку сохранять любой объект в уме, а не копировать его на месте.
И сам Леонардо советовал своим ученикам запоминать трещины на старой стене, чтобы увидеть, какие формы можно создать на их основе.
Как бы там ни было, подобные свидетельства говорят о том, что пластическое искусство начинается с подробных наблюдений за повседневной жизнью. Но художественные достижения на этом не заканчиваются, ведь слишком много абстрактных идей остаются за пределами мира личных впечатлений. Более того, в живописи очень большое место занимает то, что выходит за рамки простого воссоздания реальности. Пикассо утверждает: «Живопись — это поэзия, она никогда не передается прозой, а всегда записывается стихами с помощью пластичных ритмов... Пластичные ритмы — это формы, которые рифмуются друг с другом или вызывают ассонанс либо с другими формами, либо с пространством вокруг». Рудольф Арнхейм, изучающий деятельность художника, говорил, что как реалист, так и абстракционист стремятся передать образы, исполненные для них смысла.
Точно так же, как химик «отделяет» вещество от примесей, которые не позволяют ему изучить его природу и свойства, произведение искусства очищает значимый образ. В нем представлены абстрактные темы в самом общем, но отнюдь не схематичном виде. Разнообразие отдельных переживаний отражено в крайне сложных формах.
Бен Шан, один из ведущих американских художников XX века, говорит о борьбе между идеей и образом: «Идея возникает на основе образа... Вспомните о Тернере[72], ведь этот великий новатор действительно владел цветом и управлял формой так, что с их помощью создавал свет». А Герберт Рид описывает усилия, которые необходимо приложить, чтобы увидеть в фигуре, например стуле, который является результатом работы приземленного разума, не физический объект, а прекрасные цвета и форму.
Все эти свидетельства подчеркивают важность того аспекта пространственного интеллекта, который я уже называл чувствительностью к композиции. Возможно, как только человек почувствовал непреодолимый интерес к живописи, для него очень важными становятся проблемы построения, цвета, формы, при этом предмет сам по себе является лишь отправным пунктом для размышлений. Подтверждая эту мысль, Пабло Пикассо говорит о значении формального элемента для всех видов графического искусства: «Рисунок, дизайн и цвет в кубизме понимаются точно так же, как и во всех других направлениях искусства». В занятии искусством имеется своя четкая логика, отличная от подражания природе, и благодаря ей этот вид деятельности приближается к другим способам скрупулезного исследования. Два века назад английский художник Джон Констебль провозгласил: «Живопись — это наука, и ею следует заниматься так же, как и изучением законов природы. Почему же в таком случае не счесть пейзаж разновидностью философии природы, для которой картины являются не чем иным, как экспериментами?» Несколько лет спустя Поль Сезанн заметил: «Я продолжаю свои исследования». А Клайв Белл высказал следующее предположение.
Вирджиния [Вульф] и Пикассо были необычными людьми: они значительно отличались от всех остальных и мыслили совершенно иначе, чем мы... У них были и свои собственные стандарты. Спонтанно мы стремились их оценить, ведь в тот момент мы не только принимали эти стандарты, но и впитывали все, что нам предлагали эти люди. Их выводы были такими же убедительными, как и умозаключения математиков, хотя и шли другими путями.
Достижения мастеров живописи так же далеки для большинства из нас, как и процессы, лежащие в основе творчества выдающегося композитора или танцора. Немного ближе к нашему миру находится деятельность знатока искусства, того человека, который смотрит и наслаждается произведениями, который может дать тонкое объяснение, узнать стиль и высказать свое суждение. В ходе собственных исследований я выяснил, что такое умение могут развить в себе даже маленькие дети, которые учатся забывать о самом предмете и обращать внимание на те свойства мазков кисти и структуру холста, которые зачастую и определяют стиль мастера.
Однако было бы непростительной ошибкой предполагать, что понимание искусства развивается автоматически или что для него не требуются особые навыки. Пикассо язвительно заметил следующее.
Люди говорят: «У меня нет музыкального слуха», но никогда не скажут: «У меня нет понимания искусства»... Людей нужно заставлять смотреть на живопись, забывая о природе. Мы всегда верим тому, что видим, правильно? Но это не так. Мы всегда смотрим сквозь очки. Людям не нравится живопись. Все, что их интересует, — это какие картины будут считаться хорошими лет через сто.
Но некоторым все же удается стать настоящими знатоками искусства, и, к счастью для нас, английский историк искусства Кеннет Кларк выделил некоторые основные качества, необходимые для этого. Уже в детстве его особенно привлекало искусство. Бот что он говорит, вспоминая о посещении картинной галереи.
Я сразу же перенесся в другую реальность. С одной стороны были холсты с изображенными на них цветами такой невероятной красоты, что я не только онемел от восторга, но и подумал, что попал в другой мир. Благодаря этим формам и цвету я осознал иной порядок, существующий на самом деле.
К. Кларк не забыл эти ранние впечатления. Он так говорит об истинно эстетических ощущениях.
Я не настолько тщеславен, чтобы сравнивать это с тем, как ребенок-музыкант сразу же понимает фугу или юный математик радуется, впервые осознав доказательство Евклида бесконечности простых чисел... И тем не менее, мне кажется, моя склонность в чем-то близка этим ощущениям... и если кто-то из психологов отважится исследовать эту таинственную область человеческого сознания, я обязательно буду участвовать. Спустя 55 лет я побывал в храме возле Киото... Присев у двери, я явственно вспомнил, что уже видел эти изображения, поэтому сказал своему спутнику, официальному гиду из МИДа: «Нет-нет, это невозможно!»
Но на самом деле он был прав — эти картины были представлены на выставке в Нью-Йорке в 1910 году, поэтому он вспомнил свои впечатления.
К. Кларк отмечает, что с самого раннего детства его до глубины души трогали картины, и он был совершенно уверен в своих суждениях: «Мне никогда не приходило в голову, что кто-либо еще, с более развитым вкусом, может думать иначе». И все же, чтобы хорошо узнать художников и интуитивно улавливать различия между ними, ему пришлось много учиться. Пристально рассматривать подлинные рисунки Микеланджело или Рафаэля, самостоятельно определять, какие из них кому принадлежат, было
самой лучшей тренировкой для глаза, которую только может пройти молодой человек. Ты со всей смиренностью ощущаешь, что проникаешь в разум художника и понимаешь подоплеку его малейшего жеста... При этом можно ухватить и самое неуловимое из всех свойств произведения искусства — чувство формы.
К. Кларк так определяет задачу знатока.
Чтобы утверждать, принадлежит ли картина кисти Беллини[73] или Боттичелли, необходимо обладать памятью, способностью к анализу и чувствительностью как зрения, так и разума. Больше всего это напоминает критику литературного произведения, что считалось вершиной классического образования... У знатока искусства память на факты и документы заменяется зрительной памятью на элементы пространства и композиции, оттенок и цвет... Это требовательная дисциплина. Здесь необходимо также понимание, неуловимое чувство того, как линия рождает форму, а также каким таинственным образом соотносятся цвет и оттенок. Для вынесения надежного суждения о подлинности картины необходимо задействовать все умения человека.
Это тоже одно из применений пространственного интеллекта, которое вызывает не меньшее благоговение, чем работа ученого, архитектора, скульптора или художника.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Как вид интеллекта, имеющий продолжительную историю, пространственный интеллект легко обнаруживается во всех известных культурах на планете. Несомненно, некоторые открытия, например геометрия или физика, кинетическая скульптура или импрессионистская живопись, присущи ограниченному кругу сообществ. Но способность находить путь в сложных условиях, заниматься разнообразными видами искусства и ремесел и играть в различные игры, ценить многочисленные виды спорта можно обнаружить повсеместно.
В данном случае особый интерес вызывает тот факт, что существуют типы пространственного интеллекта, которые развиваются в культурах, не похожих на нашу. Способность замечать мелкие детали достигла своего апогея у бушменов народности гикве в пустыне Калахари, которые по следу антилопы могут установить ее размер, пол, комплекцию и настроение. На площади в несколько сотен квадратных миль, по которой путешествуют эти люди, они знают «каждый куст и камень, каждый выступ на земле. Они дали название каждому участку, на котором можно найти ту или иную пищу, даже если это место имеет всего несколько ярдов в диаметре или если на нем растет всего один куст или дерево». Совершенная зрительная память не менее ценится и в племени кикую в Кении. В детстве Джомо Кениатта научился узнавать каждое животное в стаде, принадлежавшем его семье, по особым приметам, размеру и особенностям рогов. После этого мальчик прошел проверку: «Смешались два или три стада, и он должен был отобрать животных, которые принадлежали его семье. Или же нескольких животных прятали, и мальчик должен был осмотреть стадо и выяснить, каких не хватает».
Многие игры, распространенные в мире, развивают не только логико-математический, но и пространственный интеллект. Танзанийские дети играют в игру, которая во многом основывается именно на этих способностях. 45 бобов раскладываются в девять рядов, образуя треугольник. Бобы пронумерованы по порядку. Когда игрок не смотрит, другие участники время от времени убирают один из бобов, двигаясь от основания к вершине и попеременно убирая бобы из каждого ряда. Игрок должен назвать номер каждого убранного боба, но промолчать, если этот боб был первым в ряду. Таким образом, он находится в том же положении, что и шахматист, играющий вслепую, который должен представлять воображаемую доску. Члены племени шонго в Конго играют в игру, в которой на песке рисуют сложные узоры, а игрок должен повторить это изображение одним движением, не отрывая пальца от песка и не меняя ни одного элемента рисунка. Как и в некоторых играх западной культуры, здесь решающей оказывается способность использовать образы, чтобы спланировать изменяющийся порядок действий, — вполне возможно, что при этом объединяются пространственный и логикоматематический интеллекты, как это происходит в шахматной партии.
Удивительно также применение пространственных способностей и с более прагматичными целями. Как я уже отмечал, эскимосы добились определенного совершенства своих пространственных умений, возможно, потому, что им довольно сложно находить путь в таких природных условиях. Эскимосы должны уметь выявлять малейшие трещины на льду, потому что из-за отколовшейся льдины можно оказаться в открытом океане. Кроме того, чтобы найти дорогу назад к жилищу, затерянному в тундре, охотник должен обращать внимание на угол и форму снежных наносов, ему необходимо уметь распознавать погодные условия с помощью тщательных наблюдений за темными и светлыми участками облаков.
Примеры острой пространственной чувствительности у эскимосов уже стали легендой. Например, они умеют читать текст как снизу вверх, так и сверху вниз, могут вырезать сложные фигуры из кости, не имея при этом перед глазами никаких образцов. Эскимосы, которые никогда прежде не видели того или иного оборудования, подчас могут отремонтировать его в тех случаях, когда это не удается даже привычным к этим устройствам пользователям. Предположительно, такая способность требует сочетания пространственного интеллекта с другими его видами.
Может сложиться впечатление, что лишь мужчины-эскимосы могут отлично выполнять пространственные задания, однако качественное решение подобных задач присуще и женщинам этой народности. Данное открытие говорит о том, что тендерные различия, которые, как принято считать в западном обществе, влияют на пространственные способности, в определенных культурах не имеют такого влияния на этот вид интеллекта (или наоборот, предубежденность нашего общества нарушает пространственные умения у женщин). По крайней мере, 60% эскимосов-подростков имеют такие же высокие результаты при проверке пространственных способностей, как лучшие 10% детей европеоидной расы. Такие же развитые способности отмечаются у них и в тестах на понятийное мышление и внимание к визуальным деталям.
Но здесь я не имею в виду влияние климата. Высокоразвитые пространственные способности отмечаются и у совершенно другого народа — племени с атолла Пулуват, живущего на Каролинских островах. В их случае эти способности совершенствовались в мореплавании, поскольку представители этой народности умеют ходить под парусом на каноэ. У них настолько развит пространственный интеллект, что профессиональные моряки Запада должны были бы испытывать перед ними священный трепет.
Ключом к навигации пулуватов служит расположение звезд на небе. Чтобы плавать среди множества островов, эти люди должны помнить точки или направления, в которых восходят и скрываются за горизонтом определенные звезды. Эти знания сначала заучиваются механически, а после того, как моряк проведет в путешествии много месяцев, они становятся интуитивными. Наконец, эти знания должны быть интегрированы с множеством факторов, таких как расположение солнца, борьба с волнами, изменения волн с переменой курса, ветра и погоды, умение вести судно и управлять парусом, способность замечать рифы на глубине в несколько морских саженей по внезапному изменению цвета воды, а также вид волн на поверхности. Томас Гледвин, изучавший эти приемы под руководством искусного моряка, пришел к следующему выводу.
Никаких знаний о наблюдаемых явлениях не будет достаточно для того, чтобы управлять судном в самых разнообразных ситуациях, которые могут сложиться в море. Различные категории информации должны сложиться в единую систему, элементы которой дополняют друг друга, в результате чего достигается необходимый уровень точности и надежности.
Чтобы приобрести эти знания, избранные члены племени должны изучить множество премудростей и пройти через многочисленные испытания.
Учение заканчивается лишь после того, как ученик по требованию учителя может добраться до любого острова поблизости и без запинки рассказать, какие звезды восходят и заходят между этим островом и соседними. Вооружившись этими знаниями, моряк может отправляться в плавание, потому что он знает, что в результате окажется поблизости от нужного ему места, сможет удержать каноэ по курсу, а приблизившись к месту назначения, сможет определить нужный остров и направиться прямо к нему... [Искусный моряк] умеет также изменять свое положение так, что когда он придерживается курса, то выбранная им звезда не меняет своего местонахождения или, предположим, остается над уключиной весла. Таким образом, он может плыть почти вслепую, не сверяясь с курсом.
Хотя такое плавание кажется однородным процессом, на самом деле путешествие состоит из нескольких сегментов. Количество положений звезд, находящихся между азимутом острова-подсказки с позиции исходной точки и этим же азимутом, увиденным с места назначения, определяет количество сегментов, которые необходимо осмыслить. Когда моряк мысленно представляет себе, что остров-подсказка находится под определенной звездой, то отмечает, что некоторое количество сегментов было выполнено, а значит, часть пути уже пройдена. Подобно слепому, моряк не может видеть островов, но он выучил, где они находятся и как удерживать в уме их расположение. На вопрос, где лежит какой-либо остров, он может указать на него сразу же и без ошибки.
Как сами члены этого племени оценивают свои способности? Очевидно, они уважают своих моряков не потому, что те «умны», а за их дела, за их способность безопасно проплывать от одного острова к другому. На вопрос, кого они считают умными, пулуваты, как правило, называют своих лидеров или других представителей, отличающихся качественными суждениями. Гледвин говорит так: «Мы на Западе высоко ценим интеллект. По этой причине мы уважаем моряков с атолла Пулуват. Представители этой народности тоже уважают своих моряков, но не потому, что те умны. Они уважают их за то, что те умеют водить суда». Но Гледвин призывает нас не отмахиваться от этих способностей как от конкретных, примитивных или исключительно рациональных. По его мнению, «абстрактное мышление является преобладающей чертой навигации пулуватов». Другими словами, эти моряки в совершенстве используют пространственный интеллект.
Основы навигации у пулуватов передаются от старших к младшим, при этом старики достигли величайшего мастерства в искусстве мореплавания. Точно так же среди эскимосов и многих других традиционных сообществ старшее поколение, как правило, хранит знания предков. Поразительно, что и на Западе великие достижения в сфере пространственного интеллекта зачастую отмечаются у пожилых людей. Например, в случае с живописью, Пикассо и Тициан рисовали до 90 лет, и большинство западных художников продолжали работать до конца жизни. Современный скульптор Генри Мур, которому сейчас за 80 и которого можно назвать ярким примером такой работоспособности, утверждает следующее.
Действительно, величайшие художники создавали свои лучшие работы в зрелом возрасте. Я думаю, что, в отличие от большинства отраслей науки или искусства, изобразительное искусство теснее связано с реальным жизненным опытом человека. Живопись и скульптура имеют больше отношения к внешнему миру, поэтому никогда не идут на убыль.
Здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Как это иногда бывает, во время обычных тестов на визуально-пространственный интеллект нормальные взрослые люди, как правило, с возрастом демонстрируют худшие показатели, в результате чего возникло предположение, что правое полушарие мозга более уязвимо перед старением. Но в то же время люди с высокоразвитыми пространственными способностями часто показывают отличные результаты до конца жизни. На мой взгляд, у каждого вида интеллекта есть свой жизненный цикл: если логико-математический интеллект у всех людей с возрастом становится более уязвимым, телесно-кинестетический также подвергается все большему «риску», то по крайней мере некоторые аспекты визуально пространственного интеллекта не подвержены воздействию возраста, особенно у тех, кто на протяжении жизни постоянно занимался их совершенствованием. Сохраняется осознание целостности, чувство «гештальта», которое занимает центральное место в пространственном интеллекте и, похоже, является некоей компенсацией старения — это постоянная способность понимать целое, различать модели, даже если теряются некоторые детали или мелкие подробности. Возможно, на этой чувствительности к моделям, формам и целостности зиждется мудрость.
Рассмотрев пространственный интеллект, мы завершили изучение второго его «объектного» вида. Но в отличие от логико-математического интеллекта, пространственный тесно связан с физическим миром, миром предметов и их расположения в нем. Вероятно, это еще одна причина «сохранности» данного вида интеллекта. Однако существует и третий вид «объектного» интеллекта, который тоже необходимо затронуть, — он больше связан с человеком в том смысле, что обуславливает работу тела и лежит в основе действий человека в мире. В следующей главе мы приступим к рассмотрению телеснокинестетического интеллекта.
9 Телесно-кинестетический интеллект
Наш герой Бип с трудом дотягивает чемодан до платформы, садится в поезд, находит свое место и наконец с большим трудом поднимает тяжелый багаж на верхнюю полку. Когда поезд набирает скорость, Бип беспокойно мечется по купе, и тут его чемодан, с такими усилиями заброшенный наверх, падает с полки. Бипу удается его поймать и снова аккуратно положить назад. К нему подходит проводник, чтобы забрать билет. Бип шарит по карманам, в отчаянии даже выворачивает их, а в это время поезд швыряет его из стороны в сторону. Когда найти билет так и не удается, поиски становятся просто неистовыми, и Бип внимательно осматривает все отделения в чемодане.
Затем наш герой достает из чемодана завтрак. Он открывает крышку термоса, вынимает пробку, наливает из открытого термоса кофе в чашку, в которую теперь превратилась крышка. Но из-за раскачивания поезда кофе из термоса никак не попадет в чашку. Жидкость постоянно льется туда, где в предыдущий момент была емкость. Беспомощный Бип в конце концов засыпает. Когда поезд замедляет ход и делает внезапную остановку, он резко просыпается, явно потревоженный таким движением.
ПОНЯТИЕ ТЕЛЕСНО-КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Такую небольшую сценку можно наблюдать в любом поезде, а еще чаще — в комедийной пьесе или фильме. На самом деле это пантомима великого французского артиста Марселя Марсо, представленная в описании психолога Марианны Симмел. Она отмечает, что Марсо, на первый взгляд, делает то же, с чем постоянно сталкиваются «реальные люди», «но при этом он выглядит очень смешно». В действительности же, чтобы изобразить отсутствующие объекты, события и действия, необходимо предельно отвлечься от повседневной жизни. Именно от мима зависит создание образа предмета, человека или действия, а для этого требуется умение искусно передать шарж, гротеск в движениях и реакциях; только в этом случае отдельные элементы будут недвусмысленно поняты как целостное представление. Например, чтобы изобразить предмет, миму нужно с помощью жестов очертить его контуры, а с помощью выражения лица и движений тела передать, что именно делает этот предмет и каково его воздействие на человека. Чрезвычайно талантливые мимы, к которым относится Марсель Марсо, способны изображать не только черты характера (например, задиру) и действия (подъем вверх), но и животных (бабочку), явления природы (рокот волн) или даже абстрактные понятия, такие как свобода и рабство, добро и зло, уродство и красота. Что еще удивительнее, они зачастую создают несколько таких образов одновременно.
Мим — это исполнитель, талант которого встречается очень редко. Виды интеллекта, которыми он пользуется, не очень развиты в нашей культуре. И все же, вероятно, именно по этой причине такая форма телесно-кинестетического интеллекта (или, проще говоря, телесного) производит наибольшее впечатление. Для этого вида интеллекта характерна способность искусно владеть собственным телом и пользоваться этим умением для выразительных и четко очерченных целей: именно это мы видим, когда Марсо делает вид, что бежит, поднимается по ступенькам или швыряет на пол тяжелый чемодан. Типичным признаком этого интеллекта можно также назвать способность мастерски обращаться с предметами — как с теми, для работы с которыми необходимо владение тонкой моторикой, так и с теми, в работе с которыми участвует все тело (т. е. задействована грубая моторика). Это тоже можно видеть в выступлении Марсо, когда он аккуратно отвинчивает крышку термоса или качается из стороны в сторону в движущемся поезде. В данной главе я расскажу об этих двух способностях — контролировать движения своего тела и искусно обращаться с предметами, поскольку они лежат в основе телесного интеллекта. Как я уже говорил при описании других видов интеллекта, вполне возможно, что эти два элемента существуют независимо друг от друга, но, как правило, умение владеть телом для передачи чувств или выполнения определенных действий, скорее всего, тесно связано со способностью манипулировать объектами.
Учитывая эти основные компоненты, я обращу особое внимание на тех людей (например, танцоров или пловцов), которые доводят до совершенства умение владеть своим телом, а также упомяну тех (скажем, ремесленников, игроков в мяч или музыкантов), кто отлично умеет обращаться с предметами. Но мы поговорим и о тех людях, для которых использование тела является основным в жизни, например об актерах или изобретателях. Здесь необходимо подчеркнуть, что в последнем случае большое значение имеют и другие виды интеллекта. Например, для актера или исполнителя важно мастерское владение личностным интеллектом, а также многими аспектами лингвистического или музыкального интеллекта как одной из составляющих успешного выступления. Практически для любой роли в обществе требуется больше чем один вид интеллекта, поэтому ни одно выполнение действия не основывается лишь на одном его виде. Более того, даже способность Марселя Марсо с таким совершенством владеть своим телом, вероятнее всего, объяснялась совместной работой нескольких видов интеллекта.
Мастерское владение телом играло важнейшую роль для выживания нашего вида на протяжении многих тысяч или даже миллионов лет. Затрагивая эту тему, нельзя не вспомнить о древних греках, поскольку данный вид интеллекта достиг высочайшего развития именно во времена античности. Греки почитали красоту человеческого тела и с помощью актерского мастерства и атлетики старались добиться совершенства в пропорциях и движениях, искали равновесие и грациозность. Другими словами, они стремились к гармонии между телом и разумом, при этом мозг умел правильно руководить телом, а тело тренировалось для того, чтобы выполнять все требования разума. Но разумное использование тела необходимо и в других занятиях. Затронув вопрос физической борьбы, романист Норман Мейлер сказал следующее.
Существует не только язык слов, но и язык символов, природы. У тела тоже есть свой язык, одна из разновидностей которого — состязание на приз. Боксер-профессионал говорит с помощью умения управлять своим телом, которое так же обособлено, скрыто и всесторонне, как и язык разума. Боксируя, спортсмен выражает свои мысли остроумно, стильно и удивительно эстетично. Бокс — это разговор двух тел, напряженный спор между двумя интеллектами.
На первый взгляд, сравнение работы тела с видом интеллекта может покоробить. В нашей культуре принято отделять деятельность рассудка от занятий, в которых проявляется физическая составляющая нашей природы, т. е. от работы тела. Такому разграничению «умственного» и «физического» часто сопутствует убеждение, что те наши умения, которые касаются владения телом, не такие особенные или почитаемые, как способность решать поставленные задачи, что, как правило, достигается с помощью языка, логики или других абстрактных символических систем.
Однако во многих культурах нет столь резкого различия между «рефлективным» и «действенным». По крайней мере, это должно заставить нас задуматься, прежде чем категорично заявлять, будто принятый на Западе картезианский стиль мышления является единственно возможным. Кроме того, стоит заметить, что в последнее время психологи обнаружили тесную связь между владением телом и способностью задействовать когнитивные механизмы. Теперь все больше ученых склоняется к мысли, что необходимо изучать как когнитивные аспекты, так и нейропсихологические основы телесных навыков. При этом все чаще проводятся аналогии между процессом мышления и «исконно» телесными навыками. Проницательный британский психолог Фредерик Бартлетт провел аналогию между теми навыками, в которых задействованы разнообразные перцептивные функции, и теми, где преобладают исполнительские функции.
Такое необходимое требование любой деятельности, которую можно назвать искусной, становится более очевидным, если рассмотреть несколько примеров. Игрок с мячом; оператор, управляющий механизмом со своего рабочего места; врач, ставящий диагноз, — во всех этих случаях и в бесчисленном количестве других в мозге человека возникает непрерывный поток сигналов, которые превращаются в действия, затем этот процесс повторяется до тех пор, пока не наступает развязка — решение задачи или любой ее части, главной на данный момент... Для искусного выполнения любого задания требуется постоянный контроль со стороны рецепторов. В основе такого действия лежат сигналы, которые исполнителю необходимо выделить в окружающей обстановке. Они комбинируются с другими сигналами, возникающими внутри тела, которые многое говорят человеку о предпринимаемых им действиях.
Согласно рассуждениям Бартлетта, для любого искусного действия требуется: отточенное чувство времени, при котором мельчайшее движение занимает отведенное исключительно для него место; точка приспособления, когда один этап действия подходит к концу и необходима определенная коррекция последующего этапа; чувство направления, ясная цель, к достижению которой ведет вся последовательность действий; точка невозвращения, в которой дальнейшее поступление сигналов больше не дает никакого результата, поскольку уже началась заключительная фаза последовательности действий. Бартлетт в своем анализе телесных навыков идет еще дальше и высказывает любопытное предположение: значительная часть того, что мы привыкли называть мышлением — как повседневным, так и новаторским, — основывается на тех же принципах, что и явно физическое проявление навыков.
Из подобных рассуждений других психологов становится ясно, какие еще элементы составляют мастерское выполнение действия. За многие годы талантливый исполнитель доводит до совершенства те операции, которые необходимы для превращения намерения в действие. Знание о том, что следует дальше, лежит в основе «гладкости» выступления, которая является признаком настоящего мастерства. Периоды промедления, для которых характерно пристальное внимание к внешним факторам, чередуются с периодами беглости, при которой многочисленные компоненты легко занимают приготовленное для них место. Программирование действий на относительно абстрактном уровне позволяет выбрать именно те элементы выступления, с помощью которых можно будет добиться цельности исполнения. Только благодаря такому владению возможными вариантами, способности выбрать действие, которое лучше других подходит для данных целей, зрителям кажется, что одаренный исполнитель всю жизнь делает только то, что хочет.
Как я уже говорил, искусное владение телом само по себе может иметь несколько проявлений. Подобно Марселю Марсо, человек может использовать все свое тело, чтобы донести до зрителей то или иное экспрессивное действие — например, бег или падение — с целью его эффектного завершения. (В таких видах спорта, как футбол или бокс, человек в основном использует все свое тело либо прибегает к грубой моторике). Не менее важно для жизни человека и умение пользоваться руками и пальцами, выполнять точные движения, для которых необходимо предельное сосредоточение. Хватание объекта большим и указательным пальцем, которое недоступно полуобезьянам, а высшим приматам удается только в незначительной степени, у человека достигло высокого уровня развития. Хороший пианист может выполнять разные действия обеими руками одновременно, каждой рукой поддерживать определенный ритм, а также пользоваться двумя руками вместе, чтобы передать «общение между ними» или добиться эффекта фуги[74]. При печатании на клавиатуре или стрельбе играют роль миллисекунды в движении пальца и доли градуса в направлении взгляда. А в танце значение может иметь даже малейшее движение пальца. Вот что говорит Сьюзен Фаррел, танцовщица из балетной труппы Нью-Йорка.
Во время выступления, когда я вижу в движении свой мизинец, то говорю себе: «Это для мистера Б.» [известный хореограф Джордж Баланчин]. Возможно, никто из зрителей этого не замечает, но он видит и понимает мое движение.
Хотя основное место в нейропсихологических исследованиях отводится изучению восприятия и речи, роль мозга для физической активности представляется нам не менее интересной, чем доклады об афазии или рассуждения о распознавании граней, цветов, линий или объектов. И действительно, даже если учесть, что многие ученые воспринимают телесный интеллект как данность или сводят его значение к минимуму, необходимо признать, что двигательная деятельность всегда считалась не такой «благородной» корковой функцией, как операции, задействованные в мышлении. И все же, как проницательно заметил старейшина американских нейропсихологов Роджер Сперри, умственную деятельность необходимо рассматривать как средство для выполнения действий. Функция движения не является второстепенной или предназначенной лишь для удовлетворения потребностей высших центров. Скорее, мозговая деятельность — это способ «привнести в двигательное поведение дополнительное изящество, стремление к отдаленным целям в будущем, а также большую приспособляемость и ценность для выживания».
Не будет преувеличением сказать, что большинство органов тела (и нервной системы) так или иначе участвуют в выполнении движений. Различные мышцы, суставы и сухожилия задействованы при этом напрямую. Наше кинестетическое чувство, руководящее работой этих органов, позволяет нам контролировать время, силу и размах движений, а также при необходимости привносить определенные изменения в эти операции. Что касается нервной системы, то большие доли коры головного мозга, а также таламус, базальные ганглии и мозжечок поставляют информацию в спинной мозг, который отвечает за выполнение действия. Удивительно, но хотя для большинства видов человеческой деятельности кора головного мозга служит «высшим» центром, большинство абстрактных и сложных форм «моторной репрезентации» сосредоточены в относительно примитивных базальных ганглиях и мозжечке. Двигательный участок коры теснее связан со спинным мозгом и с непосредственным выполнением определенных мышечных действий.
Для наших целей необходимо освоить большой объем накопленной информации о функционировании телесно-кинестетической системы человека, но не менее важно обратить внимание и на некоторые общие принципы, которые были сформулированы со временем. Прежде всего, функционирование кинестетической системы представляет собой невероятно сложный процесс, основанный на координации самых разнообразных нервных и мышечных компонентов, которые тщательно и тесно взаимосвязаны. Например, при движении рукой, чтобы найти объект, бросить или поймать его, наблюдается чрезвычайно замысловатое взаимодействие глаз и руки, при этом данные после каждого отдельного движения позволяют осуществить именно то действие, которое необходимо в конкретной ситуации. Механизмы получения такой информации крайне точны, поэтому движения подвергаются постоянному совершенствованию и регулировке с помощью сравнения первоначальной цели с действительным положением конечностей или частей тела в отдельно взятый момент времени.
Более того, для произвольных движений требуется постоянно сравнивать первоначальное действие с достигнутым на данный момент результатом: при выполнении движений непрерывно поступают сигналы, которые сравниваются с визуальным или зрительным образом, управляющим всей деятельностью. Точно так же восприятие человеком мира обусловлено его двигательной деятельностью, т. е. информация, касающаяся положения и состояния тела, обуславливает то, каким образом происходит дальнейшее восприятие окружающей действительности. При отсутствии подобного потока сигналов вследствие осуществляемой двигательной деятельности развитие восприятия не может осуществляться в нормальном направлении.
Таким образом, многие произвольные движения являются проявлением внутреннего взаимодействия перцептивных и моторных систем. Но, по крайней мере, некоторые действия происходят с такой скоростью, что воспользоваться информацией из этих систем невозможно. Особенно это заметно в случае заученных, доведенных до автоматизма действий или же непроизвольных движений, когда вся последовательность может быть «запрограммированной» и осуществляется как единое целое, независимо от информации, поступающей от сенсорной системы. Именно такая запрограммированная последовательность действий лежит в основе работы пианиста, машинистки или спортсмена, каждый из которых осуществляет продолжительную последовательность действий за короткий промежуток времени. Невролог Манфред Клайнс, изучающий деятельность музыканта, отмечает следующее.
Можно решить передвинуть палец на расстояние в один или два дюйма или же повернуть глаза и посмотреть на предмет, находящийся, скажем, в 20 градусах слева. В каждом из этих случаев мышцы начинают, выполняют и заканчивают движение всего лишь за доли секунды... Такое действие запрограммировано мозгом еще до своего начала. Как только подобное быстрое движение началось, принятое решение осуществляется практически мгновенно. В течение этой доли секунды мозг не получает никаких сигналов, с помощью которых можно было бы изменить запрограммированное решение.
Более того, некоторые из этих двигательных программ и не требуют изменений.
Многие двигательные программы представляют собой часть генетического наследия приматов. Не нужны обратная связь от органов чувств и спинальные рефлексы, чтобы обучиться определенному репертуару движений... Перцептивная и моторная системы, несомненно, неким образом «настроены» на определенные аспекты окружающей среды, но возникающая на их основе система действий, похоже, крайне специализирована и наделена весьма сложной программой. Короче говоря, то, что на основе имплицитных доказательств воспринимается как само собой разумеющееся в случае с физическим ростом, принимается на веру и при изучении мозга и нервной системы.
Хотя многие действия моторной системы осуществляются одинаково у всех приматов, по крайней мере один вид деятельности присущ исключительно человеку, причем, возможно, является среди них ведущим. Это феномен доминантности, т. е. способность одной половины тела (и одного полушария мозга) принимать на себя руководство большинством моторных и когнитивных функций. Черты мозговой латерализации присутствуют уже у высших приматов: например, когда бабуин учится аккуратно выполнять определенное действие, одна конечность у него становится доминирующей и начинает играть ведущую роль как в грубой, так и в тонкой моторике, а вторая конечность оказывается вспомогательной. Более того, такое распределение труда сохранится и после повреждения мозга, когда «вспомогательная рука» оказывается неспособной к исполнению «главной роли». Но ни у бабуинов, ни у других приматов нет предпосылок к тому, чтобы одна половина мозга (и противоположная половина тела) становилась всецело доминантной. Склонность левого полушария управлять двигательной активностью, похоже, присуща только людям. При этом не вызывает сомнений, что она частично определяется генами и напрямую связана с речью. У большинства нормальных людей левое полушарие мозга не только отвечает за лингвистические способности, но и руководит двигательной активностью. И снова доказательство генной теории — леворукость (или доминирование правого полушария при выполнении движений), скорее всего, передается по наследству.
Дополнительным свидетельством в пользу отдельного выделения телесного интеллекта служит тот факт, что травмы двигательной зоны левого полушария приводят к избирательным нарушениям. Неврологи называют это апраксией — комбинацией взаимосвязанных нарушений, при которой человек способен понять требование выполнить действие, но не способен правильно его осуществить. Многие виды апраксий были тщательно изучены. Например, встречаются случаи изолированной апраксий одевания (невозможности надеть одежду). Чаще встречаются: кинестетическая апраксия, при которой человек не способен действовать одной рукой; идеомоторная апраксия, когда больной неуклюже выполняет действия и использует часть своего тела как отдельный объект (например, на просьбу показать, как забивается гвоздь, он будет стучать кулаком по поверхности, а не сымитирует это действие); идеаторная апраксия, при которой у человека нарушается последовательность действий. Следует отметить, что подобные ляпсусы — неправильно выполненные или упущенные действия — встречаются и у нормальных людей, особенно если им приходится работать под прессингом.
Хотя такие виды апраксий могут возникать наряду с афазией, имеются убедительные свидетельства того, что апраксия — это не просто лингвистическое или символическое нарушение. Люди, не способные выполнять команды, вполне понимают, что от них требуется, а те, которые страдают серьезными нарушениями лингвистической системы, прекрасно сохраняют способность выполнять определенные виды команд (например, те, при которых необходимо двигаться всем торсом). Более того, многие исследования подтверждают, что степень нарушения при понимании различных символов не связана с умением выполнять произвольные движения. Наконец, некоторые ученые доказали, что люди, полностью утратившие вербальную память, все же могут запомнить сложные последовательности действий или поведенческие паттерны (даже если они яростно отрицают, что прежде владели такими действиями). Все это дополняет образ телесного интеллекта как отдельного от лингвистического, логического и других так называемых видов интеллекта. Изредка даже встречаются пациенты, которые в целом остаются нормальными, но не могут выполнить буквально никакого действия: в случае подобных апраксий наблюдается полное отсутствие телесного интеллекта.
Может ли телесный интеллект сохраняться в изолированной форме? Несомненно, существуют пациенты с проблемами нервно-психического характера, у которых наблюдается нарушение речевых и логических способностей, но при всем этом они не утратили искусных двигательных навыков. Подобные случаи не были досконально изучены, возможно, потому, что такая симптоматика в представлении западного человека менее удивительна, чем сохранение способности рассуждать или говорить при отсутствии двигательных навыков. Хотя исследования избирательной сохранности моторных функций проводились недостаточно часто, один из таких случаев остается довольно примечательным. Некоторые подростки, такие как ученые идиоты или дети, страдающие аутизмом, могут быть абсолютно замкнутыми по отношению к своим сверстникам, но проявляют определенный интерес к деятельности тела и работе с механическими приборами. Чтобы проявлять подобное понимание, вероятно, необходимо сохранить пространственный и телесный интеллект. В клинической литературе об ученых идиотах описан случай с мальчиком по имени Эрл, который самостоятельно разобрался, как можно из часов сделать ветряную мельницу, рассказывается о мистере А., который смог подсоединить стереосистему, светильник и телевизор к одному выключателю, а также о еще одном подростке с подобными нарушениями, который сконструировал и построил готовую к работе карусель. Психолог Бернард Римланд рассказывает историю мальчика Джо с признаками аутизма, который самостоятельно разработал теорию электроники, чтобы построить прибор.
Недавно он соединил магнитофон, лампу флуоресцентного света и небольшой радиоприемник, добавил к ним некоторые детали, в результате чего музыка из магнитофона превращалась в энергию света и затем снова в музыку, звучащую из радио. Проводя рукой между магнитофоном и светом, он мог останавливать музыку. Мальчик разбирается в понятиях электроники, астрономии, музыки, навигации и механики. Он знает, как работают различные устройства, и знаком с техническими терминами. К 12 годам он мог самостоятельно ориентироваться в городе, катаясь на велосипеде и пользуясь картой и компасом. Он читает труды Н. Боудича по навигации. Предположительно, уровень IQ Джо равен 80. Он работает на сборке товара в одном из магазинов.
Наверное, самый известный случай такого рода — это Джой, «Механический мальчик», которого описал психоаналитик Бруно Беттельхейм. Согласно его отчету, Джой страдал тяжелой формой аутизма, но проявлял особый интерес к машинам и механизмам. Он не только любил играть с ними — разбирать, собирать, работать с самыми разнообразными болтами, проволокой, проводами, — но что самое удивительное, маленький Джой любил представлять, что он сам — тоже машина. Мир, в котором он жил, действительно напоминал мир машины. Беттельхейм описывает это так.
В течение первых недель пребывания Джоя в нашей школе мы вели за ним усиленное наблюдение, скажем, во время очередного приема пищи. Лежа на воображаемом проводе, он как будто подсоединялся к источнику электрической энергии. Затем мальчик вытягивал так называемый «провод» из воображаемой розетки к своему столу, чтобы изолироваться от всех остальных, после чего «втыкал» в себя «штепсельную вилку». (Он пытался использовать настоящий провод, но мы не разрешили, так как если бы Джой засунул его в настоящую розетку, то подверг бы себя большой опасности, поэтому, чтобы подыграть ему в придуманном занятии, нам приходилось перешагивать через воображаемый провод.) Такие мнимые электрические соединения мальчик создавал перед тем, как сесть за стол, потому что только после этого он заряжался энергией и мог отправлять пищу в рот. Каждый раз Джой так ловко проделывал очередные ритуальные действия, что нам довольно часто приходилось убеждаться в том, что никакого провода, розетки или штепселя в действительности не существует. Он настолько мастерски жестикулировал и увлеченно отдавался своему занятию, что казалось, будто наблюдавшие за ним люди на некоторое время переносились в другое измерение и становились очевидцами иной реальности.[75]
Благодаря этой трогательной истории (к счастью, Джой впоследствии пошел на поправку) мы убеждаемся, что способность входить в образ и изображать пантомиму может существовать, несмотря на значительный разлад в коммуникативных навыках. Этот случай также подтверждает связь, которую я выделил между умением в совершенстве владеть телом и пониманием машинного оборудования, поскольку, как предполагается, Джой многое знал о природе и функционировании разнообразных приборов, особенно тех, которые производят вращательные движения и деструктивное воздействие. В данном случае телесный интеллект, вполне вероятно, дополняется пространственным и логикоматематическим.
Как можно добиться отточенного телеснокинестетического интеллекта? Некоторые свидетельства были получены в ходе изучения эволюции когнитивных навыков. У животных, стоящих ниже приматов на эволюционной лестнице, не наблюдается способности к использованию различных орудий, поскольку низшие виды не пользуются предметами с целью внести изменения в окружающую обстановку. Скорее, у каждого вида наблюдается тенденция использовать крайне стереотипным способом одно-два природных орудия, другими словами, лишь отдельные части организма — когти, зубы, клювы — могут употребляться в качестве орудий.
Даже у низших приматов использование орудий встречается редко, при этом отсутствуют любые усовершенствования и нововведения. Часто в период большого возбуждения окружающие предметы разбрасываются вокруг, но это делается без какой-либо определенной цели. Разбрасываемые предметы — это лишь случайные элементы громогласного и агрессивного поведения, направленного на запугивание остальных.
И все же исследования эволюции говорят о том, что высшие приматы пользуются простыми орудиями уже несколько миллионов лет, а шимпанзе, например, добились впечатляющих успехов в этом. Хорошо изученный и крайне любопытный пример использования орудий высшими приматами — это ловля термитов, которой занимаются шимпанзе. Как описывает ученый Геза Телеки, при этом шимпанзе сначала с помощью пальца удаляет небольшой комок земли, закрывающий вход в термитник, затем просовывает в образовавшийся туннель предварительно очищенный от листьев прутик, некоторое время выжидает, придерживая «удочку» пальцами одной руки, вынимает ее вместе с прилипшими термитами и собирает их губами и зубами, поддерживая второй конец прутика свободной рукой.
Подобная ловля термитов — совсем не простое занятие. Прежде всего, шимпанзе нужно найти вход в термитник. (Как доказывает Телеки, это довольно сложно — сам он провел несколько недель в бесплодных поисках, пока случайно не наткнулся на такое отверстие.) После этого шимпанзе необходимо найти предмет для ловли. Он может испробовать несколько веток или травяных стеблей, подыскивая подходящий прутик, а при необходимости и модифицируя его. Модификация может заключаться в удалении листьев или других помех, а иногда животное ломает или откусывает ветку, чтобы подогнать ее до нужного размера. Телеки выяснил также, что, несмотря на многомесячные наблюдения и имитацию, ему так и не удалось добиться присущего молодому шимпанзе совершенства в этом занятии.
Умение выбирать подходящее орудие приобретается в ходе обучения, и в основе этого навыка, как и в основе умения находить вход в термитник, должен лежать большой путь проб и ошибок, а также способность запоминать результаты предыдущих попыток. Более того, в памяти может удерживаться информация, накопленная особью в течение всей жизни.
Во время ловли термитов шимпанзе необходимо поместить свое орудие на достаточную глубину (от 8 до 16 см) , а также правильно повернуть этот прутик, чтобы он мог продвинуться по извилистому туннелю. Затем орудие нужно слегка вращать пальцами, чтобы в него вцепились термиты, но эти движения должны быть не слишком сильными, чтобы насекомые не прогрызли прутик. Как только термиты попались, орудие необходимо извлечь из туннеля, но не очень быстро и довольно аккуратно, чтобы не задеть термитами о стенки прохода.
Разные группы шимпанзе ловят термитов по-разному. Поскольку эти группы очень близки по своей генетической организации, вполне вероятно, что различия в привычках отражают разницу в социальных обычаях группы. Например, одна популяция пользуется прутиками для ловли внутри термитника, поэтому такие орудия относительно короткие и тонкие. Вторая группа использует ветки, чтобы протыкать поверхность термитника, поэтому ветки должны быть прочными и жесткими. Другие «культурные отличия» заключаются в том, из какого материала изготавливается орудие, подыскиваются эти ветки вблизи или вдали от термитника, задействуется один или оба конца орудия, а также в том, как именно шимпанзе держит это орудие.
У. С. Макгру описывал навыки ловли термитов, наблюдая за семьей шимпанзе гомбе в Танзании. Согласно его наблюдениям, молодые животные в возрасте до двух лет уже обладают всеми техническими навыками, необходимыми для этого процесса, но в зачаточной форме: они едят термитов, умеют протыкать поверхность термитника, приводить орудие к необходимому состоянию и т. п. От двух до четырех лет молодые шимпанзе проводят очень много времени, исследуя термитник, пытаясь проделывать в нем отверстия с помощью орудий, которые изготовила мать. В течение этого периода они постепенно совершенствуются в таких навыках. К четырем годам некоторые особи уже владеют моделью поведения, свойственной взрослым шимпанзе, но пока не очень часто прибегают к такому способу добычи пищи. Окончательное закрепление умений происходит в возрасте пяти или шести лет.
Как я уже отмечал, в процессе обучения молодому примату необходимо поддерживать отношения со взрослой особью. Молодой шимпанзе или другая обезьяна следит за технологией и приобретает знания о ней, наблюдая за тем, как этим процессом заняты другие. И наоборот, приматы, выросшие у суррогатных родителей, подходят к решению проблемы иначе. Если обезьяны в дикой природе рассматривают такую ситуацию как определенную проблему, для которой можно найти подходящее решение, то приматы, воспитанные суррогатными родителями, своим поведением показывают, что не имеют определенной стратегии или плана. Только выросшие в естественных условиях обезьяны, очевидно, понимают, что своим поведением они могут воздействовать на окружающую действительность и в некотором отношении управлять событиями: отсутствие наглядного примера приводит к беспомощности. Другими словами, у приматов намного больше шансов научиться пользоваться орудиями, если они находятся (и играют) в непосредственной близости от других особей, которые уже умеют добиваться желаемого результата. У приматов больше вероятности следовать определенной модели поведения, если они видели ее в исполнении других особей, если в качестве награды получали пищу или если животное просто случайно подражает поведению старших и получает желаемый результат.
Видные ученые предполагают, что по крайней мере три группы факторов предопределяют, сможет ли примат научиться пользоваться орудиями. Во-первых, сенсорно-моторное развитие, необходимое для совершенствования мышечных движений. Во-вторых, игра с окружающими предметами в обычной обстановке или при решении некоей задачи: например, в ходе игры шимпанзе учится пользоваться палкой как функциональным продолжением руки. И наконец, подкрепление результатом, благодаря которому молодое животное узнает, что с помощью своего поведения можно хотя бы в некоторой степени управлять окружающей обстановкой.
Ловля термитов — одна из самых сложных разновидностей использования орудий существами, не относящимися к виду Homo Sapiens. Среди других примеров, отмечаемых у приматов, можно назвать следующие: расширение пределов досягаемости (например, с помощью палки, чтобы добраться до еды); увеличение физической силы, с помощью которой можно воздействовать на окружающую среду (использование камней, чтобы раскалывать орехи или фрукты); использование орудий при выражении своих эмоций (например, размахивание палкой для передачи агрессии); контроль над жидкостью (использование листьев, чтобы набрать воду или вытереть кровь). Хотя совершенствование каждой из этих форм идет по-разному, большинство из них можно освоить путем проб и ошибок. Более того, по словам археолога Александра Маршака, все эти виды деятельности выполняются преимущественно одной рукой: для их выполнения требуется одна доминирующая рука, а вторая при этом используется в основном для поддержки или хватания. В подобной деятельности не наблюдается той приспособляемости к пространству, действию или ориентации, которые отмечаются у человека, искусно пользующегося обеими руками. Каким бы впечатляющим ни было использование орудий приматами, оно все же во многом ограничено.
Эволюцию человека за последние три или четыре миллиона лет можно описать с точки зрения все более совершенного использования орудий. Два-три миллиона лет назад Homo Habilis («человек умелый», лат. — Примеч. ред.) пользовался инструментами лишь немного лучше, чем приматы, которые научились этому за несколько миллионов лет до него. Основной набор инструментов в это время включал в себя закругленные камни, предназначенные для ударов, и камни с острыми краями, предназначенные для рубки. В этот период доисторический человек начал пользоваться камнями, чтобы раскалывать их. Удары камней друг о друга — при этом задействовалась большая сила — помогали изготавливать такие орудия, как скребки с острыми краями, которыми можно было резать. Подобные орудия представляли собой настоящее новшество, поскольку первые человекообразные существа могли с помощью этих острых краев резать шкуры и свежевать туши.
Производство таких скребков и ножей оставалось основным видом изготовления орудий, пока около полутора миллионов лет назад не начали появляться двусторонние ручные топоры. Хозяином их был Homo Erectus («человек прямоходящий», лат. — Примеч. ред.), который с помощью этих топоров мог резать и расщеплять предметы точнее, аккуратнее и проще. В течение следующего миллиона лет, вероятно, вплоть до 40–50 тысяч лет назад, изменения в производстве орудий происходили весьма медленно и постепенно. Предположительно, технология их изготовления передавалась путем визуальных наблюдений и жестовой имитации, но каждое поколение привносило свои изменения в этот процесс. Возможно, полмиллиона лет назад человек начал использовать камень в качестве молотка, чтобы делать более искусные инструменты. В ашельскую эпоху, 200 тысяч лет назад, впервые начали дробить кости, а во время мустьерской эпохи, 100 тысяч лет назад, предварительно заготовленный камень начали раскалывать на тонкие пластины и затем обрабатывать их. В течение этого периода в миллион лет человек тоже претерпевал изменения, что отражалось в увеличении размера мозга. Человек подчинил себе огонь; охота стала коллективной, бывали жестокие стычки, в том числе и уничтожение больших стад мамонтов; люди строили жилища, причем не только изгороди, но и дома, а также места для встреч и работы. И все же общались они, похоже, только жестами и, возможно, простыми эмоциональными восклицаниями.
Около 100 тысяч лет назад в Европе появился неандерталец, внешне весьма похожий на человека. Эти сильные и крепкие люди много бегали и дрались, о чем свидетельствует большое количество сломанных костей и сросшихся переломов, которые, как предполагается, были получены в битвах после ударов копьями. Но у неандертальцев были и положительные особенности. Черепа помещались в ниши, людей хоронили, вероятно, на участке земли, принадлежавшем семье, и что самое поразительное, в могилу клали цветы. Вполне возможно, это были первые проявления символических моделей поведения по отношению к другим людям.
Крупнейший прорыв в эволюции человека произошел около 50 тысяч лет назад с появлением кроманьонца. Очевидно, с этим событием каким-то образом связано и появление слухо-голосовой разновидности речи, хотя невозможно установить, было это причиной или следствием (а может быть, и тем и другим) такого прорыва. В это время появляются четкие признаки символических способностей человека, в том числе рисунки (например, прекрасные изображения животных или женских фигур периода палеолита в пещерах на юге Европы), совокупность условных знаков (календарные системы по всей Европе и в Сибири), а также, вероятнее всего, ритуальные танцы, изображенные на стенах многих пещер. Подобная революция происходила и в изготовлении орудий, поскольку расщепление костей и камней производилось все точнее. В дополнение к утилитарным целям орудия теперь стали предметом украшения, а также, что еще важнее, стали применяться для производства других орудий. К этому времени люди знали не только свойства разнообразных материалов, но и самых разных орудий, которые можно изготовить и применить для различных целей, в том числе ножи, пики, резцы, иголки и приспособления для того, чтобы скрести, обрабатывать, строгать и бить. Продуктивный цикл между увеличением размера мозга (в результате чего можно было лучше планировать и качественнее пользоваться орудиями) и изготовлением еще более совершенных орудий оказался огромным преимуществом для людей, которые теперь умели производить как физические орудия, так и те абстрактные, изменчивые, которые получили название символов.[76]
Нельзя не сравнить медленную эволюцию использования орудий приматами и людьми с аналогичным, хотя и намного более быстрым развитием, которое повсеместно наблюдается у нормальных детей: если такое сравнение провести осторожно, оно может оказаться весьма информативным. Сузан Паркер предполагает, что общий предок человека и человекообразных обезьян, по-видимому, обладал теми же видами интеллекта, которые отмечаются у детей в возрасте от одного года до четырех и позволяют ребенку пользоваться при еде подходящими орудиями. Потомки первых человекообразных существ обладали более совершенным интеллектом, который присущ детям от пяти до шести лет, и могли пользоваться более сложными инструментами, например снарядами для метания или обработанными камнями, а также справляться с такими задачами, как свежевание туш, распределение пищи и постройка укрытий. Таким образом, наблюдается прогресс при переходе от манипуляции объектами, связанной с простейшими реакциями сенсорномоторного периода, к использованию орудий для достижения результата, что говорит о развитии сенсорно-моторного интеллекта, после чего следует более совершенная стадия — использование орудий, которые оказывают косвенное воздействие на предметы, или изготовление новых орудий для выполнения новых функций.
Такой прогресс, отмечаемый у детей и в некотором отношении у современных приматов, можно частично проследить по найденным окаменелостям. И именно в свете таких находок ученые высказывают предположения относительно того, какую роль сыграло увеличение объема мозга и появление в нем новых участков в том, что наш вид стал именно таким, каков он есть сейчас. Но все же необходимо отметить одно существенное различие. Маленький ребенок на раннем этапе жизни начинает использовать речь задолго до того, как научится применять орудия. Именно в этом отношении возможно существенное отклонение от предлагаемой модели эволюции, поскольку многие ученые полагают, что в филогенезе человек начал говорить уже после того, как научился умело обращаться с инструментами, когда основным средством общения были жесты и «эмоциональные» восклицания.
Доисторические основы телесного интеллекта и его связь с речью и другими когнитивными функциями, возможно, навсегда останутся неизвестными, но развитие этих навыков у современного человека — это тот вопрос, изучению которого вполне можно посвятить научные изыскания. Хотя сам Ж. Пиаже не рассматривал свои исследования с точки зрения телесного интеллекта (его интересовали более «умственные» вопросы!), то, как он описал развитие сенсорномоторного интеллекта, проливает свет и на первые этапы эволюции данного его вида. Из описания Пиаже можно понять, как человек переходит от простейших рефлексов — на которых основывается умение сосать и смотреть — к поведенческим моделям, зависящим от окружающей обстановки и намерений самого человека. Можно заметить, что прежде изолированные события сливаются вместе (например, сосание и взгляд или взгляд и попытка дотянуться до предмета) для достижения желаемого результата. В какой-то момент отдельные действия комбинируются в новых сочетаниях для достижения новых целей — отличительный признак понимания постоянства объекта. Наконец, когда ребенок начинает действовать посредством ментальных репрезентаций объектов, например символов, можно проследить ту же последовательность действий и операций, которая сохраняется и в более скрытом виде. Теперь использование орудий стало частью «чистого мышления».
Многие исследователи развития ребенка, и среди них Джером Брунер и Курт Фишер, согласны с предположением, что развитие навыков необходимо изучать не только относительно физической активности новорожденного, а в контексте всего разнообразия когнитивных операций. Эти ученые считают, что развитие знаний происходит благодаря накоплению более совершенных и гибких навыков: сами по себе однородные действия становятся компонентами или составляющими более совершенных и сложных умений. Например, ребенок сначала смотрит на предмет и тянется к нему, в результате чего может схватить этот объект; хватание отдельных предметов переходит в передачу их из одной руки в другую; использование ряда предметов в повседневной жизни превращается в создание простых структур; такие простейшие структуры комбинируются в более сложные и т. д. Ученые, развивающие мысль о том, что знания приобретаются в виде совершенствования навыков, признают, что очевидное действие все чаще превращается в скрытый мыслительный процесс, но настаивают на том, что развитие каждого нового ряда навыков не обязательно должно происходить по одной модели. Таким образом, исследователи поддерживают мнение Фредерика Бартлетта, который не делал различий между физическими действиями и мыслительными навыками. Современные исследователи человека обращают особое внимание на развитие таких умений, как машинопись, игра в шахматы или компьютерное программирование, и считают каждое из них проявлением все большего мастерства и умения координировать различные типы и уровни навыков.
Между первыми реакциями новорожденного и более сложными видами деятельности, которые характеризуют работу жонглера, машинистки, шахматиста, читателя или программиста, можно провести очевидную параллель. И все же возникает вопрос, может ли развитие символической компетентности значительно повлиять на становление телесного интеллекта. Поскольку человек способен формулировать задачу словесно, вербально выдавать инструкции, высказывать суждение о своей работе или обучать другого, то методы, а значит, и навыки, развиваются и комбинируются различными способами. Точно так же мастерское владение такими символическими операциями, как репрезентация (обозначение чего-то целого, например человека или предмета) и экспрессия (передача настроения, например веселья или трагедии), предоставляет в распоряжение человека возможность задействовать телесные способности для передачи различных сообщений. Возможно, функции тела в некоторой степени осуществляются независимо от этих символических операций, и тот факт, что символические способности и двигательная деятельность могут быть диссоциированы[77] друг от друга вследствие неврологических расстройств, служит еще одним доказательством такого предположения. И тем не менее, на мой взгляд, как только символические функции человека становятся реальностью, двигательная система меняется навсегда: активное использование символов еще больше углубляет пропасть между телесным интеллектом человека и той его разновидностью, которая имеется у других животных.
Случай, о котором рассказывает нейропсихолог Эдит Каплан, имеет отношение к этой теме. В ходе проведения теста на апраксию Каплан попросила одного из пациентов показать, как можно что-то «пилить». Человек, страдающий моторной апраксией, не смог продемонстрировать действие, не имея соответствующих инструментов (например, сжав кулак, как будто в нем зажата пила). Вместо этого, следуя типичной модели поведения в таких случаях, он саму руку представил в виде пилы (двигая ребром ладони, как будто это полотно пилы). Когда Каплан решила проверить, сможет ли пациент на самом деле выполнить желаемое движение, она попросила его продемонстрировать неоговоренное действие — в данном случае двигать рукой вперед и назад, как будто в ней находится инструмент. Но при этом она не уточнила, какой именно инструмент это должен быть. Пациент выполнил движение правильно. Обрадовавшись такому результату, Каплан сказала: «Видите, вы пилили». Но как только прозвучало слово «пилить», пациент разжал кулак и снова вернулся к тому, что его рука представляет собой полотно пилы. Несомненно, в этом случае символический код («пила») восторжествовал над простой связью между восприятием и движением.
РАЗВИТЫЕ ФОРМЫ ТЕЛЕСНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Танец
Из всех сфер применения тела ни одна не достигла таких высот и не получила такого распространения во всех культурах, как танец. Воспользовавшись исследованиями, проведенными Джудит Ханной, которая давно изучает этот вид деятельности, танец можно определить как обусловленную культурой последовательность невербальных движений тела, которые имеют свою цель, ритмически связаны и наделены эстетической ценностью в глазах того, перед кем выступает танцор. Танец появился много тысячелетий назад, скорее всего, в палеолите, поскольку танцующие колдуны и охотники в масках изображены в древних пещерах Европы и в горах Южной Африки. Более того, из всех видов деятельности, изображенных в пещерах, танец занимает второе место, сразу после охоты, с которой его можно во многом соотнести.
Мы не знаем всех функций, которыми был наделен танец, но антропологические находки позволяют предположить по крайней мере следующее. Танец может отражать и обосновывать социальную организацию. Он может служить средством мирского или религиозного выражения; это социальное развлечение; средство психологической разрядки; проявление эстетических ценностей или эстетическая ценность сама по себе; отражение экономической модели выживания или хозяйственная деятельность в чистом виде. Танец может использоваться в образовательных целях, во время обряда инициации, в качестве символа перехода, который предстоит человеку. Его можно использовать как воплощение сверхъестественного, например, когда шаманы танцуют для изгнания злых духов. Танец может использоваться для полового отбора, когда женщины выбирают мужчин по красоте и продолжительности их танца (в племени нубатира в Судане молодые девушки «бросаются на партнеров, которых сами выбрали»). А во многих культурах танец может выполнять несколько из этих функций либо одновременно, либо в разных ситуациях.
Лучше понять некоторые сферы применения танца можно, сравнив танец у индейцев хопи на северо-западе Америки с танцами племени самоа из Полинезии. В обеих культурах танец играет важную роль, движения ограничены и присутствуют сверхъестественные мотивы. Однако цели и характер танца у этих народов отличаются. У индейцев хопи танец служит для поддержания единства племени, для умиротворения богов и сохранения культурных ценностей. Выступают в основном мужчины: для них танец — это обязанность, долг перед племенем. Хорошим танцором считается тот, кто помнит все шаги, танцует энергично, но не пытается прославить самого себя. В отличие от танцев этой народности, в Полинезии танцы персонифицированы, менее консервативны и более открыты для импровизации. Полинезийцы танцуют, чтобы отметить определенные события, развлечься, укрепить авторитет и успокоить богов. Танцуют и мужчины, и женщины, и дети. А то, станет ли человек танцором, зависит от его личного интереса, умений и традиции семьи. Хорошим исполнителем считается тот, кто имеет индивидуальный стиль и хорошо двигается. Танец — это область, где при наличии социального единства приветствуется и даже поощряется индивидуализм. Можно сказать, что у хопи танец служит для выражения культурных ценностей, в то время как у самоа он является средством преодолеть привычную окостенелость культуры.
Учитывая большое разнообразие функций танца, трудно вывести общие принципы его канонической формы. Иногда формальные признаки не столь важны, как сопутствующее окружение или очевидный символический контекст. И тем не менее существуют определенные признаки, которые характерны для танца в любой ситуации, и их необходимо рассмотреть в первую очередь, если мы хотим понять, какие навыки присущи этой форме телесно-кинестетического интеллекта.
По словам американского танцора и хореографа Пола Тейлора, танцор должен научиться выполнять танцевальные движения точно в нужное время и в нужном виде. Для него важно пространство сцены, качество прыжка, мягкость шага — стремится движение к зрителю или замыкается в самом себе. Можно совершать множество движений, от раскачивания до тех, что напоминают ход поршня, от ударных до сдержанных. Именно с помощью комбинации таких свойств — различных по скорости, направлению, расстоянию, интенсивности, пространственным отношениям и силе — можно создать настоящий словарь танца. Кроме таких относительно объективных признаков, на исполнение будет неизбежно накладывать отпечаток и личность танцора. Как правило, в танце всегда присутствовали сильные эмоции, такие как радость или горе, но в современных танцах наметилась тенденция пытаться передать и более сложные чувства, например вину, боль или раскаяние, хотя, как когда-то остроумно заметил Джордж Баланчин, «в танце по-прежнему невозможно изобразить тещу». Важнейший партнер танца — это музыка, и структура музыкальной композиции в значительной степени влияет на технику исполнения, но поскольку танцевать можно и без музыки, то она не во всем определяет стиль танца.
После такого описания может возникнуть чувство, что танец — это сухая и довольно абстрактная форма коммуникации и выражения. И действительно, трудно заставить танцоров (и даже танцевальных критиков) охарактеризовать свое занятие прямо и точно. Айседора Дункан, выдающаяся танцовщица XX века, подвела итог таких попыток в своем известном высказывании: «Если бы я могла сказать, что это, то никогда не смогла бы станцевать». Марта Грэхем, возможно, самая талантливая современная танцовщица, сделала следующее любопытное наблюдение.
Я часто замечаю, насколько трудно вести какую-либо беседу с большинством танцоров, если в разговоре необходимо сохранять логическую последовательность, — их мысли просто перескакивают с одного на другое (наверное, так же, как и мое тело) , и логика как таковая наблюдается только на уровне двигательной активности.
Тем не менее именно конкретные, физические аспекты танца, использование тела в необычном, но подходящем виде, прежде всего привлекают человека к этому занятию. Американский танцор и хореограф Хосе Лимон вспоминает.
В детстве, которое я провел в Мексике, меня очаровали — как и любого другого ребенка — испанские, мексиканские и индейские танцы. Позже, уже в США, я увидел чечеточников и артистов балета. Затем, совершенно случайно я попал на выступление Гаральда Крейцберга (современный танцор). Я увидел танец как воплощение безграничной мощи. Человек мог танцевать с достоинством и великолепным величием.
Иногда подтолкнуть к танцам могут свойства самого тела. Нижинский[78], несомненно, величайший танцор нашего века, привлекал к себе внимание, еще будучи учеником балетной школы, танцуя с такой технической виртуозностью, которая явно была присуща далеко не каждому. Подчас человек может увлечься танцами, поддавшись очарованию тех узоров из тел, которые возникают в процессе танца. Эми Гринфильд, современная танцовщица, говорит, что когда она в детстве занималась балетом, то закрывала глаза и представляла себе, какое движение должно быть следующим. Если, открыв глаза, она замечала, что танцоры находятся в тех позициях, в которых она их вообразила, то считала себя выигравшей.
У молодых людей на Западе интерес к танцу может возникнуть позже, поскольку, вероятно, в нашей культуре существует некое табу, по которому нельзя уважать танцора-мужчину (Нижинского дразнили девчонкой — значит, это табу было распространено и в царской России!). Возможно, поэтому современные хореографы Эрик Хоукинс и Реми Чарлип начали заниматься танцами, только поступив в колледж.
В основе танца лежат атавистические силы. Танцор и хореограф Олвин Николай прекрасно рассказывает о том, как идея превращается в танец.
Я предпочитаю отделить одну простую идею и позволить ей занимать мой ум в течение нескольких месяцев, не прилагая к этому никаких сознательных усилий. Затем за две или три недели до начала постановки танца я пытаюсь определить результат этого процесса. После этого мне нравится быстро, за короткое время ставить танец, я чувствую, что таким образом каналы моего естества остаются открытыми.
Еще один талантливый исполнитель, Дональд Маккейл, вспоминает, что в детстве он впервые станцевал так: улица, двор многоквартирного дома, заполненный звоном и криками, счастливые возгласы детей, и вдруг — огромная нависающая тень уличного фонаря — постоянного источника страха — и игра превращается в убогий танец ужаса.
В своем крайнем проявлении танец становится отдельным существом. Уже говорилось, что талантливый артист балета Баланчин видел связь между танцем и рассказом, а современный хореограф Мерс Каннингем проводит параллель между танцем и музыкой. Более того, Каннингем проявляет интерес к простому, чистому движению, ему нравится наблюдать за насекомыми под микроскопом и животными в зоопарке. Это один из первых формалистов танца, неутомимый исследователь того, как вес и сила взаимодействуют со временем и пространством, автор идеи о том, что танец — это независимый вид искусства, не нуждающийся в поддержке музыки, визуальных эффектах или содержании. Поэтому в танцах Каннингема можно наблюдать за проявлением телесного интеллекта в его первозданном виде, не замутненном стремлением к внешнему эффекту. Но танец может проявляться в разных формах. Михаил Барышников однажды заметил: «Танец напоминает множество новых языков, у каждого из которых своя гибкость и диапазон. Танцору, как и филологу, нужно очень многое — он всегда стремится к большему».
ДРУГИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕСНОКИНЕСТЕТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Актер
Если основная часть обучения танцу состоит в дисциплинированном использовании тела, то для других проявлений телесно-кинестетического интеллекта необходимо применять и дополнительные или другие навыки. Рон Дженкинс описывает этапы, через которые нужно пройти человеку (и которые он сам преодолел), чтобы стать актером на острове Бали. Во-первых, нужно добиться высокого технического профессионализма в танцах и в умении носить маску. Как правило, эти навыки передаются непосредственно от поколения к поколению, при этом пожилые исполнители выбирают себе учеников не старше шести лет. Обучая человека танцам, его сначала поддерживают сзади и показывают все движения. Конечности должны совершать только канонические движения. Дженкинс поясняет: «Я был неуклюжим учеником, совсем не таким гибким, как дети на Бали, которые уже знают все движения до того, как начинают учиться, потому что с детства присутствуют на бесчисленных представлениях». Ему говорили: «Не поднимай ноги так высоко... Держи локти ближе к груди». Затем молодой танцор приступает к изучению других требований: он должен заучить множество текстов, больше знать о последних событиях, о театральном искусстве, о том, как изготавливать и носить маски. Помимо этих умений исполнитель обязан развивать межличностные отношения, хорошо ладить с другими участниками труппы, чтобы они помогли ему получить подходящую роль. Дженкинсу в конце концов поручили роль старика, в которой он должен был применить свои знания о комедии и умение держать театральную паузу, но свести к минимуму количество движений. И наконец, после нескольких месяцев выступлений, ему разрешили придумывать и исполнять собственные истории.
В любом представлении, а особенно в актерской игре, способность человека наблюдать, а затем тщательно воссоздавать сцены — незаменимая составляющая. Такая способность к подражанию закладывается очень рано, вероятно, в первые дни или недели жизни[79]. К двум годам каждый нормальный ребенок способен наблюдать за событиями или выступлением других людей и воссоздавать по крайней мере некоторые самые запоминающиеся моменты. Ясно, что одним детям это удается намного лучше, чем другим. Эти «прирожденные подражатели», которые, вероятно, наделены большим потенциалом в сфере телеснокинестетического интеллекта, могут увидеть сцену всего один или два раза и подхватить самые яркие, отличительные черты, а другие люди, наблюдающие то же самое и такое же количество раз, никак не могут добиться такой точности в своем воспроизведении.
Явная склонность подражать и хорошо запоминать увиденное, возможно, желательна и даже необходима для будущего исполнителя, но само по себе это умение не является залогом успешного выступления. Здесь важны и другие виды интеллекта. Преподаватель актерского мастерства Ричард Болеславский подчеркивает значение полного сосредоточения, когда человек направляет все свое внимание, до последней капли, на выражение желаемого объекта. Актер должен пытаться воссоздавать чувства посредством бессознательной памяти.
У нас есть особая память на чувства, деятельность которой не осознается и не зависит от нас... Она есть у каждого художника. Именно благодаря этому личный опыт является существенным элементом нашей жизни и мастерства. Нам остается лишь понять, как пользоваться этой памятью.
Далее Болеславский советует: «Дар наблюдения нужно развивать в каждой части тела, а не только с помощью зрения или памяти... Все автоматически записывается где-то в мозгу, и с помощью тренировки, когда я вспоминаю и воссоздаю это, я становлюсь в десять раз наблюдательнее, чем был раньше».
Еще один выдающийся преподаватель актерского мастерства, Константин Станиславский, тоже подчеркивает большое значение эмоций для игры актера. Актер должен ощущать эмоцию не только когда работает над ролью, но и во время каждого выступления. Станиславский рассматривает обучение как способ ввести исполнителя в творческое состояние, при котором подсознание начинает действовать естественным образом. По его мнению, данный метод так связан с нашей подсознательной творческой природой, как грамматика — с созданием стихотворения. Вот что Станиславский писал.
Некоторые музыканты наделены даром внутренне воссоздавать звуки. Они мысленно проигрывают всю симфонию, которую только что услышали... Некоторые художники обладают настолько развитой способностью внутреннего зрения, что могут рисовать портреты людей, которых когда-то видели, но которых уже нет в живых... У актеров тоже есть такой талант воспринимать звуки и образы.
С другой стороны, при некоторых актерских техниках внимание обращается не на способность воссоздавать прочувствованное настроение, а на умение замечать детали. В рамках данного исследования я могу предположить, что первая, «основанная на эмоции», актерская игра базируется на внутриличностном интеллекте, а вторая разновидность активизирует межличностный интеллект.
Многие ученые считают способность видеть, осознанно наблюдать, подражать и воссоздавать основной для актерской игры. Как утверждает Джон Мартин, изучающий этот вопрос, мы все наделены шестым, кинестетическим, чувством — способностью грациозно играть и непосредственно понимать действия или динамические способности других людей и предметов. Мартин считает, что этот процесс происходит автоматически. Значит, когда мы поднимаем предмет, который прежде никогда не брали в руки, то пользуемся мышечными воспоминаниями о поднятии предметов похожего объема и плотности, благодаря чему наше тело естественным образом предчувствует, что именно ему придется сделать. Прошлый опыт поднятия предметов находит свое символическое отражение в кинестетическом языке, который напрямую воспринимается телом, при этом не нужно присутствие каких-либо других символов. Точно так же, когда мы видим, что кто-то кусает лимон, сразу же во рту и горле появляется ощущение, что мы тоже едим что-то кислое. Если кто-то плачет, мы часто чувствуем, как и у нас комок подкатывает к горлу.
Мартин убежден, что именно эта способность непроизвольно подражать, чувствовать ощущения окружающих позволяет нам понимать и самим участвовать в спектаклях. Он заявляет следующее.
Задача танцора заключается в том, чтобы заставить нас повторять все его движения с помощью нашей способности к внутреннему подражанию, благодаря чему мы можем понять то же, что чувствует он. Факты он нам может рассказать, но чувства невозможно передать иначе, чем вызвав их в нас самих и заставив сопереживать.
Таким же образом, рассматривая памятники архитектуры, мы решаем, правильны ли здесь пропорции, пользуясь тем ощущением, поддерживают ли колонны всю эту массу или она слишком велика для них: «На какое-то мгновение здание становится копией нас самих, и мы чувствуем все огромное напряжение так, как будто оно возникло в нашем теле».
Если Мартин прав и подражание — это основной компонент телесно-кинестетического интеллекта, то для развития и передачи знаний в этой сфере лучше всего подойдет обучение искусству имитации. Как мы уже видели, такие методы иногда используются непосредственно, как это было в случае с актерами на Бали. Специалист в области культурной антропологии Рут Бенедикт заметила, что в Японии
при обучении традиционному письму... учитель берет руку ребенка и рисует иероглиф. Это нужно для того, чтобы «дать ему почувствовать». Ребенок обучается контролируемым ритмичным движениям задолго до того, как научится распознавать письменные знаки, и уж тем более до того, как сам начнет писать их... Поклон, умение обращаться с палочками для еды, стрелять из лука или подвязывать подушки на спину — всему этому ребенка можно научить, двигая его рукой и непосредственно показывая его телу правильное положение.
Аналогично этому на Бали во время петушиных боев зрители часто подражают руками движениям бойцов, да так точно, что можно следить за развитием схватки, просто понаблюдав за движениями рук. Тот факт, что некоторые люди добиваются большого мастерства в этом занятии, но ему не придается особого значения, может объяснить, почему многие одаренные исполнители и танцоры в нашей культуре с раннего детства чувствуют отвращение к учебе. Как бы там ни было, способность верно подражать часто считается признаком высокомерия или неумения понять, а совсем не развитием еще одной формы познания, которая может оказаться очень полезной.
Взгляд на развитый дар к подражанию как на неспособность к пониманию не обязательно ошибочен. Многие комедианты, впоследствии добившиеся большого успеха, вспоминали, что их первые попытки копировать учителя (и подшутить над ним) возникали как следствие непонимания сути урока, который они должны были выучить. Несомненно, такие актеры и юмористы в конце концов начинают создавать целостные образы. Они добиваются этого, очерчивая контуры персонажа; развивая различные ситуации, в которых этот персонаж зачастую оказывается; рассказывая о разных склонностях, способностях и недостатках как отдельного человека, так и всего общества. Именно с помощью такого процесса величайшие комики немого кино — Чаплин, Ллойд и Китон — добились успеха. Тот же процесс присущ и таким современным мастерам юмористических обобщений, как Лили Томлин, Джонни Карсон и Вуди Аллен.
Затронув эту чарующую, но так до конца и не понятую область, стоит отметить, что юмор и шутка являются исключительной особенностью человека. Хотя не вызывает сомнения, что можно создавать невербальные шутки и проигрывать юмористические сцены без слов, но до сих пор не найдено убедительных доказательств того, что другие животные тоже обладают подобной чувствительностью к сметному. Очень хочется частично соотнести юмор с подражанием, на котором он частично (и довольно успешно) основывается. И все же это не единственное условие, поскольку другие приматы тоже способны имитировать различные модели поведения, и людям многие ужимки шимпанзе и других приматов кажутся весьма забавными. Возможно, именно в восприятии (а не создании) таких подражающих действий и понимании их сходства (или различия) с оригиналом скрыт ключевой элемент юмора. Если другие приматы пугаются событий или сцен, которые походят на знакомые, но в чем-то отличаются от них, они, насколько нам известно, не веселятся, наблюдая за нашими попытками подражать аспектам их поведения, и не считают смешными подобные действия своих сородичей. Возможно, тот факт, что прошлый опыт комментируется, делает его чуждым для других животных, отличных от человека, которого иногда всерьез называют смеющимся животным.
Спортсмен
Танцор и актер — вот две социальные роли в нашем обществе, в которых в полной мере проявляется телесный интеллект. Но и другие также высоко ценятся в нашей культуре. Способность спортсмена превосходить других в грации, силе, скорости, точности и командной работе не только выступает источником наслаждения для него самого, но и служит средством развлечься, получить стимул или нервную разрядку для многочисленных зрителей.
Как утверждает Б. Лоу наблюдающий за спортивными соревнованиями, талантливого питчера в бейсболе, как правило, отличают некоторые признаки. Это контроль — способность бросить мяч именно туда, куда хочешь. Это мастерство — приходящее с опытом знание, аналитические способности, умение тонко наблюдать, находчивость. Это самообладание — способность продемонстрировать свое мастерство под значительным прессингом и добиться результата в самый критический момент. Есть еще и «чутье» —
это физический элемент: как сильно спортсмен может бросить мяч, велика ли траектория его полета? Чутье — это соединение силы и исключительной координации, это врожденное качество. Вероятно, его можно развивать и совершенствовать в ходе тренировок, но нельзя приобрести.
Несомненно, в данной области важны физические данные. Например, в бейсболе питчер должен быть высоким, весить больше 100 кг и развивать скорость спринтера. У идеального хиттера (отбивающего) доминирующий глаз должен быть противоположен доминирующей руке, чтобы нос не закрывал обзор при ударе. Спортсмены в других видах спорта тоже во многом выигрывают благодаря оптимальному росту и физической силе. Не так часто встречается хорошо развитое чувство времени — ощущение координации и ритма, благодаря которому получается мощное и правильное движение. Чемпион по гольфу Джек Никлаус так описывает свое кинестетическое чувство.
Ощущение веса головки клюшки и напряжения в ее ручке позволяет мне раскачиваться ритмично. Когда я делаю взмах назад, мне нравится чувствовать, что головка клюшки оттягивает мои руки. Опуская клюшку вниз, мне нравится ощущать, что головка сопротивляется моему движению, когда напрягшиеся ноги тянут руки вниз. Когда я «ожидаю» эти ощущения, это значит, что я попал в правильный ритм. Я даю себе достаточно времени, чтобы все эти разнообразные движения происходили в ритмичной последовательности.
Хотя ощущение времени можно считать прямым следствием развитого телесного интеллекта, для настоящего мастерства могут потребоваться и другие навыки. Необходимы логические способности, чтобы правильно разработать стратегию; требуется умение узнавать знакомые пространственные паттерны и действовать подходящим образом; а также межличностное чувство, позволяющее чувствовать личности и мотивации других игроков в команде. В описании игры хоккеиста Уэйна Грецки раскрываются некоторые составляющие такого мастерства.
Перед сеткой, лицом к лицу с вратарем... игрок удерживает шайбу одно... лишнее мгновение, нарушая ритм игры и ожидания вратаря... Или в разгар игры он передает пасс до того, как выглядит готовым к этому, проводя шайбу через лабиринт игроков, которые на секунду опаздывают за ним... Если существует такое понятие, как ловкость тела, то он проявляет ее в полной мере... Он передает пасс позади Горинга. Там пока никого нет, чтобы принять шайбу, — но внезапно появляется товарищ по команде и получает передачу. То, что кажется либо удачей, либо волшебством, на самом деле ни то, ни другое. Учитывая все возможные движения других игроков, Грецки точно знает, где должен находиться его товарищ.
Хотя некоторые могут комментировать это так, что достижения Грецки оказались возможны без каких-либо усилий с его стороны, сам хоккеист не соглашается с таким утверждением.
Девять из десяти человек думают, что я действую инстинктивно... Но это не так. Никто никогда не скажет, что врач изучил свою профессию с помощью инстинкта. Я тоже провел почти столько же времени, изучая хоккей, сколько студент-медик посвящает освоению медицины.
В нашей культуре профессиональный спортсмен тренируется почти так же, как и артист, а кроме того, подвержен такому же напряжению и обладает такими же возможностями. Учитывая большую конкуренцию в этой области, отличные результаты в спорте оказываются такими ненадежными, что большинство людей так и остаются всего лишь зрителями.
Изобретатель
В нашем разговоре о телесном интеллекте мы сосредоточились на тех способностях, для которых требуется использование тела как такового, и относительно мало внимания уделяли тем сферам применения тела, особенно рук, при которых задействованы другие материалы. И все же, как мы уже видели, развитие способности изготавливать и видоизменять предметы как непосредственно с помощью тела, так и с использованием орудий, всегда было отличительной чертой человека как вида.
Работа со сравнительно небольшими предметами составляет основную часть деятельности очень многих людей. Большинство имеют дело с тем или иным объектом — на охоте, при возделывании земли, скотоводстве, приготовлении пищи или труде на фабрике. Иногда такая манипуляция предметами становится рутинной, порой приходится проявлять значительную смекалку. Более того, инженер, техник или изобретатель не просто используют материалы так, как это принято в их культуре, но и меняют их комбинации, чтобы создать предмет, лучше приспособленный для выполнения возникшей задачи.
И снова мы возвращаемся к вопросу, который я уже задавал. Относится ли использование орудий вообще или изобретение новых устройств в частности, к сфере деятельности телеснокинестетического интеллекта, или эту задачу лучше решать с помощью другого его вида либо даже комбинации нескольких интеллектов? На мой взгляд, развитый телесно-кинестетический интеллект вместе с пространственным является самой прочной основой для использования предметов и инструментов. Особенно в начале человек должен тщательно координировать информацию, получаемую с помощью пространственного интеллекта, с теми способностями, которыми он обладает благодаря телесно-кинестетическому. Ограничившись пространственным интеллектом, он может достаточно правильно понять механизм и все же не представлять, как использовать этот предмет. Задействовав только телесно-кинестетический интеллект, он, вероятно, сможет правильно выполнять действия, но не поймет, как функционирует устройство, а значит, окажется в затруднительном положении, если вдруг изменятся условия работы. Понимание того, как работает предмет, скорее всего, будет успешным, если человек осознает принцип действия его отдельных частей и представляет, как они будут функционировать в одном устройстве.
Когда речь идет не о простом понимании сложных инструментов или устройств, а о способности конструировать новые приборы, желательно задействовать одновременно несколько видов интеллекта. Помимо слияния пространственного и телесно-кинестетического интеллектов, которое, возможно, будет основным для понимания обычных устройств, человеку придется воспользоваться и логикоматематическими способностями, чтобы определить точные требования для решения задачи, процессы, которые в принципе возможны, и необходимые условия для получения желаемого результата. Но поскольку человек, как импровизирующий ремесленник, или бриколер, по определению Клода Леви-Стросса, во многом зависит от метода проб и ошибок, применение логико-математических рассуждений не всегда будет решающим.
Понять, какова роль чистой дедукции при создании изобретения, можно, проследив за рассуждениями Джона Арнольда из Массачусетсского технологического института, который разрабатывает новое печатное устройство. Вместо того чтобы совершенствовать уже существующий прибор, он пытается определить все самые строгие требования к своему механизму. Он приходит к выводу, что для любого печатного устройства основным является то, что оно передает информацию, переносит ее с одной формы или пластины на другую, передает ее визуально и при этом изготавливает множество копий. Такой анализ необходим для того, чтобы установить, чем именно нужно воспользоваться: электронными средствами, фотокопированием или более традиционной множительной техникой, предполагающей применение типографской краски, форм и валика. Конечно, подобный подход, далекий от деятельности простого ремесленника, во многом основывается на логико-математическом интеллекте.
А какова же связь между первыми детскими занятиями и последующим развитием изобретательности в таком современном роде деятельности, как инженерное дело? Любопытный набор принципов представил в своем докладе Трейси Киддер, исследуя одаренных молодых людей, которые разрабатывают новое аппаратное обеспечение для компьютеров. Описывая одного из них, Киддер отмечает: «Как и буквально каждый в этой команде, он начал с того, что уже в четыре года стал инженером, разбирая разные бытовые приборы, например лампы, часы или радио. Он раскручивал их всякий раз, когда этого не видели родители». Этот будущий инженер не очень хорошо учился в колледже до тех пор, пока не начался курс основ электроники. «Я потрясающе схватывал этот предмет», — вспоминает он. Еще один член компьютерной команды чувствовал себя в школе весьма подавленно, пока не понял, что может разобрать телефон: «Это было невероятно, в это занятие я мог уйти с головой и забыть о том, что у меня масса других социальных проблем». Подобные биографические сведения говорят о том, что интерес к манипуляции, к сборке (или разборке) и, в конечном итоге, к созданию новой комбинации предметов может сыграть решающую роль в становлении будущего инженера. Такие занятия, кроме того, могут оказаться тем необходимым островком, который придаст сил человеку, не проявляющему особого интереса (или навыков) в других сферах деятельности.
ТЕЛЕСНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДРУГИХ КУЛЬТУРАХ
Говоря о нашей культурной традиции, необходимо вернуться во времена Древней Греции, чтобы найти ту эпоху, «когда тело человека считалось красивым, достойным любви и ни в чем не уступающим душе или разуму». Во многих других культурах вся область телесных выражений и физических знаний по-прежнему остается очень важной. У представителей народности ибо в Нигерии развивается сильное тело, необходимое для активных танцев, поскольку все люди проходят большие расстояния на изнуряющей жаре, наклоняются, чтобы достать воду из ручья, выращивают злаки, садятся на корточки для испражнения и носят большие поклажи на голове. Уже в раннем возрасте дети принимают участие в таких занятиях семьи, как дробление батата, рубка дров и переноска больших тяжестей. Человек начинает заниматься танцами в лоне матери, а затем у нее за спиной, когда она танцует. Еще не научившегося ходить ребенка подталкивают к танцу, и маленькие дети регулярно упражняются в этом. В племени анангов из Нигерии ожидается, что каждый человек будет хорошо танцевать и петь, вырезать по дереву и ткать. Ананги признают, что некоторые могут обладать талантами, превосходящими их соплеменников, но твердо убеждены, что у каждого имеется достаточно способностей, чтобы многого добиться в этих художественных сферах. Антрополог Джон Мессенджер отмечает: «Очевидно, что для анангов талант подразумевает наличие определенных способностей, развить которые в себе может каждый, кто задастся такой целью».
В других сообществах тоже широко распространены высокие требования к телесным навыкам. В своей книге Growing Up in New Guinea («Взросление в Новой Гвинее») Маргарет Мид рассказывает, что каждого младенца племени манус мать вывозит в море на каноэ. Если внезапно начинается ветер, каноэ может перевернуться, и мать с ребенком окажутся в воде. Но малыш уже умеет крепко держаться, поэтому не потеряется в море. К пяти или шести годам ребенок научится самостоятельно балансировать и умело управлять каноэ. Он умеет грести веслами и не теряться при довольно сильном ветре, точно подогнать каноэ под хижину, не повредив судно, вывести каноэ из тесной группы других суденышек, а также вычерпывать воду из лодки, попеременно поднимая нос и корму. Морские знания включают в себя также умение плавать, нырять, плыть под водой и избавляться от воды, попавшей в нос и горло. Ловкость, которой обладают лишь очень немногие из детей, живущих на побережье на Западе, считается обычным делом для любого ребенка в этом племенном сообществе.
Остров Бали — наверное, самый яркий пример культуры, в которой люди заботятся о своем теле и в результате становятся очень грациозными и искусными. Каждый житель этого острова учится обращать внимание на характеристики тела.
Обучение ходьбе, первым движениям при игре на музыкальном инструменте, приему пищи или танцам — все это происходит при помощи учителя, который находится за спиной ученика и лишь нажатием и минимумом слов показывает, как правильно исполнить необходимое движение. При такой системе обучения научиться можно лишь в полностью расслабленном состоянии. Жители Бали ничего не учат с помощью словесных указаний.
На основе такого кинестетического сознания появляется хорошо развитое чувство баланса и отличный контроль над движениями.
Дети на Бали проводят очень много времени, играя с суставами пальцев... Там, где американец или абориген Новой Гвинеи задействует практически все мышцы тела, чтобы поднять булавку, житель Бали использует только те мускулы, которые необходимы именно для этого действия, не беспокоя остальные части тела... Задействованная мышца не вовлекает другие в движение, ровно и просто движутся всего лишь несколько маленьких элементов — только пальцы, только ладонь или рука, а при случае — только глаза, ведь у жителей Бали есть привычка скашивать в одну сторону глаза, не поворачивая голову... Тело [жителя Бали] безошибочно и быстро приспосабливается к выполнению возникшей задачи.
Такое уважение к грациозности отмечается и в других современных культурах, например в Индии, где неуклюжесть считается явным признаком незрелости; в Японии, где в чайной церемонии или искусстве составлять букеты отражается внимание к утонченной форме; а, наверное, ярче всего это проявляется в дзэн-буддизме, где основное желание — преодолеть ограничения собственного тела. Какова бы ни была причина, тот факт, что мастер дзэн может голой рукой разбивать кирпичи или босиком ходить по раскаленным углям, — другими словами, его вера в то, что он может сразу же превращать намерение в действие — заслуживает удивления, даже если (или, скорее, именно потому) в настоящий момент такое умение идет вразрез со всеми канонами научной мысли.
Хотя я затронул многие сферы применения телесно-кинестетического интеллекта, основное внимание в данной главе было уделено телу как объекту. Мы видели, как танцоры и спортсмены задействуют все свое тело в качестве «просто» объекта, а также отметили, как изобретатели пользуются частями тела — особенно руками — для манипуляции объектами внешнего мира и их изменения. В таком виде телесный интеллект дополняет трио других «объектных» видов интеллекта: логико-математического, который задействуется при сериации объектов; пространственного, который обращает особое внимание на способность человека изменять объекты в своем окружении и делать это в пространстве; телесного, который, будучи направлен внутрь, ограничен действиями тела, а при направленности вовне влечет за собой физические действия над объектами.
Но тело — это больше, чем еще один механизм, подобный всем другим искусственно созданным объектам. Помимо всего прочего оно представляет собой сосуд, в котором хранятся осознание человеком собственного «Я», его самые тайные чувства и стремления. Кроме того, тело является тем, на что особым образом реагируют окружающие, поскольку каждый человек наделен уникальными характеристиками. С самого начала существование человека как личности оказывает влияние на то, как к нему относятся другие, и очень скоро человек начинает осознавать свое тело как нечто особенное. У него формируется чувство собственного «Я», которое будет постоянно меняться и в свою очередь влиять на мысли и поведение человека, когда он будет взаимодействовать с окружающими в этом мире в зависимости от их характерных черт и поведения. Хотя сфера личностных интеллектов по-прежнему мало изучена, они, несомненно, играют важнейшую роль в жизни человека, хранят в себе как наши самые поразительные достижения, так и самые страшные тенденции. Пришло время рассмотреть именно эти виды интеллекта, похожие на двуликого Януса, частично имеющие отношение к внутренней эмоциональной сфере, а частично — к внешним аспектам, к взаимодействию с окружающими нас людьми.
ЧУВСТВО «Я»
В 1909 году психолог Г. Стэнли Холл, в то время ректор Университета Кларка, пригласил Зигмунда Фрейда и некоторых его коллег в США прочитать несколько вводных лекций по недавно появившейся теории психоанализа. Фрейд впервые (и, как оказалось позже, единственный раз) приехал в США, поэтому интерес к его новой теории и терапевтическим методам был огромным. Фрейд прочитал ряд любопытных лекций на тему «Истоки и развитие психоанализа», в которых излагалась его в то время вызывавшая много споров теория личности и которые способствовали распространению психоанализа в США, хотя в целом основы психологической науки, готовой принять учение бихевиоризма, оставались нетронутыми. Уильям Джеймс, патриарх американских психологов и философов, уже очень старый и больной человек, отправился в долгое путешествие из Кембриджа, штат Массачусетс, в Ворчестер, чтобы послушать выступление Фрейда и встретиться с молодым австрийским ученым. После лекции Джеймс подошел к Фрейду и сказал просто: «Будущее психологии принадлежит вашей работе». Историк социальной науки Г. Стюарт Хьюгс пояснил: «В интеллектуальной истории нашего времени больше не будет таких ярких эпизодов».
Фрейд и Джеймс представляли разные исторические движения, разные философские традиции, разные программы развития психологии.
Фрейд, пессимистичный интеллектуал из Европы, предпочел изучать становление индивидуальной психики, ее противоборство с непосредственным окружением человека, борьбу за независимость, бесчисленные тревоги и защиты, которые влияют на личность человека. По мнению Фрейда, ключ к здоровью находится в понимании самого себя и готовности терпеть неизбежные страдания и парадоксы человеческого существования.
Джеймс во многом был согласен с таким предположением, ведь в его собственной жизни было многое из описанного Фрейдом. Но все же Джеймс понимал различия в их мировоззрениях. Восхваляя Фрейда, он говорил своему другу: «Надеюсь, Фрейд и его ученики до конца разовьют свои идеи, и мы наконец сможем узнать, в чем же они заключаются... В них содержатся наблюдения за особенностями человеческой природы». Джеймс предпочитал заниматься более позитивным направлением в психологии, менее связанным с биологическими основами поведения, это течение предусматривало возможность перемен и роста. Больше своего австрийского коллеги американский мыслитель подчеркивал важность взаимоотношений с другими людьми как средства добиться результата, идти вперед в своем развитии и познать самого себя. В своем известном высказывании он заявил:»...каждая особь имеет столько социальных личностей, сколько оказывается на лицо индивидов, знающих данную особь и сохраняющих о ней представление в своей памяти»[80]. Вероятно, еще важнее было то, что Джеймс имел неограниченное влияние на молодое поколение ученых, в том числе под его воздействие попали Джеймс Марк Болдуин и Джордж Герберт Мид, которые занялись изучением истоков познания и межличностной природы индивидуального чувства «Я».
Но что роднило Фрейда и Джеймса и отличало их от большинства психологов как в Европе, так и в США, — это убежденность в огромной важности, ключевой роли человеческого «Я», т. е. вера в то, что психология должна основываться на понятии личности, ее развития и судьбы. Более того, оба ученых считали, что личностный рост — это важнейшее понятие, от которого зависит способность человека существовать в заданных условиях. Хотя ни один из этих ученых не говорил именно так, мне кажется, будет оправданным заявить, что оба выдающихся психолога разделяли мнение о «личностных интеллектах». Но в то же время их отношение к этим интеллектам было различным. Фрейда интересовали индивидуальные аспекты «Я», как клиницист он делал акцент на представлении человека о самом себе. В свете такой позиции интерес человека к окружающим понимался, прежде всего, как более эффективное средство лучше понять собственные проблемы, желания, тревоги и в конечном итоге добиться поставленных целей. В отличие от него, интересы Джеймса и пришедшей ему на смену плеяды американских социальных психологов касались взаимоотношений человека с окружающими его людьми. Знание человеком своего «Я» не только в значительной степени зависит от того, что о нем думают другие, но и сама цель самопознания касается не столько самого индивида, сколько возможности для него лучше сосуществовать с другими в окружающем мире.
В данной главе я затрону развитие этих двух аспектов человеческой природы. С одной стороны, выделяется становление внутренних аспектов человека. В данном случае основной способностью является доступ к осознанию человеком своих чувств — весь диапазон чувств и эмоций человека, его умение сразу понимать различия между этими ощущениями, давать им названия, выражать их в символической форме и пользоваться ими как средством понимать и управлять собственным поведением. В простейшей своей разновидности внутриличностный интеллект — это не что иное, как способность отличать чувство удовольствия от ощущения боли и на основе такого различия либо все больше погружаться в ситуацию, либо пытаться отдалиться от нее. Развитый внутриличностный интеллект позволяет человеку различать и давать символическое описание сложным и крайне запутанным чувствам. Подобное развитие внутриличностного интеллекта демонстрируют романисты (например, Пруст), которые могут подробно описывать свои чувства, пациенты (или врачи), которые значительно совершенствуют свои знания о собственных чувствах, и мудрые старики, которые могут давать советы своим близким, исходя из богатейшего внутреннего опыта.
Второй личностный интеллект направлен вовне, к другим людям. В данном случае основной способностью выступает умение замечать и понимать различия между окружающими, особенно видеть разницу между их настроениями, темпераментом, мотивами и намерениями. В простейшей своей разновидности межличностный интеллект является основой способности маленького ребенка видеть различия между окружающими людьми и узнавать, в каком настроении они находятся. Развитый межличностный интеллект позволяет внимательному взрослому человеку распознавать намерения и желания — даже самые потаенные — многих людей и, возможно, исходить в своих действиях из этих знаний, например, заставляя группу совершенно разных людей вести себя согласно его желаниям. Совершенное владение межличностным интеллектом присуще политическим и религиозным лидерам (например, Махатме Ганди или Линдону Джонсону[81]) , хорошим родителям и учителям, а также людям, занимающимся профессиями, цель которых — помогать другим, будь то врач, советник или шаман.
Намного чаще, чем в других областях, можно выделить огромное количество разновидностей внутри- и межличностного интеллекта. И действительно, только потому, что в каждой культуре имеется своя система символов и собственные средства для интерпретации событий, «сырьевой материал» личностных интеллектов быстро оказывается под воздействием различных смысловых систем, которые могут во многом отличаться друг от друга. Как следствие, если разновидности пространственного или телеснокинестетического интеллекта можно легко выявить и сравнить у представителей различных культур, то большое разнообразие личностных интеллектов определить намного сложнее, а подчас они оказываются даже совершенно невидимыми для представителя иной культуры.
И точно так же, как личностный интеллект имеет множество символических проявлений и культурных разновидностей, можно выделить не меньшее количество присущих ему нарушений и патологий. Нарушения личностных интеллектов обязательно будут иметь разные формы проявления в зависимости от того, какая «норма» принята в данном обществе: то, что кажется патологией в одной культуре, может считаться совершенно нормальным в другой. Более того, для этих видов интеллекта не характерны острые нарушения — скорее, речь идет о различных девиантных формах. В некотором отношении это напоминает то, что происходит с речевой сферой, когда человек страдает от различных афазий. Но чтобы такое сравнение было полностью оправданным, нужно отметить, что формы афазии значительно отличаются в разных культурах.
С учетом подобных различий между личностными и другими видами интеллекта может возникнуть вопрос: можно ли сравнить внутри- и межличностный интеллекты с музыкальным, лингвистическим или пространственным интеллектами, о которых шла речь в предыдущих главах? Не была ли допущена ошибка при классификации?
Пытаясь решить эту проблему, важно правильно истолковать различия между личностными и другими видами интеллекта. Некоторые мы уже установили. «Естественное развитие» личностных интеллектов менее выражено, чем у других видов интеллекта, поскольку присущие данной культуре символическая и интерпретативная системы очень скоро начинают играть решающую роль для последующих способов обработки информации. Кроме того, как я уже говорил, модели развития и нарушения личностных интеллектов намного разнообразнее, чем в других видах интеллекта, и в данном случае имеет место особенно большое число конечных состояний.
Я заметил еще одно отличие. В то время как другие виды интеллекта можно легко описать независимо друг от друга, здесь мы имеем дело с двумя формами интеллекта. Конечно, у каждой из них есть свои любопытные стороны, поскольку внутриличностный интеллект в основном задействуется при изучении и понимании человеком своих собственных чувств, а межличностный направлен вовне, к поведению, чувствам и мотивам окружающих. Более того, как мы увидим чуть позже, каждая из этих форм по-своему представлена в нервной системе и отличается особыми нарушениями. Главная причина, почему мы рассматриваем их вместе, исключительно описательная. В процессе развития в любой культуре эти две формы интеллекта оказываются тесно взаимосвязанными друг с другом, при этом знание человеком самого себя во многом зависит от его способности учиться на том, что он узнает из наблюдений за другими людьми, а знание окружающих основывается на тех внутренних оценках, которые человек привыкает производить. Эти два личностных интеллекта можно было бы описать отдельно друг от друга, но для этого пришлось бы их разделять искусственно и потребовались бы ненужные повторения. В обычных обстоятельствах ни одна из этих форм не развивается независимо от другой.
Стоит упомянуть и о других отличиях личностных интеллектов. Прежде всего, общественные санкции, касающиеся патологий в этой сфере, оказываются значительно строже, чем те, что применяются к нарушениям других видов интеллекта. Во-вторых, награда за успешные действия на основе личностных интеллектов оказывается намного ценнее. Если решение развивать (или не развивать) музыкальный или пространственный интеллект не играет ключевой роли, то необходимость пользоваться своими личностными интеллектами оказывается чрезвычайно острой: никакой нормальный человек не откажется применить свое понимание взаимоотношений с окружающими, чтобы улучшить свое благосостояние или жизнь в обществе. Конечно, нет гарантий, что его владение этими интеллектами окажется достаточным для такой задачи или что он добьется всего, чего захочет. Личностные интеллекты, как и другие виды интеллекта, могут привести к ошибочным результатам, а содержательные, или пропозициональные, знания (знания «что») не всегда легко превращаются в процессуальные (знания «как»).
Учитывая все эти отличия, почему же я включил в свое исследование личностные интеллекты? Преимущественно потому, что, как мне кажется, они имеют огромное значение во многих, если не во всех, сообществах. Но исследователи в области когнитивных наук либо игнорируют, либо сводят к минимуму роль этих видов мышления.[82] В задачу моих изысканий не входит изучение причин подобного недосмотра. Каковы бы они ни были, такое невнимание привело к тому, что наше современное понимание интеллекта оказалось лишь частичным, поэтому нам трудно понять, каковы же цели многих культур и каким образом эти цели достигаются.
Более того, согласно разработанному нами перечню критериев, личностные интеллекты прекрасно подходят под такое определение. Как я уже говорил, у этих видов интеллекта выделяется особая модель развития, неопровержимые доказательства репрезентации в нервной системе и отличительные черты различных нарушений. Начинают поступать и сведения об эволюции, поэтому у нас есть все основания предполагать, что в конечном итоге мы многое поймем благодаря данным о филогенетических истоках этих интеллектов. Свидетельства существования исключительных в этой области людей — гениев или уродов личностного взаимодействия — не столь убедительны, но не менее доступны. Конечно, у нас имеется не такое большое количество психологических экспериментов и тестов, как хотелось бы, но этот недостаток можно объяснить скорее нежеланием «ортодоксальных» психологов изучать эту сферу, нежели сложностью исследования этой области знаний. Наконец, хотя не всегда считается, что личностные интеллекты находят свое отображение в общественных символических системах, я убежден, что символизация является сущностью этих интеллектов. Без символического кода, предоставляемого культурой, человек остается лишь со своими простейшими и неорганизованными способностями распознавать чувства. Однако, вооружившись подобной моделью интерпретации, он получает возможность разобраться во всем разнообразии событий, с которыми сталкивается как он сам, так и другие члены его сообщества. Кроме того, будет вполне оправданным рассматривать ритуалы, религиозные обряды, мифы и тотемические системы как символические коды, которые содержат в себе ключевые аспекты личностных интеллектов.
Как мы увидим позже, зарождающееся чувство «Я» служит ключевым элементом в сфере личностных интеллектов и имеет огромное значение для людей во всем мире. Если развитое чувство «Я», как правило, считается основным проявлением внутриличностного интеллекта, мои собственные исследования позволили прийти к иному выводу. Широкое разнообразие «Я», которые встречаются в мире, наталкивает нас на мысль, что это «чувство» необходимо понимать как сплав, возникающий в результате соединения или слияния внутри- и межличностных знаний. Поразительные отличия в чувстве «Я», которые встречаются в мире, отражают тот факт, что это слияние может происходить различными путями, в зависимости от тех аспектов человека (и людей), на которые обращается особое внимание в данной культуре. Поэтому в последующих разделах я буду использовать термин чувство «Я» для обозначения того равновесия, к которому стремится каждый человек — и каждая культура — между подсказками «внутренних чувств» и давлением «окружающих людей».
Из разговора о чувстве «Я» становится понятной причина, по которой исследователи, вероятно, не готовы рассматривать личностные интеллекты с точки зрения познания. Развитое чувство «Я» часто кажется величайшим достижением человека, самой совершенной его способностью, которая возвышается над остальными, более приземленными и частичными видами интеллекта. Именно об этой способности у каждого человека имеется самое устойчивое и неизменное мнение, поэтому изучать ее нужно с особой осторожностью. Трудность исследования и значительная личная вовлеченность, конечно, не являются достаточным оправданием избегать такого научного изучения. И я надеюсь, что с помощью методов, предложенных в данной главе, читатель поймет, что чувство «Я», каким бы величественным оно ни было, все же поддается изучению. Более того, его можно проследить вплоть до двух личностных интеллектов, и у каждого человека есть возможность развивать их в себе и соединять воедино.
При более тщательном рассмотрении личностные интеллекты сводятся к способности обрабатывать информацию — одна направлена внутрь, другая наружу, — которая доступна для каждого младенца благодаря врожденному дару. Именно этот факт говорит о насущной необходимости изучать личностные интеллекты. Способность познавать себя и других — такая же неотъемлемая составляющая человека, как и умение узнавать предметы или звуки, поэтому она заслуживает изучения в не меньшей степени, чем эти «не столь сложные» умения. Внутри- и межличностный интеллекты, возможно, не во всем похожи на уже изученные нами виды интеллекта, но, как я уже говорил в начале нашего исследования, у нас нет никаких оснований полагать, что два любых интеллекта окажутся полностью сопоставимыми. Здесь важно то, что эти интеллекты должны считаться слагаемыми интеллектов человека, а их истоки в общих чертах можно сравнить у представителей разных культур во всем мире.
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТОВ
Впервые различные формы личностных интеллектов четко проявляются в связи между младенцем и тем человеком, который о нем заботится, — в большинстве случаев между младенцем и его матерью. В результате соединения эволюционной и культурной истории подобное взаимодействие стало неотъемлемой частью нормального роста человека. В течение первого года жизни ребенок укрепляет связь с матерью, чему способствует чувство сильной привязанности, которое женщина испытывает по отношению к своему ребенку. И именно эта прочная связь — а также чувства, сопутствующие ей — служит источником личностных знаний.
Около года эта связь остается максимально прочной, поэтому если ребенка вдруг разлучить с матерью или если чужой взрослый начинает угрожать этим отношениям, ребенок испытывает большое беспокойство. Он стремится сохранить положительное ощущение благополучия и избежать ситуаций, в которых ему придется страдать от боли или волнения. Затем постепенно прочность связи ослабевает, она становится более гибкой, когда ребенок выходит за пределы дома, поскольку теперь он уверен, что, вернувшись, найдет там маму (и тем самым восстановит чувство принадлежности). Если по какой-либо причине эта связь не может развиваться нормально или если она внезапно разрывается, а восстановление происходит нескоро, ребенок сталкивается с огромными трудностями. Благодаря работам Гарри Харлоу изучавшего последствия отделения от матери (феномен сепарации) на примере обезьян, и Джона Боулби, занимавшегося изучением младенцев, оставленных родителями на попечение государства, мы теперь знаем, что недостаток подобной привязанности может оказать разрушительное воздействие на нормальное развитие как в настоящем, так и в последующих поколениях. Для наших целей особенно важен тот факт, что отсутствие этой связи в конечном итоге означает, что человек столкнется с большими проблемами при понимании окружающих, воспитании своих детей и осознании на этой основе самого себя. Таким образом, первоначальную связь между младенцем и человеком, заботящимся о нем, можно считать попыткой Природы позаботиться о том, чтобы личностные интеллекты человека развивались должным образом. Развитие личностных интеллектов можно разделить на несколько стадий. На каждой из них выделяются определенные факторы, имеющие значение для развития внутриличностного интеллекта, а также другие факторы, которые оказываются решающими для становления межличностного интеллекта. В разделах, приведенных ниже, обращается внимание на эволюцию личностных интеллектов в контексте нашего с вами общества, поскольку на сегодняшний день изучена преимущественно эта область. Несколько позже я смогу затронуть вопрос, какие же характеристики присущи личностным интеллектам в других культурах.
Младенец
Хотя представить себя на месте младенца затруднительно, складывается впечатление, что с первых дней жизни все нормальные новорожденные испытывают целую гамму чувств и подвергаются многостороннему влиянию. Наблюдения за младенцами как в нашей, так и в других культурах, а также сравнение их мимики с тем, на что способны другие приматы, подтверждает, что существует ряд универсальных выражений лица, присущих всем нормальным детям. Самое разумное объяснение состоит в том, что есть особые состояния тела (и мозга), связанные с этими мимическими реакциями, и новорожденные ощущают как восторг, так и удовольствие или боль. Безусловно, первоначально эти выражения не интерпретируются, т. е. младенец не осознает то, что он сейчас испытывает и почему. Но целый ряд телесных состояний, присущих младенцу, служит доказательством того, что он может чувствовать и что эти ощущения могут быть разными в различных ситуациях; начиная соотносить свои чувства с окружающими условиями, он получает первое внутриличностное знание. Более того, благодаря такому пониманию он наконец осознает, что сам является некой целостностью с присущими только ему переживаниями и уникальной личностью.
Как только младенец начинает разбираться в реакциях своего тела и отличать их друг от друга, он учится замечать разницу между окружающими и даже различия в настроении «знакомых» ему людей. К двум месяцам, а возможно, и с самого рождения, ребенок уже может различать лица людей и имитировать их выражения. Такая способность говорит о том, что младенец изначально настроен на чувства и поведение окружающих, что само по себе удивительно. Вскоре ребенок уже отличает мать от отца, родителей от чужих людей, счастливое лицо от грустного или сердитого. (И действительно, к десяти месяцам способность младенца находить различия между выражениями лиц подтверждается хорошо заметными мозговыми волнами.) Кроме того, ребенок уже соотносит различные чувства с определенными людьми, событиями и обстоятельствами. Появляются первые признаки сопереживания. Маленький ребенок сочувственно отзывается на плач другого малыша или когда видит, что кому-то больно: даже если сам он не понимает, что именно испытывает другой человек, похоже, он знает, что с ним что-то не в порядке. Начинается формирование связи между знакомством, заботой и альтруизмом.
Благодаря любопытной технологии наблюдения за приматами, которую разработал Гордон Гэллап, мы можем понять, в какой момент человеческий младенец начинает осознавать себя как единое целое, отдельную личность. Если есть возможность, тайком от ребенка нанесите небольшую метку — например, румяна — ему на нос, а затем понаблюдайте за его реакцией на свое отражение в зеркале. В течение первого года жизни малыша удивляет красная точка, но очевидно, что он воспринимает ее как интересное украшение на ком-то другом, кого он случайно увидел в зеркале. Но на втором году жизни реакция ребенка на появление необычной краски меняется. Дети дотрагиваются до своего носа, дурачатся или стесняются, когда замечают неожиданное покраснение на том, что уже воспринимают как часть своего тела. Осознание своего физического отличия или целостности — конечно же, не единственные элементы самопознания. Ребенок также начинает реагировать на свое имя, сам себя называет по имени, составляет собственные планы или программы, которые обязательно хочет реализовать, чувствует полноту своих возможностей, когда добивается успеха, и испытывает дистресс, если нарушает определенные правила, которые для него установили другие или же он сам. Все эти составляющие личностного чувства[83] впервые проявляются в течение второго года жизни.
Ребенок в возрасте от двух до пяти лет
В этот период ребенок переживает крупнейшую интеллектуальную революцию, когда учится пользоваться различными символами, говоря о себе («я» «мое»), других людях («ты», «он», «мама»), («ты бояться», «ты плакать») и событиях в собственной жизни («мой день рождения», «моя идея»). Слова, картинки, жесты и числа — все это относится к тем разнообразным способам, с помощью которых идет изучение символического мира наряду с непосредственными физическими действиями в нем и различением чувств. Даже в тех культурах, где нет личных местоимений, дети умеют проводить такие же символические различения. К концу этого периода ребенок уже вполне способен создавать и понимать значения на уровне символов, используемых в отсутствие реальных объектов.
Использование символов имеет огромное значение для развития личностных интеллектов. Ребенок совершает неизбежный переход от простого понимания разницы в собственном настроении и чувствах окружающих, что было возможно с первых недель жизни, к более насыщенному и широкому ряду понятий, основанных на терминологии и интерпретативной системе, которые присущи данной культуре. Ребенку больше не нужно полагаться на заранее известные отличительные характеристики или его личные идиосинкразические впечатления (если таковые имеются). Теперь культура предоставляет в его распоряжение целую систему интерпретаций, от которых он может отталкиваться, пытаясь разобраться в событиях, в которых участвуют как он сам, так и другие люди.
Изучение различных ролей, выделяемых (и активно существующих) в сообществе, поможет понять, как эта зарождающаяся способность к символизации способствует развитию личности. С помощью беседы, воображаемой игры, жестов, рисования и т. п. малыш пробует себя в роли матери и ребенка, врача и пациента, полицейского и вора, учителя и ученика, космонавта и марсианина. Экспериментируя с этими образами, ребенок понимает не только то, какое поведение присуще этим людям, но и узнает кое-что о том, что значит занимать эту характерную нишу в обществе. В то же время дети начинают соотносить поведение и состояние других людей с их собственным личным опытом. Осознавая, что такое хорошо или плохо, что вызывает беспокойство или помогает расслабиться, что называется сильным или слабым, дети делают важный шаг к тому, чтобы определить, кто они такие и кем не являются, кем хотят стать, а чего постарались бы избежать. Половая принадлежность — это особенно важная форма выделения «Я», которая имеет место именно в этом возрасте.
Изучив основные теоретические труды относительно этого периода жизни, можно выделить различные пути и модели, связанные с двумя личностными интеллектами. Прислушавшись к мнению тех ученых, которые изучают преимущественно изолированного человека, мы должны воспринимать ребенка как независимое существо, которое находится в процессе определения собственной роли в обществе и изучения своих чувств по сравнению с ролями и чувствами окружающих. С точки зрения Фрейда, например, маленький ребенок борется с другими людьми — с родителями, сверстниками и даже героями сказок, — стремясь доказать собственную уникальность и силу. По мнению Эрика Эриксона, для данного периода жизни характерна борьба между чувствами автономности и стыда, в результате чего формируется соответственно инициатива или чувство вины. В менее аффективно нагруженных терминах Пиаже, это эгоцентрическая фаза, когда ребенок все еще замкнут в собственном понимании мира, — он пока не может полностью представить себя на месте других и ограничен своими эгоцентричными взглядами. Ребенок может осознавать себя, но это понимание пока неподвижное и застывшее: он может назвать свое имя и, возможно, перечислить свои физические признаки, но все еще не различает психологические нюансы, желания или потребности, свою возможность изменить роли или связанные с ними ожидания. Другими словами, ребенок остается довольно неразвитым существом. Но как бы там ни было, ребенка такого возраста воспринимают как отдельного человека, который стремится установить свою автономность от других, хотя еще довольно нечувствителен к миру окружающих его людей.
Американская школа символического интеракционизма, которую представляют Джордж Герберт Мид и Чарльз Кули, а также советские исследователи Лев Выготский и Александр Лурия, развивает совершенно другое направление данных изысканий. С точки зрения этих ученых, ребенок в таком возрасте может осознать себя только с помощью понимания окружающих. Более того, без способности понимать других — что они собой представляют и как воспринимают тебя — невозможно формирование личностного чувства. Согласно этому утверждению, маленький ребенок является цельным социальным существом, поэтому он наблюдает за интерпретативными схемами окружающих и пытается на основе этих наблюдений представить себя на месте другого человека. Таким образом, согласно одному подходу, внутриличностное знание зарождается в раннем детстве у изолированного индивида, который постепенно начинает узнавать (и, возможно, беспокоиться) о других людях; согласно другому подходу, межличностное понимание представляет собой единственно доступное средство познать собственную природу.
Хотя возможно, что только одно из этих мнений правильное, намного вероятнее, что оба подхода обращают внимание на разные аспекты развития личности. Индивидуально-ориентированный подход утверждает, что ребенка на данном этапе обуревают сильные и часто противоположные чувства, которые заставляют его сосредотачиваться на собственных переживаниях и помогают осознать, что он — отдельный человек. Такое понимание выступает важной составляющей развития способности размышлять, которая лежит в основе внутриличностного интеллекта. Социальноориентированный подход гласит, что ребенок развивается не в изоляции: он неизбежно является членом общества, и его понимание того, что представляют собой окружающие, не может развиваться в вакууме. Действительно, он накапливает собственный эмоциональный опыт, но именно общество предоставляет ребенку необходимые модели интерпретации этих чувств. Поэтому понимание человеком своего места в обществе может сформироваться только извне: ребенка побуждают обращать внимание на других, чтобы лучше разобраться в себе. Иными словами, без общества, которое обеспечивает человека необходимыми категориями, люди (например, дети, выросшие в дикой природе) никогда не смогут понять, что они — «личности».
Младший школьник
Понимание различия между «Я» и окружающими к достижению школьного возраста уже довольно хорошо сформировано. Теперь ребенок обладает отличными социальными знаниями. Он уже неплохо освоил несколько социальных ролей, присущих другим людям, а также прекрасно понимает, что является отдельным человеком со своими потребностями, желаниями, стремлениями и целями. Со вступлением в период конкретных операций ребенок умеет более гибко строить свои отношения с окружающими. Он понимает, что такое взаимность, — т. е. что человек должен относиться к другим определенным образом, чтобы и к нему относились так же. Он видит вещи под определенным углом, потому что обладает собственной точкой зрения, но способен взглянуть на вещи глазами других и понять их мнение по тем или иным вопросам. Конечно, не стоит преувеличивать внезапность таких перемен. Четкие признаки снижения эгоцентризма (децентрация. — Примеч. ред.) можно заметить еще в дошкольном возрасте, даже если другие аспекты эгоцентризма сохраняются у человека до конца жизни. Но похоже, что к началу учебы в школе между «Я» и другими, между собственным мнением и точкой зрения окружающих ребенок уже может провести определенную границу.
Хотя (или, скорее, поскольку) личностные характеристики человека приобретают устойчивость, теперь у ребенка появляется выбор, становиться ли еще более социальным существом. Он может выйти за пределы семьи и завязать отношения или дружбу с другими людьми. Он может понять, что такое справедливо относиться к окружающим, и даже более того — он чрезмерно озабочен вопросом справедливости, хотя пока еще не может понять, что в разных ситуациях возможны варианты. Кроме того, он способен осознать простые намерения и мотивы других, все реже ошибочно проецируя собственные желания на всех вокруг. В целом ребенок в этом возрасте становится крайне социальным существом, неукоснительно следующим различным принятым нормам, потому что больше всего на свете хочет стать достойным представителем своего общества, а не тем, кому делают неоправданные поблажки или к кому относятся несправедливо.
В этот латентный период (как его называют психоаналитики) личные чувства, желания и тревоги могут на время «затаиться». Но развитие интереса к себе и самопознания невозможно утаить. В это время ребенок проявляет повышенный интерес к приобретению нужных навыков, знаний и умений. Более того, его личное определение себя больше не привязано к исключительно физическим признакам, хотя пока еще и не приобрело психологических характеристик. Для ребенка шести, семи или восьми лет именно то, что он способен сделать, а также успешность этих действий, лежит в основе самопознания. Это возраст приобретения навыков, закладывания основ трудолюбия: ребенку присущ страх, что он с чем-то не справится и произведет впечатление неумелого человека.
Ребенок в среднем школьном возрасте
В период среднего школьного возраста — пятилетний отрезок времени между началом учебы и наступлением подросткового возраста — социальная чувствительность продолжает развиваться, в ходе чего обостряется понимание мотивации окружающих, а также полнее осознаются собственные умения и навыки. Дети углубляют дружеские отношения и готовы на многое, чтобы сохранить эту личностную связь, а потеря старого товарища оказывается очень болезненной. Значительная энергия расходуется на упрочение своей позиции в обществе друзей. Эти группы или компании могут строиться неформально, но иногда (в основном у мальчиков) они имеют такую же четкую социальную структуру, как и иерархические сообщества других приматов. Жизнь для тех, кому повезло оказаться среди «верхушки», кажется насыщенной и, соответственно, блеклой для тех, кто занимает низшее положение в группе или вообще не попал в нее.
Если дети прилагают большие усилия для сохранения дружеских связей, то не меньше времени уделяют они и тому, чтобы размышлять о сфере межличностных отношений. С развитием такой обостренной способности представлять себя на месте других людей, как конкретных знакомых, так и «обобщенных других», зарождается сложная разновидность личностных знаний. Ребенок может выполнять ряд умственных действий, чтобы представить себе возможные результаты взаимодействия с окружающими: «Он думает, что я думаю, что он думает...» Неудивительно, что дети в таком возрасте уже способны понимать многое из скрытого смысла литературных произведений, а также придумывать (и ценить) более тонкие шутки.
В этот период имеет место риск преждевременных суждений о неравенстве или нереалистичных оценок собственных успехов. Дети такого возраста могут ощущать себя беспомощными, если поверят, что есть определенные задачи, с которыми им не справиться. (Например, многие девочки убеждены, что не умеют решать задачи по математике, в результате чего возникает замкнутый круг, в котором заниженные ожидания ведут к низким достижениям.) Кроме того, ребенок может чувствовать себя совсем одиноким, если ему не удается подружиться со сверстниками. Такую неспособность соотнести себя с окружающими можно воспринять как явное поражение, и, как следствие, занижается самооценка человека. Личные чувства изменяются нескоро, и если они вызывают беспокойство, то вполне могут возобладать во внутреннем мире ребенка.
Подросток
С приходом подросткового возраста личностные интеллекты претерпевают множество изменений. Отдаляясь от несколько необузданной (и недостаточно изученной) социальной ориентации первых лет, люди (по крайней мере, в нашем обществе) продолжают развиваться в психологическом отношении. Они намного лучше понимают мотивы окружающих, их скрытые желания или страхи. Отношения с другими людьми больше не основываются исключительно на физической выгоде, для них теперь характерна психологическая поддержка и понимание, которое можно получить от тонко чувствующего человека. Точно так же подросток ищет друзей, которые ценили бы его за то, какой он есть, за его знания и чувства, а не силу или материальные выгоды.
Понимание социального мира тоже становится более отточенным. Подросток осознает, что общество для правильного функционирования нуждается в законах, но им не нужно подчиняться слепо, а необходимо принимать во внимание обстоятельства. Справедливость остается важной составляющей, но теперь играют роль и особенности отдельного спора или проблемы. Люди по-прежнему хотят, чтобы их понимали и любили окружающие, но яснее становится тот факт, что нельзя полностью раскрываться, — некоторые мысли нужно и лучше держать при себе.
Таким образом, мы видим, что в бурные годы подросткового возраста продолжается становление знаний человека о себе и о других людях. Но в то же время во многих культурах происходит еще более важное событие. Подростковый возраст оказывается тем периодом жизни, в который человек должен соединить эти две формы личностных знаний в одно большое и организованное чувство, чувство идентичности, или (возвращаясь к уже выбранному нами термину) чувство «Я». Как сказал Эрик Эриксон, зарождающаяся идентичность влечет за собой появление сложного определения своего «Я», которое пришлось бы по душе и Фрейду, и Джеймсу, а именно: человек приходит к принятию социальных ролей, в которых ему комфортно с позиции его собственных чувств и стремлений. Эта формулировка учитывает потребности общества и его специфические ожидания.
Это окончательное формирование чувства «Я» — крайне важный процесс. Способ его реализации определяет, сможет ли человек эффективно функционировать в социальном контексте, который он выбрал — или еще будет выбирать — для дальнейшей жизни. Человеку необходимо разобраться в собственных чувствах, мотивах и желаниях, в том числе и мощных импульсах сексуального характера, которые ему обязательно придется испытать в период полового созревания. Поэтому на данном этапе жизни, наполненном всевозможными стрессами, необходимо будет бороться со многими трудностями. Может возникнуть побуждение (и желание) осмыслить свое чувство «Я», поэтому пропозициональные знания (знания «что») о своем «Я» тоже имеют ценность во многих культурах. Возможно, это прозвучит парадоксально, но проблемы, связанные с формированием чувства «Я», будут не столь острыми в той культурной среде, где человек имеет не очень богатый выбор, т. е. там, где решающими оказываются внешние социальные ожидания, а искренние стремления самого человека приобретают маргинальный статус.
Зрелое чувство «Я»
Многие исследователи пытались описать последний этап становления человеческого «Я». Иногда эта работа основывалась на изучении решений или ключевых моментов, которые бывают в жизни каждого человека. Эриксон, например, говорит о кризисе интимности, который следует за кризисом идентичности; за ним следует присущий среднему возрасту кризис генеративности (заключается в передаче знаний, ценностей и самой возможности жить следующему поколению), а также кризис интегрированности пожилого возраста (Есть ли смысл в жизни человека? Готов ли он к смерти?). Другие ученые говорят о периодах возобновляющихся стрессов среднего возраста (когда уже слишком поздно менять течение своей жизни) и старости (когда человеку приходится мириться с упадком сил, возрастанием страхов и неуверенности). В отличие от них третьи обращают особое внимание на процесс продолжающегося развития, при котором у человека есть выбор: становиться ли все более автономным, интегрированным или самоактуализированным, при условии, что он в состоянии сделать правильный шаг и с готовностью принять то, что изменить невозможно. Конечная цель такого развития — это «Я», которое достигло совершенства и полностью дифференцировано от других. Примерами в данном случае можно назвать Сократа, Иисуса, Махатму Ганди, Элеонору Рузвельт, т. е. тех людей, которые, похоже, очень многое поняли о себе и о своем обществе, а также смирились с бренностью человеческого существования, но в то же время побуждали окружающих вести более продуктивную жизнь.
Во всех этих взглядах на зрелость подчеркивается относительная автономность чувства «Я», при которой основной акцент делается на внутри-личностных характеристиках, даже если от них больше пользы прежде всего другим. Но существует и иная точка зрения, согласно которой при формировании чувства «Я» намного важнее влияние других людей, следовательно, значение автономного «Я» снижается. Согласно этому утверждению человек всегда представляет собой комбинацию нескольких «Я», ряд личностей, которые проявляются в каждой отдельно взятой ситуации. Человек имеет не одно «центральное «Я», которое обуславливает его мысли, поведение и цели, а представляет собой набор различных масок, ни одна из которых не доминирует над остальными, а все они просто задействуются при необходимости и чередуются с другими, когда позволяет ситуация или меняется «сцена». В данном случае чувство «Я» имеет большее значение для межличностных и процессуальных знаний.
Согласно этому мнению, получившему широкое распространение в социальной психологии и социологии (в противовес обычной психологии), определяющими при выборе поведения являются ситуация или контекст, в котором оказывается человек, а также роль, необходимая в данном случае. С такой точки зрения, способность манипулировать ситуацией в своих интересах приобретает большое значение: формирование целостной личности или согласие со своими внутренними ценностями и стандартами отходят на второй план. Другие воззрения, развивавшиеся в иных культурах, утверждают, что у человека есть потенциал к индивидуальному развитию и формированию автономного чувства «Я», но он отказывается от такого варианта, поскольку считает его противоречащим сути общества и своей самости. Учитывая преобладание западных идей, такое представление о природе человека может показаться не столь привлекательным или законченным, однако оно имеет право на существование. Как бы там ни было, цель социальных наук состоит не в том, чтобы доказать обоснованность чьих-либо предубеждений. Эта дисциплина призвана разработать такую модель (или модели) человеческого поведения, которая наиболее объективно отражает положение дел в разных культурах и исторических эпохах.
Внешние факторы при развитии личностных интеллектов
До этого момента я говорил о развитии личностных знаний как о сравнительно естественном процессе, при котором наши врожденные склонности находить различия между чувствами или совершенствовать свое понимание окружающих становятся все более отточенными благодаря мягкому воздействию преобладающих в нашем обществе традиций интерпретации. Но во многих случаях развитие личностных знаний может происходить без видимой опеки: человеку не нужно прямо говорить, как различать собственные ощущения, это происходит само собой.
Однако бывают ситуации, когда может потребоваться куда более очевидная поддержка в сфере личностных отношений. Иногда такое руководство входит в задачу общества. С помощью формального обучения или литературы, обрядов и других символических форм культура помогает растущему ребенку находить отличительные признаки в своих чувствах или ощущениях других людей в его среде. Т. С. Элиот однажды заметил: «Посредством развития языка, расширения значений слов поэт способен донести до других людей намного больше эмоций и чувств, поскольку он предоставляет в их распоряжение речь, которая может передать очень многое». Бывает, сам человек, стремящийся приобрести больше навыков в личностной сфере, обращается за помощью к другим, чтобы научиться правильно определять свои чувства. Западную психотерапию можно назвать попыткой развить способности человека лучше и эффективнее разбираться в собственных ощущениях, а также «считывать» чувства других людей. Точно так же растущая популярность литературы по самообразованию — в том числе и неизменно пользующаяся спросом работа Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» — говорит о том, что в нашем обществе, где все привыкли к «внешнему руководству», люди все больше нуждаются в таких навыках, которые помогли бы правильно интерпретировать социальную ситуацию, и, исходя из этого, предпринимать верные шаги в дальнейшем.
Мы не знаем, как именно в идеале должно осуществляться подобное инструктирование в сфере личностных знаний. Не выявлены также и надежные способы определения степени эффективности тренинга личностных умений. Но следует подчеркнуть, что для развития этих эмоций и умения их распознавать необходимо использовать когнитивные процессы. Определенные чувства — паранойяльные, завистливые, восторженные — соответствующим образом конструируют ситуацию, показывают, что какое-то событие может оказать определенное воздействие на человека и окружающих его людей. Кто-то может научиться правильно оценивать заданные условия, довести до совершенства способность замечать отличия, разработать точные понятия и классификацию ситуаций. Не столь везучие люди иногда ошибаются в своих определениях, дают неверные названия, ожидают ошибочных последствий — и поэтому в корне заблуждаются с пониманием ситуации. Чем хуже человек понимает собственные чувства, тем выше вероятность, что он окажется их жертвой. Чем хуже человек понимает чувства, реакцию и поведение окружающих, тем скорее он будет делать ошибки во взаимодействии с ними и поэтому не сможет занять достойное место в обществе.
Конечно, различные сообщества отличаются друг от друга в том, насколько важны в них определенные ценности, взгляды и конечные результаты развития человека; насколько индивидуальное в них противопоставляется общественному; насколько хороши в них условия для развития личностных интеллектов. Я подробнее остановлюсь на некоторых вариантах, когда речь пойдет о культурном разнообразии личностных знаний. Сейчас же необходимо подчеркнуть, что у каждого нормального человека можно выделить признаки обоих аспектов развития — внимание к окружающим и освоение социальной роли, а также внимание к своему «Я» и совершенствование личной жизни. Степень может варьироваться, но тот факт, что каждый человек представляет собой уникальную сущность, которая должна развиваться в социальном контексте, — т. е. человек наделен чувствами и стремлениями, поэтому должен полагаться на других для достижения поставленных целей и формулировки верных суждений, — является непреложным условием жизни, глубоко укоренившимся в представителях нашего вида.
Детали эволюции
Представители сравнительной психологии склонны считать, что существует вероятность найти у животных, пусть и в простейшей форме, самые ценные качества, присущие человеку. Помимо заявлений о некоторых лингвистических способностях у шимпанзе, известно также, что эти обезьяны понимают, что краска румян находится на их собственном носу (на что не способны другие виды). И все больше распространяется мнение, что у высших млекопитающих наблюдается если не самосознание, то, по крайней мере, примитивные формы сознания. Но все же никто, кроме самых страстных любителей животных, не осмелился бы заявлять, что рассматриваемые нами личностные интеллекты присущи еще кому-то, кроме человеческих существ. Как бы там ни было, возникает вопрос: какие факторы эволюции нашего вида обуславливают интерес человека к самому себе и окружающим его людям, что является отличительной чертой Homo Sapiens!
Из многих факторов, которые, как считается, закладывают основу уникальности человека, два особенно тесно связаны с развитием личностных знаний — как индивидуальной, так и социальной направленности. Первый фактор — продолжительный период детства у приматов и особенная близость к матери. Мы знаем, что шимпанзе проводят пять первых лет жизни в значительной близости от матери, и именно в это время происходит накопление большого количества знаний. Мать служит моделью, за которой потомство может наблюдать, имитировать ее и запоминать для последующего воспроизведения. Не менее важно и то, что мать своим поведением указывает, какие вещи и события молодому животному нужно заметить, и тем самым определяет для него все разнообразие значимых занятий и особей. Мать — это первый и самый главный учитель: она может даже обучать потомство новым моделям поведения (например, добывать картофель), которые появились совсем недавно и присущи пока только некоторым группам вида. Этот «значимый другой» настолько важен в первые годы жизни, что когда мать погибает или по какой-либо причине исчезает из жизни детеныша, его нормальное развитие оказывается под угрозой. Сосредоточение на одной особи такое продолжительное время, тот факт, что у нее можно очень многому научиться и впоследствии передать полученные знания следующему поколению, представляет собой очень важный аспект, присущий и человеческому виду.
Второй фактор в эволюционном прошлом нашего вида — это появление несколько миллионов лет назад культуры, в которой большое значение приобрела охота. В то время как собирательством или добычей мелких животных можно заниматься самостоятельно или в компании двух-трех соплеменников, настоящая охота (выслеживание, убийство крупного животного, распределение добычи и приготовление пищи) — это такой вид деятельности, к которому необходимо привлекать намного больше участников. Группы людей или человекообразных существ — преимущественно мужчин — должны были научиться работать вместе, планировать, общаться и сотрудничать для того, чтобы распределить роли при охоте. Молодых мужчин нужно обучать, чтобы они тоже смогли участвовать. Например, мальчикам необходимо научиться выслеживать животное, различать запахи и крики, подавать жестами те или иные сигналы и синхронизировать их с другими партнерами, тренировать определенные мышцы, точно целиться, находить дорогу в неизвестной местности и в назначенное время возвращаться на установленное место. Другими словами, существование человеческого племени все больше связывалось с жизнью животных по соседству, от которых люди зависели в плане получения пищи, укрытия, одежды и даже при отправлении религиозных обрядов.
В свете этих требований для эффективной охоты легко понять, насколько необходимы сплоченность племени, лидерство в нем, организация и солидарность. Но, вероятно, не столь очевидно, почему должна возникнуть нуклеарная[84] семья, в которой отмечается уже упомянутая прочная связь между матерью и ребенком, а также несколько иные взаимоотношения между отцом и ребенком (преимущественно мальчиком). Несомненно, что в обществе, основным занятием которого является охота, могли возникнуть и другие социальные структуры, отличные от нуклеарной семьи с прочными связями между родителями и детьми. Возможно, при изучении этой темы необходимо отметить, что именно благодаря нуклеарной семье можно получить ответы на целый ряд вопросов: создание прочных межличностных связей, которые будут способствовать сплочению племени; тренировка молодых мужчин и подготовка их к охоте; обучение женщин ведению хозяйства и подготовка к будущему материнству; гарантия некоторой стабильности в выборе партнера; предотвращение случаев инцеста, а также сохранение и передача различных форм знаний и мудрости.
Эволюционные данные о происхождении внутриличностного интеллекта более неопределенны, частично потому, что он намного меньше поддается выделению и описанию. Один фактор, который может помочь осознать себя отдельной целостной личностью, — это способность преодолеть исключительно инстинктивные побуждения. Такой вариант более доступен животным, которые не должны постоянно заботиться о выживании, имеют продолжительный период жизни и регулярно занимаются исследованием окружающей обстановки. Конечно, использование любой символической системы, а также языка как самой главной из них, тоже способствует развитию этого вида интеллекта. Проявления «самости» становятся заметными у животных, обладающих зачатками символических способностей.
Эволюционные истоки личностных интеллектов заинтересовали некоторых ведущих исследователей древней истории человека. Палеонтолог Гарри Джерисон видит явное различие между восприятием других людей и восприятием себя. Согласно такой точке зрения, «восприятие индивидом других в их социальных ролях часто обусловлено уровнем организации его фиксированных паттернов поведения» — иначе говоря, в поведенческий репертуар индивида встраиваются высокорефлексивные действия. И действительно, узнавание сородичей, в том числе и отдельных родственников, явно присутствует у многих видов животных. Что же касается восприятия себя, то Джерисон рассматривает его как «свойственное исключительно человеку развитие способности создавать «объекты» в реальном мире». Ученый утверждает, что чувство «Я», вероятно, базируется на нашем умении создавать образ, с помощью которого мы можем сформировать представление о себе.
Британский психолог Н. К. Хамфри говорит об особой роли способностей, задействованных при познании социального мира. Более того, он заявляет, что истинно творческое использование человеком интеллекта заключается не в привычных всем сферах искусства и наук, а в сплочении всего общества. Ученый отмечает, что социальные приматы должны быть разумными существами, чтобы уметь просчитывать последствия своего поведения, предугадывать вероятное поведение окружающих, оценивать потери и приобретения, — все это в контексте, где доказательства эфемерны и изменчивы, равно как и последствия поступков. Справиться с такой ситуацией может только существо с высокоразвитыми когнитивными навыками. Такие необходимые умения человек развивал в себе на протяжении нескольких миллионов лет и тщательно передает их от старшего поколения к младшему.
Результатом стало появление у представителей человеческого вида развитой способности социального предвидения и понимания. Такой социальный интеллект, целью которого первоначально было решение проблем межличностных отношений, со временем проявился в создании «разумом дикаря» определенных институтов — крайне рациональных клановых структур, тотемизма, мифов и религии, характерных для примитивных сообществ.
Чувства у животных
Какой бы неопределенной ни казалась основа личностных интеллектов, вопрос о том, обладают ли животные чувствами и могут ли находить между ними различия, покрыт еще большей тайной. На мой взгляд, убедительные свидетельства того, что различение чувств может наблюдаться у существ с развитой нервной системой, содержатся в работе Джона Флинна. Этот исследователь доказал, что с помощью электростимуляции мозга у кошек можно вызвать сложные формы аффективно насыщенного поведения. Например, даже ту кошку, которая в обычных условиях не нападает на мышь, можно заставить броситься в атаку и соответственно изменить выражение мордочки простой стимуляцией определенных участков мозга. Это значит, что «система атаки» функционирует как отдельная единица, поэтому ни опыт, ни тренировка или обучение не нужны для правильного и своевременного нападения. Это служит доказательством того, что целый ряд поведенческих паттернов, которым, как предполагается, соответствуют определенные ощущения, можно активизировать как эндогенным (внутренним), так и привычным внешним воздействием. Исследования, в ходе которых у крыс с помощью инъекций определенных веществ вызывалась (а затем излечивалась) глубокая депрессия, тоже служат доказательством данного предположения. Возможно, такие «заложенные» реакции наблюдаются и у высших видов, но в более разнообразных ситуациях, характеризующихся меньшей степенью канализирования.
У видов, близких к человеку, можно проследить истоки определенных эмоций. Дональд Хебб продемонстрировал, что у шимпанзе можно вызвать приступ панического страха, для которого не требуется обучение или соответствующий опыт в прошлом, просто поместив животное в ситуацию, в корне отличную от той, к которой оно привыкло. Шимпанзе очень испугается, впадет в возбужденное или беспокойное состояние, если вдруг увидит неподвижное, изуродованное или лишенное конечностей тело другой обезьяны. Чтобы воспринимаемый объект привлек внимание, он должен значительно отличаться от других подобных объектов, но по-прежнему сохранять достаточно признаков, по которым его можно отнести к известному классу. По словам Хебба, страх возникает из-за нарушения корковой деятельности, обычно сопутствующей восприятию. Он отличается от других эмоций в силу особенностей психологических реакций, а также процессов, с помощью которых животное пытается вернуть нервное равновесие, например бегство от угрожающего объекта. Таким образом, поскольку даже новорожденный ребенок обладает особыми эмоциональными реакциями на определенные события, то такая же взаимосвязь наблюдается и у близких к нам видов животных, что говорит о зарождении осознания принадлежности к отдельной категории. То, что эта категория является другой «личностью», а реакция на нее настолько серьезна, позволяет предположить, что зачатки личностных интеллектов отмечаются не только у человека.
Важно подчеркнуть, что подобным образом организованные программы реагирования могут дать сбой вследствие осуществления в окружающей среде определенных манипуляций. Например, у обезьян существует ряд аффективных систем, способствующих укреплению связи между матерью и потомством. В обычных условиях эти системы активизируются автоматически. Но благодаря пионерским исследованиям детенышей обезьян, лишенных матерей, которые осуществил Гарри Харлоу, мы знаем, что отсутствие определенных стимулирующих обстоятельств приведет к тому, что обезьяна будет совершенно ненормальной в «личностной» сфере. Такие животные не способны правильно реагировать на других обезьян; они не могут определить собственную роль в социальной иерархии; они в страхе убегают или агрессивно реагируют на незнакомые ситуации; и что самое впечатляющее, они не в состоянии вырастить свое потомство, если им вдруг удастся забеременеть. В определенной степени отсутствие матери можно сгладить, например, позволив молодым животным играть друг с другом или иным образом возмещать материнские инстинкты; но даже такая компенсация имеет «значительные ограничения», поскольку после определенного возраста знания обезьяны о том, как обращаться с сородичами, утрачиваются безвозвратно. Следует отметить, что если материнская депривация оказывает разрушающее воздействие на личностный интеллект обезьян, то другие когнитивные способности, например умение решать возникшую задачу, оно не затрагивает. Очевидно, даже у человекообразных обезьян виды интеллекта в целом не зависят друг от друга.
Ненормальные социальные реакции у обезьян могут наблюдаться и вследствие хирургического вмешательства. В результате исследований, которыми занимались Рональд Майерс и его коллеги из Национального института здоровья, стало известно, что некоторые участки нервной системы приматов играют решающую роль при выборе адекватного социального поведения, которое является неотъемлемой составляющей межличностного интеллекта. Удаление префронтальной доли коры головного мозга у молодого примата вызывает снижение мимической и вербальной коммуникации, изменения в агрессивности и груминге[85], уменьшение вовлеченности в игровую активность сородичей и частые приступы гиперактивности, не преследующей определенной цели. Необходима значительная степень социальной зрелости, чтобы преодолеть подобное разрушительное воздействие префронтальной лоботомии. Это открытие свидетельствует о том, что необходимые для модуляции поведения структуры развиваются постепенно в период социального взросления, что утверждал и Харлоу со своими коллегами.
Разрушающее воздействие, подобное повреждению префронтальной коры, вызывают и повреждения передних височных долей. Вследствие таких травм прооперированные животные не могли вернуться в свою семью и не пытались восстановить доминирующий статус, который имели до операции. Кроме того, они демонстрировали сниженные лицевую экспрессию, жестикуляцию и голосовые характеристики. В отличие от обезьян с поврежденными лобными долями, эти животные были склонны проявлять повышенную агрессию. В общем, как отмечает Майерс, самая очевидная перемена в поведении у животных с травмами префронтальных и передних височных долей мозга проявлялась в снижении деятельности, связанной с сохранением социальных связей.
Р. Майерс высказал дерзкое предположение, что, возможно, существуют два отдельных нервных механизма, которые отвечают за «актуальное внутреннее чувство» обезьян и их способность передавать свои эмоции с помощью выражения лица. По словам Майерса, повреждения в основании мозга могут привести к отказу от намеренного использования лица, но не затрагивают спонтанную перемену в его выражении, имеющую эмоциональную природу. Это открытие говорит о том, что у человекообразных существ можно обнаружить основанное на биологических показателях понимание разницы между внутриличностной оценкой чувств (внутреннее состояние животного) и способностью намеренно сообщить о нем другим (межличностное общение). Исследования, которые проводил Росс Бак с участием людей в качестве испытуемых, подтверждают наличие у человека особых неврологических систем для управления как намеренным, так и спонтанным проявлением эмоций. Очевидно, что, как и у других приматов, наша способность намеренно передавать свои эмоции другим проходит долгий путь от спонтанного и непроизвольного выражения чувств.
Патологии самости
Таким образом, мы видим, что даже в такой исключительно человеческой сфере, как знание себя и других людей, можно найти аналогии с нашими родственниками-приматами. В том, что такие аналогии между межличностным интеллектом человека и его проявлениями у других приматов действительно существуют, не остается никаких сомнений. И хотя развитие знаний о себе больше свойственно человеку, исследования на шимпанзе помогают нам лучше разобраться в истоках этой самой человечной из всех способностей. Тем не менее, учитывая значительное развитие у человека личностных интеллектов, исследователи испытывают естественный интерес к их «судьбе» — как внутриличностного, так и межличностного интеллекта — после различных мозговых травм.
И снова все указывает на то, что лобные доли играют важнейшую роль в обоих личностных интеллектах. Повреждение лобных долей может помешать развитию личностных интеллектов и привести к различным патологиям внутри- и межличностных знаний. Уже больше 100 лет хорошо известно, что разрушение лобных долей взрослого человека лишь в незначительной степени сказывается на его способности решать задачи (например, те, что включены в стандартный тест интеллекта), но может нанести непоправимый вред его личности. Другими словами, индивид, страдающий серьезной патологией лобных долей, особенно если затронуты оба полушария, больше не будет «тем же человеком» для знавших его до травмы.
Вполне вероятно, что существует несколько синдромов личностных изменений, которые появляются вследствие травм лобных долей. Фрэнк Бенсон и Дитрих Блумер высказывают предположение, что повреждение орбитальной (нижней) зоны лобной доли приведет к гиперактивности, раздражительности, беззаботности и эйфории, а травма верхнего участка лобной доли повлечет за собой безразличие, апатию и медлительность, т. е. разновидность депрессивной (как противоположность психопатической) личности. И действительно, у разных людей можно обнаружить разнообразные комбинации этих симптомов, которые, вполне вероятно, связаны с локализацией поражения. При этом необходимо отметить, что люди, когнитивные функции (т. е. другие виды интеллекта) которых относительно хорошо сохранены, все же утрачивают ощущение тождественности себе прежнему. Они больше не выражают своих прежних целей, мотивов и желания контактировать с окружающими, их реакция на других людей в корне изменилась, задето также и чувство «Я».
Но поскольку такая симптоматика может быть результатом значительных мозговых повреждений, независимо от локализации травмы, важно определить, сможет ли человек при значительных повреждениях других долей коры головного мозга сохранить свою личность и чувство «Я».
Задавшись этим вопросом, советский нейропсихолог Александр Лурия описал удивительный случай «человека с разрушенным миром». Во время Второй мировой войны молодой солдат Засецкий в бою получил серьезную рану левой теменно-затылочной доли головы. В результате такого повреждения он утратил большую часть своих понятийных и символических способностей. Его речь редуцировалась до простейших выразительных форм; он больше не мог написать ни единого слова или даже буквы; он не воспринимал обстановку справа от себя; он не мог забить гвоздь, выполнять простейшие обязанности, играть в игры, найти дорогу на улице; он не помнил хронологию времен года, не мог сложить два числа или описать картину.
И все же, по словам Лурии, Засецкий сохранил нечто намного более ценное, чем эти интеллектуальные способности, — те личностные функции, которые связаны с лобными долями мозга. Он по-прежнему обладал волей, желанием, помнил события, не утратил важнейшую способность строить планы и выполнять действия так точно, насколько это позволяло состояние его здоровья. Больше четверти века Засецкий упорно работал над улучшением своего состояния. Под руководством Лурии он опять научился читать и писать. Он вел дневник, в котором планомерно описывал события каждого дня. Он даже мог оценивать свое прошлое.
Слова утратили для меня свой смысл или же сохраняют неполное и обобщенное значение. Каждое слово, которое я слышу, кажется смутно знакомым... что касается памяти, то я знаю, что существуют определенные слова, но не понимаю их значения... поэтому мне приходится ограничиваться теми, которые «кажутся» знакомыми и имеют для меня некоторый конкретный смысл.
В отличие от пациентов с травмами лобных долей, которых описывали Бенсон и Блумер, Засецкий в основе своей остался прежним человеком, который мог и дальше нормально взаимодействовать с другими людьми.
Почему лобные доли имеют такое значение для личностного чувства, что человек с этим сохранившимся участком мозга сохраняет свой взгляд на себя, а другие люди с менее серьезными травмами полностью утрачивают такую сохранность разума? Как утверждает Уолле Наута, ведущий нейроанатом, давно изучающий лобные доли, эти участки мозга служат местом накопления информации из двух главных функциональных сфер мозга: затылочных долей, участвующих в обработке всей сенсорной информации (в том числе и восприятия других), и лимбических систем, которые отвечают за мотивационные и эмоциональные функции человека, а также его внутреннее состояние. Лобные доли коры головного мозга, похоже, являются тем участком, где нервная сеть, репрезентирующая внутреннюю среду человека (его чувства, мотивы и субъективные знания), соединяется с системой репрезентации внешней среды (образов, звуков, вкусов и т. п., т. е. мира, воспринятого посредством различных сенсорных модальностей).
Таким образом, учитывая стратегическое анатомическое расположение и нейронные связи лобных долей, они могут служить главной интегрирующей станцией — и на самом леле выполняют эту функцию.
В основе личностных знаний, представленных в мозге, а особенно в его лобных долях, похоже, лежат два вида информации. Первый — это наша способность узнавать других людей — различать их лица, голоса и личности; соответственно реагировать на них; заниматься с ними совместной деятельностью. Второй вид информации — чувствительность к нашим собственным чувствам, желаниям и страхам, личным переживаниям. Как мы уже видели, зачатки таких способностей обнаруживаются в животном царстве и, безусловно, — у отряда приматов: узнавание лиц и голосов, создание прочных отношений с другими особями, а также широкая гамма чувств не являются принадлежностью исключительно человеческого вида. Более того, на каждую из этих форм можно повлиять в ходе экспериментальной хирургии. Но способность символизировать эти две формы знания так, чтобы можно было выразить свое понимание себя и других, похоже, присуща только человеку. Она позволяет нам формулировать теории и убеждения о других людях, развивать предположения о собственной личности, что я когда-то уже называл «метафорой Я». Скорее всего, в развитии и совершенствовании этих личностных интеллектов участвуют многие участки мозга (как корковые, так и подкорковые). Но из-за своей уникальной роли в качестве интегрирующей структуры, а также из-за относительно позднего развития в истории вида в целом и человека в частности, лобные доли занимают привилегированное и незаменимое положение для функционирования личностных интеллектов.
Статус личностных знаний изучался и у других групп с различными патологиями. Некоторые расстройства могут блокировать развитие понимания себя и других. Что касается маленьких детей, то иногда встречаются случаи аутизма: ребенок, сохранивший способность обрабатывать информацию, особенно в сфере музыки или математики, но проявляющий патологию в том, что не способен общаться с другими, и настолько неверно осознающий себя, что сталкивается со значительными трудностями при использовании слов я и меня. Какова бы ни была причина такого нарушения, здесь, несомненно, присутствует проблема с пониманием других и использованием этих знаний для понимания себя. Отведение взгляда от других людей служит ярким признаком такого расстройства.
Насколько я знаю, ученые идиоты с чрезвычайно развитым чувством «Я» не встречаются. Такие знания и совершенствование, похоже, требуют настолько интенсивной интеграции других способностей, что человек в подобном случае должен быть исключительно нормальным. Но все же следует отметить, что при некоторых нарушениях, например синдроме Дауна, способность налаживать эффективные социальные связи с другими довольно хорошо сохраняется, по крайней мере по сравнению с более «яркими» когнитивными способностями, например речевыми или логическими. Но крайне сомнительно, что такая форма межличностной «сообразительности» переходит в понимание собственного состояния. Более того, при некоторых расстройствах, например тех, которые характерны для психопатической личности, человек может чрезвычайно тонко чувствовать мотивы и намерения окружающих, не проявляя особой чувствительности к собственным мотивам или ощущениям. Наконец, существует вероятность того, что некоторые люди могут обладать совершенными знаниями о собственных чувствах, не будучи способными применять эти знания по отношению к другим. Как ясно из определения, такое состояние постороннему человеку выявить особенно непросто.
Можно проследить судьбу личностных интеллектов у людей, переживших разнообразные травмы лобных долей мозга, — например, у тех, кто страдает афазией в результате повреждения доминирующего полушария мозга. Может показаться, что ключом к самопознанию является речь и при отсутствии такой формы символизации способность понимать себя или сотрудничать с другими окажется серьезно, если не фатально, нарушенной. На самом же деле серьезная афазия может не оказать значительного воздействия на личностные интеллекты. Среди тех, кто страдал афазией, но выздоровел настолько, чтобы описать свое состояние, мы видим убедительные свидетельства: хотя может иметь место снижение общей чувствительности или серьезная депрессия в связи с таким состоянием, но никто из пациентов не ощущает себя другим человеком. Они понимают свои потребности, желания и стремления, поэтому прилагают все усилия, чтобы добиться поставленных целей. Члены семьи (и врачи), как правило, признают, что, даже учитывая серьезность нарушения, способность больного с афазией взаимодействовать с другими людьми и размышлять над собственным положением сохраняется удивительно хорошо.
Как будто для подтверждения этой мысли, отмечается, что у людей с травмами правого (недоминантного, или подчиненного) полушария наблюдается совершенно иная симптоматическая картина. У таких пациентов речь сохраняется в неприкосновенности, поэтому можно было бы ожидать, что не нарушится и способность выносить суждения о себе и других людях. На первый взгляд может показаться, что эти пациенты остались совершенно такими же людьми, как и прежде. Но в целом достаточно пообщаться с ними всего нескольких минут, чтобы убедиться, что способность взаимодействовать с окружающими сохранилась преимущественно, если не исключительно, на вербальном уровне, и наблюдается разительная и, возможно, непреодолимая пропасть между прошлой личностью и настоящим отношением к другим. Связи с окружающими оказываются чрезвычайно поверхностными, а высказывания, как кажется, делает совсем не тот человек, что был до мозговой травмы. Более того, человек не осознает произошедшей с ним перемены, не стремится к выздоровлению, не желает заново строить или восстанавливать взаимоотношения с близкими. Пациент может заявлять, что с ним все в порядке (заболевание часто сопровождается отрицанием болезни) и на следующий день он вернется к работе, но на самом деле он будет часами неподвижно сидеть у порога. Возможно, непонимание собственного состояния — главная причина плохих показателей выздоровления, которые, как правило, отмечаются у пациентов с травмами правого полушария. В то же время часты случаи поразительного восстановления навыков у пациентов с афазиями, что говорит о сохранности чувства «Я» и о стремлении, наряду с осознанием проблемы, справиться с болезнью.
Из результатов исследований других категорий пациентов можно получить дополнительные сведения о личностных интеллектах. Так, у страдающих болезнью Альцгеймера — разновидностью пресенильной деменции — расстройство способности обрабатывать информацию, особенно в пространственной, логической и лингвистической сферах, оказывается очень серьезным. Но в то же время человек остается социально адекватным и не забывает извиняться за допущенные ошибки. Складывается впечатление, что пациент чувствует снижение способностей, осознает этот упадок и переживает из-за своей неспособности справиться с проблемой, но не выражает свое отчаяние враждебно по отношению к окружающим. Мне кажется, подобное странное положение дел можно объяснить тем, что лобные доли такого пациента остаются в относительной сохранности на начальных этапах этой разновидности пресенильной деменции: болезнь Альцгеймера с особой жестокостью поражает затылочные доли мозга. И наоборот, пациенты, страдающие болезнью Пика — еще одна разновидность пресенильной деменции, которая в намного большей степени затрагивает лобные доли, — стремительно утрачивают социальную приспособленность, симптом, напоминающий раздражительность при патологиях лобных долей.
Перемены в личностных знаниях
До этого момента я рассматривал патологии, которые каким-либо образом снижают личностные знания. Но можно изучать и тех людей, личностные знания которых были изменены — а не ограничены — в результате расстройства неврологического характера. Пациенты, страдающие эпилепсией височной доли мозга, служат особенно наглядным примером в этом отношении. Такие люди начинают проявлять себя с несколько другой стороны: меняется их мировоззрение, они становятся задумчивыми, склонными к сочинению объемных трудов, все больше тяготеют к изучению философии и религии, а также постоянно размышляют над сложными вопросами мироздания. Иногда у такого человека случаются внезапные приступы ярости, но в то же время наблюдается усиление этических и религиозных чувств, в результате чего у него может возникнуть желание быть добрым, заботливым и богобоязненным. Кроме того, у таких пациентов может наблюдаться особая прилипчивость: они стремятся создавать чрезвычайно прочные связи с окружающими и не могут «расстаться» с человеком. Неразумно было бы проводить прямые параллели между эпилепсией и разрушением тканей мозга, поскольку в таком состоянии наблюдается не обширное разрушение нейронов, а, скорее, аномальная активизация нервной ткани. И все же тот факт, что в результате подобного состояния может во многом измениться личность человека и его способ взаимодействия с окружающими, хотя результаты лингвистического и других стандартных тестов когнитивных способностей остаются прежними, служит еще одним доказательством нашего утверждения о выделении личностных интеллектов в отдельные виды.
Возможно, правильнее было бы говорить о двух сферах нарушений. На основе тщательного изучения пациентов с эпилепсией височной доли мозга Дэвид Вир не так давно выдвинул несколько любопытных предположений о двух формах поведенческого расстройства и их нейроанатомических характеристиках. Одни участки коры головного мозга, расположенные в дорсальной (затылочной) зоне, имеют большое значение для способностей наблюдать и концентрировать внимание, травмы этих участков приводят к равнодушию и утрате чувства заботы о другом человеке. Другие располагаются в вентральной (височной) зоне коры и играют важнейшую роль при выделении раздражителей, обучении и правильной эмоциональной реакции. Повреждения в этих участках вызывают утрату внимания к внешним раздражителям и, как следствие, неадекватное сексуальное или агрессивное поведение по отношению к другим людям, при котором не учитываются предыдущие знания о последствиях подобных поступков. Хотя схема Вира разрабатывалась не специально для сопоставления с представленными здесь личностными интеллектами, но легко можно провести аналогии между этими нарушениями и ними.
Возможно, самое сенсационное открытие в неврологии последнего времени тоже имеет отношение к нашей теме. Как известно практически каждому читателю воскресных приложений к популярным газетам (а также тем, кто ознакомился с главой 3 данной книги), сегодня два полушария мозга можно разделить хирургическим путем и изучать отдельно друг от друга. Кроме получения дополнительных сведений о том, что левое полушарие отвечает за речевые функции, а правое — за пространственные, изучение «пациентов с расщепленным мозгом» помогло доказать, что человек обладает (по крайней мере потенциально) более чем одним сознанием. И действительно, в человеке может проявляться два и даже больше сознаний, или «Я», которые вследствие хирургического вмешательства отделяются друг от друга.
В настоящее время прилагаются значительные усилия для описания этих разновидностей сознания, для понимания того, являются ли они одинаково субъективными или объективными и не имеет ли одно из них какого-либо преимущества перед вторым. Вполне может оказаться, что оба сознания участвуют в обработке эмоций, при этом левое полушарие больше склонно к эйфории, счастью и оптимизму, а правое — к пессимизму, враждебности (вот почему повреждение одного полушария влечет за собой появление качеств личности, свойственных второму). Может оказаться и так, что сознание левого полушария просто больше ориентировано на слова и другие дискретные символы и аналитические категории, а правое полушарие отвечает в первую очередь за эмоциональную, пространственную и межличностную сферы. Возможно, подтверждением этих двух когнитивных стилей у нормального человека можно считать тот факт, что люди с доминирующим правым полушарием склонны к гуманитарным наукам, а те, у кого главенствует левое полушарие, имеют более трезвый, научный, «прямолинейный» склад ума. И хотя такое описание несколько утрировано, а мозг — это намного более сложный орган, чем просто «две маленькие половинки», не стоит недооценивать информацию о человеческом интеллекте, которую можно получить в ходе изучения разделенных полушарий.
Поскольку я уже высказывал критические замечания о тех ученых, которые слишком легко соглашаются характеризовать каждое полушарие единственным эпитетом, то необходимо еще раз подчеркнуть, к каким ошибкам в отношении личностных интеллектов могут привести подобные безапелляционные утверждения, основанные на таких поверхностных свидетельствах, которые были получены при изучении различных групп пациентов. Если говорить беспристрастно, то объем знаний о личностных интеллектах меньше и, несомненно, не столь убедителен, чем о других, более традиционных видах интеллекта, не настолько подверженных культурному влиянию. Доказательства, полученные при изучении пациентов с различными мозговыми травмами, можно трактовать неоднозначно, и нет никакой уверенности в том, что контраст между травмами левого и правого полушарий, между повреждениями коры мозга и подкорковых участков, между травмами передних и задних долей головного мозга повлечет за собой именно такое разделение личностных интеллектов на составные части. И все же наша дискуссия позволяет предположить, что личностные интеллекты могут пострадать в относительной изоляции от других видов интеллекта: в литературе как об эволюции, так и о патологиях имеются весьма правдоподобные свидетельства о том, что внутри- и межличностный интеллект можно отделить друг от друга. Для полностью неопровержимых доказательств потребуется разработка более совершенных способов измерений и создание более тонкого описательного метода для каждого из этих личностных интеллектов.
Возможно, корни личностных интеллектов теряются в биологии, но в различных культурах обнаруживаются значительные и разнообразные варианты их проявлений. При выявлении некоторых из них, а также при определении того, каким образом можно нарушить баланс между внутри- и межличностными знаниями в разных «Я», огромное значение имели антропологические исследования. Начать разговор на эту тему я хотел бы с результатов исследования, которые Клиффорд Гиртц получил в ходе двадцатипятилетней работы по сравнению трех противоположных представлений о личности.
Работая в 1950-х годах на острове Ява, Гиртц обнаружил там не менее жизнеспособное и устойчивое понимание личности, чем то, что было разработано европейскими мыслителями. Как разновидностью философских изысканий, любой житель Явы интересуется вопросом, что же собой представляет личность. С точки зрения этого народа, в человеке скрываются две противоположности. Первая касается понятий «внутри» и «снаружи». Подобно представителям западной цивилизации, жители Явы выделяют внутреннюю «сферу чувств» — поток субъективных ощущений, которые воспринимаются непосредственно. Ее противоположностью считается «внешний мир» — внешние действия, движения, позы и речь, которые в нашей культуре пришлись бы по душе ярым бихевиористам. «Внешнее» и «внутреннее» не выступают разновидностями одного и того же понятия, они, скорее, считаются сферами, которые нужно изучать независимо друг от друга.
Вторая противоположность связана с понятием «чистого», «цивилизованного», с одной стороны, и «грубого», «нецивилизованного» или «вульгарного» — с другой. Жители Явы стремятся достичь чистого, цивилизованного состояния и во внутренней сфере (с помощью религии), и во внешнем мире (посредством освоения этикета). В результате такой работы появилось разделенное понимание «Я», которое представляет собой «наполовину невысказанное чувство и наполовину непрочувствованный жест». Внутренний мир тихих эмоций и внешний мир открытого поведения противостоят друг другу как отдельные сферы, и яванцу приходится каким-то образом совмещать эти понятия в своем едином теле и своей единственной жизни. Конечно, напряжение между двумя «ликами» личностных знаний в яванском контексте четко выражено.
То, что на Яве имеет философский оттенок, на острове Бали выражается с помощью театра. В этой индуистской культуре наблюдается постоянное стремление к стилизации всех аспектов существования личности до такой степени, что все специфическое подавляется в угоду утверждения места каждого человека в спектакле жизни на Бали. Люди оцениваются согласно маскам, которые носят, ролям, которые играют в этой вечной постановке. Людей различают согласно их ролям в извечном перечне персонажей, которые благодаря случайному набору текущих факторов выходят на передний план, чтобы отразить устойчивую взаимосвязь разных статусов. Большой риск такого рода «представления Я» заключается в том, что публичная роль человека может распасться на части и при этом проявится его личность. Гиртц говорит так: «Когда такое случается, что все-таки иногда бывает, непосредственность момента ощущается со все возрастающей отчетливостью, и люди внезапно и невольно становятся живыми». Прилагаются все усилия, чтобы сохранить стилизованное «Я» перед угрозой внезапности, спонтанности и грубости. В этой культуре принято четкое разделение между двумя личностными интеллектами и делается все возможное, чтобы подчеркнуть межличностное и подавить внутриличностное проявление своего «Я».
В середине 1960-х годов Гиртц изучал марокканцев, живущих в небольшом городке Сефроу примерно в 30 км к югу от Феса. Население города поразительно разнообразно по этническому составу (арабы, берберы и евреи) и профессиональной принадлежности (портные, конюхи и солдаты) — это пример общины, типичной для Средневековья. Возможно, для того чтобы не затеряться в таком скоплении народа, марокканцы разработали особую практику под названием nisba для символического обозначения друг друга. У каждого человека есть своя nisba, которая описывает его, — это краткое добавление к имени, обозначающее местность или группу, из которой происходит этот человек. Под таким определением — «Умар из племени бугаду», «Мухаммед из района Сус» — человек известен другим. Точность описания, которым пользуются в данный момент, может зависеть от ситуации — чем меньше группа, к которой принадлежит человек, тем точнее будет его определение, — однако подобная практика распространена среди всех жителей Сефроу.
Понятие nisba необходимо рассматривать как часть общей картины жизни. Одна из самых красочных характеристик марокканского общества — это четкое разграничение между личным и общественным «Я». Живая и изменчивая мозаика общественной жизни тщательно отделяется от охраняемой приватности личных интересов человека. Марокканцы не делят свое многообразное общество на касты, у них принято учитывать ситуации, в которых люди выделяются на фоне других (брак, религия, закон и образование), а также более публичные контексты (работа, дружба, торговля), где создаются различные связи с окружающими. Люди взаимодействуют друг с другом, используя общественные категории, значение которых сводится к географическому расположению, и оставляют более личные формы жизни для тишины своих шатров и храмов. Таким образом, система nisba создает определенную структуру, в которой человека можно определить по предположительно неизменным характеристикам (речь, кровь, вера) и все же ему предоставляется значительная широта действий в личных отношениях в общественных местах. Это разновидность гипериндивидуализма в общественных отношениях, где практически все поддается решению в процессе взаимодействия. Но в то же время человек не рискует потерять свое «Я», которое тщательно противопоставляется этой деятельности в виде более интимных и тайных занятий, например продолжения рода и молитвы. В Марокко имеется пространство для развития как внутри-, так и межличностного интеллекта, но эти две разновидности никогда не соединяются в единое целое.
Хотя работа Гиртца была посвящена другой задаче — объяснить, как антрополог может понять представителей иной культуры посредством изучения их символических форм, — такие описания подтверждают классификацию интеллектов, предложенную в данной главе. Здесь мы видим три различные культуры, расположенные в разных частях света и разделенные многими веками цивилизации, каждая из которых решает одну и ту же задачу: как уравновесить чувства, потребности и предпочтения человека, с одной стороны, и позволить ему сосуществовать и эффективно функционировать в обществе — с другой. В каждой культуре этот вопрос решается по-своему. Яванцы явно разделяют две отдельные сферы существования, которые каждый человек должен каким-то образом держать в равновесии. Жители Бали склоняются к общественной роли и отчаянно пытаются помешать «необработанным» аспектам личности проявиться (за исключением, возможно, относительно мало ритуализированных петушиных боев). Марокканцы относят решение определенных вопросов исключительно к частной жизни, тем самым сохраняя значительную свободу взаимоотношений в публичной сфере.
Такими непохожими способами каждая культура в конечном итоге формирует свой тип личности, особенное чувство «Я», своеобразную, но все же высокоадаптивную смесь тех аспектов опыта, которые являются исключительно личными, внутренними, с теми, что управляют жизнью человека в обществе. То, как выражается «Я», как удерживается баланс, зависит от множества факторов, в том числе от истории и ценностей данной культуры, а также, возможно, от экологии и экономики. Едва ли можно предугадать, какие формы примет понимание личности и «Я» в разных уголках мира. Но все же мы можем предсказать, что каждая культура должна тем или иным способом разработать свое понимание этих феноменов, а также что между внутри- и межличностными аспектами обязательно будет развиваться определенная связь. Следовательно, чувство «Я», принятое в разных культурах, будет отражать синтез, принятый в ней между внутри- и межличностной гранью существования.
Изучая мировые культуры, мы сталкиваемся с поразительным разнообразием как внутри-, так и межличностного интеллекта. Кроме того, можно заметить, что самим этим интеллектам в разных культурах отводятся свои места. Например, если в контексте западной культуры огромное значение имеют логико-математический и лингвистический интеллекты, то личностные интеллекты особенно ценятся в традиционных сообществах и даже в современных развитых культурах на Востоке (например, в Японии). Вкратце рассмотрев несколько культур, невозможно полностью осознать все разнообразие решений, принятых в отношении личностных интеллектов и чувства «Я». Но мы можем классифицировать и охарактеризовать эти результаты по различным направлениям.
Воспользовавшись определением, которое предлагает мой коллега Гарри Ласкер, я могу начать наш обзор с рассказа о двух идеальных типах общества. В обществе частиц, подобном нашему, «Я» присуще каждому человеку. Считается, что человек обладает значительной автономией и сам управляет своей судьбой, которая может привести как к ничем не омраченному триумфу, так и к гибельному поражению. Проявляется огромный интерес, даже некое очарование, к отдельной личности, хотя при этом считается, что внешние обстоятельства могут либо помогать, либо мешать. Западный образ одинокого героя, который борется с враждебным внешним миром и недоброжелательными окружающими, символизирует жизнь в обществе «частиц». Особенно ярко это выражено во французской литературе.
Великая национальная литературная традиция... представляет «Я» как средоточие всех возможностей, жадное, не боящееся никаких преград (ничего не нужно терять, достичь можно всего) и рассматривающее развитие сознания как величайшую цель жизни, поскольку, только осознав все, можно стать полностью свободным.
Проводя аналогию с физикой, обществу «частиц» можно противопоставить общество полей. В нем внимание, власть и контроль отдаются в руки других людей или даже обществу в целом. Ни в коей мере не подчеркивая роль отдельного человека с его целями, желаниями и страхами, общество «полей» уделяет практически безраздельное внимание окружению, в котором оказывается человек. Такой контекст считается определяющей силой в жизни человека, местом принятия решений. Даже в тех случаях, когда человек выделяется на общем фоне, он считается «избранным» или «движимым» к своей нише, не имея собственного мнения (и даже желания иметь его) относительно развития своей судьбы. Для Жана-Поля Сартра, апостола французской литературной традиции, «ад — это другие». Для представителей общества «полей» «Я человека — это другие», поэтому если рядом с человеком нет его окружения, у него не остается даже намека на собственное «я».[86]
Почти все традиционные сообщества и даже современные восточные культуры придают намного больше значения факторам «поля» и менее склонны приписывать какую-либо видную роль или свободу воли отдельной «частице». У народности маори в Новой Зеландии, например, целостность человека определяется присущим ему статусом и его взаимоотношениями с группой. Вне своей группы маори остается никем. Изнутри не исходит ни страданий, ни удовольствия, эти ощущения рассматриваются как результат воздействия внешних сил. Точно так же у народности динка из Южного Судана не существует понятия разума, в котором накапливается опыт человека. Вместо этого человек всегда считается объектом, на который направлено воздействие, например, со стороны местности. Мир является не объектом изучения, а, скорее, активным деятелем, влияние которого ощущается пассивным человеком. Насколько такая точка зрения отличается от традиционного на Западе общества «частиц»! Роль «Я» как отдельной атомной частицы — это специфическое наследие западной политической, философской и литературной традиции, уходящей своими корнями еще во времена Древней Греции и не имеющей соперников в мире. Нужно отличать «наше» осознание личности от того, как это понятие представлено в других культурах. Кроме того, мы должны понимать, что даже в западных обществах существует широкое индивидуальное разнообразие меры «поле-независимости» и связанного с ней «локуса контроля».
В зависимости от трактовки личностной сферы, мировые культуры можно классифицировать и по другим признакам. Первый из них — это степень разработки в данной культуре эксплицитной теории личности. Некоторые сообщества, например маори в Новой Зеландии, выделяют личностные различия только в повседневной речи. Другие группы, например индийские йоги, сформулировали такую теорию развития «Я», которая намного сложнее и разностороннее, чем любая звучавшая когда-либо на Западе. Способ определения личности служит еще одним критерием для сравнения. В традиционном Китае разум и физические объекты не разделялись. В отличие от этой культуры в индейском племени оджибва, живущем в районе Великих озер, пространство личности включает в себя намного больший диапазон составляющих, в том числе животных, скалы и собственную бабушку. Культуры отличаются друг от друга и по тем аспектам личности, которые в них особенно ценятся. У японцев культивируется стиль «общения с минимальным сообщением». Отказавшись от «максимального сообщения» устной речи, японцы зависят от скрытых невербальных знаков, с помощью которых разъясняются истинные чувства, мотивы и послание человека. Кроме того, в этой культуре ценится и почитается jikkan — «настоящие и непосредственные чувства», а также особым уважением пользуются люди, настроенные на свои jikkan. Развиваясь по совершенно другому пути, индейцы навахо придают особое значение способности слушать. Правильное выслушивание считается ключом к принятию верного решения. Считается, что люди, умеющие слушать, обладают особым даром.
Хотя культуры значительно отличаются друг от друга важностью в них внутри- и межличностного интеллектов, в них можно выделить социальные роли, для которых требуется максимальное развитие обоих этих видов. Особенно ярким примером в этом отношении можно назвать представителей народности иксиль в Гватемале, которые обращаются к шаману или «хранителю дня» за советом и поддержкой. Н. Бенджамин и Лор М. Колби утверждают, что для роли шамана требуется совершенное владение обоими личностными интеллектами.
Он должен понять ситуацию [своего пациента], его поведение и проблему. Кроме того, он должен подавать пример собственной жизнью или, по крайней мере, стремиться к этому. Для этого необходимо умение анализировать себя, а также сочувствовать другим, чтобы понимать их потребности. Нужно постоянно пересматривать, менять и совершенствовать образ своего «Я»: для этого требуется постоянно анализировать и переоценивать окружающих. В рамках этого шаман оценивает личностные качества клиента и его взаимоотношения с семьей и друзьями. Необходимо также понимать цели и ценности, которые движут людьми, и то, как эти цели и ценности могут меняться в зависимости от контекста или ситуации.
Тщательное изучение различных ролей, которые выполняют важную функцию в разных обществах, несомненно, помогло бы понять, какое значение придается в них внутри- и межличностному интеллектам. Поскольку даже врач, религиозный лидер или художник в нашей культуре развивают в себе определенные формы личностных знаний, становится понятным, что шаманы, маги, колдуны, предсказатели и т. п. обладают крайне дифференцированными личностными знаниями. В западной культуре есть Руссо и Пруст, которые развивали знание своего «Я». Есть Шекспир, Бальзак и Ките, отличавшиеся совершенным знанием людей и умевшие настолько удачно отождествлять себя с окружающими, что такая способность может служить нам примером. Но есть все основания полагать, что подобные умения и роли существуют в любом уголке планеты. Как бы там ни было, мы вполне можем считать, что в культурах, где социальные связи играют более важную роль, чем в нашем обществе, в большом почете способность понимать других людей и видеть движущие ими мотивы.
Рассматривая формы знания, имеющие отношение к нам самим, мы затронули область, где роль культуры и исторических явлений особенно важна и значительна. Будет разумным предположить, что некоторые виды интеллекта, например участвующие в обработке пространственной информации, функционируют во многом сходно во всех культурах и в целом не поддаются влиянию извне. Но очевидно, что если речь идет о личностных интеллектах, культура играет важнейшую роль. И действительно, именно посредством освоения и использования системы символов данной культуры личностные интеллекты приобретают свои характерные черты.
Здесь мы сталкиваемся с факторами, имеющими долгий путь развития. Как отдельный вид, человек поднялся на уникальный уровень индивидуализации, которая достигает своей кульминации в чувстве личностной идентичности. Как отметил социолог Томас Лакман, возникновение чувства личностной идентичности возможно лишь благодаря отходу нашего вида от ситуации «здесь и сейчас» и полного растворения в непосредственности опыта. Благодаря этому развитому чувству перспективы мы можем оценивать окружающую действительность посредством богатой и довольно прочной структуры объектов и событий. Мы можем пойти еще дальше и интегрировать последовательность ситуаций, получив историю типичных событий. Мы можем взаимодействовать с другими людьми и видеть отражение нас самих в их поведении и поступках. Наконец, появление чувства личностной идентичности служит связующим звеном между филогенетическими факторами человеческого существования и той определенной моделью истории, которая была разработана предыдущими поколениями. Поскольку у каждой культуры есть своя история, осознание себя и других в ней обязательно будет уникальным.
В свете этих последних обстоятельств необходимо задать вопрос, стоит ли считать, что личностные интеллекты — знание себя и других — являются такими же специфичными (и обобщенными), как и другие виды интеллекта, которые мы рассмотрели в предыдущих главах. Возможно, правильнее было бы думать, что знание себя и других стоит немного выше, выступает более интегрированной формой интеллекта, более зависимой от культуры и исторических факторов, действительно независимым видом интеллекта, который, в конечном счете, контролирует более «первичные виды» интеллекта и управляет ими.
Вряд ли вопрос об «особенности» личностных интеллектов имеет четкий и однозначный ответ. В некотором отношении личностные интеллекты — такие же базовые и биологически обусловленные, как и все остальные виды интеллекта, рассмотренные нами: их истоки можно проследить до непосредственных чувств человека (если речь идет о внутри-личностном интеллекте) и до непосредственного восприятия важных для человека окружающих его людей (в случае с межличностным интеллектом). В таком понимании личностные интеллекты вполне соответствуют нашим рабочим понятиям о базовом интеллекте. И все же не менее правильным будет утверждение, что отличительной чертой личностных интеллектов может выступать разнообразие их проявлений. И, особенно в отношении Запада, представляется обоснованным считать чувство «Я» разновидностью регулятора «второго порядка», всеобщей метафорой личности. В таком понимании личностные интеллекты нельзя приравнивать к другим интеллектам, речь о которых шла выше.
Но не менее важно подчеркнуть, что подобное «восхваление Я» представляет собой культурную особенность, которая присуща западному обществу на современном этапе, но отнюдь не является императивом для всего человечества. Культуры сталкиваются с проблемой выбора между индивидуальным «Я», отдельной семьей или намного большей единицей — обществом или нацией. С помощью такого выбора культура определяет (или, скорее, диктует) степень сосредоточенности, с которой человек всматривается в себя или изучает окружающих. Одна из причин, почему мы на Западе обращаем преимущественное внимание на индивидуальное «Я», заключается в том, что, вероятно, этот аспект существования в контексте истории приобрел особое значение в нашем обществе. Если бы мы жили в культуре, где внимание обращается на других людей, на межличностные отношения, на группу или даже на сверхъестественные силы, то, вполне вероятно, нам никогда не пришлось бы столкнуться с дилеммой «Я» как особого понятия, поскольку, как мы уже видели, никакие рассуждения об «особенности Я» не были бы возможны без анализа ценностей и интерпретативных схем конкретного общества.
Однако если бы передо мной стояла задача представить «транскультурное» определение «Я», ее можно было бы решить следующим образом. Я полагаю, что чувство «Я» представляет собой развивающуюся способность. С одной точки зрения, оно является результатом эволюции внутриличностных знаний, но такое развитие обязательно происходит в рамках культурного контекста, даже если при этом задействовано все разнообразие человеческих интеллектов. Другими словами, на мой взгляд, в каждом сообществе присутствует, по крайней мере, скрытое чувство «Я», которое основывается на личностных знаниях и чувствах каждого человека. Однако это чувство «Я» будет интерпретироваться и обязательно изменяться в ходе взаимодействия человека с другими людьми, благодаря пониманию окружающих или, говоря обобщенно, благодаря интерпретативным схемам, которые существуют в данной культуре. Кроме того, каждая культура обуславливает и развитое личностное чувство, которое подразумевает определенное равновесие между внутри- и межличностными факторами. В некоторых культурах, например в нашем обществе, акцент на индивидуальном «Я» может стать особенно заметным, в результате чего появляется способность второго порядка, которая направляет и опосредствует другие виды интеллекта. Значит, это может быть исходом культурной эволюции, но необходимо подчеркнуть, что такой исход нам будет сложно оценить, поскольку он частично может основываться на иллюзорном представлении о превосходстве наших возможностей и ошибочной оценке степени нашей самостоятельности.
* * *
Рассмотрев семь видов интеллекта, мы можем обобщить полученные знания следующим образом. «Объектные» виды интеллекта — пространственный, логико-математический, телесно-кинестетический — подвергаются одной разновидности контроля: это особенности структуры и функций определенных предметов, с которыми человек вступает в контакт. Если бы наша физическая вселенная имела другой состав, эти интеллекты, вероятнее всего, выражались бы в иной форме. «Безобъектные» виды интеллекта — лингвистический и музыкальный — не обусловлены материальным миром, а зависят от структуры определенного языка или музыки. Кроме того, они могут отражать особенности слуховой и голосовой систем, хотя (как мы уже видели) и речь, и музыка могут развиваться независимо, хотя бы в некоторой степени, при отсутствии этих сенсорных модальностей. Наконец, личностные интеллекты зависят от ряда мощных и противоборствующих условностей: существование личности человека; существование других людей; представление и интерпретация «Я», принятые в данной культуре. Имеются и универсальные характеристики личностного чувства или чувства «Я», но в то же время на них влияют культурные нюансы, зависящие от множества исторических и индивидуальных факторов.
Размышляя о месте личностных интеллектов среди других видов интеллекта, я затронул вопрос научности этой теории. Необходимо решить проблемы, связанные с определенными видами интеллекта, а также выяснить достоверность теории в целом. Хотя окончательную оценку я предоставлю сделать другим, было бы разумно на данном этапе рассмотреть самые значительные трудности, связанные с теорией множественного интеллекта, а также поделиться своими мыслями о том, как эти проблемы можно устранить.
11 Критика теории множественного интеллекта
В предыдущих главах я изложил новейшую теорию интеллекта, разработанную для того, чтобы создать позитивную модель различных интеллектуальных способностей, имеющихся у человека. Большую часть изложения я посвятил демонстрации, т. е. рассказывал о видах интеллекта посредством примеров, а также пытался выявить сферу их применения, рассматривая разнообразные способы использования этих интеллектов в разных культурных контекстах. Неупомянутыми остались множество деталей данных интеллектов и их функционирования. Более того, большинство ограничений теории либо истолковывались в ее пользу, либо просто игнорировались.
В данной главе я приступаю к рассмотрению этой новой теории более критичным взглядом. Необходимо понять, как она согласуется с другими теориями человеческого познания. Может быть, она впадает в крайности или же слишком эклектична? Что ей удается, а какие факты она упускает из виду? Как с помощью этой теории можно объяснить другие сведения о человеке, которыми мы располагаем? И насколько полезной она может оказаться для практического применения? В оставшихся главах книги именно эти вопросы будут темой нашего обсуждения, поскольку я попытаюсь изложить теорию множественного интеллекта в более широком контексте. Моя главная задача в этой и последующих главах остается преимущественно критической, хотя в главе 12 я постараюсь связать основные положения данной теории с теми аспектами образования и практики, которые находятся в центре внимания в заключительных разделах книги. Те, кто в первую очередь интересуются практическим применением данной теории, могут переходить непосредственно к главе 13.
Строго говоря, теория множественного интеллекта утверждает существование небольшой группы интеллектуальных возможностей человека, всего их семь, которыми человек обладает уже в силу своей принадлежности к данному виду. Благодаря наследственности и раннему обучению или, скорее всего, постоянному совместному воздействию этих двух факторов некоторые люди развивают одни виды интеллекта намного лучше, чем другие, но каждый нормальный человек должен в определенной степени обладать всеми этими интеллектами, пользуясь малейшей возможностью для их развития.
При нормальном развитии событий виды интеллекта взаимодействуют и зависят друг от друга с самого начала жизни. Более того, как я подробнее расскажу в главе 12, они активно используются для выполнения самых разнообразных социальных ролей и функций. Тем не менее я уверен, что в основе каждого интеллекта лежит механизм по обработке информации, имеющий уникальные характеристики. Именно от такого механизма зависит более сложное проявление и воплощение данного интеллекта. В предыдущих главах я высказал предположение, что такими «основными» компонентами являются: обработка фонологической и грамматической информации в случае с речью; обработка тона и ритма в случае с музыкой. Но для настоящих целей нам важнее понять, что у каждого интеллекта имеется один или больше «сырых» механизмов по обработке информации, чем точно указать их названия.
Я бы не хотел, чтобы читатели восприняли это сравнение с вычислительным устройством, компьютером, серьезнее, чем нужно. Конечно, я не утверждаю, что нервные механизмы мозга работают точно так же, как электромеханические детали компьютера. Тем более я не намерен утверждать, что мои механизмы по обработке информации участвуют в сложном процессе принятия решения относительно того, какова природа определенного сигнала — музыкальная, грамматическая или личностная. Скорее, я хочу сказать, что нормальный человек создан так, чтобы тонко чувствовать определенное информационное содержание: когда появляется отдельная разновидность информации, в нервной системе активизируются различные механизмы, которые должны выполнить с ней определенные действия. И в результате повторяющегося использования, совершенствования и взаимодействия этих механизмов по обработке информации возникает та форма знания, которую мы привыкли называть «интеллектом».
Может показаться странным, что такое уважаемое понятие, как интеллект, представляется в виде набора «примитивных» механизмов (т. е. нечувствительных к другим значениям, поскольку эти устройства как бы действуют в квазирефлексивной манере в результате влияния определенных вводимых данных). Философ Роберт Ноцик предлагает взглянуть на это следующим образом.
Говоря о присущей нам какой-либо характерной черте, нельзя приписывать ее маленькому человечку внутри, психологическому гомункулу, который как раз и развивает эту самую черту. Если необходимо объяснить, как работает наш интеллект, то рассматривать придется ряд факторов, которые по отдельности являются примитивными, как, например, последовательность простых действий, выполняемых машиной. Психологическое объяснение творчества должно основываться на тех деталях или процессах, которые сами по себе не являются творческими... Объяснение любого ценного качества, характеристики или функции нашего «Я» необходимо связать с объяснением другой черты, которая, возможно, не имеет именно такой ценности, а бывает, и совсем не ценится... поэтому не удивительно, что объяснения склонны к редукционизму, и человек в них предстает в виде отнюдь не возвышенного образа.
Тем не менее, цель последующих глав — обозначить пути, по которым мы, двигаясь от «примитивных» механизмов по обработке информации, все равно сможем в результате прийти к интеллекту и даже творческому поведению.
Значит, лучше всего было бы рассматривать различные представленные здесь виды интеллекта как ряд «естественных» строительных блоков, из которых создается продуктивное направление мысли и действия. Не слишком увлекаясь аналогиями, мы можем представить интеллекты в виде элементов химической системы, основных составляющих, которые могут создавать самые разнообразные соединения и выражаться в уравнениях, подразумевающих массу процессов и продукции. Эти интеллекты, хотя и являются изначально «сырыми», могут участвовать в создании символических систем, а также растворяться в определенной культуре, выполняя возникающие в ней задачи. (В этом они кардинально отличаются от аналогичных характеристик у животных.) Можно наблюдать за их функционированием в изоляции, в определенных группах людей или ситуациях, отличающихся от общепринятых. Это еще одна возможность систематически изучать такие условия, благодаря чему мы можем выявить основные операции в каждой сфере. Но у нормального человека, как правило, разные виды интеллекта функционируют слаженно и ровно и позволяют ему выполнять самые сложные действия.
Как я уже отмечал в первых главах, идея о множественности интеллекта возникла очень давно. Разные грани разума признавались еще в Древней Греции, а психология способностей достигла своего расцвета в начале XIX века, задолго до того, как вообще появилась научная психология. В дальнейшем эта дисциплина себя дискредитировала настолько, что у нее теперь больше шансов быть упомянутой не в учебнике по психологическим теориям, а в сборнике курьезов. И все же в последнее время, можно сказать, этот подход вернулся к жизни: многие теоретики высказывали предположения, которые хотя бы отдаленно напоминали современную формулировку. Прежде чем рассмотреть некоторые из этих возрожденных теорий, необходимо вспомнить о факторах, которые способствовали возрождению такой «модульной» точки зрения на интеллектуальные способности.
Стремясь во всем подражать естественным наукам, психология искала самые общие законы и процессы — способности, которые могут наблюдаться независимо от содержания и поэтому считаться истинно фундаментальными. Самые заметные фигуры последнего поколения психологов — Кларк Халл, Кеннет Спенс, Б. Ф. Скиннер — представляют это направление. Как правило, они искали основные законы ощущений, восприятия, памяти, внимания и обучения, и после их открытия было высказано предположение, что эти законы одинаково действуют и в речи, и в музыке, с визуальными и слуховыми раздражителями, в сфере как элементарных, так и сложных моделей и задач. В самом крайнем, «униформистском», варианте подобных поисков ставилась цель обнаружить единый ряд принципов — законов ассоциации, — которые, как предполагалось, лежат в основе всех упомянутых явлений. С такой точки зрения, память была тусклым восприятием, обучение представляло собой активизированное или дифференцированное восприятие и т. п.
Общепризнанно, что подобная программа психологии, чем бы она ни была мотивирована, не добилась больших успехов. Сегодня уже не услышишь о поисках всеобъемлющих основных психологических законов. И все же отголоски этого подхода заметны в некоторых ведущих школах когнитивной психологии, в тех, которые полагаются в основном на модель универсального серийного компьютера. При этом представители данного направления пользуются рядом родственных понятий: общие навыки решения задачи, которыми можно воспользоваться для любой четко сформулированной проблемы; фрейм, сценарий или схематический анализ; — все это придает смысл не связанным между собой элементам при рассмотрении их в структурном контексте. Например, «сценарий» развития знакомых событий; блок общего планирования, при котором изучается результат и выносится суждение, удалось ли на самом деле решить задачу; ограниченная кратковременная память, которой можно воспользоваться в любой ситуации; центральный процессор, который получает все входящие данные; исполнитель, который определяет, как организм должен воспользоваться своими способностями для достижения цели. На мой взгляд, эти подходы оказались успешнее, чем взгляды предыдущего поколения теоретиков, но и они не были адекватными, а зачастую приводили к ошибкам при анализе основных психологических процессов.
Не избежав некоторых из этих недостатков, многие теоретики в последнее время предложили новую точку зрения, в которой выражаются сомнения относительно центральности — или, другими словами, гегемонии — модели, приписывающей разуму «универсальные» механизмы. Британский психолог-экспериментатор Д. Алан Оллпорт предположил, что человеческий разум (вслед за мозгом) представляет собой огромное количество независимых производительных систем: эти механизмы по обработке информации работают параллельно (а не серийно), причем каждый из них настроен на обработку определенного типа информации и активизируется ею. Ученый говорит так: «Собрано невероятное количество доказательств существования специализированных нейронов, которые реагируют избирательно на определенные (часто довольно абстрактные) инвариантные признаки сенсорной информации, что служит основной характеристикой работы центральной нервной системы». Главным в утверждении Оллпорта является тот факт, что каждая производительная система зависит от содержания поступающей информации: наша когнитивная деятельность связана не с количеством информации, подлежащей обработке, а с наличием в ней определенных паттернов, на которые должны отреагировать особые нервные структуры.
Д. А. Оллпорт отрицает необходимость центрального процессора для руководства этими единицами. Как считает ученый, данные производительные системы просто работают параллельно, при этом главенствует та, которая необходима в определенный момент. Он образно отмечает, что контроль в этих системах осуществляется просто как результат процесса, напоминающего обсуждение экспертов (т. е. дискуссию между разными высокочувствительными производительными системами). Оллпорт убежден, что нет необходимости в существовании центрального гомункула, который решал бы, что нужно делать. Ученый вопрошает: «Чем бы занимался центральный процессор?»
В основном специализированные производительные системы Оллпорта (и связанные с ними нейроны) работают с намного меньшими единицами информации, чем те виды интеллекта, которые выделяю я. И все же, разделяя мое мнение, Оллпорт замечает, что модульный принцип функционально отделимых систем, по-видимому, сохраняется и на молярном уровне анализа, который изучает такие связанные с поведением системы, как речь или зрительное восприятие. Более того, Оллпорт приводит примеры нарушений умственных способностей в результате мозговой травмы и считает их основным доказательством существования интеллектуальных модулей в том понимании, в котором о них говорил и я. Таким образом, хотя модель Оллпорта была сформулирована с несколько иными целями, она согласуется с основными положениями моей теории.
Джерри Фодор, философ и психолог Массачусетсского технологического института, красноречиво защищал модульную структуру разума. Пользуясь преимущественно последними эмпирическими исследованиями лингвистического интеллекта и визуальной обработки, часть из которых проводил его коллега Ноам Хомский, Фодор утверждает, что ментальный процесс необходимо рассматривать в виде независимых или «инкапсулированных» модулей, каждый из которых функционирует по своим правилам и выполняет особые процессы. Явно симпатизируя взглядам Франца Йозефа Галля (глава 2) (и выступая против большинства современных теоретиков), Фодор отрицает существование «горизонтальных процессов», таких как общее восприятие, память и суждения, говоря о «вертикальных модулях», например речь, визуальный анализ или обработка музыкальной информации, каждому из которых присущи свои характеристики функционирования. Фодор не стремится дать четкое определение каждому модулю — это эмпирический вопрос. Но он высказывает собственное предположение, что модули склонны отражать различные сенсорные системы, при этом речи соответствует свой отдельный модуль.
До этих пор я в целом согласен с Фодором, который представляет модули на уровне анализа почти так же, как их рассматривали и мы в данной книге. Но Фодор идет еще дальше и говорит, что с помощью этих сравнительно инкапсулированных модулей можно объяснить лишь некоторые аспекты познания. Он считает, что необходимо говорить о центральном «неинкапсулированном» участке разума, связанном с «накоплением убеждений». Центральный процессор имеет доступ к информации из разных модулей, может сравнивать разные входные данные друг с другом и гибко оценивать эти сведения для принятия решений, решения задач и выполнения многих других действий, на которые способен человек. Сравнения, произведенные центральным процессором, позволяют людям строить лучшие гипотезы о том, что собой представляет мир.
Развивая эту точку зрения, Фодор отходит от чисто модульной теории. Он утверждает, что хотя модульная теория согласуется с представлениями локализаторов о нервной системе, теория центрального процессора более правдоподобна в отношении работы мозга, поскольку разные участки нервной системы участвуют во всевозможных действиях и постоянно (хотя бы теоретически) сообщаются друг с другом. Однако Фодор в конце концов приходит к выводу, который хотя и может показаться несколько пессимистичным с научной точки зрения, все же приближает его убеждения к моей теории. Фодор заключает, что с помощью научных изысканий можно изучить эти модули, потому что они сравнительно независимы и могут подвергаться контролируемому исследованию, но центральный процессор, скорее всего, изучить невозможно, поскольку информация о нем немедленно смешивается с другими сведениями. Таким образом, исследование познания сводится к изучению отдельных модулей. Даже если теория центрального процессора верна, говорит Фодор, мы не сможем воспользоваться ею для дальнейшего развития когнитивной науки.
Вопрос о том, нужно ли говорить о механизме центральной обработки данных, остается сложным и, по всеобщему мнению, не имеет однозначного ответа. Некоторые ученые, разделяющие модульную точку зрения, например Зенон Пилишин, считают, что важно различать непроницаемые (для информации из других систем) процессы и проницаемые процессы, на которые можно повлиять с помощью целей, убеждений, последствий и других форм знания и информации. Другие исследователи, например Джеффри Хинтон и Джеймс Андерсон, попавшие под влияние «параллельной» модели функционирования нервной системы, не видят ни причины, ни пользы от существования гипотетического центрального процессора. Еще одна группа ученых говорит двусмысленно. Майкл Газзанига и его коллеги утверждают: «В мозге существуют многочисленные ментальные системы, каждая из которых наделена способностью вызывать определенный поведенческий паттерн. Для каждой из этих систем характерны свои импульсы к действию, которые не обязательно внутренне осознаются». Но эти же ученые предполагают, что естественная речевая система может в определенном смысле контролировать другие модули. На мой взгляд, в ходе исследований предпочтительнее выяснить, в какой степени о деятельности человека можно говорить как о процессе, обуславливающем развитие и появление взаимосвязей между различными видами интеллекта. Наконец, может оказаться, что процессы высшего уровня можно объяснить иначе — с помощью сложной комбинации интеллектов или заявляя о существовании некоей надмодульной способности (имеющей собственный путь развития и историю) , но даже такие утверждения пока еще преждевременны.
То, что мнения, похожие на теорию множественного интеллекта, «витают в воздухе», в некоторой степени поддерживает меня в моих начинаниях. (Существует множество теорий, касающихся интеллекта, о некоторых из них речь пойдет в главе 12 вслед за рассказом о данной точке зрения.) В то же время еще важнее оправдать некоторые шаги, которые я предпринял для формулирования своей теории. Например, очевидно, что размер возможных кандидатов на звание модулей значительно варьируется, от крайне ограниченных производительных систем — как те, что участвуют в восприятии фонемы или распознавании линии — до намного более общих модулей, подобных тем, что активизируются при восприятии речи или пространства. Мне лично кажется, что теории как о мини-, так и о максимодулях верны и могут быть одинаково оправданы, но цели у них совершенно разные.
Если перед нами стоит задача правильно представить себе работу нервной системы, необходимо сосредоточиться на мельчайших модулях, которые можно соотнести с определенным поведенческим паттерном. В данном случае наиболее оправданным будет предположение, высказанное Оллпортом (или Хинтоном и Дж. Андерсоном). С другой стороны, если нужно сформулировать структуру, полезную для работников образования в отношении развития человека, тогда стоит говорить о модулях на таком уровне анализа, который используется в повседневном общении. В данном случае предпочтительнее позиция Фодора и Газзаниги. Но воспользоваться такими категориями здравого смысла можно лишь в том случае, если они возникают в ходе исследований как «естественные» объединения элементарных модулей. Иначе слияние мини-модулей в макси-модули просто не будет иметь смысла. Таким образом, крайне важно, что различные мини-модули, которые изучали Оллпорт или Хинтон, похоже, срастаются в более обширных сферах. Другими словами, складывается впечатление, что различные специфические способности восприятия становятся частью более широкой пространственной системы, и тогда о разных специфических системах анализа лингвистической информации можно говорить как об элементах более общей лингвистической системы. Вероятно, в ходе эволюции продолжительностью в несколько миллионов лет такие отдельные производительные системы превратились в элемент более общих и максимально взаимосвязанных модулей. Подобные условия остаются для изучения тем, кто интересуется выявлением ментальных сфер, которые могут оказаться полезными специалистам по образованию.
А как же быть с использованием столь многозначного слова «интеллект»? Как указывалось выше, частично это обусловлено моим желанием создать наиболее правдоподобную модель интеллекта: я хочу заменить современное, крайне дискредитировавшее себя понятие интеллекта как единой врожденной черты (или ряда черт), которую можно правильно оценить в ходе часового собеседования или письменного теста. Но здесь необходимо также упомянуть, что в целом мало что зависит от отдельного термина, поэтому я вполне могу согласиться и с такими определениями, как «интеллектуальные возможности», «мыслительный процесс», «когнитивные способности», «когнитивные навыки», «формы знаний», или с подобными металингвистическими терминами. Главное здесь не название, а концепция: то, что человек наделен несколькими разновидностями интеллектуальных способностей, которые может развивать, если сам он нормален и находится под воздействием подходящих стимулирующих факторов. Будучи нормальными людьми, мы пользуемся этими умениями в обращении с различными материалами или предметами, которые приобретают значение в определенной ситуации. В рамках предположения, которое высказал мой коллега Израиль Шеффлер, интеллектуальный потенциал можно реализовать, если отсутствуют препятствующие обстоятельства, имеется благоприятная последовательность событий и есть решительное желание следовать в этом направлении развития.
Следует заметить, что в предыдущих главах я старался приводить примеры высшей формы реализации интеллектуального потенциала. Поэтому я обращал внимание на тех, кто «добивается результата» в данной области, и подробно останавливался на «высших формах достижений», например создании музыки или сочинении поэтических произведений. Однако анализ включает в себя также восприятие и понимание, а не только производство, а также различные виды искусства, науки или осмысления, будь то традиционные или новаторские, в народной культуре или в развитом обществе. И действительно, эти виды интеллекта обычно проявляются в обычных действиях непрофессионалов, но самая наглядная их реализация заметна у одаренных в художественном или научном отношении людей.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТЫ, ОСТАВШИЕСЯ В ТЕНИ
Прежде чем переходить к вопросам, связанным с теорией множественного интеллекта, нужно остановиться еще на одном моменте. Даже если кажется, что теория хорошо обоснована, в психологии человека существует множество областей, в которых она неприменима. К ним относятся отдельные главы — или даже целые учебники, — посвященные социальной психологии, психологии личности, психологии темперамента, психологии эмоций, развитию характера. Теория множественного интеллекта никоим образом не предназначена для применения в этих направлениях исследования.
И все же не меньшей ошибкой было бы считать, что теория множественного интеллекта существует в плоскости, совершенно далекой от этих традиционных вопросов. На самом деле она пересекается с ними по крайней мере в двух точках. Во-первых, теория множественного интеллекта подчеркивает, что различные формы знаний присутствуют буквально в каждой сфере человеческого существования. Будучи напрямую связанными с познанием, наши способности взаимодействовать с окружающими, заниматься спортом или танцами, наслаждаться произведениями искусства основываются на высокоразвитых когнитивных навыках. Теория множественного интеллекта стремится доказать всеобъемлющую природу интеллектуальной деятельности в тех сферах, в которых присутствие таковой до сих пор отрицалось.
Теория множественного интеллекта, кроме того, может оказаться полезной в том отношении, что определенные аспекты традиционной психологии, наконец, будут правильно соотнесены с конкретными видами интеллекта. Согласно моему анализу, многие аспекты социального развития и социального поведения попадают под влияние межличностного интеллекта, а, например, многие явления развития личности, характера и ощущений можно рассматривать с точки зрения внутриличностного интеллекта. Каким именно образом можно провести границу между этими областями, а также какие аспекты этих традиционных сфер по-прежнему остаются за пределами теории множественного интеллекта — решение этой задачи лучше отложить на будущее.
Еще два вопроса, давно интересующих психологию, — мотивация и внимание — тоже не были рассмотрены в данной книге. Я не сомневаюсь, что эти понятия играют решающую роль в жизни человека, поэтому попытки развивать какой-либо или даже все виды интеллекта ни к чему не приведут, если отсутствует мотивация и безраздельное внимание. Более того, мне лично кажется, что механизмы мотивации и внимания будут общими. Другими словами, правильные теории мотивации и внимания можно будет применить для исследований в нескольких интеллектуальных сферах. И все же даже при беглом рассмотрении видно, что стремление совершенствоваться в одной интеллектуальной области повлечет за собой высокую степень мотивации и внимания, но не потребует таких же затрат в других сферах. У подростка могут быть отличные мотивы для того, чтобы стать музыкантом, поэтому он проявляет предельную концентрацию внимания во всем, что касается игры на музыкальном инструменте, но в других областях жизни он, скорее всего, не будет проявлять ни мотивации, ни повышенного внимания. Значит, даже если удастся сформулировать общую теорию мотивации и внимания, в ней нужно учитывать степень вовлеченности этих понятий в различные интеллектуальные сферы.
КОГНИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ «ВЫСШЕГО УРОВНЯ»
До сих пор в нашем разговоре о других областях психологии мы затрагивали понятия и направления исследований, которые могут иметь отношение к интеллекту, но в традиционном понимании не считаются когнитивными по своей природе. Об этом сходстве можно было говорить, не подвергая теорию множественного интеллекта серьезному риску. Но, приступая к рассмотрению других аспектов поведения человека, мы можем столкнуться с более изменчивыми вопросами, которые имеют ярко выраженную когнитивную природу, но на первый взгляд как бы не попадают под рассмотрение в рамках моего анализа. Это те когнитивные операции, которые считаются способностями «высшего порядка», — например, здравый смысл, оригинальность или метафорические способности, — для которых, несомненно, необходимо применять умственные навыки. Однако из-за их обширности эти способности, как мне кажется, нельзя объяснить в ходе разговора об интеллекте человека. На самом деле не ясно, как эти способности объясняются с помощью теории множественного интеллекта, и если это действительно невозможно, то как в таком случае следует изменить саму теорию, чтобы применить ее для их адекватного описания. И все же, работая над этой темой, автор обязан, по крайней мере, высказать свои предположения относительно этих ключевых интеллектуальных функций. Именно к этому я сейчас и приступаю, четко осознавая, что более подробный анализ может направить исследование в совсем другое русло.
Здравый смысл
Наверное, меньше всего проблем вызовет такой «общий» когнитивный термин, как здравый смысл, под которым я понимаю способность решать проблемы интуитивно, быстро и, вероятно, неожиданно верно. Что меня поразило при анализе этого понятия, так это тот факт, что о здравом смысле, как правило, вспоминают, когда говорят о двух типах людей: тех, кто обладает даром межличностного общения, и тех, кто наделен талантом в механической области (в принятой нами терминологии это личностный и пространственный интеллекты). Об этом понятии никогда не говорят в связи с людьми, одаренными в музыке, математике или в чисто пространственных вопросах. Таким образом, получается, что одна из типичных черт здравого смысла — это то, что хотя данное понятие не является широко распространенным, о нем вспоминают применительно к людям с высокоразвитыми навыками в одном или двух видах интеллекта, и этот термин нельзя назвать таким уж «универсальным», как это принято считать. Иными словами, здравый смысл, похоже, нашел практическое применение лишь в ограниченном кругу интеллектов.
Тем не менее я признаю, что этот термин вполне может относиться и к людям, которые могут составлять верные планы на будущее, пользоваться всеми предоставляющимися возможностями, управлять собственной судьбой и судьбами других людей самым разумным способом, не попадая под влияние профессионального жаргона, идеологии или тщательно разработанных, но все же несостоятельных теорий. Подобную способность нельзя назвать всего лишь хорошо развитыми механическими или социальными умениями. Такой человек, похоже, отличается от других благодаря своей способности сводить воедино большие объемы информации и пользоваться ею при разработке общего эффективного плана действий.
Чтобы объяснить особенности этого крайне желательного для любого человека навыка, необходимо изложить еще несколько моментов. Прежде всего, способность к вычислению правильного расположения и согласованию многих направлений деятельности основывается на логикоматематическом интеллекте. Затем, если человек хочет спланировать свою жизнь (или жизнь окружающих) , он должен обладать хорошо развитым внутриличностным интеллектом или, проще говоря, развитым чувством «Я». Наконец, переход от способности планировать последовательность действий к непосредственному выполнению этих замыслов (от мечты — к поступкам) переносит нас из сферы познания в область практики или эффективной деятельности. Здесь мы попадаем в царство воли. Это, несомненно, важнейший компонент во всех поступках, с помощью которых мы развиваем свою жизнь, но в рамках данного исследования человеческих интеллектов я предпочел обойти этот вопрос стороной.
Оригинальность
Вторая когнитивная способность, которая не была включена в нашу теорию интеллектов, — это оригинальность или новизна, т. е. умение создавать неизбитый и в то же время достойный продукт в определенной сфере, будь то оригинальный рассказ или танец, решение личного конфликта или математического парадокса. На мой взгляд, по большому счету, оригинальность или новизна возникает в отдельно взятой области: редко можно встретить человека, который высказывает оригинальные или свежие идеи по всему спектру интеллектуальных вопросов, хотя такие примеры все-таки встречаются — вспомним хотя бы феномен Леонардо да Винчи. Таким образом, необходимость объяснить эту способность может сводиться к необходимости объяснить новизну именно в тех областях, где она проявляется, а также попытаться установить, почему некоторые люди преуспевают не в одной, а в нескольких сферах.
Как и в других разделах данной работы, я считаю, что вопрос новизны нужно рассматривать в процессе ее развития. В начале жизни поведение большинства детей отличается оригинальностью и новизной. Думаю, это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, маленький ребенок не знает, где проходят границы между различными сферами, поэтому легко нарушает их, зачастую создавая необычные, любопытные ассоциации и сопоставления. Во-вторых, маленький ребенок не связан правилом находить всего одно буквальное решение проблемы или один выход из сложившейся ситуации: его не волнует непоследовательность, отклонение от традиции, отказ от буквальности. Такая неосознанность тоже, очевидно, способствует появлению оригинальной продукции, хотя никоим образом не гарантирует, что подобный результат будет оценен по заслугам или хотя бы правильно понят окружающими.
Но какими бы привлекательными ни казались ранняя оригинальность и новаторство ребенка стороннему специалисту или его родителям, он еще далек от тех оригинальных и свежих творений, которых мы можем ожидать от настоящих профессионалов своего дела. Стоит отметить, что такие оригинальность и новизна, хотя и рассматриваются как нечто положительное в современном западном обществе, во многих культурах воспринимаются как нежелательные, особенно там, где общепринятой целью считается приверженность старым, неизменным традициям. Но согласно моему анализу, истинно оригинальная и свежая деятельность возможна лишь в том случае, когда человек достигает совершенства в своей сфере деятельности. Только такой специалист обладает необходимыми навыками и достаточным пониманием структуры своей области знаний, чтобы быть в состоянии осознать, в чем заключается настоящая оригинальность и как ее добиться.
Однако мы не знаем, в какой именно момент развития может проявиться такая оригинальность и новизна, а также под силу ли это каждому, кто достиг вершин в той или иной интеллектуальной сфере. Если профессионал добился такого положения, то только он может решить, производит он действительно оригинальную продукцию или просто работает в русле уже сложившейся традиции. Возможно, корни оригинальности уходят глубоко в прошлое и зависят от основного типа темперамента, личности или когнитивного стиля. С этой точки зрения можно быстро установить, наделен ли человек потенциалом творить нечто оригинальное. Такие особо одаренные люди в дальнейшем станут самыми вероятными кандидатами на создание оригинальной продукции, даже если они и не достигнут вершин совершенства в своем деле. И наоборот, те, кто не обладают такими личностными качествами, никогда не будут оригинальными, даже если приобретут превосходные технические навыки.
Некоторые практические свидетельства последнего утверждения были получены в ходе неофициального исследования, которым мы с коллегами занимались несколько лет назад. Мы опросили нескольких человек, которые стали весьма оригинальными композиторами. В каждом случае было установлено, что уже в 10 или 11 лет эти будущие композиторы не довольствовались простым исполнением музыкальных произведений, а начинали экспериментировать, подыскивая вариации, которые казались им более подходящими. Другими словами, как мы видели это в случае с Игорем Стравинским, некоторые одаренные юные музыканты сочиняют музыку и пишут вариации известных произведений в еще более раннем возрасте. Насколько я смог установить, такие эксперименты в юном возрасте не свойственны людям, которые стали впоследствии отличными исполнителями, но не занимаются сочинительством. Нельзя сначала быть Менухиным, а затем превратиться в Моцарта. Эту точку зрения подтверждают и результаты многочисленных исследований «творческой» личности. Было выявлено, что определенные личностные качества — например, сила Эго и готовность бороться с традицией — характерны для выдающихся творческих деятелей в отдельной области. Кроме того, этим можно объяснить и низкую корреляцию между результатами диагностики творческих способностей и более привычными тестами интеллекта, по крайней мере при превышении определенного уровня IQ.
Метафорические способности
К способностям, о которых еще сложнее говорить в рамках теории множественного интеллекта, относится и умение создавать метафоры, замечать аналогии, говорить иносказательно, а также выявлять подобного рода многозначные связи в различных интеллектуальных сферах. Более того, вся эта группа способностей, похоже, совершенно не сочетается с понятием отдельных видов интеллекта, поскольку метафорический интеллект (если можно так назвать этот ряд способностей) сам по себе является способностью интегрировать разные виды интеллекта. Именно такая мысль, видимо, позволила Джерри Фодору высказать предположение о центральном процессоре, который объединял бы входящие данные из разных модулей. Предлагаемая теория множественного интеллекта в таком свете тоже кое в чем проигрывает, поскольку еще Аристотель выделял умение создавать метафоры как явный признак гения: только неадекватная когнитивная теория позволила бы гениальности выскользнуть из хватки своего анализа.
Теория множественного интеллекта предлагает несколько способов работы с метафорическими способностями. Начнем с того, что умение воспринимать определенные модели в любой ситуации может оказаться вершиной развития логико-математического интеллекта. Значит, человек с развитым логико-математическим мышлением может лучше замечать метафоры, хотя он и не обязательно осознает всю глубину их значения. Кое в чем такая точка зрения подтверждается тем фактом, что высокие результаты широко распространенного теста аналогий Миллера наблюдаются у людей, демонстрирующих хорошие ответы и по другим тестам логических способностей. Также вполне возможно, что умение видеть метафоры и аналогии проявляется лишь в определенных областях. Как я уже отмечал, способность создавать пространственные образы или метафоры во многом помогла ученым, пытавшимся открыть новые законы или донести свои открытия широкой публике. Более того, вероятно, ученые-практики развивают высокие навыки в своих областях знаний. Значит, в лингвистической сфере поэт увидит множество аналогий и метафор в семантических категориях, а художник, архитектор или инженер обнаружат не меньше метафор и аналогий в символической системе, используемой в их сфере деятельности. Таким образом, по крайней мере в некоторых областях, люди с высокоразвитыми навыками имеют все шансы хорошо освоить язык метафор.
Но такое объяснение не затрагивает гениев, т. е. тех людей, чьи способности выходят за пределы одной области и кто действительно наделен способностью находить связи между языком и музыкой, танцем и социальной общиной, пространственной и личностной сферой. Можно сказать, что такие люди обладают высокоразвитыми метафорическими способностями в одной области (предположим, логико-математической или пространственной), которые они переносят и на другие сферы. Но лично мне такое объяснение кажется неубедительным. Хотя я считаю, что любая сфера может служить основой (в техническом понимании) для создания метафор, однако это не объясняет всей глубины метафорических способностей.
К счастью, имеются сведения об общем развитии метафорических способностей, в основном благодаря нашей собственной лаборатории в гарвардском Проекте «Зеро». У нормальных детей можно выделить по крайней мере три формы метафорических способностей. Начнем, пожалуй, с самой примечательной из них. Младенцы, видимо, рождаются с умением подмечать сходство в сенсорных сферах — например, параллели в яркости или ритмах, — которое наблюдается в слуховой и зрительной модальностях. Шестимесячный ребенок может правильно связывать слуховой ритм с набором точек или немым фильмом, которым присущ такой же ритмический рисунок. У младенца наблюдается примитивная, но тем не менее точная способность соединять различные области и модальности — это умение не вписывается в картину развития отдельных видов интеллекта, как они были представлены в предыдущих главах.
В дошкольном возрасте, после того как ребенок научится пользоваться символами, у него развивается вторая метафорическая способность. Это тот период, когда ребенок легко — и, невидимому, с интересом — воздействует на взаимосвязь различных областей: он замечает сходство между разными формами в пределах одной или нескольких сенсорных систем и выражает их словами (или другими символами), соединяет слова, цвета или танцевальные движения в необычных комбинациях, получая от этого удовольствие. Например, трех- или четырехлетний ребенок может замечать и описывать сходство между стаканом имбирного эля и затекшей ногой или между танцем и движениями самолета. Как уже предполагалось в разговоре о новизне, такая склонность к нахождению метафор дает толчок ранней форме оригинальности, которую ребенок может и не осознавать до конца, но которая в то же время и не случайна (что доказали мои коллеги).
Первые годы в школе — это тот период, когда способность создавать метафоры проявляется менее явно. В это время ребенок стремится понять структуру каждой сферы знания и освоить связанные с ней навыки, поэтому любые странствия в царство метафор могут вызвать беспокойство. Но как только знания обо всех отраслях окончательно отложились и ребенок развил в себе необходимые для них навыки, на передний план снова выходит возможность создавать метафорические связи. Однако в данном случае проявляется все многообразие индивидуальных различий, когда один человек с готовностью отправляется на поиски взаимосвязей между разными сферами, а другой редко отваживается на такое путешествие.
Я убежден, что подобные ранние формы метафорических способностей универсальны, сам этот феномен не сводится к становлению отдельных видов интеллекта, однако участвует в процессе естественного развития. Младенцы устроены так, что могут устанавливать различные кросс-модальные связи так же легко, как и имитировать поведение взрослых. Дошкольники также быстро обучаются замечать сходство и различие в ходе своих попыток понять окружающий мир. Это просто характеристика развития, и ее нужно учитывать в любом исследовании становления человека. Но до сих пор не установлено, связаны ли эти способности напрямую с дальнейшим интеллектуальным совершенствованием, и если да, то задействуются ли при этом различные «детские» формы. Поэтому аналитика можно извинить, если он не выделяет как отдельное понятие метафорический интеллект или группу интеллектов, которые проявляются в первые годы жизни.
Но когда речь идет о зрелых разновидностях метафорических способностей, возникает ключевой вопрос: существует ли взрослая форма этих умений, развитых у некоторых людей в таком совершенстве, что ими можно воспользоваться в определенной интеллектуальной сфере? Если это так, то каковы истоки развития этой почитаемой взрослыми способности? В настоящий момент у меня нет достаточных оснований для того, чтобы выделить эти умения как один из видов интеллекта. За исключением бесспорно существующей развитой формы этих навыков, у «метафорического» интеллекта все же не наблюдается тех признаков, которые играют основную роль при выделении других видов интеллекта. Лично я считаю, что люди с совершенными метафорическими способностями развили такие навыки в одной или нескольких сферах в ходе общего процесса обучения, но теперь настолько уверенно пользуются этими умениями, что могут применить их в любой другой области, в которой им приходится работать. Одаренный человек со склонностью замечать метафоры будет находить их практически везде и способен понять, какие из них окажутся неэффективными. Однако можно назвать предпочтительное направление метафорических способностей — а именно те отрасли, в которых человек обладает самыми глубокими познаниями, благодаря чему его навыки получили самую благодатную почву для развития. Например, такой одаренный человек, как создатель научных эссе Льюис Томас, может заметить и описать сходство в сфере музыки и танца, но основным направлением его деятельности по-прежнему будет логикоматематическая сфера.
Точно так же вдохновенный поэт У. X. Оден, который тоже отличается устоявшейся привычкой создавать глубокие метафоры, комбинирует мир в своих стихотворениях, но все равно главной сферой его метафорических интересов остается область лингвистики. Другими словами, метафоры могут возникать в разных областях, но в то же время за ними сохраняется предпочтительное направление.
Мудрость
Еще один общий вид интеллекта, в чем-то сходный с метафорическими способностями, но представляющий собой более широкое понятие, часто называется либо способностью общего синтеза, либо даже мудростью. Это тот интеллект, которого ожидают от старика, повидавшего многое в своей жизни, который теперь может правильно применить накопленный опыт и воспользоваться им в нужное время.
На первый взгляд, никакая другая способность не кажется настолько не связанной с отдельными видами интеллекта, ее даже трудно назвать составляющей интеллектов. Мудрость, или синтез, по своей природе охватывает самый широкий диапазон понятий. Лично мне кажется, что эти термины применимы к людям, которые обладают некой комбинацией способностей, описанных выше: хорошо развитым здравым смыслом и оригинальностью в одной или нескольких областях наряду с умением проводить аналогии и создавать метафоры. Человек может пользоваться этими умениями, по крайней мере в определенных обстоятельствах, чтобы высказать взвешенное суждение или предложить мотивированный план действий. Если такое предположение верно, то всякий раз, говоря о здравом смысле, оригинальности или метафорических способностях, необходимо помнить, что из этого вытекает обладание и настоящей мудростью. К сожалению, чтобы привести убедительные доводы в пользу этого утверждения, нужно быть действительно очень мудрым человеком!
* * *
Из всего изложенного следует, что по крайней мере некоторые операции «высшего уровня» можно объяснить с точки зрения теории множественного интеллекта. Иногда эти операции сводятся к способностям всего в одной сфере (например, межличностный здравый смысл или оригинальность в скульптуре), а подчас их можно рассматривать как комбинацию индивидуальных свойств личности человека и поразительных способностей в отдельной интеллектуальной сфере (примером чего можно назвать оригинального романиста). Иногда эти операции правильнее будет считать независимой способностью, которая возникает в одной сфере знаний и распространяется на другие (как, например, некоторые метафорические способности), а порой они напоминают сплав различных интеллектуальных талантов (что можно сказать о мудрости).
Но любое из этих описаний явно ограничено: все они понятны и, наверное, правильны, если мы поставим перед собой задачу защитить теорию множественного интеллекта, но их нельзя назвать полезными или разумными. Тот факт, что теория множественного интеллекта не может объяснить все, не обесценивает ее. В будущем, возможно, правильно будет добавить к ней несколько более общих способностей (как это сделал Фодор) и использовать их в качестве дополнения к навыкам, которые человек развивает в себе на основе индивидуальных умений.
И снова к чувству «Я»
На этом этапе необходимо сделать несколько дополнительных замечаний относительно когнитивной способности, которой уже уделялось большое внимание при изложении теории множественного интеллекта. Я имею в виду чувство «Я» — то понятие, которое с полным правом можно назвать «способностью второго порядка», управляющей некоторыми видами интеллекта. В предыдущей главе я рассматривал развитие «Я» в рамках личностных интеллектов. Согласно моему анализу, приведенному там, чувство «Я» коренится в изучении человеком своих собственных чувств и переживаний, для чего он использует интерпретативные схемы и символические системы, разработанные в данной культуре. Некоторые сообщества тяготеют к тому, чтобы сводить к минимуму такое внимание к своему «Я», поэтому представители этих культур не придают большого значения своим желаниям, а больше следят за поведением и потребностями окружающих. В других культурах, например в нашей, «Я» рассматривается как активный деятель, оно наделено значительной самостоятельностью, в том числе правом принимать ключевые решения относительно дальнейшей жизни человека. Конечно, каждая культура должна стремиться к равновесию между внутри- и межличностными аспектами знания, именно в этом и состоит чувство «Я». Но общества, делающие акцент на внутриличностном, и следовательно, на чувстве «Я», представляют серьезную угрозу взглядам на интеллект как на простое взаимодействие равных составляющих.
Как уже говорилось в предыдущих главах, для решения этой проблемы можно выбрать один из многочисленных стратегических ходов. Первый вариант заключается в том, чтобы просто описать развитие чувства «Я» как отдельного вида интеллекта, который основывается на ключевой способности человека воспринимать себя (о чем шла речь при обсуждении личностных интеллектов), но полностью равноправен со всеми другими видами интеллекта, рассматриваемыми в этой книге. С такой точки зрения чувство «Я» будет либо новым (восьмым) видом интеллекта, либо зрелой формой внутриличностного интеллекта. Второй, более радикальный подход предполагает, что чувство «Я» представляет собой отдельную сферу, которая изначально занимает привилегированное положение, поскольку служит своего рода центральным процессором или рефлектором в работе других способностей. Именно такое мнение разделяют многие специалисты в области психологии развития, изучающие становление «Я». Третий вариант, к которому склоняюсь я, заключается в том, что индивидуальное чувство «Я» — это независимая способность. Она основывается как на внутри-, так и на межличностном интеллекте, но в определенной социальной структуре может также использовать в своем развитии и другие виды интеллекта в новом аспекте. Этот новый аспект представляет собой разработку специальной объяснительной модели, которая охватывает все, что представляет собой и что делает человек.
Я хотел бы подробнее объяснить, что имеется в виду. Поскольку люди имеют в своем распоряжении широкий выбор символических систем — сюда относятся речь, жестикуляция, математика и т. п., — они могут приблизиться к пониманию того, что лежит в основе внутриличностного интеллекта, разобраться в этом сами и донести до заинтересованных других. Такие репрезентативные системы позволяют создать любопытный оборот речи — фиктивное ментальное образование — модель того, чем является человек, чего он добился, каковы его сильные и слабые стороны, что он чувствует по отношению к себе и т. д. Человек может оперировать этой моделью точно так же, как он пользуется другими моделями, представленными в других символических системах. Тот факт, что эта модель касается самого священного для него понятия в жизни, придает ей особую остроту и значимость. Но интеллектуальные операции, которые человек применяет к этой модели, по своей природе не отличаются от тех, с помощью которых он изучает Солнечную систему, биологический организм или другое социальное существо. Просто она кажется иной и поэтому более важной.
Чувство «Я» является, скорее, не отдельной областью знаний или областью второго порядка, изначально в чем-то превосходящей другие. Я предпочитаю рассматривать чувство «Я» как вполне объяснимое понятие с точки зрения множественного интеллекта. Мне кажется, что оно представляет собой результат естественной эволюции внутриличностного интеллекта в рамках определенного культурного контекста, чему способствуют также репрезентативные способности, которые вытекают из других видов интеллекта. В конечном итоге человек может объяснить себя с помощью речи (или, реже, других символических систем), изложив в логической последовательности все присущие ему качества и опыт, которые он сочтет нужным отметить. Человек может и дальше совершенствовать это описание себя по мере того, как происходят новые события и меняется его Я-концепция. Подобное объяснение себя может быть правильным или ошибочным, но здесь это не существенно. Главное, что с помощью нескольких видов интеллекта, а также благодаря интерпретативным схемам, имеющимся в данной культуре, человек может прийти к такому описанию себя, в котором суммируются и классифицируются подробности его жизни. Благодаря совместной работе всех разновидностей интеллекта на свет может появиться некая сущность, которая превосходит их все вместе взятые.
Прежде чем завершить критическое рассмотрение теории множественного интеллекта, стоит отметить условия, при которых ее можно будет опровергнуть. Ведь как бы там ни было, если теория множественного интеллекта может объяснить (и тем самым отбросить) все потенциально противоречащие ей свидетельства, ее все же нельзя назвать вполне обоснованной теорией в научном понимании этого слова.
Можно выделить две группы изменений, возможных для данной теории. В лучшем случае общие положения останутся общепризнанными, но некоторые утверждения претерпят более или менее значительные модификации. Например, может оказаться, что некоторые кандидаты на звание отдельного вида интеллекта не соответствуют основным критериям, поэтому не принимаются для рассмотрения. Или же те, на которые не обратили должного внимания и отбросили, окажутся достойными занять место среди избранных. При втором варианте развития событий может случиться так, что теория множественного интеллекта объясняет значительную часть интеллектуальной деятельности человека, но в нее придется внести несколько дополнительных элементов, отсутствующих в первой версии. Это будет разумно, если будет доказана обоснованность какого-либо горизонтального компонента — например, восприятия или памяти — или если подтвердится, что еще какие-то способности — предположим, метафорические, мудрость или чувство «Я» — существуют помимо явлений, охваченных теорией множественного интеллекта.
Я готов согласиться с подобной ревизией. Но также вполне возможно, что будет доказана несостоятельность теории каким-либо другим, более значимым способом. Если окажется, что самые важные виды интеллектуальной деятельности нельзя объяснить в рамках теории множественного интеллекта или их удается лучше объяснить с помощью какой-либо другой теории, тогда, бесспорно, теория множественного интеллекта будет опровергнута. Если случится так, что свидетельства, на которых делался особый акцент в данной работе (например, открытия в нейропсихологии или кросс-культурные различия), в основе своей ошибочны — необходимо будет в корне пересмотреть всю систему доказательств. Существует еще и вероятность того, что в ходе дальнейшего изучения нервной системы (или других культур) сложится абсолютно новая картина интеллектуальной деятельности человека, а значит, в теорию тоже нужно будет внести радикальные изменения. Наконец, может случиться и так, что в целом свойственная западному обществу тенденция выделять отдельные «естественные» виды интеллекта окажется не лучшим вариантом объяснения человеческой психики или поведения. В таком случае данная теория, как и все те, которые она пытается заменить, окажется надуманной. Подобный эпитет не доставит мне большого удовольствия, но я все же разочаруюсь намного меньше, если предложенная мною теория по самой своей природе окажется неопровержимой.
Даже если мой первоначальный перечень интеллектов можно сохранить с помощью только что изложенных положений, очевидно, что интеллект нельзя рассматривать как ряд отдельных механизмов по обработке информации. Мир имеет множество смыслов, и интеллектом можно пользоваться только до тех пор, пока он может охватывать эти значения и помогать человеку превратиться в равноправного и способного к использованию символов представителя этого сообщества. Философ Роберт Ноцик напоминает нам о том, что в основе интеллекта могут лежать «примитивные» способности, но не менее верно и то, что их можно сделать «совершеннее», если человек научится успешно взаимодействовать с окружающим его обществом.
Цель следующей главы — возвести на основе «сырых» интеллектуальных способностей целостный интеллект, который может функционировать в сложном и многозначном мире. Эти значения проявляются в самом начале жизни, поскольку первоначальное восприятие и действия младенца, а также все последующие имеют свой смысл. С самых первых дней с ними ассоциируется удовольствие или боль, и все это приобретает особое значение. Что еще важнее, интеллекту человека в отличие от других видов дается возможность участвовать во всевозможных символических действиях, к которым относится восприятие и создание символов, работа со всеми видами имеющих смысл символических систем. Это еще одна и, возможно, самая главная часть истории развития человека в мире значений. Наконец, по мере взросления и приобретения опыта каждый человек узнает не только роль каждого отдельного действия или символа, но и самые общие интерпретативные схемы культуры в целом — то, как мир отдельных людей или предметов, физических сил и искусственных объектов понимается в той культуре, членом которой он является.
Возникновение такого культурного мировоззрения знаменует собой финальную, решающую стадию жизни человека, определяя область применения всех его развитых видов интеллекта.
Все теории о специальных анализаторах, механизмах по обработке информации, производительных системах или даже модулях уже не действуют на этом уровне анализа. Теперь нам необходимо мыслить всеобъемлющими категориями — индивидуальный опыт, структура предпочтений, смыслообразование, мировоззрение в целом. Это было бы невозможно без особых интеллектуальных способностей к обработке информации, но появиться они смогли только благодаря символической деятельности человека. Значит, развитие символических систем и способностей представляет собой следующую, самую существенную часть истории, о которой обязательно нужно упомянуть, если мы хотим возвести мост между интеллектом и его применением в сфере образования.
12 Социализация интеллектов посредством символов
Открытия в биологии и антропологии находятся на противоположных полюсах в любой теории познания. В ходе исследований структуры и функций нервной системы мы можем определить пределы всей когнитивной деятельности человека. Благодаря изучению всех известных человечеству культур можно получить самое полное представление о большом разнообразии способностей, известных в истории, в том числе об особенностях мышления. Соединив находки в этих областях, мы получим общее представление о природе, диапазоне и ограничениях человеческого интеллекта.
Но с точки зрения междисциплинарного синтеза, биология и антропология слишком отличаются друг от друга. Другими словами, две основные линии доказательств, использованные в данной книге, излагаются на разных языках. В биологии создается картина генетического потенциала человека, а также строения клеток, синаптических соединений и отдельных зон мозга. Антропология выясняет, какие роли существуют в разных сообществах, какие разнообразные функции выполняют люди, условия выполнения этих функций, цели, которые ставит перед собой человек, а также задачи, которые он формулирует и пытается решить. Насколько я понимаю, пока не найден способ непосредственно соединить эти две сферы знаний: их терминология и интересы слишком разнятся. Это все равно что попытаться найти связь между строением клавесина и звучанием музыки Баха: данные понятия несоотносимы.
Все зависит от символов, символических продуктов и символических систем. Сфера символов, как выяснили ученые, идеально подходит для того, чтобы заполнить пробел между вышеупомянутыми понятиями — нервной системой с ее структурой и функциями и культурой с ее ролями и деятельностью. Работая с такими символами, как слова или изображения, с символическими системами, подобно математике или речи, с символической продукцией, такой как, например, научные теории или литературные произведения, мы имеем дело с единицами и уровнями анализа, которые могут относиться как к биологии, так и к антропологии. Нервная система человека построена так, что при условии наличия определенного опыта индивид способен научиться воспринимать и применять такие символы, как слова, предложения и тексты. И хотя нервная система ничего не знает о культуре, ее различные участки составлены таким образом, чтобы разбираться в речи. С другой стороны, культура (в данном случае мы понимаем под этим термином всех ее представителей), несомненно, может изучать слова, тексты, теории и т. п., созданные ее конкретными носителями. Став столь антропоморфной, культура может оценить эту продукцию, определить, адекватна ли она, заметить и инициировать изменения, выбирая либо приверженность традиции, либо склонность к революциям. Те, кто напрямую связаны с сохранением знаний и традиций своей культуры, вполне вероятно, ничего не знают о строении клеток мозга (и даже о роли мозга в процессе познания), но они хорошо подготовлены к тому, чтобы знать и ценить танец, театральное искусство и модные стили, созданные другими. Пространство символов действительно служит незаменимым элементом анализа, настоящим связующим звеном между интересами биологии и задачами культуры (или, если на то пошло, между задачами биологии и интересами культуры).
Именно посредством символов и символических систем можно эффективно связать наше общество, основывающееся на психологии интеллектов, с интересами культуры, в том числе воспитанием детей и их последующим распределением по подходящим к их способностям нишам ответственности и компетентности. Символы проложили путь от «сырых» способностей к сформировавшейся культуре. Поэтому необходимо выяснить, как следует подходить к рассмотрению этого вопроса.
Я признаю за символами всеобъемлющую роль. Разделяя мнение своего учителя Нельсона Гудмана и других признанных авторитетов, я считаю, что символ — это объект (материальный или абстрактный), который может обозначать другие объекты или относиться к другим объектам. Согласно такому определению, слова, изображения, диаграммы, цифры и огромное количество других объектов легко можно назвать символами. Ведь любой элемент — будь то линия или гора — содержит в себе некий объем информации.
Помимо обозначения и представления, символы передают смысл еще одним очень важным, но не столь признанным способом. Символ может выражать настроение, чувство или звук — все зависит от того, как то или иное сообщество понимает определенный символ. Значит, живопись, абстрактная или реалистическая, может передать печаль, триумф, гнев или «синеву» (даже если сама картина выполнена в красных тонах!). Не забыв об этой очень важной функции символов, можно говорить о любых художественных символах — от симфоний до балаганных представлений, от скульптуры до простых каракулей — т. е. обо всем, что может передать такие окрасочные значения.
Символы могут сами по себе содержать определенный смысл, но очень часто они служат элементами более сложной системы. Например, обороты в устной или письменной речи, цифры и другие абстрактные символы в языке математики, жесты и другие движения в системе танца и т. п. Огромное количество значений можно успешно выразить с помощью целых символических систем. Освоение тонкостей использования и интерпретации («чтения» и «письма») таких символических систем — основная задача каждого ребенка.
Наконец, символы и символические системы находят свое основное применение при создании законченной символической продукции: рассказов и сонетов, пьес и поэтических произведений, математических доказательств и решений задачи, ритуалов и обзоров научной литературы — самых разнообразных символических объектов, которые создают люди для передачи неких значений, а другие представители данной культуры могут понять, интерпретировать, оценить и изменить. Такая символическая продукция — конечная цель всего существования символических систем, причина, по которой они возникают, и объяснение, почему люди причиняют себе дополнительные хлопоты, изучая различные системы символов.
Существуют ли какие-либо ограничения для символических систем, а может, любой ряд элементов можно организовать в систему, тем самым создавая понятную символическую продукцию? Это сложный вопрос. Трудно устоять перед соблазном a priori установить определенное количество символических систем, которое нельзя изменить. Но такое утверждение не выдержало бы никакой критики, и нет сомнений, что любой умный человек (или целая культура) может изобрести новую эффективную символическую систему. С другой стороны, отстаивая противоположное мнение, т. е. заявляя, что число символических систем неограниченно, мы рискуем открыть ящик Пандоры. В таком случае пришлось бы объяснять, почему все мировые культуры склонны создавать и использовать сходные символические системы, а также почему в мире антропологии заявление о расшифровке какой-либо системы символов всегда вызывает сенсацию.
Если бы мы действительно выяснили природу человеческого интеллекта, т. е. «сырого» материала для познания, с одной стороны, а с другой — весь диапазон ролей и функций человека в культуре, тогда можно было бы попытаться перечислить все существующие символические системы и, при желании, все сферы жизни, в которых человеку приходится пользоваться своим интеллектом. Список получился бы очень длинным, поскольку число культурных ролей огромно и может постоянно увеличиваться с изобретением новых технологий. Но в принципе составить подобный перечень символических систем возможно. Такой список — или даже набросок к нему — очень пригодился бы работникам образования, ведь с его помощью можно было бы установить хотя бы некоторые аспекты в системе значений, которые должен освоить человек, развивающийся в данной культуре.
Конечно, понимание и освоение символических систем — это вопрос не только теоретического образования. Он является главной задачей детства и даже основной миссией современных образовательных систем. Поэтому важно решить, что известно о том, как люди овладевают символическим пространством. Я подведу итоги истории символического развития так, как сам его понимаю, воспользовавшись при этом частично открытиями других ученых, а частично — результатами десятилетних исследований Денни Вулфа и других моих коллег по гарвардскому Проекту «Зеро». Такой обзор служит двум задачам. В теоретическом отношении с его помощью можно будет установить способ интеграции биологических основ интеллекта с антропологическими находками различных ролей в культуре. Затем, говоря о практическом применении, данные по нормальному течению символического развития поставят перед работниками образования новые задачи. Таким образом нам будет проще рассмотреть педагогические предложения, о которых пойдет речь в заключительных главах книги.
ПОЯВЛЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Введение
Согласно моему анализу, правильно было бы считать, что развитие умений работы с символами происходит в четыре отдельных этапа. В младенчестве ребенок приобретает основные навыки, на которых в дальнейшем будет основываться использование символов, а также проявляет способность к определенным символическим действиям. В раннем детстве, в период невероятно быстрого прогресса, который происходит в возрасте от двух до пяти лет, ребенок приобретает базовые навыки работы с целым рядом символических систем. Кроме того, в это же время наблюдаются два параллельных аспекта символического развития, которые мы с коллегами называем соответственно «волнами» и «потоком» развития. В школьном возрасте, добившись определенных успехов в искусстве символизации, ребенок продолжает совершенствовать навыки в некоторых сферах или «каналах» символизации, которые особенно ценятся в данной культуре. В этот же период он овладевает различными символическими системами «второго порядка», которые предназначены для записи понятий и особенно важны для выполнения сложных культурных задач. Наконец, в юности и зрелом возрасте человек может достичь совершенства в использовании символов и уметь передавать символические знания молодому поколению. Такой человек наделен потенциалом создавать оригинальную символическую продукцию.
Младенчество
С помощью различных примеров из своей собственной практики я могу внимательнее рассмотреть эти этапы символического развития и понять, какое отношение они имеют к теме данной книги. Начнем с младенчества. Известно, что новорожденный ребенок обладает ограниченным рядом навыков и способностей, посредством которых он познает мир, — это «схемы» сосания и направленного взгляда. Сначала они используются по отношению к любому объекту, но очень скоро ребенок учится направлять определенное действие на определенный предмет (сосет грудь и трясет погремушку) и не пользуется ими в том случае, если эти действия оказываются неэффективными. Здесь мы видим первый пример того, что «значение» привязывается к поведению. Ребенок выполняет те действия, которые в его понимании связываются с приятными ассоциациями, а также те, что приводят к желаемому результату. При этом ему постоянно помогают объяснения взрослых, касающиеся его поведения, которые подталкивают его к определенным ситуациям (или, наоборот, предостерегают от них).
В течение первого года жизни ребенок приобретает основные формы понимания. Он осознает, что люди могут выполнять различные роли, при этом им соответствуют особые модели поведения (например, купание или кормление), что у событий есть свои последствия (если бросить бутылочку, она упадет на землю), что существуют категории объектов (куклы или цветы), которые нельзя путать, и т. п. Такое понимание важно для жизни в мире людей и предметов. Кроме того, благодаря ему ребенок знакомится со многими аспектами существования, которые позже найдут отражение в разнообразных символических значениях.
Описать первый год жизни можно и в терминах изначальных операций отдельных видов интеллекта. Как мы уже видели, ребенок умеет выполнять множество действий, характерных для определенных интеллектуальных сфер: он чувствует различия в мелодии и высоте звука, видит сходство фонем, осознает многочисленность небольших групп предметов. Он понимает структуру пространства вокруг, видит, как можно воспользоваться своим телом, чтобы получить желаемые предметы, отмечает характерные модели поведения других людей и собственный набор привычных реакций и ощущений. Несомненно, на первом году жизни во всех этих интеллектуальных сферах происходит значительный прогресс.
Не менее важен и способ взаимодействия этих интеллектов. Для того чтобы плавно дотянуться до предмета, нужно объединить пространственные способности с действиями тела; чтобы найти спрятанные предметы, потребуется связать логико-математические, пространственные и телесные способности; чувство беспокойства, возникающее, когда мама уходит или вдруг появляется незнакомец, зависит от взаимосвязи внутри- и межличностного интеллекта.
Наконец, мы видим признаки совместной работы разных видов интеллекта в первых формах протосимволического поведения, которые наблюдаются к концу первого года: способность понимать значение отдельных слов и умение «читать» пиктографические описания объектов в реальном мире. В год ребенок умеет правильно реагировать на слова типа мама, печенье или собачка, потому что он уже в состоянии верно разобраться в звучании этих слов и связать эти звуки с объектами мира и действиями или чувствами, которые ассоциируются с ними. Точно так же ребенок способен понять связь между изображенной формой и объектом в реальном мире, с которым тоже связан целый ряд перцептивных, моторных и тактильных ассоциаций. Благодаря этим способностям ребенок может впервые проникнуть в мир общественных значений, и после такого крещения он в будущем научится выполнять множество других связанных с символами заданий.
Ребенок от двух до пяти лет
В течение следующих нескольких лет жизни в символическом развитии ребенка происходят эпохальные события. Период со второго до пятого года — это время развития базовой символизации, когда ребенок наконец понимает и самостоятельно создает продукты из областей речевой символизации (предложения и рассказы), двухмерной символизации (рисунки), трехмерной символизации (пластилин и кубики), жестовой символизации (танец), музыкальной символизации (песни), театра (воображаемая игра), а также демонстрирует определенные виды логикоматематического понимания, в том числе осознание основных числовых действий и простых объяснений. К концу этого периода, т. е. когда в нашем обществе дети идут в школу, они уже обладают начальными или «черновыми» знаниями о символизации. Затем, в последующие годы, они могут и дальше совершенствоваться в этом.
Понять, из каких этапов состоит приобретение таких «черновых» знаний о символизации, можно, воспользовавшись примером ребенка, который играет с кубиками. Если годовалому ребенку дать кубик, он сразу же берет его в рот, стучит им по поверхности или просто бросает — здесь не наблюдается ничего символического. Символическая деятельность в плоскости повседневной жизни начинается с такого восприятия, когда ребенок соотносит кубик с его изображением или может дать кубик в руки, когда его об этом попросят («Дай маме кубик»). Следующий важный этап начинается около двух лет, когда ребенок может поднять два кубика, назвать один «мамой», а второй «папой», а затем понести их «на прогулку». В три года ребенок может выбрать много кубиков, положить меньшие на большие и заявить: «Это снеговик» или «Это пирамида». В четыре года он уже умеет пользоваться кубиками точно по счету — например, построить лестницу, в которой в каждом следующем ряду на один кубик больше (или меньше) , чем в предыдущем. Наконец, в возрасте пяти лет он впервые может задуматься над различными изображениями на гранях кубика, чтобы сложить слово «КОТ» или подтвердить простое математическое равенство: 2+4=6.
Потоки символизации
В ходе рассмотрения тех событий, которые обязательно происходят в раннем детстве, мы увидим, что одновременно работают несколько факторов: потоки, волны и каналы символизации. В том, как они функционируют, содержится ключ к пониманию всего символического развития в дошкольном возрасте.
Прежде всего, имеет место прогрессия, уникальная для каждой символической системы. В речи, например, эволюция синтаксических способностей длится долго, начиная с умения соединять пару слов (в полтора года) до способности произносить целые предложения, задавать вопросы с «почему» и использовать конструкции со страдательным залогом (к четырем или пяти годам). Подобный прогресс наблюдается исключительно в речи и не имеет прямых соответствий в других символических системах, поэтому его можно считать особым «потоком» в группе развивающихся способностей ребенка. В музыке основная деятельность заключается в обработке главных взаимосвязей между тонами, из которых состоит гамма. В случае с кубиками основное направление «потока» — понять суть протяженности в пространстве, контуры и измерения, благодаря чему возможно создание конструкций и других архитектурных построений. В числовой сфере главная цель — осознать операцию плюс 1 и минус 1, а также научиться соотносить эти действия с пониманием основных числовых отношений. То же самое наблюдается и во всех остальных символических системах.
Вероятно, оправданным будет предположение, что такое напоминающее поток развитие представляет собой проявление определенного вида интеллекта, после того как эта интеллектуальная способность уже связалась с соответствующей символической системой данной культуры. Значит, основные аспекты музыкального интеллекта (тон и ритм) зависят от символических аспектов музыки, т. е. выразительности (это радостное произведение) и ссылки (здесь вспоминается уже известный куплет песни). В случае с речью основные синтаксические и фонологические аспекты передают определенные оттенки значения (например, цепочка слов, описывающих выполнение некоторого действия, имеющего свои последствия) и создают нужный эффект (предположим, определенный сюжет вызывает чувство страха). В рисовании обработка двух- и трехмерных связей в пространстве необходима для изображения предметов в окружающем мире, в том числе и тех, которые находятся дальше, чем другой предмет, закрывают его или меньше его по размеру и здесь в каждом случае бывшая «сырая» интеллектуальная способность развивается с помощью доступных символических средств, благодаря чему становится возможной реализация символического потенциала определенного вида интеллекта. Интеллект, правильно развивающийся после первого года жизни, обязательно будет все больше наполняться различными символическими функциями и системами. Только у пациента с мозговой травмой или страдающего аутизмом интеллект продолжает развиваться в «чистой», или сырой, форме, не испытывая влияния со стороны символов.
Волны символизации
Но в символическом развитии существует еще один, не менее интересный аспект, который наблюдается параллельно с «потоком». Я имею в виду те психологические процессы, которые получили название «волн» символизации. Они, как правило, начинаются с отдельной символической области, но способны быстро распространяться, а иногда даже вредить другим символическим сферам.
В качестве первого примера рассмотрим «волну» роли или построения события, т. е. способность двухлетнего ребенка определить, что некий субъект выполнил действие или исполнил определенную роль. Обычное символическое средство передачи такого значения — слова («Мама спит», «Фидо прыгает») или игра «понарошку» (ребенок укладывает спать куклу, вешает на шею игрушечный стетоскоп). Речь и игра «понарошку» — это основа знаний о построении событий. Однако было выяснено, что данный психологический процесс не ограничивается пределами одной символической области. Скорее, к какой бы сфере ни относилось задание, ребенок в этом возрасте стремится применить для него свои знания о построении события. Значит, если ему дать маркер и попросить нарисовать грузовик, ребенок, скорее всего, схватит фломастер, проведет им по бумаге и скажет: «У-у-у!» Он превратил маркер в грузовик, а его действия воспроизводят звук и ощущение движущейся машины. Или попросите ребенка выбрать кубик, который похож на зубную щетку. Не обращая внимания на длинный цилиндрический предмет, он просто возьмет первый попавшийся кубик и потянет его в рот, представляя, что это зубная щетка. В этом случае суть роли и построение события снова одержали верх.
Вторая волна, которую мы называем аналоговым, или топологическим, задействованием, появляется еще через год, приблизительно в трехлетием возрасте. При аналоговом задействовании ребенок использует символические зацепки собственно в символическом средстве, которые отражают взаимосвязи в объекте, к которому относятся символы. Поэтому он впервые может добавить две черточки к окружности, чтобы получился «человечек». Ребенок может поставить друг на друга несколько кубиков и заявить, что это «снеговик». Символы по аналогии напоминают объекты, которые они обозначают. Подобным образом в сфере музыки ребенок может понять такие аналогии и определить, движется песня вверх или вниз, становится быстрее или медленнее, но пока еще не умеет схватывать тон или ритм. Поскольку волны символизации склонны распространяться на другие области, ребенок пользуется рациональной формой этого процесса даже в тех ситуациях, где это не нужно. На просьбу назвать количество элементов в группе он скажет, много их или мало, но не назовет точного числа. А если его попросить пересказать историю, в которой есть несколько персонажей, ребенок сократит ее до двух главных героев, один из которых представляет добро, а второй — зло. Склонность схватывать размеры, форму или связи является в этот период всеобъемлющей волной.
Следующая волна, начинающаяся в четыре года, представляет собой оборотную сторону медали. Освоив эту волну числового, пли количественного, задействования, ребенок стремится называть точное число элементов в группе. Он больше не довольствуется приблизительными подсчетами пальцев на руках или ногах, персонажей в сказке или звуков в песне, он правильно называет это количество. Однако даже этот явный прогресс требует определенных затрат: ребенок не следит за настроением или чувством при данной модели поведения (например, что чувствует человек в танце или при рисовании), он настолько поглощен тем, чтобы правильно уловить все движения, что ключевые аспекты звука или оттенка упускаются из виду. Ведь подчас намного важнее понять качественные, а не количественные характеристики (особенно в эстетических целях).
С появлением и совершенствованием этих волнообразных способностей связаны важные моменты. Прежде всего, каждая волна развивается и дальше, поскольку построение события, аналоговое и числовое прогнозирование присутствуют и в дальнейшей жизни. Здесь можно вспомнить писателя, скульптора или математика, которые эти три описанные волнообразные способности «мастерски осваивают» в зрелом возрасте. Но для наших целей важнее то, что большое разнообразие волн доказывает: определенные символические процессы, независимо от происхождения, не привязаны только к одной сфере символизации. Ими можно пользоваться и в более широком смысле и правильно (или неправильно) применять в различных символических системах.
Здесь я затрагиваю ключевой аспект человеческого интеллекта. Хотя большинство животных обладают некоторыми высокоразвитыми способностями по обработке информации — вспомним пение птиц или танцы пчел, — все эти навыки всегда инкапсулированы, т. е. строго привязаны к определенному способу выражения. В отличие от них интеллект человека намного гибче. Развивая новую, полезную способность, человек имеет намного больше шансов использовать ее шире, применять ее в не связанных друг с другом символических сферах и понять, уместна ли она в них. И действительно, мы, люди, не можем устоять перед соблазном поэкспериментировать с недавно приобретенными способностями, даже если они не совсем подходят к возникшей задаче. В конце концов, люди учатся легко пользоваться символами благодаря умению активизировать в одной символической сфере те операции, которые характерны для другой, а также использовать возможности, общие для нескольких символических сфер.
Соотнесение волн символизации с отдельными видами интеллекта также представляет собой большую проблему. Если «потоки» легко классифицируются согласно нашим представлениям об интеллекте, то «волны» по самой своей природе не ограничиваются пределами одной интеллектуальной сферы. Лично мне кажется, что каждая волна символизации берет свое начало в одном виде интеллекта, поэтому построение события наиболее тесно связано с лингвистическим интеллектом, аналоговое задействование — с пространственным, а оперирование числами — с логико-математическим. Но по неизвестным пока причинам мощные силы заставляют эти волны символизации перекатываться и в другие, более отдаленные интеллектуальные сферы.
Освоив три волны символизации в тот период, когда отдельные потоки развития продолжают охватывать несколько символических сфер, пятилетний ребенок получил уже черновые знания о разнообразной символической продукции. Он знает, что такое рассказ и как можно придумать короткую, но правдоподобную историю. Он уже разбирается в песнях, играх, танцах, конструкциях и многих других символических действиях. Об этом возрасте часто говорят как о периоде расцвета символической деятельности, потому что ребенок с энтузиазмом и без видимых усилий может продуктивно действовать в любой символической сфере. Более того, его творения зачастую поражают слушателя (по крайней мере, в наших допустимых эстетических рамках) своей оригинальностью, очарованием, новизной и свежестью. Ребенок может свободно выражать свои мысли, не боясь критики и не пытаясь повторить результат других. Он стремится преодолевать границы, соединять сферы, создавать необычные комбинации — короче говоря, экспериментировать и наполнять свою деятельность смыслом, что в нашем представлении связано с работой зрелого художника. Это чрезвычайно бурное время.
Каналы символизации
На передний план выходит еще одна группа символических процессов. Они возникают спонтанно (по крайней мере, в нашем обществе), когда ребенок начинает самостоятельно во время игры делать небольшие «пометки» на бумаге или когда на просьбу сходить в магазин и купить дюжину товаров он пытается придумать свои условные обозначения в этом списке, которые помогли бы ему справиться с заданием. В возрасте пяти, шести или семи лет дети уже способны на символизацию обозначений, т. е. способны изобретать и использовать различные системы записей, которые, подобно способностям «второго порядка», сами относятся к основным символическим системам. Это письменная речь, которая соотносится с устной; представленная в письменном виде числовая система, которая соответствует устному счету (или другим символизациям); карты, диаграммы, коды, системы музыкальных или хореографических обозначений, каждая из которых разрабатывается для того, чтобы передать молчаливую сторону символического отражения. Этот новый этап развития можно считать последней и самой важной волной символизации.
Символизация обозначений отличается от более ранних волн. Прежде всего, способность придумывать условные обозначения является навыком второго порядка: она отражает символическую систему, которая сама относится к другим системам символов. Следовательно, обозначения предоставляют человеку очень благоприятную возможность: теперь ребенок может продолжать изобретать все более сложные символы, которые основываются на уже усвоенных символических системах. Значительная часть математики и науки строится на этой способности, причем система третьего порядка может использовать в качестве основы систему второго порядка и т. д.
Наверное, важнее всего то, что на этом этапе символического развития наиболее четко проявляется влияние культуры. Если потоки и волны в предыдущие годы имеют эндогенную природу и во всех мировых культурах можно выделить общие формы этих навыков, то обозначения напрямую зависят от окружающей культуры. Следовательно, они представляют собой каналы символизации, т. е. средство кодирования информации, которое возникло в рамках данной культуры и теперь передается непосредственно юному ученику. Хотя даже люди, живущие в обществах с неразвитой системой обозначений, могут проявлять склонность к такой деятельности, вероятнее всего, лишь представители обществ, где развито множество каналов обозначений, будут и в дальнейшей жизни активно использовать эти символы. В этом, наверное, состоит одно из принципиальных различий между образованными и необразованными сообществами, а значит, между их типичными представителями.
Как только ребенок открывает для себя мир условных обозначений, он начинает осваивать новые системы и использовать их точно по назначению. Теперь ребенок всерьез начал совершенствовать символические знания, свойственные его культуре, поэтому в некотором смысле веселью пришел конец. Ребенок уделяет особое внимание символическим каналам, процветающим в его культуре, будь то ритуальный танец или язык учебника по истории. А значит, он игнорирует тот символический потенциал, который не развивается в рамках данной культуры. Если до сих пор большая часть освоения символизации происходила в неформальной, практически незаметной манере, то изучение этих явных систем условных обозначений, как правило, осуществляется в официальной обстановке и очень часто — в настоящей школе. Не будет преувеличением сказать, что образование как современный термин означает процесс, с помощью которого дети знакомятся с основными каналами условных обозначений своей культуры и совершенствуют эти знания.
В нашем обществе заметен любопытный, но в то же время несколько настораживающий результат появления такой системы обозначений. В стремлении освоить определенную символическую систему ребенок часто понимает все слишком буквально. Он хочет пользоваться символической системой одним установленным способом, поэтому не терпит никаких отклонений и экспериментов. Более того, образный язык, неожиданные комбинации и другие отступления от привычной нормы даже не рассматриваются. Из-за такого отказа от образности работы ребенка становятся слишком прозаичными и однообразными, что разительно отличается от его более творческих результатов в предыдущие годы.
Но этот «этап буквализма» тоже является существенным элементом символического развития, и только неразумный учитель может попытаться перехитрить или обойти его. Возможно, человек должен освоить символическую систему только так, как положено, и лишь потом сможет привнести в нее что-то новое. И похоже, большинство взрослых довольствуются простым изучением основных символических систем своей культуры и хотят, чтобы их дети получили такие же (или более глубокие) знания. В большинстве культур мало интересуются новыми способами применения символических систем, которые отличаются от их статус-кво. Только некоторым представителям каждой культуры дано достичь совершенства в развитии своих символических способностей, а затем пойти в неожиданном направлении, экспериментируя с символическими системами, создавая необычную и свежую символическую продукцию, возможно, даже пытаясь подчас создать новую систему символов.
Обзор
С помощью этого беглого обзора основных этапов символического развития, информация о которых была получена в ходе исследований по Проекту «Зеро», я попытался предположить, каким образом «сырые» интеллекты используются для создания и интерпретации символической продукции. «Сырые» интеллекты характеризуют период младенчества, но это почти сразу же переходит в осмысленную деятельность, поскольку следствия этих действий очевидны для ребенка, чему способствует и развитая интерпретативная схема, принятая в данной культуре. Затем, в дошкольном возрасте, каждый интеллект все больше задействуется для изучения и применения разнообразных символических систем. В этот период некоторые аспекты развития символических способностей остаются в пределах одной интеллектуальной сферы, продвигаясь вперед по четко определенным потокам, а другие аспекты склонны преодолевать границы между интеллектами широкими волнами. Наконец, во время символизации обозначений вмешивается сама культура, когда различные каналы, существующие в ней, начинают оказывать влияние на символическую деятельность и достижения ребенка. К этому времени динамика в рамках одной интеллектуальной сферы каким-либо образом должна соединиться с целями и интересами культуры, чтобы ребенок не занимался тем, что, с точки зрения данного общества, неприемлемо. И действительно, большинство детей настолько увлекаются изучением этих символических систем (предопределенных культурой), что искра оригинального творчества сохраняется лишь у небольшого числа избранных.
Изучение развития символизации началось совсем недавно, и все исследования проводились с точки зрения бихевиоризма. И все же, учитывая мой интерес к биологическим основам познания, рискну высказать несколько предположений. Во-первых, очевидно, что участие в символическом процессе — это необходимое условие эволюции человека. Люди «предрасположены» к таким занятиям (от речи до сновидений), как белки предрасположены прятать орехи: чтобы помешать человеку (выросшему в определенной культуре) освоить символизацию, нужно приложить огромные усилия. Во-вторых, формы и виды символизации, в которых участвуют люди, могут основываться и на биологических процессах. Хотя, несомненно, существует большое разнообразие символических маршрутов, а в культуре могут возникать интересные и неожиданные комбинации, скорее всего, основные пути символизации, главные принципы использования символов, а также выделенные нами потоки, волны и каналы тоже являются отличительной чертой нашего вида.
В конце обзора необходимо вспомнить о ритмах символического развития. На мой взгляд, первые годы представляют собой период значительной гибкости и пластичности. В это время у человека имеется множество возможностей для освоения определенной символической системы, изобретения неожиданных символических комбинаций и активного преодоления символических границ. Этот период можно соотнести с фазой ранней гибкости, характерной для биологических систем многих организмов. Но в то же время, вероятно, выделяются сензитивные, или критические, периоды, когда вовлеченность в определенную символическую систему играет ключевую роль, а неудачи в этом направлении наносят особенно ощутимый вред. Следовательно, как в отдельно взятой культуре, так и во всех сообществах в целом определенные веховые события могут направить символическое развитие человека по тому или иному пути. Возрастающее нежелание экспериментировать с символическими системами, наблюдающееся в конце детства, отражает снижение гибкости и пластичности и, соответственно, усиление жесткости, которое свойственно и другим биологическим процессам. Вопрос о том, почему узкий круг избранных сохраняет (или восстанавливает) гибкость раннего детства, остается одной из самых загадочных проблем биологии.
Хотя мы смогли определить пути, по которым продолжается развитие отдельных видов интеллекта в то время, когда на переднем плане появляется символизация, важно еще раз подчеркнуть, что некоторые аспекты развития нелегко соотнести с предложенной моделью анализа «чистого интеллекта». Под этим я подразумеваю, например, различные амодальные (или кросс-модальные) формы репрезентации, которые не умещаются в пределах одного интеллекта. С первых месяцев жизни, как известно, младенцы проявляют некоторые способности связывать информацию из различных сенсорных модальностей и даже распознают такие абстрактные свойства, как продолжительность, интенсивность, высота и т. п., с которыми они сталкиваются в разных интеллектуальных сферах. Наверное, такая же кросс-модальная чувствительность позволяет ребенку в период базовой символизации одновременно задействовать различные символические системы. А в конце детства подобная чувствительность может способствовать развитию более общих синтетических навыков, чрезвычайно важных для творчества. Поэтому я не спешу называть эти способности «амодальным» или «кросс-модальным» интеллектом. Однако важно то, что я не упустил их из виду при рассмотрении символического развития человека.
Даже если предположить, что при символическом развитии наблюдаются процессы, отличные от потоков или волн, нужно помнить о возможностях отдельных видов интеллекта. Как мы видели в предыдущих главах, лингвистический интеллект может развиваться даже у людей, лишенных возможности общаться обычным слухоголосовым способом, а пространственный интеллект проявляется у людей, слепых от рождения. Такие свидетельства говорят о том, что в интеллектах имеет место канализирование (в биологическом смысле этого слова), которое проявляется даже при отклонении от нормального развития. Несомненно, культура может направить развитие интеллектов совершенно различными путями, но в конечном итоге невозможно разрушить или подавить все основные задатки человека.
ПРОБЛЕМЫ СИМВОЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
До этого момента я исходил из того, что ученые придерживаются одного мнения относительно символического развития. В некотором роде такое описание допустимо, потому что количество исследователей, занимающихся этой темой, невелико, и их основные усилия были направлены на то, чтобы составить схему основных этапов процесса. Более того, можно сказать, что большинство ученых оказались под сильным влиянием Ж. Пиаже, поэтому были склонны считать, что развитие идет поэтапно. И все же вполне вероятно, что в ходе дискуссий будут обнаружены точки несогласия и значительные противоречия. Подобно тому, как в предыдущей главе мы рассмотрели теорию множественного интеллекта с критической точки зрения, теперь необходимо выяснить, в чем можно не согласиться с утверждениями о ходе символического развития.
Прежде всего, хотя многие видные ученые рассматривают обучение как причину все увеличивающейся с возрастом канализированности и ригидности (т. е. чем старше человек, тем менее гибким он становится), некоторые исследователи придерживаются альтернативной точки зрения. По их мнению, маленький ребенок является пленником собственных способностей и талантов, которые могут у него выражаться в очень развитой, но все-таки изолированной форме, и ему трудно создать между этими навыками эффективную связь. Взрослый же человек имеет сознательный доступ к различным модульным способностям, поэтому использует их в полную силу. Психологи Энн Браун и Пол Розин, отстаивающие это предположение, утверждают, что как только человек осознает открывшуюся у него новую возможность, он может применять ее в самых разных ситуациях. Естественно, подобное осознание своих умений произойдет скорее у 20-летнего человека, чем у ребенка в два года. Значит, такая точка зрения может объяснить поразительную оригинальность и гибкость, которые наблюдаются у некоторых людей.
Что касается меня, то я думаю, эти два мнения не обязательно противоречат друг другу. Возможно, в раннем возрасте легче освоить определенную программу, но способность активизировать эти навыки и направить их в новое русло остается прерогативой взрослого человека. Как бы там ни было, вопрос о том, каковы эти способности — гибкие и/или доступные, а может, канализированные и/или недоступные, — должен привлечь внимание каждого, кто интересуется применением символических навыков в сфере образования.
Второй спорный момент касается стадиальности развития, а также уверенности, с которой эти стадии можно привязать к определенному возрасту. Как утверждал Пиаже, развитие действительно происходит стадиально, причем эти стадии качественно отличаются друг от друга и обуславливают формирование определенного мировоззрения. Более того, согласно этой точке зрения, вполне вероятно, что стадии развития напрямую связаны с возрастом, поэтому если ребенок не проходит какую-либо стадию в предусмотренное для этого время, то его дальнейшее развитие навсегда собьется с правильного курса.
За последние десять лет многие открытия пошатнули гипотезу о стадиальном развитии. Оказывается, маленькие дети способны на многие операции, которые, как предполагалось, им недоступны. А значит, при определенных условиях взрослые должны проходить через те же этапы обучения, что и дети. В свете таких открытий трудно не усомниться в верности теории стадиального развития. Тем не менее, как мне кажется, до сих пор принято соотносить различные типы ментальной организации с определенными уровнями понимания (как, например, в случае с символическим развитием). И лишь неисправимый оптимист, уверенный, что взрослый человек может легко овладеть определенным символическим навыком, будет отрицать то, что дети не способны на значительные символические действия. Несомненно, взрослые могут добиться совершенства во многом, иногда даже быстрее, чем дети; но развитый человек может успешно применять различные способности и стратегии (включая и те, к которым он имеет сознательный доступ), при этом некоторыми аспектами материала (например, произношение или коннотативные[87] аспекты речи) он никогда не сможет овладеть с такой же легкостью, как это делают наивные дети.
На минуту возвращаясь к теме предыдущих глав, я не сомневаюсь, что у каждого вида интеллекта, а также у каждой символической сферы имеется своя последовательность стадий, которые может пройти человек. Нет оснований полагать, что эти виды интеллекта или символические сферы полностью согласуются друг с другом; несостоятельность подобного утверждения была неопровержимо доказана. Также ошибкой будет говорить, что взрослый сталкивается с одинаковыми ограничениями или имеет одинаковые возможности во всех символических системах. Сейчас нам стоит поискать стадиальную последовательность или возрастные ограничения для каждого отдельно взятого вида интеллекта и выяснить, нет ли в них какой-либо системы. Не менее важно изучить предполагаемые стадиальные последовательности в разных культурах и выяснить, например, отличаются ли в своем развитии этапы овладения рисованием или танцем в зависимости от культурного контекста. Только после такой тщательной эмпирической работы можно будет вернуться к более общим вопросам, например об обоснованности теорий стадиальности и взаимосвязи между образованием взрослых и образованием детей.
Последний спорный момент касается как диапазона возможностей или потенциалов, выделяемых в данном сообществе, так и степени, в которой эти потенциалы подвержены воздействию окружающей ситуации. Это классическая дилемма. Ученые, склонные разделять мнение о наследственности, как правило, считают, что существуют значительные различия между людьми, на которые мало влияет среда. Те же, кто разделяют эмпирическую точку зрения, склонны сводить к минимуму индивидуальные различия и заявляют, что каковы бы они ни были, эти различия можно легко ослабить (или усилить). Конечно, можно найти и представителей первой группы, которые принимают наличие лишь незначительных врожденных отличий, а также эмпиристов, находящих у людей значительные различия (либо врожденные, либо приобретенные под воздействием культуры).
Поразительно то, что с течением времени и накоплением огромного количества информации большинство оппонентов не меняют своего мнения. Даже наглядный пример, когда обычный студент колледжа в десять раз увеличивает свою краткосрочную память, или свидетельство о том, что большинство различий в школьных результатах можно свести к нулю, изменив метод обучения, а также многочисленные случаи, когда обычный японский ребенок становится скрипачом-виртуозом, не убеждают приверженца теории наследственности в том, что индивидуальные различия можно минимизировать с помощью продуманного влияния. Да я и сам признаюсь, что не верю, будто нет врожденных различий, иногда очень значительных, а некоторые из них так и остаются непреодолимыми.
Недавние исследования неопровержимо доказывают: какие бы отличия ни проявились сначала, раннее вмешательство и правильное обучение могут сыграть решающую роль при определении максимального уровня интеллекта данного человека. Если в культуре принято считать, что определенная модель поведения имеет большое значение, если для ее развития прилагаются значительные усилия, если сам человек стремится добиться успеха в этой области и если доступны необходимые средства для кристаллизации умений и их развития, то почти каждый нормальный человек может достичь очень многого в той или иной интеллектуальной или символической сфере. И наоборот, что проявляется с еще большей очевидностью, — даже самые талантливые от рождения люди без поддержки со стороны окружения обязательно пойдут ко дну. Значит, определение врожденного интеллектуального уровня человека, которое, я убежден, можно осуществить, не должно быть основанием для того, чтобы приклеить человеку какой-либо ярлык или отправить его на «интеллектуальную свалку». Этот процесс должен помочь убедиться, что каждый человек использовал все доступные ему возможности и заложенный в нем потенциал, чтобы добиться совершенства в любой сфере, которая считается важной в рамках данной культуры.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СФЕР
Говоря о социальных ролях, которые ценятся в определенном обществе, я затронул вопрос, каким образом можно извлечь максимальную пользу из отдельного вида интеллекта. Очевидно, что, за редкими исключениями, общество не интересуют «чистые» интеллектуальные способности; ученый идиот с развитыми лингвистическими, логическими или телесными навыками может выполнять только ограниченное количество ролей. Практически для каждой социально полезной роли требуется сплав интеллектуальных и символических способностей, с помощью которых можно добиться поставленной цели.
Значит, в некотором смысле предложенное мной описание видов интеллекта и даже ранних этапов символического развития — это фикция, полезная исключительно для научных целей. Ни виды интеллекта, ни различные потоки не существуют в изоляции, такие «идеальные системы» всегда находятся в культурном контексте, который оказывает огромное влияние на процесс развития. Поэтому в данном исследовании мне пришлось перейти концептуальный Рубикон: с этого момента я практически всегда буду говорить лишь о том, как склонности и навыки человека развиваются в определенной культуре.
Конечно, в сложных сообществах невозможно найти прямые соответствия между интеллектуальными умениями и социальными ролями. Начнем с того, что человек с развитыми способностями в одной интеллектуальной сфере может воспользоваться ими в самых разных ситуациях. Другими словами, представитель нашего общества, наделенный хорошо развитыми пространственными навыками, может стать инженером, архитектором, художником или скульптором. Точно так же человек с развитыми межличностными способностями может стать учителем или социальным работником, священником или колдуном. Интеллектуальные навыки предоставляют в наше распоряжение множество возможностей, а комбинация интеллектуальных достижений еще больше увеличивает количество шансов.
И наоборот, не менее очевидно, что ту или иную роль, которая ценится в данной культуре, могут успешно играть лишь люди с определенным интеллектуальным профилем. Возьмем, например, роль адвоката в нашем обществе. Эта профессия идеально подходит для человека с развитыми лингвистическими навыками, который может отлично излагать суть рассматриваемого дела, убедительно формулировать доказательства, приводить примеры из сотен других дел и т. д. Такая профессия подойдет и тому, кто наделен хорошо развитыми межличностными способностями: этот человек может блистать красноречием в зале суда, мастерски вести допрос свидетелей и убеждать присяжных, а также обладать некой харизмой. Наконец, адвокатом может стать человек с развитыми логическими навыками, тот, кто сможет проанализировать ситуацию, выявить все скрытые факторы, построить сложнейшую цепочку умозаключений и прийти к окончательному выводу.
Кроме того, сфера юриспруденции этим не исчерпывается. Аналитики юриспруденции, например Пол Фройнд и Эдвард Леви, выделяют несколько видов защиты, которые могут применяться адвокатами в суде. В их числе рассуждения по аналогии, построение длинных цепочек силлогизмов, диалектическое мышление, поиск лучшего прецедента, игнорирование не имеющих значения деталей, а также проверка гипотез (подобно тому, как это делает ученый). Свою речь адвокат может начать с главных принципов защиты, с прецедентов или с того решения, которое может удовлетворить клиента. Он может полагаться на рассуждения, авторитеты или интуицию, т. е. понимание решения, которое приходит внезапно. Представители этой профессии отличаются еще и в том, полагаются они непосредственно на логическую дедукцию или ценят элегантность представления, а может, их больше волнуют этические вопросы и личная привязанность к клиенту.
Даже из такого краткого описания становится понятно, что слишком просто было бы назвать замысловатую комбинацию навыков рассуждения, которая требуется для адвоката, всего лишь «логико-математическим мышлением». Несомненно, то же самое относится и ко всем остальным социальным ролям сложного общества, от актеров до врачей, от ученых до продавцов. Более того, если задуматься над комбинациями интеллектов, то можно обнаружить еще больше случаев, когда человек проявляет свою компетентность. Например, очевидно, что человек будет хорошим адвокатом, если наделен развитыми лингвистическими, логическими и межличностными способностями (хотя не настолько очевидна роль в этой профессии музыкального или телесного интеллекта). А то количество комбинаций, в которые можно соединить эти виды интеллекта для успешной юридической практики, невозможно даже определить.
Бегло взглянув на эти интеллекты, мы сразу же увидим, каким образом в нашей и других культурах можно на практике применить их различные комбинации. Предположив, что для адвоката основным будет сочетание логического и лингвистического интеллектов, мы заметим, что эти же элементы входят в состав очень многих комбинаций. Талантливый политик может соединять в себе лингвистический и социальный интеллекты, но вряд ли сильно нуждается в развитом логическом мышлении, при этом большим плюсом для него будет изящество движений, которое основано на развитом телесном интеллекте. Что касается общественных деятелей в других, меньше заинтересованных в юриспруденции обществах, то вполне возможно, что социальные факторы опять будут важнее, чем логические. Например, по словам Стэнли Тамбиа, адвокаты в Африке меньше заботятся о неопровержимости их логических доказательств и уделяют большое внимание силе своего убеждения. В случае с театральным актером главными будут лингвистические и телесные способности. С другой стороны, я сомневаюсь, что сам по себе межличностный интеллект будет иметь большое значение для игры в театре, хотя он может быть важен для режиссера, который должен руководить большим количеством людей.
Другие комбинации интеллектов предлагают еще больше вариантов. Человек с хорошо развитыми логико-математическими и пространственными способностями имеет все шансы стать физиком, при этом логические навыки будут важнее для теоретика, а логико-математические — для ученого-экспериментатора. Человек, который наряду с этими способностями обладает также лингвистическим и социальным интеллектом, будет идеальным руководителем крупной научной лаборатории. Парадоксально, но такая комбинация способностей важна и для колдуна в традиционном сообществе, потому что ему тоже необходимы навыки в речи, межличностных отношениях и логике, хотя, вероятно, в других пропорциях.
Соблазн воспользоваться отдельными видами интеллекта как элементами в химии разума и рассмотреть различные социальные роли с точки зрения тех комбинаций навыков, которые требуются для их успешного выполнения, весьма велик. Я не устоял перед ним. Но надеюсь, что я не упустил из виду важный момент: всегда присутствует диалектическая взаимосвязь между ролями и функциями, ценимыми в данной культуре, с одной стороны, и интеллектуальными навыками, которые развиваются у ее представителей, — с другой. Задача талантливого руководителя отдела кадров заключается в том, чтобы найти идеальное соотношение между требованиями различных ролей и навыками отдельных людей. Можно даже предположить, что в обществе, уверенно движущемся вперед, был найден механизм этой эффективной комбинации (или в нем имеются разнообразные роли, которых хватает для всех). А общество, сталкивающееся с проблемами, состоит из людей, интеллектуальные профили которых не совпадают с их социальными ролями. Я склонен думать, что подобное несоответствие, вероятнее всего, наблюдается в период быстрых перемен. В такое время необходимо создавать новые роли (например, те, что имеют отношение к науке и технике), но в традиционном образовании его представителей не была учтена (или активно избегалась) такая комбинация интеллектуальных и символических навыков, которая необходимая для успешного выполнения новых ролей.
В данной главе я попытался дополнить анализ предыдущих разделов книги, продемонстрировав, как наши интеллектуальные способности служат основой для самых разных символических навыков человека, которые затем используются в обществе. На мой взгляд, только поняв, как человек осваивает различные символические системы и учится создавать новую символическую продукцию, мы сможем лучше разобраться в том, как можно стать успешным членом своего сообщества. В подтверждение своей идеи я изложил теорию символического процесса, а также затронул несколько спорных вопросов о разновидностях этого процесса.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В последних главах книги я расскажу о применении своей теории в сфере образования. Меня волнует, каким образом можно использовать теорию множественного интеллекта для того, чтобы унифицировать и, возможно, изменить усилия людей, ответственных за образование, заботу о детях и развитие человека. Но теперь, рассмотрев основные положения теории, я снова вернусь к некоторым альтернативным точкам зрения о сути интеллекта и расскажу, какие изменения они претерпевают в свете моей теории. Это краткое изложение никоим образом не является подробным рассказом о том, как моя теория соотносится с альтернативными взглядами, эту задачу лучше оставить для другой книги. (Имена отдельных ученых я приводил исключительно в иллюстративных целях.) Но в настоящий момент необходимо остановиться на том, в чем может выражаться критика моих предположений.
И снова о подходах к структуре интеллекта
Я начну с тех взглядов, которые непосредственно связаны с понятием интеллекта, традиционно используемым в психологии. Как уже говорилось в главе 2, существуют две основные теории структуры интеллекта. Одну представляют те ученые, которые убеждены в наличии общего фактора интеллекта (д) , например Чарльз Спирмен и Артур Дженсен. Ко второй относятся те, кто разделяет плюралистические взгляды на интеллект, например Л. Л. Терстоун и Дж. П. Гилфорд. Очевидно, что положения теории множественного интеллекта ближе ко второй точке зрения и несовместимы со взглядами тех, кто убежден в правильности теории общего фактора.
Как мне кажется, теорию д-фактора поддерживают в основном потому, что большинство тестов на определение IQ выполняются в письменном виде, для чего необходимы развитые лингвистические и логико-математические навыки. Поэтому люди, одаренные в этих областях, будут показывать хорошие результаты в тестах общего интеллекта в отличие от тех, кто обладает развитыми способностями в других интеллектуальных сферах. В школе ценится такая способность к «ментальному манипулированию», вот почему результаты теста на диагностику общего фактора интеллекта могут с большой точностью предсказать школьные успехи ребенка.
В чем же тогда теория множественного интеллекта отличается от взглядов противников такого подхода? Прежде всего, последние не сомневаются в существовании общих горизонтальных способностей, таких как восприятие и память, которые наблюдаются в различных содержательных сферах. Апологеты плюралистического подхода привычно равнодушно относятся к этим вопросам, потому что некоторые факторы действительно являются горизонтальными формами памяти и восприятия, а другие не выходят за рамки содержательных сфер, например пространственные способности. Во-вторых, плюралистическая теория не связывает интеллект с биологией, а остается исключительно эмпирической, это всего лишь общий результат баллов в тестах, ничего более. В-третьих, и, вероятно, это самое главное, плюралистическая теория не позволяет выделить различные виды интеллекта, как это продемонстрировал я. Пока мы довольствуемся письменными тестами или коротким диагностическим интервью, которое длится всего несколько минут, а не часов, у нас не будет никакой возможности определить интеллектуальные навыки человека в таких сферах, как использование тела, музыкальные способности или личностные интеллекты. Поэтому, хотя на первый взгляд этот подход кажется более правильным, чем теория д-фактора, он все равно дает лишь частичное представление об интеллекте, что характерно для всей западной науки.
Пиаже и обработка информации
Два следующих подхода, учение Ж. Пиаже и теория обработки информации, являются, на мой взгляд, прогрессивным шагом в научной мысли, но это не обязательно прогресс и в теории интеллекта. Школа Пиаже больше связана с повседневными занятиями и навыками ребенка, поэтому более целостно и правдиво отражает его интеллектуальные способности. Интерес к стратегиям, типичным ошибкам, взаимосвязи между областями знаний, а также метод клинического исследования, усовершенствованный Пиаже, оказались большим подспорьем для исследователей интеллектуального развития.
И все же классическое структуралистское представление об интеллекте еще уже, чем то, которым пользовались составители тестов интеллекта, и практически полностью посвящено логико-математическому мышлению. Возможно, поэтому такая теория по-прежнему не осознает одного: это предположение гласит, что умственные операции осуществляются одинаково во всех областях знания. В работе последователя Пиаже Курта Фишера признается, что в разных сферах развитие, возможно, идет с различной скоростью, т. е., по терминологии Пиаже, имеет место декаляж (decalage — смещение, расклинивание, фр.), — и это скорее правило, нежели исключение. И все же ученый убежден в том, что развитие идет по одному пути во всех областях знания, и не разделяет мнения, что на этот процесс могут влиять особенности изучаемого материала. Жаль, что Пиаже, биолог по образованию, считавший, что он изучает биологию познания, оказался настолько недальновидным, что не заметил разнообразных биологических склонностей в когнитивной сфере.
Психология обработки информации является более совершенной теорией по сравнению с работой Пиаже в том смысле, что в рамках этого учения уделяется больше внимания тем процессам, с помощью которых человек шаг за шагом решает проблему. Скрупулезный анализ задачи, характерный для этого подхода, помог нам понять, что многие предположения Пиаже о стадиях и последовательностях основаны только на результатах выполнения отдельных задач, а маленькие дети обладают многими способностями, которые Пиаже ошибочно считал недоступными для них.
Но поскольку обработка информации — это скорее подход, чем теория, он не очень помог при создании целостной картины интеллектуальных способностей человека. Здесь может порадовать идея о том, что все проблемы решаются, по сути, одним и тем же способом, но не менее правильно и убеждение, что для выполнения каждой задачи необходим особый ряд способностей, при этом два этих предположения никак между собой не связаны. Кроме того, данный подход подразумевает, что ребенок обрабатывает информацию так же, как и взрослый (просто у него меньший запас знаний), но не менее оправдано и предположение о том, что кратковременная память ребенка менее развита, он обладает не слишком хорошими способностями к декодированию информации, кроме того, выделяются и другие качественные отличия от имеющегося у взрослых механизма по обработке информации.
Один тот факт, что психология обработки информации может охватывать столь противоположные утверждения, свидетельствует о незрелости данного подхода. Однако, как мне кажется, у этих взглядов есть и более серьезные недостатки: не учитывается биологическая природа заданий, которые необходимо выполнить, а также отсутствует теория о том, из каких элементов состоит данная область. Вместо этого нам предлагается неясная модель, в которой ребенок рассматривается как разновидность вычислительного устройства. Конечно, у такой модели есть свои преимущества, но это лишь отчасти. Кроме того, как предположил Алан Оллпорт, в зависимости от выбранного типа компьютера и заложенного в него метода анализа можно получить самые различные картины того, что собой представляет процесс обработки информации.
Утверждения Хомского
Все представленные до этого момента теории рассматривают отдельного человека с картезианской точки зрения, т. е. человек, занятый решением сложной задачи, исследуется отдельно от его окружения, причем внешние факторы не играют никакой роли при формировании его навыков, интересов и достижений. Самое радикальное проявление такой точки зрения — это работа Ноама Хомского (а также в некоторой степени — его коллеги Джерри Фодора). Здесь ребенок воспринимается как набор отдельных устройств по обработке информации, каждое из которых развивается по своим установленным законам и не испытывает практически никакого воздействия извне (за исключением активизации). Хомский отказывается от традиционного представления об обучении и развитии, вместо него он предлагает модель интеллектуального развития, которая многое заимствует из эмбриологии.
Безусловно, я кое в чем согласен с точкой зрения Хомского, хотя считаю, что ее необходимо несколько изменить в свете эмпирических данных, которые касаются приобретения знаний в первые годы жизни человека. Представления Хомского (и Фодора) отлично согласуются с моими взглядами, хотя в его работе я не заметил каких-либо попыток выявить и систематизировать отдельные интеллектуальные сферы. В чем взгляды Хомского неубедительны, так это в представлении о том, как развивается интеллект под влиянием окружающей среды, наполненной своими значениями и интерпретативными схемами. Он не учитывает развитие и взаимодействие символических способностей или то, как можно использовать биологический субстрат человека для получения разных результатов в зависимости от ценностей и функций, играющих важную роль в данном обществе. Отрицая роль культуры — или просто не придавая ей никакого значения, — Хомский разрабатывает незаконченную теорию. Из нее невозможно понять, как работает общество, как (и почему) осуществляется образование, почему маленькие дети отличаются друг от друга и еще больше — от взрослых в своей культуре. Другими словами, в этой теории не хватает надструктуры, хотя инфраструктура разработана с поразительной точностью.
Интерес к культуре
Надструктура привлекает внимание другой группы ученых, которые изучают влияние культуры на развитие человека. Основные представители этого направления — Майкл Коул, Сильвия Скрибнер, Джин Лейв и их коллеги-психологи, а также антрополог Клиффорд Гиртц, интересующийся символическими системами. Эти ученые почти безраздельно сосредоточились на изучении элементов окружающей культуры, предполагая, что только с помощью тщательного изучения культуры со всеми ее разнообразными формами и явлениями можно правильно понять процесс приобретения когнитивных способностей. Клиффорд Гиртц цитирует высказывание Гилберта Райла о том, что «разум — отнюдь не метафорическое «место». Как раз наоборот: шахматная доска, стол ученого, судейская скамья, сиденье водителя, студия и футбольное поле — все это места его проявления». От себя Гиртц добавляет: «Люди без культуры были бы какими-то чудовищами с некоторыми полезными инстинктами, несколькими понятными чувствами и полным отсутствием интеллекта». Явно в противовес чрезмерному перекосу традиционных подходов, при которых носителем умственных способностей считался исключительно отдельный индивид, а также вразрез с утверждениями современных теоретиков, например Ноама Хомского, которые признают роль культуры только на словах, эти исследователи, учитывающие антропологические находки, изучают, до какой степени человек задействует символы, идеи и стиль мышления, распространенные в его окружении, т. е. насколько он пользуется общей мудростью своей культуры.
Во многих отношениях такой антропологический подход привносит новый важный элемент в понимание познания. Например, Коул со своими коллегами изучали результаты стандартизированных тестов интеллекта у представителей разных культур и пришли к выводу, что в большинстве случаев разницу в баллах можно объяснить отличием предыдущего опыта испытуемых. Если принять во внимание эти свидетельства, а также соответственно изменить процесс тестирования, то самые очевидные различия просто исчезают, и люди из предположительно менее развитой культуры могут даже превосходить представителей цивилизованных сообществ. Естественно, не стоит говорить о врожденных этнических различиях.
Основное утверждение, которое выдвигают эти исследователи, звучит так: хотя результат рассуждений и вид информации, важной для человека, во многом отличаются в разных культурах, процесс мышления везде одинаков. Культуры активизируют базовые механизмы по обработке информации — те самые основные интеллекты — и используют их в своих целях. В продолжение этого нового направления в когнитивных теориях ученые, подобно Коулу обращают внимание на последовательность, в которой умственные способности человека абсорбируют внешнюю информацию: сначала знакомство со знаниями и действиями других, и лишь затем — интернализация в виде собственных репрезентативных способностей. Мы считаем и пишем не потому что сами развиваемся таким образом, а потому что видели, как эти системы обозначений используют другие люди. Этот процесс никогда не заканчивается: в любом обществе человек всегда зависит от интеллектуальных достижений окружающих, только благодаря им он может выполнять свои повседневные действия и обеспечивает свое выживание. Много ли существует самодостаточных людей, даже в когнитивном отношении? Ответ объясняет, насколько разум одного человека зависит от окружающих его людей.
Естественно, такой антропологический подход не придает большого значения эндогенным тенденциям развития. Нет необходимости и выделять ряд относительно автономных ментальных «компьютеров»: человек будет действовать так, как этого требует культура, в которой ему довелось жить. Утверждение об автономности ментальных составляющих приверженцы антропологического подхода критикуют с двух позиций. Во-первых, теория автономности сформулирована так, как будто изначальное развитие регулируется внутренними факторами организма, хотя в действительности культура (и присущие ей механизмы интерпретации) присутствуют в жизни человека с первого дня. Во-вторых, теория автономности склонна считать, что результат развития четко обусловлен канализированием, чуть ли не предопределен заранее. Наоборот, подход, учитывающий влияние культуры, гласит, что, вполне возможно, в некоторых неоткрытых культурах выполняются функции, которые мы не можем себе даже представить, или что в будущем культуры дадут толчок развитию наших интеллектуальных способностей в совершенно неожиданном направлении.
Все эти точки зрения следует принять во внимание при изучении человеческого познания. Но антропологический анализ не объясняет, почему даже после самого подходящего и правильного воспитания люди в одной культуре очень отличаются друг от друга — в интеллектуальном отношении, в способности учиться, в умении применять свои навыки, в степени оригинальности и творчестве. Я не вижу другой возможности объяснить это, кроме как с позиций психологического (и биологического) подхода. Антропологический подход не учитывает также уровень прогресса человека в определенной области, при котором внешние факторы практически не оказывают влияния, кроме того, не дается ответ на вопрос, как некоторые люди с изолированными умениями добиваются поразительных успехов. В некотором смысле, подобный культурологический взгляд лучше объясняет, как функционирует обычный человек в обычной ситуации, но не говорит, насколько обычен каждый из нас.
Где-то между интересом Хомского к человеку с его отдельно развивающимися умственными способностями, точкой зрения Пиаже на развивающийся организм, который проходит через несколько последовательных стадий, и вниманием сторонников антропологического подхода к формирующему влиянию культурного окружения должна находиться золотая середина, т. е. теория, которая серьезно относится к природе врожденных интеллектуальных склонностей, гетерогенных процессов в развитии ребенка и способу их изменения под влиянием ценностей и интересов культуры. Именно такую теорию я попытался изложить в данной книге. Поэтому необходимо отметить, что я использовал работы упомянутых авторов, а также многих других специалистов в области психологии развития, которые интересовались вопросами образования. В одной из предыдущих глав я сказал, что мои взгляды на роль символических систем и убежденность в необходимости учитывать при анализе культурный контекст основываются на работах Гавриэля Саломона, Дэвида Олсона и особенно Дэвида Фельдмана. Я хочу еще раз выразить благодарность этим современным исследователям развития и образования. Кроме того, к этому списку необходимо добавить имя Джерома Брунера, который больше, чем другие представители психологии развития в наше время, интересовался образованием и вопросами, изложенными в последних разделах этой книги: биологической наследственностью ребенка, предпочтительным направлением его развития и формирующим влиянием культуры, в том числе ролью орудий, символов и других средств создания и передачи знаний. Я во многом обязан Джерому Брунеру за то, что он направил меня (как и многих других) на разработку именно этих вопросов.
Итак, я изложил основные принципы теории множественного интеллекта, указал на некоторые из ее слабых мест, как я их понимаю, и сравнил данную теорию с другими точками зрения на интеллект. Пришло время узнать, как эта идея поможет нам лучше понять процесс образования, который имел место в прошлом, а также как образование изменится в будущем. Для этого, прежде всего, потребуется рассмотреть, каким образом на протяжении истории человечества передавались знания от поколения к поколению. Именно к этому интересному, но далеко не изученному вопросу я и перехожу.
Следствия и применение
13 Интеллект в системе образования
Пришло время вернуться к тем трем героям, с которыми мы впервые встретились в начале книги. Первый — это подросток с атолла Пулуват, который совершенствует свои навыки в навигации (о них мы говорили при обсуждении пространственного интеллекта). Второй герой — молодой исламский студент, наделенный той способностью запоминать информацию, о которой я рассказывал в главе о лингвистическом интеллекте. И наконец, третий — парижский юноша, сидящий за компьютером и собирающийся сочинять музыку, т. е. молодой человек, наделенный комбинацией (которая еще несколько лет назад казалась невозможной) логико-математического и музыкального интеллектов.
Я впервые заговорил об этих людях, пытаясь лучше понять навыки, необходимые для таких занятий, предложить образовательные методики, которые помогут в развитии этих способностей, а также уяснить, как правильнее всего можно оценить такие умения. В предыдущих главах я подробно рассмотрел все разновидности мышления, претендующие на то, чтобы называться интеллектами, а также подверг свою теорию некоторой критике. Затем в главе 12 мы начали соотносить «сырые» и сравнительно автономные интеллектуальные способности с интересами и реалиями большого общества. Я рассказал, как у «нормального» человека развивается использование символов, а также рассмотрел, каким образом можно ускорить процесс развития интеллекта для выполнения особых ролей с помощью символических систем, кодов и интерпретативных схем, принятых в данной культуре.
Хотя такая картина представляется правдоподобной, она все же основывается на изучении развития отдельного человека, одного человека. Согласно предвзятым взглядам психологов, культура с ее продуктами и системами как средством активизации развития личности воспринималась преимущественно в качестве некого фона. Но те же ситуации, те же условия можно рассмотреть и с другой точки зрения — всего общества в целом. Ведь как бы там ни было с точки зрения культуры, постоянно рождаются множество людей, каждый из которых должен стать социальным существом в соответствии с нормами, ценностями и образом жизни данного общества. В этой главе нас будут интересовать именно такие способы социализации, существующие в обществе, особенно различные методики образования и воспитания.
Антрополог Джулс Генри напоминает нам, какую важную роль с самых первых дней жизни играет образование в любой культуре.
На протяжении всей истории Homo Sapiens пытался утвердить свое положение, для этого он был вынужден воспользоваться образованием. К тому же человеку всегда приходилось полагаться на тех, кто превосходил его в знаниях и социальном статусе, чтобы самому занять более высокое положение... Обучение детей в племенных сообществах так же естественно, как дыхание; [взрослые] искренне заботятся о тех детях, которых учат, и часто кажется, что они еще больше заинтересованы в существовании племени в целом.
Конечно, затронув вопрос образования, мы входим в самую важную для всех сообществ сферу, которая к тому же является еще и идеальным местом для наблюдения за практическим применением видов интеллекта. И все же, переходя от рассмотрения отдельного человека к изучению всей образовательной системы, мы попадаем на неизведанную территорию. Способов описания образовательных систем так много, что нечего и надеяться провести контролируемые эксперименты или научное моделирование в этой области.
Значит, мое изложение будет крайне описательным и наполненным примерами. Более того, на последних страницах книги я прибегну к еще большему количеству умозрительных заключений, когда буду говорить о различных возможностях для специалиста в сфере образования, попытаюсь изложить проблемы, с которыми ему придется столкнуться, а также предложить свои варианты решения. Нужно лишь предупредить читателя об этой серьезной перемене стиля и содержания. Я верю, что такие изменения оправданы крайней остротой образовательных проблем, возникающих во всем мире, и необходимостью решать их, вооружившись более обширными знаниями, чем имеются у отдельного человека.
Пытаясь описать отдельные виды обучения, существующие в современном мире, я пойду следующим путем. Во-первых, вкратце расскажу об основных составляющих любой образовательной системы, к которым относятся виды задействованных интеллектов, основные средства передачи, общий контекст или ситуация, в которой происходит такая передача знаний. Эти элементы образуют схему, которую можно применить в любой образовательной системе и которая поможет выявить сходство и различия между ними.
После изложения такой схемы я расскажу о трех образовательных системах, представителями которых выступают три наших героя, описанных в начале книги, — молодой мореход, студент, изучающий Коран, и юный программист. Конечно, выделяя любые три примера, мы существенно сужаем диапазон ситуаций, которые наблюдаются в современном мире. Значит, важно подчеркнуть, что эти три примера используются только в качестве иллюстраций. На самом деле я воспользуюсь информацией о многих ситуациях в образовании как средством обобщить сведения о трех типичных разновидностях обучения: 1) приобретение специальных навыков в неграмотных сообществах (на примере морехода); 2) традиционное религиозное образование (на примере изучающего Коран юноши); 3) передача научных знаний в современной светской школе (на примере программиста).
Главная причина для разработки аналитической схемы заключается в том, чтобы объяснить, почему одни образовательные методики в современном мире оказались успешными, а судьба многих других была не такой счастливой. Я вернусь к этому вопросу в последней главе книги. Чтобы помочь нам в этих усилиях, на последних страницах данной главы я описал три составляющих, которые, как правило, одновременно присутствуют в современном светском образовании, — это посещение школы, приобретение разных видов грамотности и применение научных методик. То, что эти три отдельных фактора придают современному образованию на Западе особый колорит, является не более чем совпадением. И только с помощью изучения этих факторов (а также их последствий) мы можем лучше понять ход образовательных процессов, которые отличаются от наших, и трудности, которые возникают, когда делаются попытки навязать «наши» формы образования иным культурам.
СХЕМА АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мы начнем с перечисления различных компонентов, которые нужно принять во внимание при анализе любой образовательной системы. Учитывая сложность ситуации, при которой один или несколько человек отвечают за передачу знаний другой группе людей, важно рассмотреть большое число составляющих и прийти к определенному выводу относительно каждой из них. В качестве выводов по этому разделу я привожу таблицу, в которой указаны способы применения данной схемы при анализе трех ситуаций обучения, которые мы выбрали для иллюстрации. Для читателей будет полезно обращаться к этой таблице не только в ходе ознакомления с компонентами образования, о которых идет речь в этом параграфе, но и для получения более детальной информации, необходимой при чтении следующего раздела.
Поскольку этот обзор довольно сложен для освоения, я начну с элемента, представляющего собой особый интерес для нашей книги, — с видов интеллекта, которые используются в образовательном процессе. Но он тоже достаточно многогранен. Как средство приобретения информации могут быть использованы многие способности, связанные с тем или иным интеллектом. Другими словами, человек может учиться посредством работы с лингвистическими кодами, с помощью кинестетических или пространственных демонстраций или благодаря установлению межличностных связей. Виды интеллекта можно использовать и в качестве средства передачи — осваиваемый материал может четко укладываться в рамки сферы определенного интеллекта. Если человек учится играть на музыкальном инструменте, то знания, которые необходимо получить, относятся к разряду музыкальных. Если человек учится считать, то приобретаемые знания — логико-математического характера (даже если при этом используются лингвистические средства). Таким образом, оказывается, что все виды интеллекта могут выступать как средством передачи, так и самим посланием, как формой, так и содержанием.
С интеллектами связаны, но отличны от них способы обучения, которые применяются в той или иной ситуации. Наверное, самый основной — это прямое, или неопосредованное, обучение: ученик наблюдает за действиями взрослого in vivo (в реальной жизни, лат), как это было в случае с маленьким пулуватом, который смотрит за тем, как взрослые строят каноэ или готовятся к отплытию. Тесно связаны с прямым обучением, но требуют большей вовлеченности ученика различные формы имитации, когда ребенок наблюдает, а затем повторяет (либо сразу, либо спустя какое-то время) действия модели. При этих видах обучения через наблюдение на первое место зачастую выступают пространственные, телесные или межличностные знания. Могут задействоваться и лингвистические способности, но, как правило, скрыто, например, чтобы привлечь внимание к какой-либо особенности действия. Иногда используются и пословицы или устойчивые фразы, при этом пропозициональные знания соединяются с процессуальными.
Но обучение определенному навыку может осуществляться и вне контекста, в котором это умение, как правило, используется. Иногда создается небольшая модель, чтобы ученик мог попрактиковаться: например, юный пулуват изучает созвездия, раскладывая камешки на полу хижины. Порой проводится специальная церемония или ритуал, во время которого ученику раскрываются секреты или даются практические советы, которые он в дальнейшем может использовать «в контексте». А по мере того, как общество все больше усложняется и задачи становятся все разностороннее, обучение все чаще происходит в контексте, отдаленном от действительной сферы применения этих знаний, например в тех специальных зданиях, которые называются «школами». Я подробнее расскажу о таких сложных формах обучения, когда речь пойдет о школах, начиная от неформальных мест передачи знаний до традиционных религиозных школ и заканчивая современными светскими школами, с которыми большинство читателей знакомы лучше всего.
Говоря о различных способах обучения, мы встречаем еще три переменные, которые нужно учитывать в любом уравнении, связанном с образованием. Прежде всего, для передачи знаний используются различные средства. Если прямое обучение, как правило, происходит непосредственно, с помощью простейшего словесного описания или чертежа, набросанного «на песке», то более формальные виды обучения основываются на отдельных средствах передачи. К ним относятся отдельные символические системы, например язык или математика, а также все расширяющаяся группа средств, включающая книги, брошюры, таблицы, карты, телевидение, компьютеры и различные комбинации этих и других средств передачи. Естественно, эти средства отличаются в зависимости от того, какие виды интеллекта требуются для их правильного использования, а также какую информацию они лучше всего передают.
Затем следует специальное место, где происходит обучение. Большая часть образования, особенно в традиционных сообществах, осуществляется в контексте: ученик просто сидит рядом с моделью (или склоняется над ней), когда та «делает свое дело». Обучение «в контексте» можно проводить дома, если именно там обычно выполняется изучаемое действие, например приготовление пищи. Как я уже отмечал, когда общество усложняется, в нем возникает тенденция создавать специализированные заведения для учебы. Школы — это самый очевидный пример, но к этому же разряду относятся также студии, цеха или лаборатории, где развита система ученичества. А иногда специальные условия, например те, что необходимы для церемонии или обряда инициации, облегчают быструю и эффективную передачу знаний (а зачастую и во многом воздействуют на этот процесс). Предполагается, что почти любую информацию можно передать в любом месте, но, как я уже говорил, лингвистические и логико-математические знания, скорее всего, будут передаваться в местах, специально предназначенных для этого.
Третья переменная в уравнении знаний касается отдельных агентов, на которых возложена эта задача. Как правило, учителями являются родители или бабушка и дедушка, традиционно одного пола с учеником. Другие родственники, а также члены одной касты или клана также могут быть носителями специальной мудрости. Часто передают знания сверстники, а также братья или сестры. Более того, в случае с некоторыми задачами дети больше узнают от братьев и сестер, чем от чужих учителей. Очень часто в пределах одной культуры происходит сближение людей. Подростки в конечном итоге обучаются у тех взрослых, которые обладают навыками, необходимыми этим детям для будущей жизни. Такое объединение может произойти благодаря родственным связям, близости или, реже, осознанному соответствию между навыками взрослого и склонностями ребенка. (Подобное сближение чаще происходит в обществах с неформальным обучением.) Наконец, в некоторых культурах возникает целый класс учителей и лидеров — сначала религиозных, затем светских, — работа которых заключается в том, чтобы передать некоторым или, возможно, всем детям в своей общине определенный объем знаний. Иногда ожидается, что учитель будет служить примером для других, хотя в светских школах главным требованием сейчас является хорошее знание своего предмета. Возможно, впервые наличие отношений между ребенком и взрослым больше не считается необходимой предпосылкой для возникновения связей в системе образования. Вместо этого наблюдается противоположная ситуация, когда проживание в определенной местности или принадлежность к религиозной общине служит основой для возникновения таких отношений.
Теперь несколько слов об общем контексте, в котором происходит обучение. Каждый из трех наших примеров, приведенных в начале книги, имеет место в определенном культурном контексте. В традиционных неграмотных сообществах основное обучение считается необходимым требованием для выживания. Следовательно, все или почти все представители такой общины обладают одними и теми же знаниями. Относительно небольшая часть знаний выражается в каком-либо коде, в основном знания приобретаются при наблюдении за действиями других людей в их привычном окружении. Поскольку эти виды знаний сравнительно прямолинейны, я не буду к ним больше возвращаться. Вместо этого мы рассмотрим те виды информации в традиционном обществе, для передачи которых действительно требуется продолжительное обучение, например знания, необходимые нашему юному пулувату или юноше, который станет исполнителем эпических поэм в неграмотной общине Югославии.
В обществах, где грамотность передается в традиционных религиозных группах, ситуация складывается несколько иначе. Здесь определенный сегмент общества, как правило, состоящий из юношей, приобретает навык, благодаря которому люди, владеющие им, будут обособлены от тех, кто не развил в себе такого умения. Наблюдается постепенный процесс отсеивания, в результате чего некоторые получают всего лишь крупицу этих специальных знаний, а более образованные ученики становятся впоследствии религиозными или светскими лидерами своей общины. Вне школы может происходить дальнейшее разделение труда, однако зачастую относительно простая в техническом и экономическом отношении структура общества позволяет большинству людей приобрести один и тот же общий объем знаний и умений.
На противоположной стороне оси находится современное технологическое общество, которое характеризуется широким диапазоном ролей и навыков. Поскольку ни один человек не может в совершенстве овладеть ими всеми, то наблюдается разделение труда, при котором для достижения успеха передача знаний осуществляется в специальных заведениях. Приобретение знаний практически полностью происходит в специальных местах: технических училищах и студиях, фабриках и корпорациях. Если в традиционном обществе почти каждый человек представляет себе, какими знаниями владеют другие, то для технологического общества характерно наличие профессионалов, специальные знания которых непонятны для обычного жителя так же, как письменность загадочна для неграмотного человека.
Виды интеллекта, играющие здесь особую роль, различны в каждом из контекстов обучения. В традиционных неграмотных сообществах высоко ценятся межличностные знания. Активно используются пространственные и телесные способности, а музыкальные и пространственные формы знаний играют важную роль в определенных случаях. В обществе, где существуют традиционные религиозные школы, самыми важными считаются лингвистические знания. Активно развиваются межличностные способности, совершенному владению которыми сопутствует развитие определенных видов логико-математических знаний. Наконец, в современном светском обществе главную роль играют логико-математические знания, ценятся также некоторые виды лингвистических способностей, а вот значение межличностных знаний значительно снижается, их даже могут затмевать внутриличностные знания.
Я сделал краткий обзор схемы анализа и некоторых категорий, которые можно применить во многих образовательных системах. Естественно, любое применение данной схемы должно восприниматься как пробное и предварительное, для которого необходимо как тщательное изучение рассматриваемого общества, так и развитие условий для однозначного и надежного использования данных категорий. Чтобы понять, как можно воспользоваться этой схемой в трех предлагаемых контекстах, изучите приведенную ниже таблицу (табл. 13.1). Конечно, в ней изложены всего лишь три возможные культурные ситуации — в других контекстах возможно множество других комбинаций, а также выдвижение на передний план видов интеллекта, средств обучения, специальных мест обучения и отдельных агентов, которые не были учтены в нашем обзоре. Однако одно из достоинств этой схемы состоит в том, что ее никак нельзя назвать прокрустовым ложем. Она поможет осознать аспекты образовательного уравнения, которые в противном случае могут остаться незамеченными.
ТАБЛИЦА 13.1. СХЕМА АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТРЕМ КУЛЬТУРНЫМ КОНТЕКСТАМ
| Компонент образования | Специальные навыки в неграмотных сообществах | Грамотность в традиционной религиозной школе | Научный учебный план в современной светской школе |
| Примеры приведенные в главе 13 | Навигация пулуватов; устная поэзия в Югославии | Школа по изучению Корана; индуистская гурукула; иудейский хедер; средневековая церковно-приходская школа | Начальные и средние школы в Европе, Северной Америке и Японии; компьютерное программирование |
| Интеллект | Лингвистический; музыкальный (устная поэзия); пространственный (навигация); телесно-кинестетический; межличностный | Лингвистический; межличностный; логико-математический (у лучших учеников) | Логико-математический; внутриличностный; лингвистический (менее выражен) |
| Средство передачи | В основном неопосредованно (прямое наблюдение); определенные устные объяснения | Устная поэзия или книги | Разнообразные, в том числе книги, таблицы, компьютеры, фильмы и т. д. |
| Место обучения | «В контексте» | Отдельное здание или внутри культового сооружения | Отдельное здание, иногда обучение происходит дома или в кабинете |
| Агент по передаче знаний | Умелые взрослые, как правило, родственники | Люди, изучившие грамоту и искусство аргументации; ожидается высокоморальное поведение; высокий статус, за исключением начального образования | Педагоги в начальном образовании; индивиды со специальным образованием в высших учебных заведениях; моральный пример не обязателен |
| Общий контекст обучения | Большинство людей обладают общими основными навыками, в том числе мореходства; некоторые могут быть специалистами | Большинство мальчиков поступают в религиозную школу; процесс постепенного отсеивания; успешные ученики часто становятся священниками или лидерами общины | Универсальное начальное и среднее образование; многие получают специальное высшее образование; при желании возможно пожизненное обучение |
Навыки в неграмотных сообществах
Еще несколько тысяч лет назад почти все люди жили в сообществах, где вся энергия направлялась на удовлетворение основных потребностей, прежде всего посредством охоты, собирательства, земледелия и приготовления пищи. В таких сообществах большинство форм знаний были преимущественно общими, потому что для всех людей (или, по крайней мере, людей одного пола) было важно уметь обеспечивать себя и других, за которых они несли ответственность. Дети приобретали эти знания в сравнительно раннем возрасте, как правило, путем наблюдения и подражания действиям взрослых родственников. Не было необходимости создавать особый символический код, проводить специальное обучение или делать явные различия в степени владения каким-либо навыком.
Но даже в неграмотных сообществах выделяются умения, которые можно назвать сложными, крайне избирательными и предназначенными лишь для тех, кто добился в этом занятии совершенства. Именно эти навыки представляют особый интерес для нашего исследования. Навигация пулуватов на Каролинских островах в Микронезии — наглядный пример таких умений. Статус «мастера-морехода», которого добиваются лишь немногие избранные (не более пяти человек) члены общины, получить крайне сложно. Многие мужчины даже и не пытаются приобрести нечто большее, чем базовые знания по мореходству, а из тех, кто все же решается испытать свои силы, меньше половины заканчивают курс обучения и становятся искусными мореходами. Постройка каноэ также представляет собой весьма сложное занятие, для этого умения нужно много учиться, и совершенными навыками обладают лишь немногие островитяне.
Благодаря исследованию Томаса Гледвина, речь о котором шла в главе 8, мы можем многое узнать о том, что нужно, чтобы стать хорошим мореплавателем среди пулуватов. Гледвин выделяет два направления обучения, необходимые для успеха в навигации. Одна часть знаний передается устно и «вне контекста»: на этом этапе наизусть заучивается огромное количество фактической информации, например особенности и расположение всех островов, названия и движение всех звезд, которые обязательно нужно знать мореходу. Гледвин отмечает, что эти знания не нужно держать в тайне, поскольку
никто не может выучить все это, если не пройдет изнурительного и долгого курса обучения... Информация преподается и заучивается в ходе бесконечных повторений и проверок. Учение заканчивается лишь тогда, когда ученик по требованию учителя может рассказать, как добраться до любого острова поблизости, и без запинки перечислить звезды, которые восходят и заходят между этим островом и всеми соседними.
Этот аспект навигации пулуватов, основанный на лингвистическом интеллекте, играет очень важную роль, но его едва ли будет достаточно для юного морехода. Еще более важный курс обучения касается собственно практики мореходства. Подросток должен изучить все течения, знать, в чем особенности прохождения между разными островами, какие системы используются для оценки пройденного расстояния, какую информацию можно получить, наблюдая за волнами, а также как следует плыть во время шторма, как удерживать курс в темноте, предсказывать погоду, обращаться с обитателями моря и пользоваться звездами для прокладывания курса. Для многих из этих навыков необходимо создавать «ментальные модели», чтобы мореплаватель мог самостоятельно удержаться на курсе, имея единственный постоянный ориентир в виде звезд над головой. Для этих ключевых аспектов навигации лингвистические знания будут не слишком полезны, главное здесь — острое чутье, а также применение пространственных и телесно-кинестетических способностей.
Совсем не похожи на мореходов-пулуватов те жители сельской Югославии, которые становятся исполнителями устной поэзии. Как утверждают Миллман Пэрри и Альберт Лорд, для обучения исполнителей эпических поэм, т. е. людей, которые, например, исполняют каждую ночь разные песни в течение всех сорока ночей исламского месяца рамадан, не используется никакое формальное образование. Будущий певец просто ночь за ночью слушает других исполнителей, заучивая сюжет истории и, что еще важнее, различные лингвистические и музыкальные формулы, на которых строится выступление. Спустя годы таких наблюдений и запоминания человек начинает сам применять эти формулы, постигая, как развивать или украшать услышанные песни, а возможно, и создавать новые произведения. По словам Лорда, «это процесс имитации и ассимиляции посредством слушания и большой практики самостоятельного исполнения». Наконец, певцу предоставляется возможность исполнить песню перед доброжелательной, но строгой аудиторией. Здесь у него появляется шанс проверить, может ли приобретенное им путем долгого наблюдения и совершенствования мастерство оказать желаемое воздействие на слушателей его общины.
И мореход-пулуват, и югославский исполнитель эпических поэм в совершенстве владеют своими навыками, благодаря которым они занимают особое положение в своей общине. В обоих случаях важным требованием для будущего специалиста является восприимчивая лингвистическая память, которая постоянно развивается. Но если мореход зависит от своих пространственных и телесных способностей, то для исполнителя эпических поэм важны музыкальные умения, а также межличностные навыки общения с публикой. Практически все обучение югославского исполнителя эпических поэм происходит «в контексте», без формальных наставлений: по большому счету, его можно назвать самоучкой. С другой стороны, у пулуватов при обучении мореходству применяются внешние образовательные процедуры и по крайней мере часть знаний приобретается «вне контекста», например в хижине для хранения каноэ, где камешки на полу символизируют звезды. Обучаясь строить каноэ, подросток почти всегда работает с отцом, но в случае с навигацией и устной поэзией родственных связей самих по себе недостаточно. Многие члены семьи не обладают достаточными способностями (или желанием), чтобы развить высокое мастерство в этом виде деятельности, но одаренный человек может добиться успеха, даже если его родственники не занимаются этим. Для большинства других занятий в традиционных сообществах существует большая вероятность того, что человек будет заниматься определенной деятельностью и добьется в ней успехов, если это занятие передается в данной семье из поколения в поколение.
Достижение такого уровня совершенства небольшой группой в традиционных сообществах является, как я уже говорил, в некотором роде аномалией, потому что большинство видов деятельности в таких культурах подвластны всем нормальным взрослым. (И действительно, все взрослые пулуваты обладают базовыми знаниями о навигации, а все взрослые в Югославии кое-что знают об устной поэзии.) Переходя к рассмотрению грамотного общества, мы столкнемся с ситуацией, в которой специальные знания становятся более общими. Можно лучше понять такое общество, если кратко остановиться на трех институтах, характерных для него. Каждый из них в чем-то отличается от обычного обучения через наблюдение, поэтому влечет за собой более формальный процесс передачи знаний, который наблюдается в таком обществе.
Три переходные формы образования
Обряд инициации
Мы начнем с более формального вида обучения — обряда инициации. Об этой церемонии, имеющей разную продолжительность — от нескольких часов до нескольких лет, — уже немало написано. Как правило, юноши подвергаются сложным испытаниям, от них требуется овладеть определенной моделью поведения или приобрести знания, что символизирует шаг — зачастую решающий — на пути из детства во взрослую жизнь. Иногда эти ритуалы довольно жестоки: подростка могут подвергнуть сильной боли, как это принято в племени тонга в Африке, или надолго оставить одного в лесу, что распространено среди американских индейцев. Иногда, как, например, в случае с народностью тикопиа в Полинезии, ритуалы носят более мягкий характер, когда церемония осуществляется родственниками, при этом все выказывают радость, обмениваются подарками и едой.
Может возникнуть вопрос, чему же учится человек с помощью таких более или менее сложных обрядов посвящения, если их все-таки считать разновидностью обучения? Вероятно, с точки зрения приобретения фактической информации, в ходе этих церемоний об обучении речь не идет. В целом обряд инициации воспринимается как перемена статуса, дающая возможность совершенствоваться в своих знаниях и умениях. Однако в некоторых случаях (например, в ходе трехмесячного обряда посвящения в Сенегамбии) действительно происходит процесс активного обучения. Но само по себе понимание того, что человек теперь становится взрослым, а с этой ролью связаны определенные ожидания и привилегии, является очень важной формой знания в традиционном обществе. Представления человека о самом себе — мощный фактор, благодаря которому можно понять, способен ли этот человек поступать так, как от него ожидают. В этом состоит главная задача развития внутриличностного интеллекта и осознания себя. Более того, обряд инициации символизирует также период интенсивного изучения своих чувств и развития отношений с другими членами общины. Напряжение, волнение и страх, связанные с этими событиями, вероятно, служат моделью для тех ощущений, которые ассоциируются с другими важными событиями в жизни и с которыми подростку придется столкнуться (например, охота, создание семьи, рождение детей и смерть). Проходя этот обряд, человек тем самым подтверждает связь со своей общиной (точно так же эти отношения с окружающими будут нарушены, если по каким-либо причинам инициация пройдет неправильно). Обряд посвящения можно рассматривать как своего рода кристаллизующий опыт в личностной сфере человека, т. е. критический момент, когда ребенок, превращающийся во взрослого, должен осознать, что он по праву является человеком и представителем крупной общины.
«Лесные» школы
Если такие чувственные и личностные формы обучения можно, наверное, сократить до дней и месяцев, то для того, чтобы освоить другие навыки, в традиционных сообществах потребуется больше времени. В связи с этим возникли еще два института — ни один из них не является школой в прямом смысле этого слова, но оба вида обучения длятся долгое время и кое в чем сходны с учреждениями формального образования. Первый вид — это так называемые «лесные» школы, представляющие собой отдельное место, где каждый ребенок может изучить искусство, ремесло и приобрести другие умения, важные для жизни в общине. В традиционных «лесных» школах на западе Африки мальчики и девочки проводят несколько лет и обучаются по подобию некоего тайного общества. Учитель занимает высокое положение; дети делятся на группы по возрасту и склонностям, после чего получают наставления относительно специальных навыков своей культуры. Используются и тесты, позволяющие определить склонности ребенка. Для проверки боевых способностей проводятся мнимые драки и стычки. Как часть принятия в «лесную» школу предполагается обряд инициации, при котором подросток получает новое имя. Тех, кто окажется не слишком выносливым, просто оставят умирать. В некоторых из этих школ особое внимание уделяется историческому прошлому общины, с помощью которого стимулируется самосознание группы, политическая осведомленность и настоящее мужество.
Системы ученичества
Еще одно средство приобретения навыков, которые невозможно развить с помощью простой имитации или в ходе обряда посвящения, — это система ученичества. В самом известном виде, примером чего служат средневековые гильдии, с наступлением юности подросток уходит из дому и несколько лет живет у специалиста в определенном мастерстве. Здесь он сначала становится одним из домочадцев, выполняя небольшие поручения, наблюдая за работой хозяина, завязывая отношения с другими учениками и теми, кто уже стал наемным работником. Когда признано, что ученик готов к учебе, его постепенно знакомят с ремеслом, поручая выполнять все более сложные задания, которые мастер всегда оценивает, с учеником делятся секретами успешной работы. Если уроки идут впрок, а межличностные связи достаточно окрепли, ученик получает возможность самостоятельно совершенствоваться в своих умениях по определенной специальности. Прием в общество мастеров зависит от выполнения заданий, которые требуются для данной гильдии. Качество работы проверяется в ходе выпускного экзамена. Наконец, работнику разрешают называться мастером, владеть всеми их секретами и набирать собственных учеников.
Система ученичества, похоже, эффективно функционирует во многих уголках мира, возможно, даже независимо, охватывая и те места, где отсутствует грамотность и нет школ. Например, у народности ананг в Нигерии разработана собственная система ученичества для изучения резьбы по дереву. Если дети часто учатся у отцов, то молодой человек может учиться этому ремеслу, выплачивая большое вознаграждение и проходя годичную службу в качестве подмастерья у мастера-резчика. Существуют даже целые деревни резчиков, где многие жители специализируются на обучении и изучении этого ремесла. В Древней Индии технические и другие ремесленники объединялись в цеха — вероятно, именно из этой традиции возникла система джати, или каст. В Египте арабские резчики по дереву давно создали сложную систему ученичества, при которой тайны этой непростой профессии постепенно передаются самой одаренной молодежи. И хотя традиция передачи навигационных навыков у пулуватов, как правило, не относится к этой категории, ее можно счесть разновидностью системы ученичества. Менее способные отказываются от учебы на этапе активного устного заучивания или первых «пробных заплывов» на море, а самые успешные ученики в конце концов становятся членами небольшой группы мастеров-мореходов.
* * *
Стоит обратить особое внимание на прогрессию, которую я здесь изложил. Форм прямого, неопосредованного обучения достаточно для относительно простых занятий, но они могут оказаться недостаточными при длительном процессе, характерные элементы которого не так легко увидеть и понять неподготовленному человеку. Как только навыки, необходимые для успешной деятельности в определенной сфере, становятся достаточно сложными, простого наблюдения или даже подготовленной работы С учителем будет мало для качественного результата. Следовательно, такие сообщества должны создать формальные механизмы, чтобы одаренная молодежь могла после завершения учебы достичь высокого уровня компетентности. Как «лесные» школы, так и ремесленные цеха являются средством повысить вероятность того, что по крайней мере самые талантливые юноши в обществе достигнут необходимого уровня владения навыками. Для того чтобы это стало возможным, в обществе должно существовать некоторое разделение труда.
При этих видах передачи знаний технические навыки — будь то телесные, музыкальные или пространственные — практически всегда связаны с межличностной стороной жизни в рамках данной культуры. «Лесные» школы достигают высшей цели своего существования в обрядах инициации, да и цехи сами по себе можно воспринимать как разновидность сложного обряда посвящения, полного тайн, которые порой слишком долго не раскрывают ученику просто для того, чтобы продлить период его обучения. Люди с неразвитыми межличностными навыками вряд ли смогут успешно завершить этот процесс, поскольку совершенное владение этими способностями — такое же важное требование, как личное мужество или ловкость рук. И очень часто сама возможность участвовать в процессе обучения зависит от наличия личностных связей внутри или между семьями.
Возникновение «лесных» школ и ремесленных цехов символизирует также переход от непосредственного обучения, которому отдается предпочтение во многих традиционных сообществах, к формальному обучению, развившемуся за последние тысячу лет во многих уголках планеты. Формальные школы появляются по многим причинам, главная из которых — необходимость эффективно обучать чтению и письму отдельных молодых членов общины. С появлением таких школ наблюдается переход от процессуальных знаний к пропозициональным, от ритуалов к техническим требованиям, от устной передачи знаний к письменному общению, от религиозной направленности к светской жизни и, наконец, к развитию научного подхода к знаниям. Все эти направления чрезвычайно сложны, ни одно не похоже на другое и ни одно из них пока не изучено досконально. И все же, если мы хотим разобраться с проблемами в системе образования, с которыми сегодня сталкивается все больше людей, важно попытаться понять природу школьного обучения в самых разных его видах, а также то, как в школе используются (и развиваются) виды человеческого интеллекта.
Исламское образование
Ислам исповедует одна пятая населения планеты, последователи этой религии живут во всем мире, и от Северной Африки до Индонезии молодые мусульмане получают одинаковое образование. В определенный момент, в возрасте между четырьмя и восемью годами, ребенок поступает в школу по изучению Корана. Слово «Коран» означает «декламация», и главная цель таких школ (на протяжении многих столетий) состоит в том, чтобы выучить наизусть весь Коран. Поступление в школу — это важное и радостное событие, сопровождающееся молитвами и торжествами, но вскоре внимание ребенка переключается на более серьезные дела. Сначала ребенок слушает, как Коран читают другие, и заучивает несколько стихов. Он знакомится с арабским алфавитом, узнает названия букв, запоминает, как они выглядят и как пишутся.
С этого момента обучение продолжается в двух параллельных направлениях. Часть программы заключается в регулярной декламации Корана. Ребенок должен научиться читать его с правильным ритмом и интонацией, чего он добивается, предельно подражая учителю. Главное внимание уделяется скорее правильному звучанию, нежели пониманию смысла, и многие дети заучивают весь Коран наизусть, не понимая значения произносимых слов. Знание всего Корана само по себе считается большим достоинством, независимо от того, понимает ли человек его содержание.
Вторая часть программы включает в себя обучение чтению и письму, что достигается исключительно путем изучения Корана. Во-первых, ученик узнает, как пишутся буквы, затем он переписывает из Корана целые изречения. После этого ученик пытается писать под диктовку и узнает значение слов, которые для многих детей кажутся каким-то иностранным языком. Если большинство учеников не идут дальше этих элементарных навыков грамотности, то самые прилежные и успешные получают право читать другие тексты, участвовать в дискуссиях о значении высказываний, а также принимать участие в дебатах, анализе и трактовке.
Конечно, детали исламского образования отличаются в разных школах и в разных частях мусульманского мира. Народы и социальные контексты значительно отличаются и в том, насколько в школах принято изучать другие предметы, например арифметику, астрономию, поэзию или логику, а также разрешено ли совершенствоваться в других, кроме арабского, языках или читать светские тексты. Но в основе исламского образования повсеместно даже в настоящее время лежит лингвистическое владение священным текстом, для которого зачастую требуется устная декламация и знание арабского языка.
Традиционные модели в традиционных школах
Система школ по изучению Корана с акцентом на заучивании текста на языке, незнакомом для ученика, может показаться необычной и даже странной для современного читателя. Поэтому важно подчеркнуть, что подобные аспекты были характерны для многих других школ, существовавших за последнюю тысячу лет, в том числе в средневековой христианской Европе и других уголках образованного мира, как, например, иудейский хедер и ешива, японская теракоя, индуистская гурукула. Изучив работы Майкла Фишера, а также моих коллег Роберта Левайна и Сьюзен Поллак, я могу выделить ряд характерных признаков, типичных для этих традиционных школ. Очевидно, что они отличаются стилем обучения, но в целом можно заметить, насколько похожи между собой эти черты, возникшие в разных культурах, которые вряд ли поддерживали контакт друг с другом.
Как я уже отмечал, такие традиционные школы почти всегда религиозные, т. е. ими заведуют представители религии, а образование идет в религиозных целях. (Конечно, в обществе, где существуют традиционные школы, едва ли найдется сфера жизни, в которой не заметно влияние религии.) Учителя не только связаны с религией, но и должны подавать высокий моральный пример. Они имеют неоспоримое право наказывать непослушных учеников (при необходимости) и обязаны быть образцом добродетели для общества. Аморальный учитель — это противоречит правилам.
Главный учебный план в школах, особенно в первые годы обучения, очень прост: ученик должен научиться читать и писать на языке священных текстов. Поскольку в большинстве случаев этот язык для него не родной, ученику приходится совершенствоваться в иностранном языке в течение нескольких лет. Кроме того, практически не прилагаются никакие усилия, чтобы сделать этот язык знакомым или понятным для пользователя, задача состоит в том, чтобы выучить его с помощью повторений и зубрежки. Как правило, человек начинает с заучивания букв, последовательности которых просто переписываются и учатся наизусть. После этого ученик переписывает слова и фразы и вскоре учится запоминать и воспроизводить образ и звучание более объемных отрывков. Для самостоятельного изучения остаются элементы грамматики и звуковой структуры языка. (Естественно, главную роль в данном случае играет лингвистический интеллект: ребенок, одаренный в этой сфере (как наш воображаемый иранский юноша), почти наверняка добьется успеха в таком «декодировании».) От изучения алфавита постепенно переходят к декодированию языка, а затем — к пониманию текстов. На самом высоком уровне человек может уже не только читать священные тексты, но и участвовать в публичных толкованиях и обсуждении смысла определенных текстов. Однако для достижения таких высот требуется много лет, и большинство учеников не идут дальше обычной зубрежки более знакомых священных текстов.
Учатся в этих традиционных школах в основном мальчики. В некоторых сообществах начальное образование обязательно для всех, в других оно предназначается лишь для элиты. Первый день в школе отмечается как значительное событие, ребенку дают понять, что возможность научиться читать священные тексты достойна того, чтобы ее должным образом отпраздновать. Люди с развитыми навыками в этих аспектах грамотности быстро выделяются на фоне менее одаренных товарищей. Вероятно, самое важное требование для достижения успеха — это острая лингвистическая память, поэтому дар или способность хорошо запоминать тексты играет заметную роль. Хотя заучивание — не конечная цель такого образования, его можно назвать необходимым этапом, ведь как бы там ни было, будущие толкования и диспуты во многом основываются на способности быстро и правильно вспомнить отрывок, в котором содержатся ответы на принципиальные проблемы жизни. Периодически устраиваются торжества по мере того, как ученик успешно проходит определенные веховые этапы. Ученики, которые, подобно нашему иранскому юноше, преуспели в учебе и заняли видное положение в своей общине, получают право продолжать учебу на более высоком уровне — это еврейская ешива, средневековые университеты или медресе в священных мусульманских городах. Эти люди могут посвятить свою жизнь учебе, и даже если они никогда не будут такими богатыми, как некоторые их ровесники, в обществе их положение все равно будет особо почетным.
Хотя при таком образовании главенствующую роль играют лингвистические и логические способности, не следует умалять значение межличностного аспекта в традиционных школах. Кроме тех учителей, которые имеют дело с самыми маленькими детьми, педагоги, как правило, пользуются большим уважением. В прошлом центром образовательного процесса была одна притягательная фигура — гуру, мулла, раввин или конфуцианский ученый, который брал под свое крыло самых одаренных учеников и помогал им достичь совершенства в знаниях. Более того, главная цель таких школ заключалась в том, чтобы сохранить социальную структуру общины, которая поддерживала школы и очень гордилась успехами своих лучших учеников. Хотя талант часто замечался и получал достойное вознаграждение, все это происходило в атмосфере личных предпочтений, контактов и связей. Отделение школы от церкви и обезличивание образовательного процесса было задачей будущего (которая, возможно, до сих пор так до конца и не решена).
Нужно подчеркнуть, что такие школы появлялись не в вакууме. Во времена Средневековья активно поддерживались контакты с религиозными группами Ближнего Востока, у которых традиционные школы многое позаимствовали. Доктрины противоборствующих религий часто использовались в качестве тем для дебатов теми, кто поднялся до уровня «высшего образования». Кроме того, необходимо отметить существование явных различий между системами, различий, на которые я не обращал внимания для простоты изложения, но которые обязательно нужно учитывать, изучая особенности традиционных школ. Религиозные школы сами по себе базировались на более ранних традициях: обучение писцов и переписчиков в Древнем Египте и Месопотамии; схоластические институты в Китае и Индии около трех тысяч лет назад; классические академии в древних Афинах, где основой обучения служили «Илиада» и «Одиссея», но также уделялось внимание музыке, физической подготовке, арифметике, геометрии, астрономии, философии и политическому лидерству. И действительно, с упадком античного мира такой разносторонний учебный план был забыт, многие знания древности утрачены, а обучение, возникшее в раннем Средневековье, оказалось намного хуже по своей сути.
В средневековой Европе существовало мнение, что количество информации, которую необходимо выучить, является конечным. Ричард Макоун замечает, что «если бы вы решили узнать, какой была культура в XII веке, то можно было перечислить, скажем, три тысячи цитат, которые должен был знать каждый образованный человек... Этот список можно представить в виде таблицы». Метод обучения, даже на высших уровнях, в основном представлял собой заучивание специальных определений или целых лекций в виде вопросов и ответов. И только немногочисленные избранные имели право участвовать в относительно свободных дебатах. Даже в университете у студентов не было книг, поэтому им приходилось заучивать лекции. Так продолжалось до эпохи Возрождения, что можно понять из описания итальянского университета периода Ренессанса до распространения книгопечатания.
У студентов не было тетрадей, учебников грамматики, энциклопедий или словарей по античности или мифологии, которыми можно было бы воспользоваться. Поэтому лектор должен был диктовать цитаты, повторять одинаковые отрывки полностью, объяснять географические или исторические детали, подробно анализировать структуру предложений... Десятки студентов, молодых и старых, у которых не было ничего, кроме пера и бумаги, терпеливо записывали все, что говорил преподаватель. В конце учебы... у каждого из них собирался целый том, в который входила запись авторского текста, а также огромное количество пометок критического, пояснительного, этического, эстетического, исторического и биографического характера. Другими словами, необходимо было продиктовать целую книгу, а копий получалось столько, сколько присутствовало внимательных студентов.
Как отмечает Майкл Фишер в своем подробном исследовании подобных традиционных школ, такое же описание подходит и к иранским школам даже XIX века.
Факторы, способствовавшие появлению традиционных школ, весьма разнообразны, и их нельзя изучать отдельно от специфических исторических, культурных и религиозных условий. Поразительное сходство таких учебных заведений в разных частях света позволяет предположить, что мы имеем дело с той разновидностью образования, которая оказалась чрезвычайно адаптивной и задействовала те формы знаний, на которые были способны многие люди. Основываясь на процессе заучивания, эти школы и дальше развивали искусство памяти, дополняя навыки устного воспроизведения наизусть способностью читать (а в конечном итоге и писать) тексты, прежде неизвестные ученику. Признавая важность центральной фигуры как передающей основной объем знаний, эти школы всегда имели почитаемого и харизматичного «мастера», с которым у студентов возникала определенная связь. При этом оценка их успеха, которую давал этот человек, определяла, смогут ли они перейти на следующий уровень образования. Несмотря на то что учебные заведения не были связаны с последними событиями в экономической жизни общины, они имели прочные связи с нею. Возникшие из религиозной практики и часто располагавшиеся в храме или мечети, такие школы воспринимались как центральный элемент всей жизни общины, поэтому в некотором смысле можно сказать, что обучение в них происходило «в контексте» или было «контекстуальным». За исключением книг, в них присутствовали только отдельные средства передачи, поскольку только самые успешные студенты, участвовавшие в диспутах, развивали в себе логические способности, а основными по-прежнему оставались лингвистический и межличностный интеллект, которые всегда почитались в традиционных сообществах. Но в чем они отличались от образования в тех традиционных сообществах, которые не знали грамоты, так это в том, что мало внимания уделялось пространственным и телесным способностям. Значит, хотя обучение в традиционных религиозных школах нельзя приравнять к непосредственному обучению югославского исполнителя эпических поэм или морехода-пулувата, они все же недалеко ушли от неформального образования.
Творивший через несколько веков после расцвета традиционных школ, французский писатель Франсуа Рабле высмеивал недостатки такого образования. Он писал о знаменитом докторе богословия по имени магистр Тубал Олоферн, который своему ученику
так хорошо сумел преподать... азбуку, что тот выучил ее наизусть в обратном порядке, для чего потребовалось пять лет и три месяца. Затем учитель прочел с ним Доната, Фацет, Теодоле и Параболы Алана, для чего потребовалось тринадцать лет, шесть месяцев и две недели.
Должно при этом заметить, что он учил Гаргантюа писать готическими буквами, и тот переписывал все свои учебники, ибо искусство книгопечатания еще не было изобретено.
[...] Далее Тубал Олоферн прочел с ним De modis significandi с комментариями Пустомелиуса, Оболтуса, Прудпруди, Галео, Жана Теленка, Грошемуцена и пропасть других, для чего потребовалось восемнадцать лет и одиннадцать с лишним месяцев. И все это Гаргантюа так хорошо усвоил, что на экзамене сумел ответить все наизусть в обратном порядке и доказал матери как дважды два, что De modis significandi поп erat scientia.[88]
Фрэнсис Бэкон, работавший в начале XVII века, заявил, что «метод обнаружения и доказательства, согласно которому устанавливались первые, самые общие принципы, на основе которых затем доказывались вспомогательные аксиомы, — это причина заблуждений и настоящее проклятие всей науки». И все же подобная критика однобока: средневековое схоластическое образование во многом подходило для структуры и целей того общества, позволяя эффективно передавать самые необходимые навыки и знания.
На фоне упадка традиционных школ появляется современное светское образование — сначала на Западе, преимущественно в Англии и Германии. Решающим оказалось развитие современной науки и ее постепенное распространение по всей Европе и Северной Америке. Многие другие важнейшие перемены в религиозной, политической, экономической и социальной жизни, которые имели место в период с 1400 по 1800 год, так хорошо известны и так часто упоминались в литературе, что уже нет необходимости повторять их снова. Но вслед за ними появились люди, остро нуждающиеся в формальном образовании, готовые идти на жертвы ради того, чтобы их дети получили образование, больше ориентированное на науку и технику и меньше — на заучивание священных текстов или чтение классической литературы. С каждой промышленной революцией — например, революцией в текстильной промышленности и тяжелом машиностроении в XVIII веке, революцией в химии, электротехнике и производстве стали в XIX веке, революцией в сфере компьютеров и информационных технологий в XX веке — система образования претерпевала значительные изменения. На сегодняшний день современные школы в Европе, США, России, Израиле или Египте, Индии или Японии мало похожи на те заведения, о которых мы сейчас говорили.
Современная светская школа
Общие черты
Какие признаки характерны для светских школ — самого знакомого, если не единственно возможного, для читателей этой книги средства передачи знаний? Прежде всего, образование в светских школах больше не строилось исключительно на религиозных текстах. Более того, все накопленные знания считались равноправными. Во-вторых, теперь там работали не только представители духовенства. Возник целый класс гражданских служащих, учителей на службе государства, которые отвечали за процесс обучения и которых отбирали не по моральным качествам, а по интеллектуальным показателям. Образование начиналось рано: Эразм Роттердамский советовал приступать к учебе в три года, а некоторые современные ученые предпочли бы еще более ранний возраст. Семья старалась способствовать обучению всеми доступными средствами: широко распространенным стало использование ясного, простого и понятного изложения, игр, загадок и книг, написанных специально для детей. Наконец, изменились и сами цели образования. Теперь оно должно было способствовать повышению производительности труда и развитию гражданского сознания, кроме того, оно могло стимулировать и личностное развитие, обеспечивая людей навыками, которые они в дальнейшем могли использовать по своему усмотрению.
Конечно, индивидуальные цели в разных светских обществах отличаются друг от друга, спорной остается и степень их реализации. К тому же не следует преувеличивать разрыв между традиционной и светской школой: не все традиционные школы, строго говоря, были религиозными, а многие, казалось бы, светские школы сохранили некоторую связь с религией. Но не вызывает сомнения, что большинство школ в промышленном мире стали истинно светскими.
В связи с такими переменами в системе образования произошли значительные изменения и в предпочитаемых видах интеллекта. Точно определить, какие интеллекты вышли на передний план и каким именно образом, — задача для будущих исследователей, но в любом случае необходимо принять во внимание тот факт, что подобные перемены отражают лишь смещение акцентов относительно отдельного интеллекта, а не полное отсутствие или появление этого вида способностей. Тем не менее, помня об этом, любопытно будет рассмотреть некоторые перемены, произошедшие в течение нескольких столетий.
Начнем с того, что в современной системе образования межличностный интеллект играет уже не столь значимую роль: восприятие человеком окружающих как уникальных личностей, способность создавать прочные связи с одним наставником, умение хорошо ладить с людьми, понимать их сигналы и правильно на них реагировать в настоящее время не так важны, как это было несколько веков назад. Теперь скорее внутриличностные навыки приобретают все большее значение, поскольку человек должен оценивать собственные чувства и планировать будущее направление учебы, да и всей дальнейшей жизни. Меньшее значение имеют и чисто лингвистические способности: при такой доступности книг важно уметь быстро читать и правильно делать записи, а умение заучивать наизусть и бездумно «тарабанить» текст больше не играет никакой роли (более того, такие действия воспринимаются с подозрением). Скорее, на первый план выступила комбинация лингвистических и логических навыков, поскольку от ученика ожидают, что он сможет абстрагироваться от текста, синтезировать и высказывать свои суждения о нем, а также находить новые доводы и аргументы, которые заменят существующую мудрость. С появлением компьютеров и других современных технологий слово как таковое еще больше утрачивает свое значение: сегодня человек может выполнять значительную часть работы исключительно с помощью манипуляции логическими и числовыми символами. Традиционные школы заменили «непосредственные методы» пространственного и телесного интеллекта, делая акцент на лингвистических способностях, но сохранив важность межличностного элемента. В современной школе главную роль играют логико-математические способности и некоторые аспекты лингвистического интеллекта наряду с наметившимся в последнее время интересом к внутриличностным навыкам. Остальные интеллектуальные способности большей частью остаются для внеурочных и дополнительных занятий в свободное время, если на них вообще обращают какое-либо внимание. Поэтому не удивительно, что люди, живущие в сообществах, где существуют лишь традиционные школы, сталкиваются с большими проблемами, если им приходится быстро включаться в систему образования, основанную на использовании компьютеров.
Юный программист
Давайте на минуту вернемся к нашему гипотетическому парижскому студенту, который программирует музыкальное произведение на своем домашнем компьютере. Такая деятельность предполагает развитие в высокотехнологичном и индустриализованном обществе, а также определенный уровень доходов, позволяющий приобрести оборудование, которое всего лишь несколько поколений назад было темой произведений писателей-фантастов. Ведь как бы там ни было, невозможно создать компьютеризированное общество — или сам компьютер — на пустом месте.
И все же поражает степень самостоятельности нашего студента, который очень мало общается с другими представителями своей культуры. Освоив основы программирования, которые можно почерпнуть из справочника или на краткосрочных курсах, он может теперь по желанию включать свой компьютер, покупать любое программное обеспечение и выполнять работу, которая соответствует его вкусам. Он точно так же может свободно пересматривать, удалять или изменять свои сочинения, делиться ими с друзьями или оставлять себе. Поскольку многое зависит от его собственных планов, знаний о том, что он хочет и как этого лучше добиться, внутриличностный интеллект занимает центральное место в избранной деятельности и в том, как подросток ее оценивает. (Точно так же у него больше возможностей для принятия важных жизненных решений — например, в отношении социальной роли, брака, места проживания, — чем у его сверстников из традиционной религиозной культуры.) Работая с компьютером, он должен применять логико-математические способности в значительно большей степени, чем это присуще большинству других людей в большинстве других сообществ. Жизнь в компьютеризированном обществе требует также применения комбинации логикоматематического интеллекта с другими его видами, как правило, с лингвистическим. Но логикоматематический интеллект можно связать и с музыкальными способностями, примером чего и служит наш парижский студент. Человек может совершенствоваться в других интеллектуальных сферах, например пространственной, кинестетической или межличностной, но такие занятия остаются его личным выбором, а не общественной необходимостью.
Подросток, работающий со своим компьютером, находится на противоположном конце континуума в отличие от юноши традиционного сообщества, который учится охотиться, выращивать растения или изготавливать простые инструменты, а также значительно отличается от ученика хедера или медресе, изучающего религиозные тексты. И все же важно не преувеличивать различий в интеллектуальных профилях, которым отдается предпочтение в разных школах. Несомненно, межличностные отношения остаются очень важными в некоторых современных образовательных контекстах. Например, значительная часть успеха высшего образования, как в точных науках, так и в гуманитарных, зависит от прочных связей между профессором и одаренным студентом. Хотя в основе появления таких отношений может лежать интеллектуальная способность неличностного характера, сохранение этой связи в течение долгого времени будет играть важную роль в дальнейших профессиональных успехах молодого коллеги. Следует также отметить, что почти каждое общество с современными светскими школами пытается каким-либо образом сохранить аспекты традиционного обучения. Это может выражаться в дополнительных занятиях по религии или открытии воскресных школ. Часто создаются специальные школы для студентов-иудеев или мусульман, которые ученики посещают в дополнение к своим светским школам. В Японии учителя часто задействуют определенные традиционные ценности на своих уроках, а ученики после занятий ходят в так называемые «джуку», специально созданные для того, чтобы подготовить их к сложным вступительным экзаменам в колледж. В Индии школы-паташалы обучают большинству светских предметов, а гурукулы представляют собой своего рода привет из прошлого. Да и в современной западной культуре можно заметить попытки сохранить классическую направленность ранних традиционных школ наряду с более научной ориентацией современного светского обучения. Поэтому создаются художественные школы и гимназии в противовес техническим колледжам, а гуманитарные лицеи противостоят техническим гимназиям. Можно выделить также специальные начальные школы, созданные для того, чтобы обучить основам грамоты людей, которые в дальнейшем станут рабочими или фермерами, и элитарные частные школы, где по-прежнему большое значение имеют аспекты классического образования, а некоторые группы учеников осваивают научные знания и навыки. Наконец, существующие в развитых странах факультативные или дополнительные занятия позволяют развивать все виды интеллекта, если человек находит для этого время, желание и достаточно средств.
Критика школьного образования
Поскольку современные светские школы уже много лет существуют на Западе, у нашего общества была возможность осмыслить характеристики этого института, определить его сильные и слабые стороны. Мы смогли понять, что, возможно, было потеряно с приходом образования как такого, а также с развитием в течение последнего столетия современной светской школы со свойственной ей тенденцией делать акцент лишь на определенных аспектах разума и отстраненностью от духовной и этической жизни общества. В последнее время в результате такого анализа участились критические высказывания в адрес школьного образования со стороны ученых-педагогов. Например, Айвен Иллич, призывающий создать «бесшкольное общество»; Паоло Фрейре, протестующий против того, что школы используются как элитарный инструмент для манипулирования угнетенными людьми; Рональд Дор, критикующий школьную практику выдачи аттестата, когда для всех желающих не хватает рабочих мест; Алрик Нейссер, порицающий узость академических навыков; Кристофер Дженкс (и другие американские исследователи), заявляющий, что школы в целом даже не выполняют своей первостепенной задачи, состоящей в том, чтобы помочь людям подняться по лестнице успеха (важнее оказываются принадлежность к определенному социальному классу и удача); а также испытывающие ностальгию ученые, например Майкл Маккоби и Нэнси Модиано, которые заявляют следующее.
Если крестьянский ребенок не отупеет от жизни в деревне, он сможет насладиться неповторимостью событий, предметов и людей. Но в городе ребенок по мере взросления может заменить спонтанность взаимоотношений с миром на более утонченное мировоззрение, при котором главный акцент делается на использовании, обмене или классификации. Насколько человек промышленного общества приобретает с развитием способности формулировать, рассуждать и кодировать все больше и больше битов сложной, необходимой ему информации, настолько же он, вероятно, и теряет со снижением чувствительности к людям и событиям.
Такая критика не обязательно окажется решающей. Последние многосторонние исследования, которые проводил Майкл Раттер со своими коллегами в Лондоне, говорят о том, что школы могут оказывать и положительное влияние на жизнь детей. Если в школе достаточно ресурсов, компетентный директор, к обучению привлекаются пунктуальные и ответственные учителя, а также существует понятная и справедливая система поощрения и наказания, то дети будут лучше учиться, больше любить школу и меньше нарушать правила. Такие же результаты получены и в ходе работы в сложной обстановке Нью-Йорка. Значение имеют директора и принципы! А для сложных групп населения программы раннего развития, при которых совершенствование интеллектуальных навыков начинается в первые годы жизни, существенно влияют на отношение и успехи ученика.
Однако в мою задачу не входит поддерживать (или оспаривать) защитников или критиков школы. Моя аналитическая схема, скорее, поможет определить те черты современных школ, которые являются составным элементом их программы, а также некоторые последствия, которые подобное образование может иметь. У исследователей, изучающих пространственный, телесный или музыкальный интеллект, а также у тех, кто интересуется межличностными аспектами жизни, склонность обвинять современное школьное обучение вполне понятна. Современная светская школа просто пренебрегает этими видами интеллектуальных способностей (хотя так и не должно быть). Те же ученые, кто предпочитает говорить о развитии логико-математического и внутриличностного интеллекта, а также использовать не субъективные, а основанные на личных достижениях критерии оценки качества образования, могут восхищаться многими чертами современной школы. И все же стоит отметить, что к факторам, способствующим эффективности школы, относятся личные качества директора и учителей. Несмотря на перспективу иметь свой компьютер наряду (или вместо) с партой, этих людей невозможно заменить, по крайней мере пока.
Если о действительном влиянии и эффективности современной школы можно спорить (и эти дебаты будут продолжаться), главное значение образованного общества (в противовес тому, где нет формального образования) нельзя подвергать сомнению. Практически все согласны с тем, что учеба в школе в течение нескольких лет приводит к появлению человека — а в конечном итоге и общества, — который во многом отличается от представителей культуры, не имеющей формального образования (хотя эти преимущества не всегда легко выразить словами). Конечно, существуют различия между традиционными и современными светскими школами: в рамках нашей аналитической схемы общество с традиционным школьным обучением можно считать переходным этапом между обществом без какого-либо формального образования и культурой, в которой доминирует современная светская школа.
ТРИ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каким бы ни был способ передачи знаний, которому отдается предпочтение в данной культуре, почти каждому современному обществу пришлось столкнуться с достижениями современного «индустриализованного» или «развитого» мира. И лишь немногие общества, имеющие какие-либо сомнения относительно европейских, американских или японских школ, смогли устоять перед воздействием образовательных систем этих культур и довольствоваться своими традиционными формами передачи знаний.
Чтобы принять обоснованное решение, каким путем следовать, а какого избегать, разработчики образовательных программ попытались лучше понять влияние и последствия основных черт образования в развитых странах, т. е. учебы в светской школе, приобретения грамотности и освоения научных методов. Каждая из этих сфер огромна, и ни одна не была досконально изучена. Более того, они во многом соотносятся друг с другом: для большинства современных школ в развитом мире характерно наличие нескольких видов грамотности и научного мышления, поэтому едва ли их можно отделить друг от друга и оценить оказываемое ими влияние. Тем не менее, учитывая важность этих факторов в любой современной образовательной системе, крайне необходимо рассмотреть, что нам известно о каждой из форм, если это возможно, в изоляции, а также выяснить, можно ли определить их основные признаки с помощью схемы, предложенной в начале данной главы.
Школьное обучение
Помня обо всех трудностях, мы можем рассмотреть черты, которые, по всеобщему убеждению, присущи этим трем факторам. Вероятно, чаще всего исследовалось влияние школьного обучения. Ученые в целом согласны, что вне школы дети приобретают знания с помощью наблюдения и участия в ситуациях, где необходимо применять эти навыки. В отличие от такого положения, в обычном классе учителя преподают, зачастую представляя материал в абстрактной символической форме и используя при изложении информации такие неодушевленные средства, как книги и таблицы. Как правило, в школе изучаются такие феномены, которые нельзя увидеть или потрогать, поэтому подобные сенсорные способы получения информации не подходят для большинства школьных заданий (за исключением, возможно, чтения). Дети, получившие образование в школе, привыкают к такому изложению проблем и заданий, часто «вне контекста», и учатся решать эти задачи просто потому, что они есть. Дети учатся искать подсказки, разрабатывать план и стратегию, а также настойчиво добиваться ответа, который пока неизвестен. Некоторые из навыков, полученных в школе, носят общий характер: научившись читать, можно прочесть книгу на любую тему; научившись писать, можно описать множество тем; умение считать, понимать чертежи и т. п. также весьма разносторонне. И действительно, навык работы с системой условных обозначений — вероятно, главное умение, которое прививается в школе.
Изучив множество исследований, Майкл Коул и Рой Д’Андрейд выделили некоторые последствия, которые можно ожидать после окончания школы. Люди, учившиеся в школе, как правило, добиваются лучших результатов, чем те, кто не получил школьного образования, при выполнении заданий, связанных непосредственно с речью, где требуются специальные стратегии обработки информации (например, ее членение) или где нужно спонтанно использовать определенные таксономические системы классификации (объединение предметов, принадлежащих к одному классу). И наоборот, нет практически никаких различий между образованным и неграмотным человеком при выполнении заданий, материал которых всем знаком, где задействованы функциональные связи или где требуемый вид классификации представлен в знакомой обстановке. Такие находки говорят об эффективности школы в привлечении внимания к речи и в обучении учеников навыкам различных классификаций и использования правильного подхода к информации. Недостающим умениям вполне можно научить даже неграмотных детей, но важно подчеркнуть, что такие навыки не возникают спонтанно при выполнении заданий, специально разработанных экспериментаторами.
Что касается нашей схемы, то для школьного обучения требуется специально отведенное для этого место (вне обычного контекста, где навыки применяются для повышения производительности труда) , специальные агенты передачи знаний и разнообразные средства этой передачи, которых, как правило, нет в культурах, не имеющих школ. Такая комбинация, в свою очередь, развивает умственные навыки, приобрести которые при передаче знаний «в контексте», т. е. в неопосредованном контексте, очень сложно. Побочным продуктом обучения в школе будет более утонченное и осознанное использование речи, чему также часто сопутствует наличие нескольких видов грамотности и активное использование логического мышления. Формы личностных знаний отличаются в зависимости от школы, хотя в целом пространственные, телесно-кинестетические и музыкальные способности играют лишь второстепенную роль. Различия в типах школ зависят главным образом от того, какая модель обучения там предпочитается — традиционная религиозная, при которой на передний план выходят лингвистические и межличностные знания, или современная светская, где для достижения целей такой образовательной системы главными являются логико-математические и внутриличностные способности. Следует заметить, что в некоторых обществах, например в Японии, прилагаются значительные усилия для развития межличностных знаний в рамках формального обучения. В то же время в некоторых строгих традиционных школах, скажем, медресе, в которых внимание уделяется только чтению и письму, могут не происходить определенные когнитивные революции, ассоциирующиеся со светским образованием.
Грамотность
Переходя к влиянию грамотности, мы начинаем разговор об умениях, связанных с предыдущим набором навыков, хотя и несколько отличных от них. Как и школьное обучение, грамотность заставляет по-новому и во многом более осмысленно взглянуть на речь. В неграмотных сообществах речь, скорее, «невидима»: единственное, что замечается, — это эффект от сказанного. В отличие от такой культуры, в образованном обществе человек понимает, что существуют такие элементы, как слова, что они соединяются по определенным правилам (грамматика) и что эти лингвистические составляющие тоже можно описать с помощью слов (метаязык).
Человек узнает, что можно точно и недвусмысленно высказать свою мысль, досконально записать сказанное, а также замечать различия между тем, что имелось в виду («Передай соль»), и тем, что прозвучало на самом деле («Не могли бы вы передать мне соль?»). Образованные люди умеют легко общаться друг с другом не только в непосредственном разговоре лицом к лицу: они даже могут познакомиться с человеком, с которым никогда не встречались, а если возможна переписка, то и завязать с ним прочные отношения. Межличностные отношения приобретают новый, до этого практически не существовавший оттенок.
Вполне может оказаться, что, по крайней мере в некоторых контекстах, способность читать и писать влечет за собой более абстрактное мышление, потому что теперь человек может давать точные определения понятиям, возвращаться к фактам и определениям, данным до него, и взвешивать логические и побудительные элементы спора. Умение применять различные символические обозначения выступает подспорьем для памяти, помогает человеку организовать свои будущие действия, а также одновременно общаться с неограниченным числом слушателей (например, кругом предполагаемых читателей).
Освоение различных видов грамотности, например чтение музыкальных записей, математических доказательств или сложных чертежей, предоставляет в распоряжение человека когда-то недоступные знания и позволяет ему внести свою лепту в рамках этой традиции. Кроме того, грамотность может иметь и серьезные социальные последствия: человек, который умеет писать, может не только оказаться в более выгодном положении по сравнению со своим неграмотным ровесником, но и приобретает прочную репутацию. Например, если он ведет достоверную запись общественных операций и рассудительно пользуется ею, то может исполнять роль третейского судьи или выносить суждения о поведении других людей. Неудивительно, что вожди в неграмотных сообществах часто притворяются, что владеют грамотой, как только узнают о ее существовании!
Это убедительное доказательство того, какие последствия для жизни человека может иметь грамотность. Майкл Коул и его коллеги не только объясняют, каково воздействие лет, проведенных в школе, но и помогают нам лучше понять значение грамотности. Воспользовавшись возможностью провести уникальный эксперимент в рамках одной культуры, Коул, Сильвия Скрибнер и их коллеги в течение нескольких лет изучали группу представителей народности ваи в Либерии. Это племя особенное, потому что некоторые знают только английский, другие — только арабский язык (после изучения Корана), а около 20% мужчин ваи владеют особой письменностью, распространенной только в их географическом регионе: это слоговое письмо, созданное в XIX веке преимущественно для переписки и ведения личных записей. Хотя письменность ваи используется в таких нужных целях, она не влечет за собой знания какой-либо новой информации в сфере науки, философии или литературы.
Группа Коула обнаружила поразительный факт — приобретение даже высокого уровня грамотности в одной из этих систем не имеет серьезных когнитивных последствий. Более того, именно посещение школы, а не само по себе приобретение грамотности является причиной всех упомянутых выше различий при решении задач, классификации, в аналитических навыках и даже в чувствительности к речи, которая, как кажется, необходима для развития грамотности. Но нельзя отрицать, что владение любой разновидностью письма активизирует развитие определенных навыков, нужных для практического применения этой грамотности. Таким образом, те, кто владеет языком ваи, лучше других могут связывать слоги в значимые лингвистические единицы; владеющие арабским обладают избирательной способностью запоминать цепочки слов (что им приходилось делать при изучении Корана), но в другом ничем не отличаются от остальных. Как видно из данного исследования, грамотность необходимо воспринимать не как панацею от разнообразных когнитивных нарушений, а, скорее, как набор специальных когнитивных навыков, которые, возможно, носят несколько общий характер, но никоим образом не влияют на мировоззрение. Именно грамотность в контексте школы изменяет множество лингвистических и когнитивных операций.
Таким образом, очевидно, что отдельные речевые навыки не производят того революционного эффекта, который, как правило, наблюдается в школьном контексте. Согласно теории, изложенной в данной книге, специфическое использование лингвистического интеллекта не обязательно затрагивает другие интеллектуальные сферы. Несомненно, общий интерес к грамотности и системам условных обозначений, вероятно, поможет развиться человеку, который будет знать о возможности записывать информацию и легко сможет приобретать дополнительные виды грамотности (например, новый язык программирования для компьютера). Более того, как это часто бывает в школе, приобретение грамотности позволяет человеку овладевать такой дополнительной информацией «вне контекста». В некотором смысле, чтение открывает перед человеком весь мир. Но исследования Скрибнер и Коула свидетельствуют, что можно лишь с большой осторожностью говорить, будто любая новая форма образования обязательно будет иметь серьезные последствия. И действительно, вспомнив о многочисленных различиях между «лесной» школой и традиционной религиозной школой или же между традиционной религиозной и современной светской школой, становится очевидно, что вид учебного заведения имеет такое же большое значение, как и наличие школьного обучения.
Наука
В наше время мировоззрение чаще всего меняется под воздействием третьего фактора — науки, т. е. того набора методов и открытий, который возник в эпоху Возрождения и привел к появлению большинства важных нововведений современности. Использование научных и технических средств имело ошеломляющие последствия для экономической жизни (а также повлекло физические и социальные перемены): ни одна мелочь не осталась незатронутой.
При использовании научного метода одновременно работают по крайней мере два аспекта. С одной стороны, проявляется интерес к сбору фактов, желание проводить объективные эмпирические исследования и узнать как можно больше о предмете изучения, а также готовность (и даже стремление) изменить свое мышление в свете новых данных. Этот описательный аспект науки создает пояснительную надструктуру — теоретическую базу, которая объясняет природу объектов и сил, взаимодействия между ними, описывает их появление, что может их изменить и при каких условиях могут произойти эти изменения. Теоретическая структура зависит от рассуждений — дедуктивных, при которых частные выводы делаются из общих предположений, и индуктивных, когда общие принципы можно понять, изучив отдельные случаи. Эти элементы в некоторой степени были развиты и во времена античности (например, в учении Аристотеля), а также давно существовали во многих уголках мира, но именно гений европейской культуры по окончании Средневековья свел их воедино в виде «научного синтеза», результаты которого уже имели огромное значение, а конечное воздействие до сих пор непонято.
Значительная часть дискуссии относительно различий между современным и «традиционным», «неграмотным» или «примитивным» разумом касается роли научного мышления. Такие видные ученые, как Клод Леви-Стросс, утверждали, что традиционный разум не имеет существенных отличий от современного: используются те же операции, но по отношению к другому материалу. Более того, примитивная наука — это наука конкретики, увидеть операции которой можно, наблюдая за людьми, которые классифицируют предметы или создают мифические объяснения. Другие исследователи, симпатизирующие способу мышления прошлого, критиковали западную науку за распространение эгоцентризма относительно нашего метода изучения мира, который эти ученые считают всего лишь одним из многих равнозначных мировоззрений.
С другой стороны, такие авторитеты, как Робин Хортон, заявляли, и, на мой взгляд, довольно убедительно, что хотя как научное, так и ненаучное или донаучное мышление были попытками объяснить окружающий мир, между ними существуют фундаментальные отличия. А именно, в своем стремлении дать объяснение миру научный разум опирается на особое кредо, когда необходимо выдвигать гипотезы, создавать условия, при которых эти гипотезы можно опровергнуть, а также проявлять готовность отбросить такие гипотезы и создавать новые, если предыдущие были опровергнуты. Следовательно, система изначально открыта для перемен. Ненаучный разум обладает всеми теми же мыслительными процессами, что и научный, но система, в рамках которой он работает, полностью замкнута: все предположения уже были высказаны ранее, все следствия должны вытекать из них, а система объяснений не меняется даже в свете новой информации. Подобно тому процессу, который я описывал в разговоре о традиционном религиозном образовании, человек просто мобилизует свои риторические навыки, чтобы еще убедительнее доказать известные выводы и мировоззрение.
Даже если согласиться (хотя многие с этим спорят), что такая разница между научным и ненаучным мышлением все же существует, важно не преувеличивать ее необратимость и распространенность. Когда речь заходит о космических материях, представители ненаучного общества, вероятно, будут мыслить замкнуто, но все-таки сомнительно, чтобы они придерживались того же типа мышления в повседневных вопросах. Не применяя экспериментальные методы в обычной жизни — например, продолжая принимать пищу, которая вызывает заболевания, — они не смогли бы выжить. Точно так же, даже если западные ученые действительно пользуются методом рассуждений, который позволил им создать постоянно изменяющуюся структуру науки, вряд ли они никогда в своей жизни не используют аспекты замкнутого мышления. В дополнение к суевериям, мистическим или религиозным убеждениям, в которых многие из нас непоколебимы, всеобщую веру в науку можно счесть разновидностью мифа, которую ученые не собираются упразднять, как и наши братья из ненаучного общества отказываются забыть свою систему мифов и поэзии.
Хотя научное мышление может привести к созданию нового мировоззрения, которое в корне отличается от восприятия мира, распространенного в ненаучном обществе, оно не повлечет за собой возникновение нового вида интеллекта. Я думаю, что ученому свойственна готовность использовать лингвистическое и логико-математическое мышление в тех сферах, где они прежде, как правило, не применялись (например, разработка новой системы условных обозначений или формулирование теорий, подлежащих проверке). Кроме того, эти интеллекты комбинируются так, как никогда до этого. Другими словами, составляющие научного метода существовали тысячи лет во многих культурах, от Древнего Китая до античной Греции, а затем — до средневекового мусульманского общества. Заслуга современной науки в том, что она создала новую комбинацию сенсорного, логического и лингвистического подходов, а также отделила их от личностных и религиозных знаний, частью которых они были прежде.
Точно так же, как грамотность может не влиять на школьное обучение, школьное обучение может не влиять на науку. Ведь как неформальные школы в неграмотных сообществах, так и традиционные школы образованного общества существовали много лет, не имея никакой связи с научным миром. В традиционной школе можно даже найти признаки логико-математического интеллекта: в таких случаях активизируются лингвистические и логико-математические способности, чтобы доказать определенные предрешенные выводы. Но что отличает современную науку независимо от того, применяется ли она в школе, так это особое использование логикоматематического мышления для систематического исследования предположений, разработки новых пояснительных схем, их проверки и последующего изменения с учетом полученных результатов. Межличностные связи тоже могут иметь большое значение для освоения научного метода, особенно для человека, который стремится к сотрудничеству с коллегами. Но на практике для научной деятельности требуется полное погружение в собственные мысли и достижение поставленных перед собой целей — от разработки новой компьютерной программы до совершенно нового научного объяснения. Для такой деятельности необходимо скорее внутриличностное, нежели межличностное понимание. Подводя итог, нужно сказать, что хотя научное мышление само по себе не приводит к появлению нового вида интеллекта, оно представляет собой комбинацию интеллектуальных способностей, которые прежде не использовались подобным образом. Такая форма мышления возможна лишь в обществе с определенными задачами и ценностями — вспомните о борьбе Галилео Галилея с церковью или современных ученых в тоталитарных обществах. Подобно школьному обучению и грамотности, наука тоже является социальным изобретением, направить к которому интеллект человека можно только тогда, когда общество готово принять все вытекающие из этого последствия.
В данной главе я схематически рассмотрел большое количество тенденций. Мы увидели, что при переходе от «непосредственного» к неформальному обучению, затем от неформального к традиционному образованию, и наконец, от традиционной школы к современной постоянно наблюдалось снижение роли телесного, пространственного и межличностного интеллектов — сначала в пользу лингвистического мышления, а затем все больше ради развития логикоматематических и внутриличностных способностей.
Такое смещение акцентов можно четко увидеть, если рассмотреть навыки, которыми пользуются наши три гипотетических подростка. Мореход-пулуват полагается в основном на свои телесные и пространственные способности. Лингвистические навыки имеют значение на одном этапе обучения, а логико-математические вообще не играют роли. Как молодой пулуват, так и иранский юноша находятся в межличностной ситуации: связи каждого из них со старшими, которые обучают его, чрезвычайно важны для успешного завершения образования. Но если пулуват учится преимущественно в «естественном» контексте мореходства, то иранский юноша получает намного более абстрактные знания в обстановке, отдаленной от важных повседневных занятий. Поэтому он больше зависит от своих лингвистических способностей, которые должны включать не только вербальную память, но и способность «дешифровывать код» арабского языка.
Не менее глубокая пропасть отделяет иранского подростка от юного парижского композитора, сидящего за своим компьютером. Хотя навыки, необходимые для овладения музыкой и компьютером, во многом приобретаются в ситуации межличностного общения, подросток в основном работает в одиночку: ему нужно в одиночестве спланировать, каких результатов он хочет добиться и как это можно сделать. Значит, намного большее значение приобретает развитие внутриличностного интеллекта и автономного чувства «Я». Кроме того, парижанин полагается на свои логико-математические способности намного больше, чем его ровесники в других культурах: успешное составление программы зависит от развитых умений в сфере чисел и производных. Конечно, как композитор он должен работать и с музыкальными элементами, более того, они займут центральное место в его занятии. Если бы подросток занимался видеографикой или пространственными рассуждениями, то полагался бы на другие виды интеллекта. По характеру взаимодействия с компьютером этому подростку обязательно придется иметь дело и с лингвистическими кодами, но поскольку сейчас доступны различные справочники, ему не нужно будет заучивать что-то наизусть, как того требуют от иранского подростка или молодого пулувата. Как только парижанин научился читать, этот навык служит подспорьем для приобретения требуемых видов логических и математических знаний.
Конечно, вне своих образовательных контекстов у этих людей имеется возможность использовать самые разнообразные интеллекты, и у нас нет никаких оснований полагать, что они этого не делают. Жизнь представляет собой нечто большее, чем применение определенных видов интеллекта для достижения определенных целей. Кроме того, я хочу заметить, что эти интеллекты не исключают друг друга. Развитие одного вида не означает, что нельзя совершенствовать и другие способности: некоторые люди (и некоторые культуры) могут владеть несколькими видами интеллекта на высочайшем уровне, а другие добиваются успехов только в одном или двух. Не нужно думать, что к интеллекту применима ситуация с нулевой суммой; точно так же теория множественного интеллекта не является гидравлической моделью, в которой повышение одного интеллекта обязательно влечет за собой снижение другого. И все же с целью статистики разумно будет предположить, что разные люди — и разные культуры — по-разному относятся к развитию имеющихся у них интеллектуальных способностей.
Переход от морехода к изучающему Коран студенту, а затем к компьютерному программисту можно представить в виде прогрессии, и, с точки зрения западной культуры, способность человека создавать произведения искусства на компьютере можно считать величайшим достижением. Но не менее верно будет представить эту последовательность ситуаций как систематическое обесценивание определенных видов интеллекта, например пространственного или телесного, а также разрушение некоторых важных лингвистических способностей. Еще Сократ утверждал (относительно появления письменности) следующее.
Это ваше изобретение приведет к забывчивости ума тех, кто изучит его, заставив их пренебрегать собственной памятью, потому что с появлением письменности они будут вспоминать факты с внешней помощью чуждых символов, а не посредством внутреннего использования собственных способностей.
Создание различных технических средств, как бы парадоксально это ни звучало, привело к тому, что человек теперь не готов полагаться на собственные способности. И следствия этого, которые мы можем наблюдать в западном мире, несомненно, не единственно возможные, и уж тем более не оптимальные.
Эволюция от донаучного к научному мышлению, от обучения через наблюдение к школьному образованию и от неграмотности к грамотности, возможно, происходила без особых сложностей на Западе и в некоторых других регионах планеты. Но история западной цивилизации отнюдь не универсальная сага, и было бы глубочайшим заблуждением утверждать, что так может быть. На мой взгляд, многие проблемы современности возникают оттого, что модель и историю Запада пытаются применить в других культурах с другой историей, иными традициями образования и другими предпочтениями в интеллектуальной сфере. Как именно можно сбалансировать эти факторы и создать наиболее эффективную образовательную систему, я не берусь объяснить. Однако в последней главе я хотел бы высказать некоторые предположения относительно того, как моя теоретическая база может помочь в этих попытках.
В апреле 1989 года я посетил Центр развития дарования по системе Сузуки в японском городе Мацумото, где встретил людей, отвечавших за применение программы, а также побывал на концерте, в котором принимали участие ученики разных классов этого центра. Их выступление было поистине невероятным. Дети семи-восьми лет играли отрывки из скрипичных концертов, подросток виртуозно исполнил музыкальную пьесу периода романтизма, совсем маленькие дети, которые едва могли удержать скрипку в руках, в унисон сыграли несколько произведений, которыми мог бы гордиться любой школьник на Западе. Дети играли с чувством, пониманием и точностью, явно наслаждаясь собой и, несомненно, радуя публику, состоящую в основном из мам исполнителей, которые восторженно наклонялись вперед, чтобы не пропустить ни одного движения своих чад. Единственный человек, который чувствовал себя не в своей тарелке, был скрипач лет одиннадцати, игру которого яростно, хотя и без ожесточения, раскритиковал приезжий профессиональный исполнитель из Европы.
Конечно, если бы я услышал, как за кулисами играет один из учеников Центра Сузуки, то подумал бы, что исполнитель намного старше. Скорее всего, узнав, что ему всего три или четыре года, я решил бы, что это ребенок-вундеркинд (или обманщик). А под словом вундеркинд я подразумевал бы удачную наследственность, которая на самом деле представляет собой талант, развитый с помощью специального образования. С другой стороны, не меньшей ошибкой было бы предполагать, что в других случаях ранних музыкальных способностей генетические факторы не сыграли своей роли. Если бы у меня была возможность услышать юного Моцарта или ребенка-аутиста, который способен исполнить несколько сотен мелодий, то, скорее всего, мне пришлось бы своими глазами увидеть реализацию сильных наследственных склонностей.
В этой книге я приложил усилия для того, чтобы не противопоставлять генетические факторы культурным. Специалистам в социальных науках необходима схема, которая наряду с учетом генетической предрасположенности и нейробиологических факторов принимала бы во внимание и формирующую роль окружающей среды. Даже если дети, обучающиеся в Центре Сузуки, в некотором отношении представляют собой группу избранных, в которую вошли отпрыски музыкальных семей, они, бесспорно, достигли подобных высот в исполнительском мастерстве в столь юном возрасте благодаря искусной разработке программы и усилиям родителей. Второе условие было даже важнее. В данной главе я хочу изучить, каким образом теория множественного интеллекта может нам помочь лучше понять причины эффективности — или неэффективности — некоторых программ, задача которых — развить потенциал человека. В конце, воспользовавшись схемой, предложенной в главе 13, я сформулирую несколько принципов, которые помогут специалистам в области образования лучше продумать цели и способы возможных нововведений.
По сравнению с ситуацией, которая наблюдалась 100, а то и всего 30 лет назад, вопрос о развитии интеллекта, реализации потенциала человека и роли образования все чаще поднимается мировым сообществом. Эти темы рассматриваются не только теми, кто имеет к ним непосредственное отношение, но и такими неожиданными (и неожиданно внушительными) организациями, как банки экономического развития или правительства отдельных стран. Правильно это или нет, но власти, связанные с мировым развитием и поддержанием национального суверенитета, не сомневаются, что составляющие прогресса, успеха и счастья тесно связаны с возможностью получить лучшее образование для всего населения страны, особенно для ее детей. На мой взгляд, благодаря этому психологические и педагогические науки получили уникальный шанс доказать, что и они могут принести некоторую пользу. Если эту возможность упустить, она в ближайшее время больше не повторится.
Такая организация, как Всемирный банк, сомневается в необходимости увеличивать финансирование сельского хозяйства и промышленных предприятий, но предусматривает инвестиции в развитие человека и в систему образования. В 1980 году Роберт С. Макнамара, в то время президент банка, выступил с речью, в которой заявил: «Развитие — это, несомненно, не экономический прогресс, который измеряется объемами валового национального продукта. Это нечто более фундаментальное: развитие человека, т. е. реализация его врожденного потенциала». Далее он отметил, что развитие человека, которое он определяет как лучшее образование, здоровье, питание и планирование семьи на местном уровне, способствует экономическому развитию столь же эффективно, как и капиталовложения в производство. В известном докладе ЮНЕСКО 1972 года под названием Learning to Be («Обучение существованию») Эдгар Фор, бывший премьер-министр Франции, и его коллеги высказали смелое утверждение: «Человеческий мозг обладает огромным неиспользуемым потенциалом, который некоторые специалисты более или менее единогласно оценивают в 90%». Задача образования — реализовать этот неиспользуемый потенциал.
В полном согласии с такими высказываниями международный «мозговой центр» — Римский клуб — подготовил доклад о том, как образование и обучение могут занять достойное место в современном мире и мире будущего. Вот что заявил президент клуба Аурелио Печчеи.
Все решения проблем человечества, а также любые гарантии будущего для человека можно найти лишь в нас самих. Для этого всем нам нужно учиться [выделение Печчеи] активизировать наш дремлющий потенциал и в дальнейшем использовать его разумно и целенаправленно.
Авторы работы No Limits to Learning («Образование без границ») соглашаются с тем, что «по-видимому, для любых практических целей нет предела обучению». В качестве средства решения различных проблем, с которыми столкнулось современное общество, они рекомендуют инновационное обучение, т. е. обучение второго порядка, при котором люди сообща планируют, к чему придет мир в будущем, а также предпринимают совместные действия для того, чтобы использовать все представившиеся возможности и предотвратить катастрофу. Авторы говорят следующее.
Инновационное обучение — это формулирование и классификация проблем. Его основными признаками являются интеграция, синтез и расширение горизонтов. Оно действует в открытых ситуациях или открытых системах. Смысл такого обучения определяется диссонансом между различными контекстами. Оно приводит к критическому рассмотрению традиционных предположений, которые скрываются за привычным стилем мышления и действиями, в результате чего происходят необходимые изменения. Ценности такого обучения не постоянны, а довольно изменчивы. Инновационное обучение развивает наш мыслительный процесс, воссоздавая целостное представление о реальности, а не ее отдельные фрагменты.
По этому отрывку можно точно понять, что собой представляет все исследование. Похвальный в своих стремлениях и необычный по форме доклад Римского клуба говорит о способности, которая, несомненно, очень пригодится для развития как отдельного человека, так и общества в целом. Но недостаток этой работы заключается в том, что в ней нет конкретных предложений по осуществлению такого типа бучения, а также не учитываются возможные биологические и культурные условия для реализации этого проекта, например разумный, неэгоистичный и прогрессивный подход к решению проблем. Доклад остается всего лишь общими фразами.
Совсем не такой осмотрительной точки зрения придерживается Луис Альберто Мачадо, венесуэльский политик, первый (и пока единственный) министр в мире, ратующий за Программу развития интеллекта человека. Суммируя работы мировых философов и результаты исследований в разных отраслях науки, министр Мачадо приходит к выводу, что у каждого человека есть потенциал для того, чтобы развить свои способности. Вот некоторые из его высказываний.
Во всех нас заложен одинаковый потенциал, который в течение жизни реализуется различными способами в соответствии с особенностями каждого человека.
Человеку предоставляется неограниченное число возможностей, материализовать которые можно в ходе обучения.
Эйнштейн развил свой интеллект так же, как другие люди учатся играть «на слух»; следовательно, развитием интеллекта должно заниматься правительство.
Развитие интеллекта человека позволяет ему разумно управлять биологической эволюцией своего собственного вида и исключать из этого процесса все случайности.
Свободный интеллект каждого человека — это образ и подобие Божественного интеллекта.
На основе оптимистичного предположения О том, что каждый человек может стать гением (по выражению Мачадо), он со своими коллегами выступил с амбициозной программой повышения интеллектуального уровня всего населения Венесуэлы.
Мы [венесуэльцы] полностью изменим нашу систему образования. Мы будем обучать людей тому, как ежедневно совершенствовать свой интеллект, от детского сада до колледжа, мы будем учить родителей, особенно матерей, как обучать своих детей с момента рождения и даже еще раньше, как развивать их способности. Таким образом, мы создадим для нашего народа и для всех людей на Земле настоящее новое будущее.
При помощи ученых со всего мира (но в основном с Запада) Проект Мачадо теперь включает в себя 14 отдельных программ, которые зародились в разных местах, а сейчас применяются в контексте Венесуэлы, от яслей и начальной школы до трудовой деятельности и службы в армии.
Грандиозность Проекта Мачадо может видеть каждый, поэтому он, вероятно, является слишком легкой целью для критических нападок международных обозревателей. Можно легко делать выстрелы наугад, стремясь доказать, что это амбициозное и, возможно, в чем-то ошибочное мероприятие не сможет принести ожидаемых плодов. Ведь как бы там ни было, мы действительно очень мало знаем, что такое интеллект (или виды интеллекта), как эти способности можно лучше развивать и как в чужой обстановке внедрять навыки, появившиеся в другой культурной и исторической среде. Но ту же критику можно легко направить в адрес других грандиозных программ современности, например тех, что проводятся Институтом реализации человеческого потенциала в Филадельфии. Работники этой необычной организации заявляют, что могут обучить лишь начинающих ходить детей, даже пострадавших в результате мозговой травмы, всем «школьным навыкам», и в своих публикациях беспечно утверждают, что «наш генетический потенциал равен потенциалу Леонардо да Винчи, Шекспира, Моцарта, Микеланджело, Эдисона и Эйнштейна». К сожалению, насколько я знаю, эта организация пока не предоставила общественности доказательств успешности своих проектов.
Но, скорее всего, подобного рода работа может лишь доставить минутное удовольствие профану, но не принесет пользы специалистам, честно заинтересованным в совершенствовании навыков и знаний людей. Задача прагматически настроенного ученого состоит в том, чтобы предложить лучший набор инструментов и посоветовать, как с их помощью добиться положительных результатов, а не вызвать новый прилив неоправданных надежд. В последующих разделах я постараюсь внести свой скромный вклад в этом направлении.
ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ
Введение
Размышления об интеллекте человека необходимо начинать с того, что собой представляет человек как отдельный вид, а также выделить сферы, в которых его представители при наличии необходимых ресурсов и своевременной поддержки могут добиться больших успехов. С такой точки зрения, лозунги о том, что «нет пределов обучению», не приносят никакой пользы: не только будет ошибкой полагать, что человек может все, но, кроме того, отсутствуют и критерии, что можно попытаться сделать, а что не стоит. Мои семь «основных» видов интеллекта — это попытка очертить семь интеллектуальных сфер, в которых большинство людей обладают потенциалом для значительных достижений, а также предположить, из каких главных этапов состоит этот процесс для одаренных людей и людей, которые в целом относятся к обычным, но обладают явной склонностью к определенному занятию.
Однако мы видели, что, за исключением нескольких необычных случаев, эти интеллектуальные способности никогда не развиваются в вакууме. Они активизируются с помощью символической деятельности культуры, в которой имеют практическое значение и явные последствия. Например, врожденная способность издавать определенные (лингвистические) звуки особым способом используется в общении людей в виде речи, а во многих культурах и в виде письма. Наконец, такие способности, достигшие высокого уровня развития, занимают центральное место в некоторых социальных ролях, от адвоката или поэта в современной западной цивилизации до рассказчика, шамана или вождя традиционного общества.
Прежде чем необработанный интеллектуальный потенциал, будь то лингвистический, музыкальный или логико-математический, реализуется в виде зрелой культурной способности, требуется длительный процесс обучения. Частично в него вплетены «естественные» процессы развития, при которых определенная способность в ходе совершенствования проходит ряд предсказуемых стадий. Я обозначил некоторые веховые моменты, которые наблюдаются в сфере речи и могут рассказать о похожих «потоко-образных» процессах в других интеллектуальных сферах. Но когда дело доходит до передачи специальных умений и знаний, начинается более сложный и не столь «естественный» процесс. В предыдущей главе я сделал первые попытки проанализировать такую передачу, определив тип передаваемых знаний, агентов передачи, средств и места ее осуществления. Как мне кажется, подобный анализ следует проводить каждый раз, когда политический деятель советует внедрять новшества в систему образования.
С помощью этого анализа становится понятно, что интеллектуальные способности человека можно активизировать разными способами. Как я уже говорил, лингвистические способности могут стать методом, для которого потребуются и некоторые нелингвистические навыки: речь часто используется как средство обучения человека некоторым телесным (например, танец) или математическим (доказательство теоремы) процессам. Сама речь тоже может стать объектом исследования, когда человек изучает родной или иностранный язык, а возможно, совершенствуется в сфере, в которой язык играет первоочередную роль, например истории или политологии. Наконец, важны и факторы, сопутствующие развитию лингвистического интеллекта. Если, например, в первые десять лет жизни человек проявляет явные речевые способности, а на втором десятке эти склонности исчезают, или когда маленькие дети особенно легко изучают новый материал с помощью ассоциаций, то такие факты тоже обязательно нужно учитывать, говоря о передаче знаний.
Надеюсь, из этого беглого обзора видно, что принятие такого предположения, как теория множественного интеллекта, позволит точнее проводить анализ того, как можно расценивать определенные образовательные цели и достигать их. Следует еще раз отметить, что даже если с когнитивными механизмами человека все в порядке, то образование не всегда даст видимый результат. Большинство современных психологов разделяют мнение, что человек стремится учиться, но в действительности оказывается, что такие факторы, как подобающая мотивация, связанные с учебой эмоции, ряд ценностей, способствующих определенному виду обучения, и культурный контекст, неотделимы от образовательного процесса (хотя не всегда привлекают к себе должное внимание). В ходе одного из венесуэльских исследований было выяснено, что подобающая мотивация к учебе может оказаться решающим условием успеха образовательной программы (и ученика). В идеале анализ экспериментов в сфере образования должен учитывать такие факторы, как мотивация, личность и ценности. Поэтому тот факт, что моя теория базируется в основном на «исключительно когнитивных элементах», нужно рассматривать как один из ее недостатков.
Метод развития дарования по системе Сузуки
Возвращаясь к примеру, приведенному в начале этой главы, желательно объяснить успех музыкальной программы Сузуки через призму нашей схемы человеческого интеллекта. Но прежде важно подробнее рассказать об этом необычном и очень эффективном эксперименте. Для этого я воспользуюсь своими наблюдениями в Мацумото, личным опытом родителя, ребенок которого занимался по Программе развития дарования Сузуки, а также ценными исследованиями этого метода, которое проводил Луис Таниучи из Гарвардского университета.
Программа развития дарования, созданная перед Второй мировой войной японским скрипачом Шиничи Сузуки и представляющая собой тщательно разработанный метод музыкального образования, начинается буквально с рождения. Ее цель — совершенствование исполнительских навыков у маленьких детей. Ключевым фактором для успеха программы остается мама ребенка, которая практически с самого начала является ее центром и постоянно подталкивает ребенка к дальнейшему прогрессу.
При традиционном варианте программы, который достиг совершенства в Японии, а в последнее время начал применяться и в других странах, ребенок в течение первого года жизни ежедневно слушает записи великих исполнителей. К году он начинает регулярно слушать 20 коротких мелодий, из которых будет состоять его программа, когда начнется настоящее изучение инструмента.
За полгода до начала занятий, в возрасте около двух лет, ребенок начинает ходить на уроки в группе. Эти занятия, длящиеся около полутора часов, объединяют детей разного возраста и уровня подготовки, при этом в группе находятся дети с двух- или трехлетней разницей в возрасте. На уроки приходят матери, которые вместе с детьми и учителями участвуют в играх и упражнениях. Уроки состоят из общих упражнений, которые выполняют все дети и которые должны принести им пользу, а также коротких выступлений каждого ученика, исполняющего пьесу, над которой он в данный момент работает. Будущий ученик внимательно слушает и участвует по мере своих сил. На таких уроках у него появляется возможность увидеть, что он сам будет делать, когда тоже приступит к занятиям. Акцент делается на прогрессе каждого ребенка из недели в неделю, а не на конкуренции с другими детьми.
Вернувшись домой, родители всячески поощряют интерес своего ребенка к музыкальному инструменту. Мама получает небольшую детскую скрипку, на которой ее ребенок однажды начнет играть, и каждый день исполняет на ней что-то сама. (Если она не умеет играть на скрипке, то берет такие же уроки, которые вскоре предстоят и ее ребенку.) Малыш со все возрастающим любопытством наблюдает за ней, и наконец в один прекрасный день мама позволяет ему прикоснуться к инструменту. Это волнующее событие. Вскоре после этого, когда мама и учитель решили, что интерес ребенка достиг максимума, малыша приглашают присоединиться к группе и проводят с ним индивидуальные занятия по игре на его собственном инструменте. Пройден еще один важный этап. Затем мама и ребенок возвращаются домой и усердно готовятся к следующему уроку, чтобы поразить учителя тем, какого прогресса малыш добился за неделю. В течение нескольких следующих месяцев их совместная работа продолжается: постепенно мама отказывается от роли активного ученика и скрипача, и все внимание сосредотачивается исключительно на ребенке.
В последующие годы ребенок прилежно следует программе, которую, приложив огромные усилия, разработал Сузуки со своими коллегами. Агенты, место и средства передачи знания — все это предусмотрено. Каждый шаг программы тщательно продуман, с тем чтобы она развивала ребенка, а не приводила его в отчаяние и не вызывала значительных трудностей. Исполнение постоянно корректируется с помощью записей, а также на примере мамы и учителя. Ребенок переходит к новому уроку или произведению только после того, как досконально выучит предыдущее, кроме того, он всегда возвращается к старым пьесам, чтобы убедиться, что модели и уроки не забылись. Большой акцент делается на повторении и практике, и ребенок стремится точно воспроизводить звуки, услышанные на записях. Это способствует впечатляющему совместному выступлению, хотя и не позволяет осуществлять интересные вариации. (Возможно, этим объясняется, почему юный скрипач, которого я видел, не был готов к критике со стороны музыканта, не обучавшегося по системе Сузуки.) Главная цель программы — добиться приятного звучания, и детей часто просят сыграть произведение как можно красивее. На уроках Центра Сузуки для лучших учеников одно из самых сложных заданий — абсолютное владение мелодией. Как и в практике дзэн-буддизма, ученик должен повторять пьесу до тысячи раз в неделю, чтобы понять, что значит ее идеальное исполнение.
В течение следующих нескольких лет ребенок продолжает ежедневные уроки наряду с индивидуальными и групповыми занятиями каждую неделю. Естественно, у разных детей прогресс идёт с разной скоростью, но даже самые отстающие играют на скрипке так, что западным зрителям остается только поражаться. Один из 30 учеников, начавших обучение в два или три года, в шесть лет сможет сыграть концерт Вивальди, а Моцарта — к девяти или десяти годам. Того же уровня добьется и средний ученик, лишь несколькими годами позже. Разительным отличием от западной традиции является тот факт, что этих детей не нужно кнутом или пряником заставлять упражняться, более того, сам ребенок просит выделить ему время для занятий. (Если он не хочет упражняться, винят в этом маму, поэтому именно ей советуют, как восстановить правильную мотивацию и поощрять инициативу ребенка.)
Следует подчеркнуть, что идеальное исполнение, которое стороннему наблюдателю может показаться самоцелью, не было главной задачей Сузуки. Скорее, он был заинтересован в формировании человека с сильным, положительным и привлекательным характером, поэтому рассматривал превосходное музыкальное исполнение просто как средство достичь этого — средство, которое можно применять к любым интенсивным занятиям искусством. По этой причине не столь важно, что многие ученики программы Сузуки забрасывают скрипку, став взрослыми. Однако стоит отметить, что около 5% учеников Сузуки становятся профессиональными музыкантами, и их количество увеличивается в крупнейших консерваториях Запада.
Критика метода Сузуки
Что можно сказать об этом удивительном эксперименте в свете теории интеллектуальных способностей? Конечно, ключевым, с такой точки зрения, будет тот факт, что Сузуки сосредоточился на одном виде интеллекта — музыкальном — и помог людям с предположительно большим врожденным талантом быстро добиться значительных успехов в этой сфере. Не будет преувеличением сказать, что благодаря оригинальной программе Сузуки тот талант, который Дэвид Фельдман обнаружил у вундеркиндов, стал доступен для намного большего круга людей. Успех данной программы неразрывно связан, как мне кажется, с интуитивным пониманием естественных этапов музыкального развития маленького ребенка и того способа, с помощью которого можно наиболее эффективно преодолеть эти ступени (а именно — исполняя постоянно усложняющиеся произведения).
И все же успех этого метода зависит не только от четкого представления о том, как могут развиваться музыкальные способности. Мне кажется, Сузуки провел чрезвычайно точный анализ всех факторов — от агентов передачи до вида интеллекта, — имеющих отношение к совершенствованию этих навыков. Сначала он понял, насколько важна повышенная сензитивность первых лет жизни: хотя формальное обучение начинается в три года, уже с начала жизни были заложены основы для дальнейшей работы с помощью постепенного знакомства с материалом, который нужно будет изучить. Музыкальные пьесы «витают в воздухе» так же, как и родной язык ребенка.
Учитывая, что в развитии музыкальных способностей имеет место сензитивный период, а мозг маленького ребенка особенно пластичен для такого рода обучения, Сузуки, несомненно, воспользовался важными нейробиологическими факторами. Во-вторых, и, наверное, это самое важное, он превосходно задействовал отношения между матерью и ребенком, сделав их главным элементом для повышения мотивации и стремления научиться играть на скрипке. Благодаря отличному владению межличностными знаниями — знание матери о своем ребенке и знание ребенка о матери, — а также пониманию прочных эмоциональных связей, характерных для этих отношений, Сузуки удалось вызвать активное желание как матери, так и малыша овладеть музыкальным инструментом. Скрипка становится основным средством сохранения близких отношений между ребенком и родителями. Не следует недооценивать и роль других детей: тот факт, что значительная часть обучения и исполнения по методу Сузуки происходит «в контексте» учебы, в которой принимают участие много других детей, основывается на привычке маленьких детей подражать поведению ровесников, которые оказываются рядом. Если свести сложный метод Сузуки к одной формуле, то она будет выражаться в виде прочных межличностных знаний, которые используются как средство овладения сложными музыкальными навыками, при значительной поддержке со стороны культуры. Не случайно эта программа, целиком построенная на работе матери со своим ребенком и использующая поддержку окружающих, возникла именно в Японии.
Но у каждой системы есть свои недостатки, поэтому стоит вспомнить и о сомнительных аспектах метода Сузуки. Он во многом построен на обучении на слух, хотя, возможно, это самое разумное решение, если учесть возраст детей. Нужно потратить много времени, чтобы научить дошкольников разбираться в нотных записях, и очень часто настойчивое ознакомление с партитурой вызывает отвращение к занятиям даже у самых одаренных в музыке детей. С другой стороны, поскольку в программе Сузуки чтение нот не считается особенно важным, дети часто не умеют играть с листа. Активное изучение нотных записей в шесть или семь лет можно было бы считать правильным решением, если бы к этому времени привычка к восприятию на слух уже не укоренилась столь прочно. Та самая пластичность, которая позволила так быстро учиться вначале, теперь сменилась ригидным и не поддающимся изменениям стилем исполнения.
Еще одно важное возражение против метода Сузуки касается ограниченности музыкальных навыков и знаний, которые можно развить с его помощью. С одной стороны, исполняется исключительно западная музыка от периода барокко до романтизма, а это лишь часть музыки Запада, и уж тем более малая толика всего мирового репертуара. И поскольку дети ограничены этими строгими рамками в самые важные сензитивные годы своего музыкального образования, программа Сузуки может развить крайне ограниченный вкус.
Значительная часть метода направлена на рабское и бездумное подражание определенному исполнению пьесы, например, записи классической сонаты в исполнении Фрица Крайслера. Скорее всего, дети придут к выводу, что существует всего один способ правильно интерпретировать произведение, и не осознают, что может быть множество интерпретаций. Что еще хуже, детям кажется, что важная составляющая музыки — продублировать услышанный звук и постараться никоим образом его не изменить. Неудивительно, что очень немногие, если такие вообще бывают, дети, прошедшие обучение по методу Сузуки, стремятся попробовать себя в качестве композиторов. Само представление, что это можно сыграть иначе, что пьесу можно пересочинить, подавляется при таком крайне подражательном обучении. В данном случае единственно возможный способ передачи знаний может нанести большой вред.
Наконец, при такой учебе возможен вред и для личности. С точки зрения ребенка, он еженедельно посвящает много часов достижению единственной цели и развитию одного вида интеллекта — за счет подавления других его видов. Что еще очевиднее, при таком режиме огромные требования предъявляются к маме: предполагается, что она полностью посвятит себя развитию в своем ребенке определенных способностей. Если это ей удастся, ребенок, скорее всего, насладится овациями, если же она проиграет, то вся вина ляжет на нее. (Одна мама как-то пожаловалась Сузуки, что на обучение ребенка уходит слишком много времени, на что музыкант сразу же ответил: «Тогда зачем вы его рожали?») И последнее: неважно, добьется ли ребенок совершенства в сфере музыки, но в конце концов он обязательно покинет дом, а личные умения и качества мамы, вероятно, не получат должного признания, и результат этого будет весьма плачевен (по крайней мере, в глазах представителя западной культуры).
Эти недостатки, возможно, незначительны по сравнению с удовольствием от мастерской игры, которое получают многие люди благодаря методу Сузуки (в том числе и мамы!). Тем не менее стоит задуматься, какие изменения могут снизить эти недочеты, сохранив ключевые моменты метода. Согласно моему анализу нет причин, почему дети не могут расширять свой репертуар, и у них очень мало оснований не совершенствовать свои навыки чтения нотных записей. Несомненно, в распоряжение ребенка можно предоставить больше средств. Больше проблем связано с несоответствием между идеальным воспроизведением модели другого человека и исполнением вариаций собственного музыкального произведения. Переход от мастерского исполнения к сочинению оригинальной музыки совершить очень сложно в любой ситуации, и мне кажется, что метод Сузуки делает его практически невозможным. Что касается вреда личностным знаниям, то он тоже присутствует. В обществах, где матери не настолько поглощены жизнью своих детей, метод Сузуки не столь успешен и часто напоминает «стандартное» музыкальное образование.
Внимание метода Сузуки к музыке, вероятно, оправдано, поскольку в этой сфере человек может многого добиться, даже не обладая большими знаниями о мире. Но, как я уже говорил, выбор музыкальной сферы не окончателен. По словам самого Сузуки, другие виды искусства, от флористики до живописи, тоже могут развивать те же черты характера, особенно если этой деятельностью заниматься с таким же упорством, энергией и преданностью. В Мацумото существует детский сад и подготовительная школа, где с явным успехом используется более обширный материал. И в современной Японии считается, что потенциал дошкольников совершенствоваться в разных областях (в том числе чтении, математике и письме) чрезвычайно высок (даже по сравнению с представителями среднего класса в США, которые традиционно уделяют детям большое внимание). Основатель компании SONY Масуру Ибука даже написал книгу Kindergarten Is Too Late! («Детский сад — это уже поздно!»), ставшую бестселлером, где высказывается общее убеждение японцев в том, что главный период жизни — это первые пять лет.
Японская система: «за» и «против»
У успеха множество творцов, и феноменальный успех Японии после Второй мировой войны, безусловно, породил массу кандидатов на звание «первопричины». Похоже, никто не сомневается, что японцы умеют учиться на примерах других стран, после чего развивают лучшие качества в себе. Кроме того, они почитают дисциплину, образование и техническую грамотность, причем каждая из этих сфер активно развивалась в последние 30 лет. И действительно, этот успех коснулся практически каждой отрасли: японские подростки сейчас значительно выше и имеют намного больший уровень IQ, чем их ровесники 30 лет назад. Это самое убедительное доказательство (если такие доводы вообще нужны), что внимание к питанию и образованию в первые годы жизни может оказать решающее влияние на будущее развитие. Но одного подражания явно недостаточно, поскольку желание копировать Запад наблюдалось во многих развивающихся странах, которым так и не удалось сравниться с успехами Японии. Похоже, здесь способность учиться у других культур сопутствует умению поддерживать то нужное и своеобразное, чем так богата японская традиция.
Согласно моему анализу, а также исследованиям моих коллег по Проекту человеческого потенциала, японцы успешно уравновешивают чувство принадлежности к группе и солидарность, с одной стороны, и индивидуальное развитие навыков и умений — с другой. По-видимому, здесь используются оба личностных интеллекта. Подобный баланс проявляется в достижениях на самых разных уровнях. Например, в начальных классах школы дети должны изучить арифметику. В большинстве стран мира основы арифметики подаются преимущественно в виде механического заучивания, при этом мало внимания уделяется базовым понятиям, которые могут запутать не только детей, но и учителей. В Японии же, о чем свидетельствуют в своих отчетах Джек и Элизабет Изли, весь класс рассматривает сложную задачу после чего все дети могут вместе пытаться решить ее в течение нескольких дней. Детей побуждают общаться и помогать друг другу, кроме того, им разрешают делать ошибки. Иногда старшие ученики приходят в класс к младшим и помогают им. Таким образом потенциально напряженная ситуация упрощается благодаря общей попытке детей разобраться. Стремление к сотрудничеству поощряется, при этом у детей возникает чувство, что не обязательно выдавать ответ сразу же, главное — не забрасывать проблему. Напротив, в нашем обществе, где конкуренция выражена намного ярче, считается постыдным не знать ответ к концу урока. Ни учитель, ни ученик не могут справиться с такой ситуацией, поэтому утрачивается шанс узнать что-то новое.
Даже в крупных японских корпорациях наблюдается подобное явление. Конечно, огромные усилия затрачиваются на конкуренцию с другими странами, в чем Япония преуспела, а также на предугадывание новых направлений рынка, где она тоже продемонстрировала умение опережать своих основных конкурентов. Более того, внутри самой компании принято, что разные люди вносят свой вклад в формулирование и решение проблемы. Человек прочно связан со своей фирмой, в которой он, как правило, работает всю жизнь, и не ощущает явного соперничества с коллегами. Точно так же никто не ожидает, что один человек, а особенно молодой сотрудник, будет обладать всеми необходимыми навыками. Более того, такой скороспелый эрудит будет восприниматься как нечто неправильное и анахроничное. Значит, можно даже сказать, что в японской корпорации интуитивно поняли, что существует уникальный профиль человеческого интеллекта, и люди с разными профилями могут внести свой заметный вклад в успех фирмы.
Как и в случае с Программой развития дарования Сузуки, японская корпоративная система имеет свои недостатки, и когда успех повторяется все чаще, эти недочеты проявляются все ярче. Возможность работать в корпорации базируется на успехе в учебе, а этот успех в свою очередь непосредственно связан с особенностями японской системы воспитания и образования. Первая предпосылка к успеху ребенка, по всеобщему убеждению, заложена в связи ребенка (особенно мальчика) с матерью. Хотя прочные отношения могут помочь рано чего-то добиться, они способны оказать и отрицательное воздействие, когда ребенок считает себя втянутым в эту сделку обманным путем: если добиться успеха не получится, может наблюдаться отчаяние, напряжение и даже открытая агрессия по отношению к матери. В частных школах пытаются поддерживать в учениках дружественные отношения и дух сотрудничества, но при подобном всеобщем оптимизме не учитывается реальное положение дел, т. е. то, что в университете намного меньше мест, чем желающих их получить. Следовательно, возникают альтернативные школы, или «джуку», где ученики готовятся к сдаче вступительных экзаменов. Судя по всем исследованиям, в атмосфере джуку конкуренция выражена намного острее. Более того, часто молодые люди, которые проваливаются на экзаменах, страдают выраженными психическими расстройствами (а иногда даже совершают самоубийство). Наконец, сейчас считается, что умение японцев впитывать подходящие модели из других культур имеет свои пределы, когда чужой пример оказывается не совсем полезным и японцам приходится больше полагаться на собственную находчивость. Многие японские исследователи винят эту межличностно ориентированную культуру в подавлении оригинальных ученых и со все возрастающей печалью отмечают, что наибольшей оригинальностью прославились те японские ученые (и художники) , которые переехали на Запад.
ДРУГИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Я так подробно остановился на примере Японии, потому что в современном мире он особенно поражает, а также потому, что, на мой взгляд, изложенную здесь аналитическую схему необходимо применить в первую очередь к успешным экспериментам в области образования. Однако обязательно нужно отметить, что успех японцев, например, в случае с Программой развития дарования, не просто говорит о профессиональной подготовке. Если бы это было так, то программа Сузуки давала бы такие же высокие результаты в любой другой стране (а также в любой отрасли знаний), чего определенно не наблюдается. Нет, ключ к успеху метода Сузуки в Японии лежит в явном соответствии между способностями и стремлениями той части населения, для которой программа предназначена (для маленьких детей), и особенными ценностями, возможностями и общественными институтами, которые их окружают по мере взросления. Подобные программы можно с успехом использовать только при условии, что в другой стране существует похожая система для ее поддержки, или если в ней можно произвести необходимые изменения, чтобы образовательная программа соответствовала главным интересам, методам и особенностям интеллектуальной направленности данной страны.
И в этом могут содержаться некоторые подсказки к тому, как сделать эффективными и другие нововведения в сфере образования. Например, в случае с преподаванием основ грамотности два последних успешных примера свидетельствуют о правильном использовании сложившихся обстоятельств. Первый случай — это попытка Паоло Фрейре научить неграмотного бразильского крестьянина читать. Фрейре разработал метод, при котором человек узнает ключевые слова, очень важные для него и содержащие фонетические и морфологические признаки, необходимые для изучения новых слов в будущем. Именно на этом и построено обычное обучение грамоте. Но программа Фрейре осуществляется в рамках более широкой социальной программы, которая имеет большое значение для учеников и поэтому помогает им в их героических усилиях. Вот в этом контекст обучения совершенно оригинален. Абсолютно другой, но тоже чрезвычайно успешный подход к обучению чтению воплощается в телепрограммах «Улица Сезам» и Electric Company, благодаря которым основами чтения овладело целое поколение американских детей. И снова технология построена на уже опробованных методах, однако с помощью нового формата и темпа, подходящего под требования телевидения, этим программам удавалось удерживать внимание зрителей. Как в бразильском, так и в американском случае были предприняты попытки приобщить к программам обучения чтению очень разные слои населения. Лично мне кажется, что такие попытки будут эффективными, пока специфические условия, существующие в стране, откуда происходит метод, сохраняются или воссоздаются в новой обстановке. Другими словами, анализ с учетом интеллектуальных навыков, которые необходимо развивать, а также тех, что уже существуют в данной культуре, должен предшествовать внедрению новой образовательной методики.
Увы, в современном мире очень велико число провалившихся экспериментов в сфере образования. Стоит лишь вспомнить о попытке изменить систему образования в Иране на западный манер, которая осуществлялась в течение последних 30 лет, или о различных технических новинках в Китайской Народной Республике. В каждом из этих случаев цель заключалась в том, чтобы навязать западный стиль образования (построенный на научном мышлении) обществу, где еще недавно предпочтение отдавалось традиционным школам, подобным тем, о которых мы говорили в предыдущей главе. В результате возникло огромное напряжение, когда школам, упор в которых делался на обучении одному виду грамотности, пришлось внедрять «открытое мышление», давать ученикам возможность взвешивать противоборствующие теории и выдвигать на передний план логико-математическое рассуждение. Связанное с этим ослабление социальных связей, огромные перемены в области использования речи и необходимость применять в разных сферах логико-математическое мышление оказались слишком большой нагрузкой в данном культурном контексте со своими сложившимися традициями.
Неудивительно, что и в Иране, и в Китае возникло яростное сопротивление таким переменам. Культурная революция в Китае и исламское возрождение в Иране сопровождались упорным противостоянием всему западному, современному и связанному с новыми технологиями. Естественно, что при отсутствии связей с прошлым нововведения в образовании не смогут закрепиться.
ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Общие положения
При таком обзоре педагогических экспериментов независимо от степени их успешности необходимо тщательно проанализировать процессы в системе образования в том виде, в каком они традиционно существовали в данной культуре, а также продумать, каким образом можно задействовать эти процессы для удовлетворения новых потребностей в нашем изменчивом мире. Мне как новичку в вопросах политики не совсем удобно рекомендовать определенный план действий в чрезвычайно сложных и нестабильных ситуациях. Тем не менее, в заключение стоит упомянуть некоторые моменты, о которых политики могут вспомнить, пытаясь принимать решения относительно системы образования — а значит, в некотором смысле относительно будущего человечества — в той стране, за которую они отвечают.
Как и любой обзор, правильно будет начать с определения целей либо отдельного нововведения, либо всей системы образования в целом. Чем точнее удастся определить эти цели, тем меньше будет обобщений и пустых фраз. Например, предложения типа «обучать людей для реализации их потенциала» или «быть образованным гражданином» ничем не помогут, а вот «приобретение уровня грамотности, достаточного для того, чтобы читать газеты или обсуждать текущие политические вопросы» — это гораздо точнее. Для таких четко определенных целей можно проанализировать имеющиеся интеллектуальные навыки и разработать способ достижения успеха (или же определить степень эффективности). В случае же со слишком грандиозными целями невозможно предложить ничего конкретного. Определение четких задач помогает к тому же выявить потенциальные конфликты и противоречия: например, цель приобрести определенный уровень грамотности, навыки научного мышления или умение обсуждать политические вопросы может явно противоречить цели сохранить традиционные религиозные ценности, политические пристрастия или восприятие населения как однородной массы. Хотя подобные конфликты довольно опасны, лучше столкнуться с ними открыто, нежели игнорировать, отрицать или погребать их под риторическим мусором.
После выяснения целей на следующем этапе необходимо трезво оценить доступные в настоящий момент средства их достижения. В некоторых случаях стоит сосредоточить внимание на имеющихся в наличии традиционных методах: обучение через наблюдение, неформальное взаимодействие, система ученичества, преимущественно используемые средства, виды школ, учебный план (как явный, так и скрытый) , существующий на данный момент. Следует также взглянуть на проблему несколько шире и понять, какие агенты, места и способы передачи ценностей, ролей и методов сохранялись в течение столетий.
Для каждой отдельно взятой цели, предположительно, выделяется свой набор интеллектов, который можно легко мобилизовать для ее реализации, а также группа интеллектов, активизировать которые будет сложнее. Более того, в разных культурах, похоже, имеются характерные комбинации интеллектов, которым многие годы отдается предпочтение. Определить точные компоненты таких соединений не просто, но можно выявить конфигурации, игравшие заметную роль в разных культурных контекстах. Например, можно ожидать, что в традиционном сельскохозяйственном обществе межличностный, телесно-кинестетический и лингвистический интеллект будут иметь наибольшее значение в системе неформального образования, которое в основном осуществляется «в контексте» и для которого характерны наблюдение и подражание. В обществе, находящемся на первых ступенях индустриализации, можно предположить наличие традиционных форм школьного обучения, основанных на механическом лингвистическом запоминании, но при этом намечается и использование логикоматематического интеллекта. В высокоразвитых индустриальных и постиндустриальных обществах можно предсказать акцент на лингвистическом, логико-математическом и внутриличностном интеллектах: вполне вероятно, что современные светские школы будут все больше склоняться к индивидуальному обучению на компьютере. Переход от любой из этих форм к «следующей», несомненно, потребует затрат, и попытка перейти от сельскохозяйственного непосредственно к постиндустриальному способу передачи знаний (как это было в уже упоминавшемся случае с Ираном) обязательно вызовет острые проблемы.
В обществе с ограниченными ресурсами может на первый взгляд показаться, что необходимо перейти сразу от определения целей и способов к выявлению оптимального варианта работы со всем населением в целом. Однако основное положение данного исследования гласит: люди отличаются по своему когнитивному потенциалу и интеллектуальному стилю, поэтому образование будет эффективнее, если его адаптировать к способностям и интересам конкретного человека. И действительно, вред, нанесенный стремлением считать всех людей одинаковыми или пытаться передавать им знания способом, который не подходит к их традициям в обучении, может оказаться очень серьезным: в идеальном варианте рекомендуется разработать методы диагностики интеллектуального профиля человека.
Пока не существует технологии, созданной специально для диагностики интеллектуального профиля человека. Я не уверен, стоит ли пытаться составить такую специфическую программу тестирования, особенно если учесть, насколько подобные тесты поддаются стандартизации и коммерциализации. Но из моего анализа видно, что одни способы оценки интеллектуального профиля лучше, чем другие. Теперь я хотел бы обозначить, каким образом при наличии ресурсов (и благих намерений!) можно диагностировать интеллектуальный профиль человека.
Диагностика интеллектуального профиля
Прежде всего, интеллект нельзя диагностировать одинаково в разном возрасте. Методы, которые применяются при тестировании младенца или дошкольника, необходимо соответствующим образом изменить с учетом типичных для этого возраста форм знания. При этом такой тест будет во многом отличаться от методов, используемых по отношению к другим людям. Я убежден, что интеллектуальный потенциал человека можно диагностировать в очень раннем возрасте, возможно, даже в младенчестве. В это время сильные и слабые стороны интеллекта проявляются наиболее отчетливо, если человеку предоставить возможность научиться узнавать определенные модели и проверять его способность запомнить их спустя некоторое время. Например, человек с развитыми пространственными способностями должен очень быстро запоминать базовые модели, узнавать их, видеть сходство, если изменить их расположение в пространстве, а также при последующих исследованиях через несколько дней замечать легкие отклонения от их первоначального вида. Подобным образом можно диагностировать способность узнавать некоторые паттерны и в других сферах (например, речь или числа), а также умение заучивать последовательности движений, повторять и трансформировать их подходящим способом. Лично мне кажется, что человек, наделенный развитыми интеллектуальными способностями, не только быстро запоминает все эти модели, но и более того — делает это так легко, что уже не может их забыть. Простые мелодии продолжают звучать в голове, там же крутятся предложения, пространственные или жестовые конфигурации легко выходят на первый план, хотя к ним, возможно, долгое время и не возвращались.
Даже если подобный интеллектуальный профиль можно составить на первом или втором году жизни, я уверен, что в столь раннем возрасте эти результаты могут легко измениться. Более того, именно в этом заключается феномен нервной и функциональной пластичности раннего возраста. Основная причина для такого раннего тестирования — позволить человеку с максимально доступной для него скоростью продвигаться по тем интеллектуальным каналам, к которым он проявляет особый дар, равно как и предоставить ему возможность развить те способности, которые кажутся сравнительно скромными.
В более старшем возрасте (вплоть до школы) необходимо проводить надежную и контекстуально правильную оценку интеллектуального профиля человека. Лучший способ тестирования в данном случае — привлечь ребенка к занятиям, которые ему самому кажутся интересными; позже он сможет совершенствоваться в них (с непосредственной помощью взрослых) и продвигаться по тем ступеням развития, которые характерны для решения данной задачи. Загадки, игры и другие задания, связанные с символической системой, типичной для определенного вида (или нескольких видов) интеллекта, — самый подходящий способ оценки соответствующего типа мышления.
Работа с таким усложняющимся материалом дает идеальную возможность наблюдать за использованием интеллекта на практике и оценить его прогресс за определенный период времени. Если понаблюдать за ребенком, который учится создавать различные конструкции из кубиков, то можно понять, каковы его способности в пространственной и кинестетической сфере. Точно так же умение ребенка рассказывать истории многое говорить о его лингвистическом интеллекте, а способность работать с простым механизмом отразит наличие кинестетических и логико-математических навыков. Благодаря таким занятиям в соответственно созданной обстановке можно выявить «маркеры», т. е. те признаки ранней одаренности, которые легко замечает взрослый, успешно себя проявляющий в данной интеллектуальной сфере. Будущий музыкант может прекрасно чувствовать мелодию, ребенок, одаренный в личностной сфере, — интуитивно догадываться о мотивах окружающих, а будущий ученый способен задавать неожиданные вопросы и пытаться ответить на них подходящим способом.
Обратите внимание, насколько такой подход к диагностике интеллекта отличается от того, что применяется в обычных тестах интеллекта. В рамках стандартизированного теста ребенок встречается со взрослым, который очень быстро задает ему множество вопросов. Предполагается, что ребенок даст единственно возможный ответ (либо, если он немного постарше, напишет его или выберет верный вариант из нескольких предложенных). Основной акцент делается на лингвистических способностях, определенных логико-математических навыках и некоторых социальных умениях, что проявляется в общении со взрослым. Все эти факторы могут помешать, когда делается попытка диагностировать другие виды интеллекта, скажем, музыкальный, телеснокинестетический или пространственный. Если исключить из этой ситуации экзаменатора со всеми его принадлежностями — или, по крайней мере, оттеснить его на задний план, — а также предоставить ребенку элементы и символы, типичные для рассматриваемой интеллектуальной сферы, можно получить более объективную картину настоящих интеллектуальных способностей ребенка и его интеллектуального потенциала.
Развивая идеи, высказанные советским психологом Л. С. Выготским[89], можно создать тест, который подходит для людей, не имеющих достаточного предыдущего опыта работы с данным материалом или символическими элементами. Это позволит понять, как быстро они могут развиться в данной области за определенное время. Подобная цель предъявляет дополнительные требования к экзаменатору, который должен подобрать задания, способные заинтересовать и «кристаллизовать опыт» маленьких и наивных, но, возможно, талантливых детей. В рамках данного исследования интеллектов я выделил несколько моментов, важных для определенных людей в определенных сферах: наблюдение за народными празднествами для будущего танцора; повторение изменяющихся визуальных моделей для юного математика; заучивание длинных и сложных рифм для будущего поэта.
Естественно, особенности таких событий, важных для оценки интеллектуального потенциала, будут отличаться в зависимости от возраста, знаний и культурного происхождения человека. Значит, рассматривая пространственную сферу, от годовалого ребенка можно спрятать предмет, шестилетнему можно предложить составную картинку-загадку, а ребенку среднего школьного возраста дать кубик Рубика. Аналогично в сфере музыки для двухлетнего ребенка можно в чем-то изменить колыбельную, восьмилетнему предоставить компьютер, на котором он может сочинять простые мелодии, а с подростком проанализировать классическую фугу. В любом случае главная идея — найти интересную загадку и позволить ребенку «поломать над ней голову» — будет намного лучшим способом оценить интеллектуальный профиль человека, чем распространенные сейчас по всему миру тесты интеллекта, т. е. стандартизированные задания, которые необходимо выполнить за полчаса с помощью карандаша и бумаги.
Мне кажется, что точное представление об интеллектуальном профиле ребенка — трех- или тринадцатилетнего — можно получить в течение одного месяца, когда он регулярно выполняет определенные задания. Общее время для этого может варьироваться от пяти до десяти часов наблюдений — довольно много, учитывая принятые стандарты тестирования, но слишком мало, если принять во внимание всю жизнь этого ребенка. В подобном профиле необходимо указывать, какими способностями этот человек уже обладает, какие еще могут развиться, а для совершенствования каких имеются определенные препятствия (например, отсутствие музыкального слуха, воображения или неуклюжесть).
Интеллекты и образовательный процесс
Теперь необходимо сделать решительный, но осмотрительный шаг в планировании образовательного процесса. Учитывая, с какой целью человек получает образование, а также его интеллектуальный профиль, нужно принять решение, какого пути придерживаться. Прежде всего, должно быть сформировано общее стратегическое решение: отталкивается ли человек от своих сильных сторон, стремится ли совершенствовать слабые, а может, пытается одновременно двигаться в обоих направлениях? Конечно, такое решение должно соответствовать имеющимся ресурсам и общим целям как для общества, так и непосредственно для индивида.
Наметив развитие больше одной способности, нужно принять и более конкретное решение. В каждом отдельном случае люди, занимающиеся планированием образования, должны определить, какие средства мобилизовать, чтобы помочь этому человеку получить желаемый уровень знаний и навыков или роль в обществе. Если человек обладает большим талантом, может возникнуть необходимость позволить ему работать непосредственно с известным специалистом, что-то наподобие системы ученичества. Кроме того, нужно обеспечить его материалом, который он может исследовать (и в котором будет совершенствоваться) самостоятельно. Если способности человека средние или наблюдаются явные патологии, вероятно, в таком случае нужно разработать специальные вспомогательные средства — механизмы, оборудование или другие источники, с помощью которых он может получать информацию таким образом, чтобы можно было развивать имеющиеся у него интеллектуальные способности и, насколько это возможно, компенсировать интеллектуальные недостатки. Если же человек не подходит ни под один из таких крайних вариантов, тогда для него можно создавать более обширную учебную программу и подбирать ряд навыков, всегда помня об ограниченности ресурсов и разумном использовании времени и ученика, и учителя.
Поразительно мало на сегодняшний момент было сделано специалистами в педагогической психологии для того, чтобы сформулировать общие принципы развития в определенной интеллектуальной сфере. (Возможно, частично это объясняется невниманием к отдельным областям знания в отличие от общего образования, а частично — большим интересом к тому, как освоить один специальный навык.) Из всех исследований в этом направлении самой любопытной я считаю работу советской школы психологии, где начатое Львом Выготским направление продолжили В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и А. К. Маркова. Эти ученые убеждены, что в каждом возрасте дети демонстрируют определенный круг интересов (т. е. ведущую деятельность. — Примеч. ред.). Это значит, что в младенчестве главное занятие — эмоциональный контакт, в два года ребенок поглощен манипуляцией объектами, с трех до семи лет на передний план выходят ролевая игра и другие виды символической деятельности, с семи до одиннадцати характерной чертой является формальное обучение в школе, в юности человек развивает ряд близких отношений личностного характера и нацелен на профессиональную карьеру[90]. В любой образовательной программе необходимо учитывать такие показатели, хотя, конечно, в разных культурах конкретный круг интересов может значительно отличаться.
Работая в рамках таких широких параметров, специалист в сфере образования ищет генетически первичные примеры. Это проблемы или задания, с которыми может справиться новичок, но которые в то же время содержат самые значительные обобщения в пределах данной интеллектуальной сферы. Освоение генетически первичных примеров говорит о том, что человек успешно прошел ряд последовательных этапов в данном направлении развития. Задача педагога — спланировать эти шаги, т. е. барьеры, которые ребенок должен преодолеть по мере успешного овладения данными навыками, пока не перейдет к следующей фазе и к следующему генетически первичному примеру. Соединив предложенный советскими исследователями анализ с подходом, который изложен в данной книге, можно определить оптимальный путь (или несколько путей), подходящий как для обычных детей, так и для тех, кто наделен особым даром или имеет определенные отклонения.
Учитывая большое разнообразие культурных целей и наличие еще большего количества интеллектуальных профилей, задача приспособить метод к интересам каждого отдельного ученика может показаться неподъемной. Однако на самом деле ученики могут учиться и в том случае, если уроки не предназначены специально для них, возможно, потому, что большинство учебных программ слишком многосторонни, или потому, что сами школьники обладают целым рядом интеллектуальных способностей и стратегий, которыми могут воспользоваться. «Система адаптации» должна обеспечить быстрое и легкое освоение необходимых навыков, благодаря чему ученик сможет в дальнейшем свободно продвигаться как по альтернативному, так и по оптимальному пути развития.
Конечно, идея адаптировать предметы и/или метод преподавания к интересам отдельного человека прослеживалась в системе образования еще со времен античности. Поэтому с разочарованием можно заметить, что попытки соотнести значительные достижения с правильно подобранным для данного человека методом обучения до сих пор были безуспешными.
Ученые-педагоги, тем не менее, стремятся найти идеальное сочетание между учеником и изучаемым материалом. На мой взгляд, такое упорство оправдано, ведь как бы там ни было, педагогическая психология как отрасль науки пока еще очень молода, а с приходом более совершенных теорий и более точных способов диагностики практика соотнесения интеллектуального профиля отдельного человека с изучаемым материалом и способом преподавания может дать очень хорошие результаты. Более того, если воспользоваться теорией множественного интеллекта, то шансы найти такое соответствие увеличиваются: как я уже говорил, вполне возможно, что виды интеллекта могут функционировать и как объект изучения, и как средство постичь самый разнообразный материал.
Проведение тщательных исследований — вопрос будущего. Самое большее, что я могу сделать сейчас, — это предположить, к чему следует стремиться. В случае изучения компьютерной программы, например, вероятно, большое значение имеют несколько видов интеллекта. Важнейшим остается логикоматематический, поскольку программирование основывается на применении строгих методов решения проблемы или достижения определенной цели за точно установленное количество шагов. Для написания программы необходимо, чтобы эти шаги были точными, ясными и располагались в строгой логической последовательности. Важную роль играет и лингвистический интеллект, поскольку при составлении инструкций и разработке компьютерного языка используется обычный язык. Представление о программе как об отдельной истории (со множеством сюжетных линий) тоже может помочь будущим программистам, имеющим лингвистические наклонности. Изучить программу помогут и подсказки интуиции в других интеллектуальных сферах. Например, человек с развитым музыкальным даром может лучше всего освоить программу, попытавшись с ее помощью создать простое музыкальное произведение. Человек с сильными пространственными способностями может познакомиться с программой с помощью компьютерной графики, кроме того, при программировании ему могут помочь специальные диаграммы или другие пространственные чертежи. Важную роль могут играть и личностные интеллекты. Планирование шагов и целей при программировании во многом основывается на внутриличностном интеллекте, а сотрудничество с другими людьми, необходимое для выполнения сложной задачи или овладения новыми компьютерными навыками, потребует от человека развитой способности работать в команде. Кинестетический интеллект может пригодиться при работе с компьютером, с его помощью можно упростить навыки и воспользоваться этим типом мышления, когда для реализации программы необходимо задействовать тело (программирование танца или последовательности движений в футболе).
Подобные рассуждения можно применить, анализируя и задачу обучения человека чтению. Работу с людьми, которые изначально сталкиваются с определенными трудностями в этой области, стоит начать с ознакомления с некоторыми символическими системами, например теми, что используются для записи музыки, составления карт или математики. Более того, люди с явно выраженными расстройствами чтения иногда могут прибегать к необычному способу обучения, скажем, запоминать буквы посредством тактильнокинестетического исследования. При совершенствовании навыков чтения может играть роль и тема изучаемого текста: человек, немного разбирающийся в определенной отрасли или стремящийся расширить свои знания, легче заинтересуется чтением, поскольку к этому у него будет сильная мотивация. Во многом не ясно, используются ли при чтении другие виды интеллекта помимо лингвистического. Но учитывая то, что человечество уже изобрело различные системы чтения (например, пиктография), а в будущем этот процесс, вероятно, будет продолжаться (развитие логико-математических систем для работы с компьютером), очевидно, что умение читать зависит не только от лингвистических способностей.
Компьютеры тоже представляют собой возможный способ развития интеллектов в образовательных целях, поскольку их можно использовать для подбора метода обучения, который подойдет для конкретного человека. Если соотнесение интеллектуального профиля ученика с целью обучения может оказаться слишком сложной задачей даже для самого талантливого педагога, с той же информацией легко справится компьютер, который за долю секунды может предложить альтернативную педагогическую программу или направление. Что еще важнее, компьютер может во многом облегчить сам процесс обучения, помогая людям осваивать материал в подходящем для них темпе с помощью самых разнообразных образовательных методик. Но я все же должен отметить, что компьютер не может выполнять некоторые роли межличностного характера и в некоторых интеллектуальных сферах (например, кинестетической) будет не настолько полезен, как в других (скажем, логико-математической). Существует опасность, что электронный компьютер — продукт западного мышления и технологий — будет иметь самое большое значение для развития именно тех интеллектуальных способностей, которые и привели к его созданию. Но остается шанс, что появятся компьютеры — в том числе и роботы, — которые упростят обучение и освоение навыков в самых разных интеллектуальных сферах.
Хотя желательно в подробностях изучить процесс обучения в каждом конкретном случае, важно также, чтобы разработчики образовательных программ не забыли о задачах своей деятельности в целом. В конечном итоге планы образования необходимо согласовать с интересами различных слоев населения, чтобы все вместе они помогли этому обществу достичь поставленных целей. Индивидуальные профили необходимо рассматривать с учетом интересов всего общества, и иногда людей, одаренных в одной сфере, необходимо нацеливать на совершенствование навыков в других областях, потому что в данный момент культура нуждается именно в таких специалистах. Для развития такой синтетической способности, необходимой при принятии подобных решений, тоже требуется особая комбинация интеллектов, если не сказать, отдельный его вид. Важно, чтобы в обществе развивались, а затем и использовались те способности, которые позволят полнее представить себе всю сложную и запутанную картину в целом.
Мне кажется, что высказанные в этой книге идеи можно использовать при разработке некоторых нововведений в сфере образования. Вся система основывалась преимущественно на открытиях в биологии и когнитивных науках, и нужно сначала тщательно изучить ее и опробировать в этих отраслях, прежде чем разрабатывать на основе этих предположений учебник, руководство или инструкцию. Даже хорошие идеи терпели крах из-за преждевременных попыток использовать их на практике, а мы пока еще не уверены в состоятельности теории множественного интеллекта.
После эйфории 1960-х и 1970-х годов, когда разработчики образовательных программ были уверены, что легко смогут спасти мир от всех болезней, мы вдруг с болью осознали, что эти проблемы не позволяют нам правильно понимать реальность и действовать. Теперь мы намного лучше понимаем, какую роль в создании и разрушении наших амбиций и планов играют история, политика и культура, изменяя все лучшие побуждения в самом неожиданном направлении. Кроме того, мы еще лучше осознаем, что отдельные исторические события и технологические достижения могут изменить будущее так, что подобное развитие событий нельзя было себе представить еще десять лет назад. На каждого успешного творца образовательной программы, на каждую телепередачу «Улица Сезам» или метод Сузуки приходятся десятки, а то и тысячи неудачных планов. Их так много, что теперь уже невозможно сказать, чем были успешные примеры — случайным совпадением или работой настоящего гения.
Тем не менее, проблемы и возможности никуда не исчезнут, а одни люди — от воспитателя детского сада до министра образования — будут и дальше нести главную ответственность за развитие других людей. Этим шансом они воспользуются мудро или неразумно, успешно или неэффективно. При этом они должны хотя бы немного представлять, что делают, а также знать о существовании альтернативных методов и их результатов и действовать либо исходя из интуиции, либо полностью основываясь на идеологии. В своей книге я доказывал, что педагоги должны обращать внимание на биологические и психологические склонности человека, а также на конкретные исторические и культурные реалии места его проживания, — но, конечно же, это проще сказать, чем сделать. И все же наши знания о том, что такое человек — как отдельное существо, так и как представитель функциональной культурной единицы, — увеличиваются и, надеюсь, будут накапливаться и в будущем. А поскольку одни люди и дальше будут отвечать за планирование жизни других, то очень важно, чтобы в своих действиях они руководствовались нашим все возрастающим пониманием человеческого разума.
1
Алексия (от греч. a — отрицание, lexis — речь, слово) — форма оптической агнозии, характеризующаяся неспособностью понять смысл читаемого. Различают алексию первичную и вторичную, входящую в структуру таких нейропсихологических синдромов, как афатические. Литеральная алексия характеризуется неразличением отдельных букв; алексия слогов (асиллабия) — невозможностью чтения отдельных слогов; вербальная — нарушением чтения слов. Наблюдается при локализации поражения в коре основания затылочной доли доминантного полушария, в ряде случаев процесс распространяется и на височную долю. Динамика алексического синдрома — от литеральной алексии, когда чтение еще возможно, но происходит с паралексиями и без понимания смысла прочитанного, до агностической алексии, когда буквы теряют свое символическое значение. — Примеч. ред.
2
Аграфия (от греч. a — отрицание, grapho — писать) — нарушение способности писать при очаговых поражениях коры головного мозга. Афатическая аграфия входит в структуру афазического синдрома и в соответствии с формой афазии отличается специфическими чертами. Апрактическая аграфия наблюдается при идеаторной апраксии, конструктивная аграфия — при конструктивной апраксии. Моторная аграфия возникает в связи с параличами и нарушением способности писать. Выделяют также чистую аграфию, возникающую вне связи с другими асемическими синдромами и обусловленную поражением задних отделов второй лобной извилины доминантного полушария. — Примеч. ред.
3
New York: Knopf.
4
Winner, E. (1992) Arts PROPEL Handbooks. Cambridge MA.: Harvard Project Zero.
5
Gardner, H. (2003) Three Distinct Meanings of Intelligence. In R. J. Strernberg, J. Lautrey, & T. Lubart (Eds.) Models for Intelligence for the New Millennium. Washington DC: American Psychological Association, p. 43–54.
6
Доклад, представленный в Американской ассоциации исследователей в сфере образования 21 апреля 2003 года, готовится к публикации в Teachers College Record.
7
Эффект Моцарта — термин, введенный Альфредом А. Томатисом для обозначения процесса умственного развития, происходящего у детей в возрасте до трех лет во время прослушивания музыки В. А. Моцарта. Идея эффекта Моцарта возникла в 1993 году в Университете Калифорнии (город Ирвин) у физика Гордона Шоу и специалиста по когнитивному развитию Фрэнсис Раушер, бывшей виолончелистки. Они исследовали воздействие музыки Моцарта на несколько десятков студентов колледжа, предлагая им прослушать первые десять минут «Сонаты реминор для двух фортепиано». Было обнаружено преходящее улучшение пространственно-временного мышления, как показала шкала умственного развития Стэнфорд-Бине. — Примеч. ред.
8
От лат. recursio — возвращение. — Примеч. ред.
9
Источники всех цитат, результатов исследований и другой фактической информации приведены в разделе «Примечания».
10
Эпифиз — шишковидная, или пинеальная, железа, орган позвоночных животных и человека, расположенный в промежуточном мозге. Вырабатывает биологически активное вещество (мелатонин), которое регулирует (тормозит) развитие половых желез и секрецию ими гормонов, а также образование кортикостероидов корой надпочечников. — Примеч. ред.
11
Здесь Айзенк говорит о Томасе Куне, современном философе, который определяет отрасли науки в зависимости от их основных положений и методологии, т. е. от «парадигмы». — Примеч. ред.
12
Сериация — упорядочение предметов по определенному признаку — весу размеру цвету и т. п. Способность к сериации является одним из показателей периода конкретных операций. — Примеч. ред.
13
Modus operandi — способ действия. — Примеч. ред.
14
Серповидноклеточная анемия — наследственная гемолитическая анемия с характерными серповидными эритроцитами. Проявляется периодическим гемолизом, малокровием, изменениями костей и др. — Примеч. ред.
15
Гемофилия — наследственное заболевание, проявляющееся кровоточивостью. Болеют в основном мужчины, женщины являются носителями мутантного гена и передают гемофилию сыновьям. — Примеч. ред.
16
Дальтонизм (частичная цветовая слепота) — наследственное нарушение цветового зрения у людей, заключающееся в неспособности различать некоторые цвета (в основном красный и зеленый). Объясняется отсутствием в сетчатке глаза колбочек одного или нескольких типов. Значительно чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Впервые описан Дж. Дальтоном. — Примеч. ред.
17
Энзимы (от греч. en — в, внутри; zyme — закваска) — то же, что и ферменты — биологические катализаторы, присутствующие во всех живых клетках. Осуществляют превращения веществ в организме, направляя и регулируя тем самым его обмен веществ. По химической природе — белки. — Примеч. ред.
18
Паттерн (англ. pattern — повторяющийся узор, канва, орнамент) — стойкие и повторяющиеся модели поведения и реагирования. — Примеч. ред.
19
Эктодерма — наружный слой эмбриона, из которого впоследствии образуются кожа, органы чувств и нервная система. — Примеч. ред.
20
Синапс (от греч. synapsis — соединение) — область контакта (связи) нервных клеток (нейронов) друг с другом и с клетками исполнительных органов. Межнейронные синапсы образуются обычно разветвлениями аксона одной нервной клетки и тела, дендритами или аксоном другой; между клетками остается так называемая синаптическая щель, через которую с помощью медиаторов передается возбуждение. Крупные нейроны головного мозга имеют по 4–20 тыс. синапсов, некоторые нейроны — по одному. — Примеч. ред.
21
Гомологичные (органы) — органы, имеющие одинаковое строение и происхождение, но выполняющие различные функции. — Примеч. ред.
22
Классическое обусловливание — открытый И. П. Павловым (Павлов, 1903) способ научения, при котором нейтральный раздражитель начинает вызывать определенную реакцию организма вследствие многократного сочетания с безусловным раздражителем (пища, вода, боль и т. п.). — Примеч. ред.
23
Трансмиттер (от лат. transmittere — пересылать, передавать) — то же, что и медиатор — биологически активное вещество, участвующее в передаче возбуждения с нервного окончания на рабочие органы (мышцы, железы и пр.) и с одной нервной клетки на другую (в синапсах); трансмиттер симпатической нервной системы — норадреналин, парасимпатической — ацетилхолин, передающий, кроме того, возбуждение с нерва на мышцы. — Примеч. ред.
24
Сенсибилизация (от лат. sensibilis — чувствительный) — повышение чувствительности организмов, их клеток и тканей к воздействию какого-либо рода. — Примеч. ред.
25
Аксон (греч. axon — ось) — иначе нейрит — отросток нервной клетки (нейрона), проводящий нервный импульс от тела клетки к иннервируемым органам и другим нервным клеткам; совокупность аксонов составляет нерв; от каждой клетки отходит только один аксон. — Примеч. ред.
26
Афазия (от греч. a — отрицание, phasis — речь) — нарушение речи, возникающее при локальных поражениях коры головного мозга доминантного полушария. Системное расстройство различных видов речевой деятельности. Различают амнестическую, моторную, семантическую, сенсорную и транскортикальную афазии. — Примеч. ред.
27
Прогрессивные матрицы Равена — тест интеллекта, предложенный Л. Пенроузом и Дж. Равеном в 1936 году. Разработан в соответствии с традициями английской школы изучения интеллекта, согласно которым наилучшим способом измерения g-фактора является выявление отношений между абстрактными фигурами. Наиболее известны два основных варианта теста: черно-белые (для обследования детей в возрасте от 8 до 14 лет и взрослых в возрасте от 20 до 65 лет) и цветные (для обследования детей в возрасте от 5 до 11 лет и взрослых старше 65 лет) матрицы. При разработке теста использован принцип «прогрессивности», заключающийся в том, что выполнение предшествующих заданий и их серий подготавливает испытуемого к выполнению последующих. — Примеч. ред.
28
Индукция (лат. inductio — выведение) — логическое умозаключение от частных, единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщениям. — Примеч. ред.
29
Розеттский камень — базальтовая плита с параллельным текстом 196 года до н. э. на греческом и древнеегипетском (демотическое и иероглифическое письмо) языках. Найдена близ города Розетта (ныне город Рашид, Египет) в 1799 году. Дешифровка иероглифического текста Розеттского камня Ф. Шампольоном положила начало чтению древнеегипетских иероглифов. — Примеч. ред.
30
Априори (от лат. a priory — из предшествующего) — независимо от опыта, до опыта (противоположность апостериори). — Примеч. ред.
31
Т. е. не предусматривающих хирургического вмешательства. — Примеч. ред.
32
Блейк Уильям (1757–1827) — английский поэт и художник. Сборники «Песни невинности» (1789), «Песни опыта» (1794), «Пророческие книги» (1789–1820) в мифических и библейских образах отразили события Великой французской революции и американской Войны за независимость. Для поэзии Блейка характерны романтическая фантастика, философская аллегория. — Примеч. ред.
33
Сартр Ж.-П. Слова // Сартр Ж.-П. Тошнота: Избранные произведения. Республика, 1994. — 496 с. — С. 262–263. — Примеч. ред.
34
Ките, Джон (1795–1821) — английский поэт-романтик. В гедонистических стихах и патриархально-утопической идиллии «Эндимион» (1818) выразил протест против пуританского ханжества. Культ красоты и гармонии в природе (оды «Осени», «Психее»). Символико-аллегорическая поэма «Гиперион» (1820). — Примеч. ред.
35
По еще не понятным причинам речевые функции у мужчин большей частью сосредоточены в левом полушарии мозга, а у женщин — в правом.
36
1492 — Христофор Колумб открыл Америку; 1066 — герцог нормандский Вильгельм высадился в Англии, год его битвы при Гастингсе с войском англосаксонского короля Гарольда II и последующей коронации под именем Вильгельма I; 1776 — принятие Декларации о независимости США; 2001 — теракт в Нью-Йорке (разрушение Всемирного торгового центра); 1984 — проведение в Лос-Анджелесе XXIII Олимпийских игр. — Примеч. ред.
37
Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. — Примеч. ред.
38
Par excellence (фр.) — по преимуществу, преимущественно. — Примеч. ред.
39
Тон — звук, обладающий определенной высотой. — Примеч. ред.
40
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // О четверо-яком корне достаточного основания. Мир как воля и представление. — М. : Наука, 1993. — Т. 1, с. 369. — Примеч. ред.
41
В современной 12-тоновой музыкальной системе наименьшее расстояние между звуками соответствует полутону. — Примеч. ред.
42
Понимание сохранения — в теории Ж. Пиаже главное когнитивное достижение ребенка на стадии конкретных операций. Принцип сохранения (инвариантности, постоянства) означает, что предмет или совокупность предметов признаются ребенком константными, несмотря на изменения их внешнего расположения. Овладение принципом сохранения представляет собой критерий появления основной психологической характеристики мысли — обратимости. Понимание сохранения, таким образом, приходит на смену опоре на данные непосредственного восприятия. Понимание сохранения относительно различных характеристик объекта или явления возникает у ребенка не одновременно. Например, понимая принцип сохранения массы, ребенок может не понимать принцип сохранения объема (т. н. горизонтальные декаляжи, или смещения). — Примеч. ред.
43
О зоне ближайшего развития см. Выготский Л. С. Проблема возраста // Собрание сочинений. — М.: Педагогика, 1983. — T. 4. — Примеч. ред.
44
Интерференция (от лат. inter — между, ferentis — несущий, переносящий) — физическое явление, наблюдаемое при сложении когерентных волн (световых, звуковых и т. п.): усиление волн в одних точках пространства и ослабление в других в зависимости от разности фаз интерферирующих волн. — Примеч. ред.
45
Амузия (a — отрицание, нет; musikos — музыкальный) — нарушение способности понимать и исполнять музыку (вокальную и инструментальную), писать и читать ноты. Нередко сочетается со слуховой агнозией. Об амузии можно говорить в тех случаях, когда такие способности раньше были присущи больному. Различают амузию моторную и сенсорную. Сенсорная амузия, при которой невосприимчивость к музыке сочетается с относительной сохранностью способности ее исполнения, наблюдается при поражении поля 22 (по Бродману). Двигательная (вокальная) амузия, при которой оказывается утраченной способность исполнения музыкальных произведений при сохранности их восприятия, связана с поражением поля 45. Амузию следует отличать от апрактических расстройств, приводящих к невозможности игры на музыкальных инструментах. — Примеч. ред.
46
Шебалин, Виссарион Яковлевич (1902–1963) — советский композитор, народный артист РСФСР (1947), д-р искусствоведения (1941). Опера «Укрощение строптивой» (1955), кантата «Москва», пять симфоний. Профессор (с 1935), директор (1942–1948) Московской консерватории. Лауреат Государственной премии СССР (1943, 1947). — Примеч. ред.
47
Палестрина, Джованни Пьерлуиджи (ок. 1525–1594) — итальянский композитор, глава римской полифонической школы. Его музыка — вершина хоровой полифонии строгого стиля; наметил переход от полифонии к гомофонии. — Примеч. ред.
48
Лассо, Орландо (ок. 1535–1594) — франко-фламандский композитор. Работал во многих европейских странах. Обобщил и новаторски развил достижения различных европейских музыкальных школ эпохи Возрождения. Представитель полифонической нидерландской школы, мастер религиозной и светской хоровой музыки. — Примеч. ред.
49
Уайтхед А. Н. Наука и современный мир // Избранные работы по философии. — М.: Прогресс, 1990. — 720 с. — С. 76. — Примеч. ред.
50
Уайтхед, Альфред Норт (1861–1947) — англо-американский математик, логик и философ, представитель неореализма. С середины 1920-х годов развивал «философскую космологию», родственную платонизму. Автор (совместно с Б. Расселом) основополагающего труда по математической логике «Основания математики» (1910–1913, в 3 т.). В своих работах осуществлял всесторонний синтез философии с новейшими достижениями естествознания. — Примеч. ред.
51
В теории Ж. Пиаже упорядочение предметов по определенному признаку (весу, размеру, цвету и т. п.) называется сериацией. — Примеч. ред.
52
Рассел, Бертран (1872–1970) — английский философ, логик, математик, общественный деятель. Основоположник английского неореализма и неопозитивизма. Развил дедуктивно-аксиоматическое построение логики в целях логического обоснования математики. Автор (совместно с А. Уайтхедом) основополагающего труда по математической логике — «Основания математики» (1910–1913, в 3 т.). Нобелевская премия по литературе (1950). — Примеч. ред.
53
Уайтхед А. Н. Наука и современный мир // Избранные работы по философии. — М.: Прогресс, 1990. — С. 77. — Примеч. ред.
54
Пуанкаре, Жюль Анри (1854–1912) — французский математик, физик и философ, иностранный член Петербургской академии наук (1895). Труды по дифференциальным уравнениям, теории аналитических функций, топологии, небесной механике, математической физике. В труде «О динамике электрона» (1905, опубликован в 1906) независимо от А. Эйнштейна развил математические следствия «постулата относительности». В философии основатель конвенционализма. — Примеч. ред.
55
Аполлон — бог солнечного света, сын Зевса и Лето, брат Артемиды. Дихотомия «аполлонический-дионисийский» была введена Ф. Шеллингом для выражения сущности бога Аполлона как олицетворения формы и порядка в отличие от бурных, разрушающих все формы творческих порывов бога Диониса. Противопоставление аполлонического и дионисийского начала использовали также Г. Гегель, Ф. Ницше и Р. Вагнер. — Примеч. ред.
56
За создание квантовой механики, применение которой привело помимо прочего к открытию аллотропических форм водорода. — Примеч. ред.
57
Конвенциальный (от лат. conventionalis — соответствующий договору, условию) — условный, принятый, соответствующий установившимся традициям. — Примеч. ред.
58
За резонансный метод измерения магнитных свойств атомных ядер. — Примеч. ред.
59
Дислексия (от греч. dys — нарушение функции, рассогласование, lexis — речь, слово) — расстройство развития способности к чтению (трудности с воспроизведением, извлечением из памяти и составлением последовательности печатных слов и букв при переработке сложных грамматических конструкций и т. п.); проявляется в два-четыре раза чаще у мальчиков, чем у девочек. — Примеч. ред.
60
Дисфазия (от греч. dys — нарушение функции, рассогласование, phasis — речь) — расстройство развития экспрессивной рецептивной речи (скудость словарного запаса, упрощенная грамматика и т. п.); проявляется в два-три раза чаще у мальчиков, чем у девочек. — Примеч. ред.
61
Фреге, Готлоб (1848–1925) — немецкий логик, математик и философ, основоположник логицизма. Дал первую аксиоматику логики высказываний и предикатов, построил первую систему формализованной арифметики. Один из основоположников логической семантики. — Примеч. ред.
62
Гедель, Курт (род. 1906) — логик и математик. Родился в Австро-Венгрии, с 1940 года в США. Труды по математической логике и теории множеств. Доказал (1931) так на зываемые теоремы о неполноте (теоремы Геделя), из которых, в частности, следует, что не существует полной формальной теории, где были бы доказуемы все истинные теоремы арифметики. — Примеч. ред.
63
Эшер Морис Корнелиус (1898–1972) — нидерландский художник-график. Известен прежде всего своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов. — Примеч. ред.
64
Беллоу, Сол (род. 1915) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1976). — Примеч. ред.
65
Грэхем, Марта (1893–1991) — американская танцовщица, хореограф. В 1930 году организовала собственную труппу. Выработала свой стиль ритмо-пластического танца. — Примеч. ред.
66
Антиципация (от лат. anticipatio — предвосхищаю) — понятие, означающее представление о предмете, явлении, результате действия и т. п., возникающее до того, как они будут реально восприняты или осуществлены. — Примеч. ред.
67
Синдром правого полушария Бабенковой (Бабенкова С. В., 1967) — психические нарушения, наблюдающиеся преимущественно при поражении коры правого полушария: корсаковоподобный амнестический синдром, анозогнозия, «псевдомория» (эйфория, дурашливость, расторможенность), дезориентация в пространстве, нарушение восприятия времени, психомоторное возбуждение, помрачение сознания (в том числе сноподобные состояния сознания — делирий, онейроид), аментивные на рушения сознания. — Примеч. ред.
68
Титченер, Эдвард Брэдфорд (1867–1927) — американский психолог, одна из основных фигур на начальном этапе становления психологии в США. Работал в русле структурализма, усвоенного им в годы учения у В. Вундта в Лейпциге. — Примеч. ред.
69
Тесла, Никола (1856–1943) — изобретатель в области электро- и радиотехники; серб по происхождению, с 1884 года в США. В 1888 году описал (независимо от Г. Феррариса) явление вращающегося магнитного поля. Разработал многофазные электрические машины и схемы распределения многофазных токов. Пионер высокочастотной техники (генераторы, трансформатор и пр.). Исследовал возможности передачи сигналов и энергии без проводов. — Примеч. ред.
70
Эйдетизм (от греч. eidos — образ, внешний вид) — воспроизведение во всех деталях образов предметов, не действующих в данный момент на анализаторы. Эйдетические образы отличаются от обычных тем, что человек как бы продолжает воспринимать предмет в его отсутствие. Физиологическая основа эйдетических образов — остаточное возбуждение анализаторов. — Примеч. ред.
71
Топология (от греч. topos — место, logos — слово) — раздел математики, изучающий топологические свойства фигур, т. е. свойства, не изменяющиеся при любых деформациях, производимых без разрывов и склеиваний (точнее, при взаимно однозначных и непрерывных отображениях). Примерами топологических свойств фигур являются размерность, число кривых, ограничивающих данную область, и т. д. Так, окружность, эллипс, контур квадрата имеют одни и те же топологические свойства, т. к. эти линии могут быть деформированы одна в другую описанным выше образом; в то же время кольцо и круг обладают различными топологическими свойствами: круг ограничен одним контуром, а кольцо — двумя. — Примеч. ред.
72
Тернер, Уильям (1775–1851) — английский живописец и график. Представитель романтизма. Смелые по колористичности и свето-воздушным исканиям пейзажи отличаются пристрастием к необычным эффектам, красочной фантасмагорией (напр., «Дождь, пар и скорость», 1844). — Примеч. ред.
73
Беллини — семья итальянских живописцев венецианской школы: 1) Якопо (ок. 1400–1470), архитектурным рисункам которого свойственна готическая условность; 2) Джентиле (ок. 1429–1507), запечатлевший в портрете и многофигурных повествовательных композициях жизнь Венеции («Процессия на площади Сан-Марко»); 3) Джованни (ок. 1430–1516), создавший классически ясные картины на религиозные и мифологические темы, отличающиеся гармонией колорита, поэтичностью пейзажных мотивов («Мадонна дельи Альберетти», 1487; «Дож Лоредан», ок. 1502). — Примеч. ред.
74
Фуга — музыкальное произведение имитационного склада, основанное на многократном повторении одной и той же темы во всех голосах; высшая форма полифонической музыки. Имитационные проведения темы перемежаются интермедиями, в которых тема не проходит; они обычно строятся в форме секвенций. Фуга пишется на 2–6 и более голосов; встречаются фуги на две, реже на три темы. Образцы фуги — у И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Д. Д. Шостаковича и др. — Примеч. ред.
75
Беттельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я. — М.: Академический проект: Традиция, 2004. — С. 402–403. — Примеч. ред.
76
См. также работу Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». — Примеч. ред.
77
Диссоциация (от лат. dissociatio — разъединение, разделение) — нарушение связности психических процессов, противоположность ассоциации. — Примеч. ред.
78
Нижинский, Вацлав (1890–1950) — русский танцовщик, один из самых известных людей XX века. За уникальный сплав гениальности и безумия его называли Божьим клоуном. — Примеч. ред.
79
Имеются данные, согласно которым уже новорожденный младенец способен к ограниченной имитации мимики находящегося рядом взрослого (открывание рта, например). — Примеч. ред.
80
Джемсъ В. Научныя основы психологіи. — СПб.: С.-Петербургская Электропечатня, 1902. — С. 137. — Примеч. ред.
81
Джонсон, Линдон (1908–1973) — 36-й президент США (1963–1969) от Демократической партии; в 1961–1963 годах — вице-президент. — Примеч. ред.
82
Но не все ученые: такой авторитет, как Дэвид Векслер, много лет назад уже писал о социальном интеллекте.
83
Я использую здесь понятие личностное чувство, чтобы избежать путаницы с термином чувство «Я», которое пояснялось выше.
84
Нуклеарная (от лат. nucleus — ядро) семья — простая или основная семья, которая состоит из супружеской пары с детьми или без детей либо одного родителя со своими неженатыми детьми. — Примеч. ред.
85
Груминг — выражающее расположение социальное поведение человекообразных обезьян, включающее в себя взаимные поиски насекомых в шерсти друг друга. — Примеч. ред.
86
История показывает примеры замены общества «полей» на общество «частиц» в течение достаточно короткого времени. Еще относительно недавно в нашем обществе актуальными были известные слова В. Маяковского: «единица — вздор, единица ноль». — Примеч. ред.
87
Коннотация (от лат. con — вместе, noto — отмечаю, обозначаю) — в языкознании дополнительное, сопутствующее значение речевой единицы или категории. Включает семантические и стилистические аспекты, связанные с основным значением. — Примеч. ред.
88
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. — М. : МП «ФИРМА APT», 1993. — Т. 1, с. 40. — Примеч. ред.
89
Имеются в виду положения Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития — расстояние между уровнем актуального развития (определяется результатами самостоятельного выполнения ребенком заданий) и уровнем потенциального развития (определяется результатами выполнения ребенком заданий в сотрудничестве со взрослым). — Примеч. ред.
90
Здесь представлена разработанная Д. Б. Элькониным возрастная периодизация развития ребенка, основанная на чередовании двух групп видов деятельности: ребенок — общественный взрослый и ребенок — общественный предмет. — Примеч. ред.