Книга: Формула счастья

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
Он устрёмлен вперёд. Ведь он искатель.
Такого же искателя он ищет,
Который ищет вдалеке другого
И в нём себе подобного находит.
Вся жизнь его — искание исканий.
Он будущее видит в настоящем.
В нём жажда бесконечных устремлений.
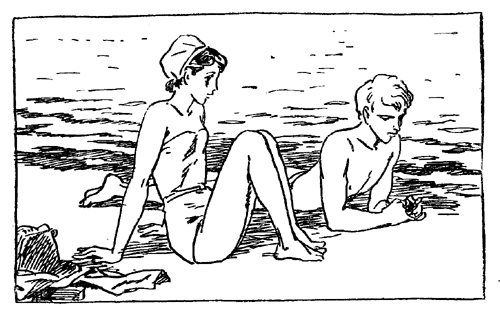
Выйдя из воды, Ярослав пробежался по берегу, потом улегся на тёплых пластмассовых мостках. Пологие, плоские волны, взблёскивая солнцем, безостановочно катились из яркой, словно намалёванной сини озера. Собственно, это было не озеро, а пруд с давним, почти забытым названием Партизанский. Но все его звали просто Озером. Вдали бугрились чуть подёрнутые маревом невысокие Уральские горы.
Ветерок и солнце быстро сушили тело. Ярослав закрыл глаза. Волны плескались о берег мерно, и от этого шум сосен казался ритмически организованным. Ярославу почудилось даже, что он улавливает какую-то, пока неясную мелодию. В неё вплетался лёгкий сипловатый шумок пассажирских электролётов. Их стоянка была недалеко.
По мосткам мягко прошлёпали босые ноги и остановились. «Рано», — догадался Ярослав. Он представил, как она, чуть склонив голову, смотрит на него. Ему хотелось, чтобы взгляд был нежным.
— Дремлешь? — спросила Рано и села рядом.
— Слушаю мир, — сказал Ярослав, не открывая глаз.
— И что ты услышал?
— Многое. Плеск волн и шум деревьев. Стрёкот пассажирских козявок и грохот ракет, которые уходят в космос. И бесшумный лёт Земли и шорохи Юпитера. И то, как ты натягиваешь белую купальную шапочку.
— Как ты узнал, что белую?
— Она тебе идёт больше других. Золотистое тело, чёрные волосы и белая шапочка.
— Яр, тебе полезно валяться на солнце: оно будит в тебе поэта.
— Хо! — Ярослав стремительно сел. — Зачем его будить? Поэт всегда бодрствует во мне.
Светлые, коротко подстриженные волосы парня ещё не успели просохнуть и смешно торчали. Рано посмотрела на его стройное мускулистое тело и решила, что с завтрашнего дня («Почему с завтрашнего, а не сегодня?») заставит Андрея по два часа в день плавать. И в ту же секунду Ярослав спросил об Андрее:
— Где твой братец?
— С утра дежурил в школьной фонотеке.
— Это уже было три дня назад.
— Андрею нравится. Он хочет придумать какую-то новую систему программирования для киберучетчиков.
— Значит, придумает. — Ярослав сделал стойку на руках, потом опять сел. — Мой дед говорит, что характер мужчины определяется в шестнадцать лет. А у Андрея он определился в десять. Уже тогда — помнишь? — Андрей доказал, что он выполняет всё им задуманное.
— А у тебя характер определился? — улыбнулась Рано.
— Нет, ведь я нормальный человек. Подожду, когда исполнится шестнадцать. Ждать совсем недолго.
Рано опять улыбнулась чему-то своему, затаённо, и задумалась… Солнце медленно катилось меж высоких и лёгких перистых облаков. В парке было малолюдно. Кое-кто плавал в озере, другие отдыхали на мостках; на теннисных кортах глухо ударялись мячи.
— Ты будешь купаться? — спросил Ярослав.
— У тебя радик с собой? — вместо ответа поинтересовалась Рано.
— Со мной. Ты хочешь вызвать Андрея?
— Да. Он просил позвать его, если я встречу тебя. Что-то опять придумал…
Ярослав протянул ей карманный радиовидеотелефон. Пальцы Рано быстрыми лёгкими движениями прошлись по кнопочному циферблату настройки и вызова. Одна из плоскостей аппарата вспыхнула мягким фосфоресцирующим светом. Вскоре в ней появилось чуть одутловатое лицо Андрея. Угольно-чёрные волосы смешно топорщились, — видно, по обыкновению, он ерошил их. Андрей был недоволен: оторвали от дела.
Рано усмехнулась, но совсем не добродушно:
— Я не теряю надежды, Анд, что когда-нибудь ты приучишь себя начинать разговор с более приятным выражением лица.
— Это так важно?
— Разве ты живёшь вне общества? — Рано начинала сердиться.
— А я надеюсь, что когда-нибудь ты приучишь себя разговаривать со мной без нотаций.
— Не раньше, чем ты научишься вести себя.
— Это все, что ты хотела мне сообщить?
— Мы ждем тебя в парке, у главного эскалатора.
— «Мы» — это, надеюсь, с Яром?
— Конечно.
Лицо Андрея просветлело:
— Прости, я был неправ. Сейчас буду…
Рано возвратила радик Ярославу. И рассмеялась;
— Нет, характер Анда вовсе не определился. Во всяком случае, я его таким не приемлю. Потому что упорство — это ещё не характер. Анд не умеет уважать людей. Извиняться — не значит быть воспитанным. Быть воспитанным — значит не допускать того, за что необходимо извиняться.
— Ох и строгая сестра! — покрутил головой Ярослав.
— Справедливая, — поправила Рано.
Она была моложе их на год, и всё же они не могли не слушаться её. Может быть, потому, что она была почти безупречна и, значит, имела право на власть.
Их семьи издавна жили в одном микрорайоне, и ребята воспитывались в одном интернате. Рано для Ярослава была как сестра, Ярослав для неё — как брат. Она, пожалуй, любила его ещё больше, чем родного брата Андрея. Но, конечно, не показывала вида. Старалась не показывать. Ведь нехорошо, если мать отдает предпочтение одному из сыновей, а сестра — одному из братьев. Это древняя мудрость. В Рано она была.
В ней вообще было что-то древнее. Наверное, в глазах. Они были диковатые. О нет, не безумные и не бездумные, наоборот, в них светилась мысль, в её больших и темных, карих глазах. Но очень уж яркий, даже яростный огонь порой вспыхивал в них, хотя тут же, сдерживая себя, Рано тушила его. В том огне, думалось Ярославу, горят отблески великих страстей и бед, пережитых её далекими предками, и в кровавых битвах двадцатого века, и ещё раньше, в пламени народных восстаний, и ещё — в угрюмых походах и сечах полудиких азиатских орд.
А может, это только казалось Ярославу? Он любил думать о прошлом человечества. Его не переставала удивлять поразительная история людей — этих существ, которые в общем-то ещё совсем недавно ютились в пещерах и землянках, дубинками и камнями отбивались от четвероногого зверя, потом нелепо враждовали друг с другом и в то же время стремились к идеальному устройству общества.
Ярослав уже опубликовал две свои первые заметки в юношеском журнале археологов и не то шутя, не то серьёзно говорил, что когда-нибудь напишет труд, в котором обобщит закономерности общественного развития разумных существ Вселенной.
— Смотри-ка! — воскликнула Рано. — Мир меняется на глазах. Анд идёт по тропинке.
Ярослав оглянулся. Действительно, Андрей, на удивление, в этот раз не воспользовался эскалатором, бегущим к озеру, а спускался с горки, от остановки электролётов, по пешеходной тропе.
— Поздравляю, — с усмешкой встретила его сестра. — Ты, я вижу, решил-таки приобрести истинно спортивную закалку.
Андрей рядом с ней казался грузным и неповоротливым.
— Скажи, историк, — обратился он к Ярославу, девчонки всегда были такими? И в двадцатом веке, и раньше — в средневековье? Они такими будут и в двадцать втором столетии? Видимо, в них, где-то внутри, навечно запрятана мечта о восстановлении матриархата. Они хотят властвовать. Неистребимый пережиток древности.
— А тебе нужен патриархат? — сверкнула глазами Рано.
Ярослав усмехнулся:
— Ведь ты знаешь, Анд, что в переводе на русский имя Рано означает: шиповник, дикая роза.
Рано мгновенно повернулась к Ярославу:
— Ты хочешь сказать, что я похожа на розу или что у дикой розы есть колючки?
— Он говорит о колючках, — пожал плечами Андрей. — Видишь, историко-лингвистические данные помогли нам научно обосновать особенности твоего характера.
Глаза Рано блестели. Она любила перепалки.
— Ну, подождите, я свой характер покажу в воде!
Андрей присел под тент, сказал миролюбиво:
— К тому времени я тебя умаслю. Нет, серьёзно, Рано. Я должен признаться: кое в чём ты права. Сегодня я слушал запись последнего выступления профессора Беляева. Вообще он говорил о бионике, но между прочим привёл факты, которые заставили меня задуматься о себе. Как ни разумны люди и их образ жизни, человек как вид хиреет, если он слишком увлекается вот такими благами цивилизации. — Андрей кивнул на бегущую ленту эскалатора. — Беляев говорит, что совершенно необходимы постоянная закалка и тренировка.
— О люди! — с трагическим пафосом воскликнула Рано. — Но ведь именно это нам внушали с первых школьных лет.
— Я как-то не придавал этому значения, — признался Андрей.
Ярослав улыбнулся:
— До сегодняшнего дня Анд не слышал этого в своих ультрафонограммах.
То была шпилька. Книгам и лекциям Андрей предпочитал звукозапись. В их школе работала серия аппаратов, которые, преобразуя звуковые волны в электромагнитные определенной силы и частоты, позволяли воспринимать запись непосредственно мозгом. Усвоение «услышанного» было очень быстрым и прочным. Ярослав же больше любил чтение: оно позволяло наслаждаться самим процессом познания.
— Скоро и у тебя ультрафонограммы станут любимыми, — возразил Андрей другу. — Они у всех станут любимыми. Это неизбежно.
Ярослав смешно сморщился и тут же вскочил:
— Поплыли?
— Сядь, — попросил Андрей. — Я ведь по делу. Помнишь, я говорил, что предстоит диспут с парнями из Чили. О будущем. Я говорил об этом, как о задаче с одним неизвестным — грядущим. На самом деле неизвестных — два. Чтобы точнее представить будущее, необходимо знать прошлое. Это как функциональный график…
— Чем я могу помочь? — прервал Ярослав.
— Наверное, советом. Учебники истории, литература прошлого — это одно. Нужно глубже. Мне нужен… живой человек из прошлого. Из того времени, когда страна начинала выходить на магистрали коммунизма.
— Ой-ё-ёй, как он умеет говорить! — насмешливо кольнула брата Рано.
— А все-таки что хотел бы ты? — напомнил Ярослав.
— Понятия не имею. Но что-то такое, что можно… подержать в руках, ощутить, понять.
Ярослав что-то соображал.
— Надо посоветоваться с дедом, — наконец сказал он. — Он ждёт меня сегодня к обеду. Нагрянем вместе?
Рано пересыпала песок из ладони в ладонь.
— Интересно, — тихо сказала она. — И немножко страшно.
— Почему? — вскинул на неё глаза Ярослав. Она ничего не ответила, встала и пошла в воду.
Дед Ярослава родился в 1999 году и потому с усмешечкой говаривал, что он человек из прошлого века.
Его отец был астромонтажником и погиб при закладке лаборатории на Марсе. Юрий Крылов не пошел по отцовским стопам. Увлечённый поразительными успехами биофизики, он с молодых лет работал в пищевой промышленности, конструируя новые виды полезных бактерий, а позднее перенес опыты на растения и сейчас трудился на плодовой плантации. Свой досуг, кроме обычных развлечений, Юрий Игоревич посвящал историческим исследованиям, они стали его второй профессией, и, наверное, от него это увлечение перешло и к Ярославу…
Дед встретил внука и его друзей у своротка шоссе от элострады к плантации.
— Бездельникам легко узнать друг друга, — весело улыбнулся он. — До обеда ещё сорок минут, а вы уже здесь, и я встречаю вас. Выходит, все мы бездельники. Здравствуйте, юные!
— Добрый день, Юрий Игоревич!
— Мы не хотели опоздать, — добродушно схитрил Ярослав.
— Вы хотели, чтобы до обеда я обыграл вас в городки, — тут же принял решение Юрий Игоревич. — А Рано может поразмяться с Анной Александровной на теннисной площадке. Или с нами?
— Спасибо. С Анной Александровной.
Андрей склонился к уху Ярослава:
— Может, поговорить с ним сейчас?
— После, — отмахнулся Ярослав и повернулся к деду: — Ты даёшь нам с Андреем фигуру вперёд?
— Две, — коротко бросил дед и побежал впереди ребят. Впрочем, впереди он бежал недолго. Ярослав бурно обошёл его и, добежав до площадки, быстро начал строить городошную фигуру.
Через несколько минут возле дома стоял потешный гвалт. Выбежал дядя Ярослава, младший сын Юрия Игоревича, восьмилетний Иван. Он приехал из интерната навестить родителей. Сначала парнишка поощрял играющих только криками, потом потребовал, чтобы и ему дали биты.
— Помогай-ка, Ив, отстающей команде, — кивнул Юрий Игоревич на Андрея и Ярослава.
— Но их двое, — резонно возразил сын.
— Будет трое — я ещё эффектнее обыграю вас.
Биты он кидал с удивительной меткостью. Ни одна не пролетала мимо городков, почти каждый раз зацепляя несколько. Чуть прижмурившись, насупя густые, тронутые сединой брови, Юрий Игоревич, прицеливаясь, выбрасывал вперёд левую руку, а правая с зажатой битой медленно отходила назад и в сторону. Затем она замирала на мгновение и вдруг широким сильным движением устремлялась вперёд. С тонким шелестом тяжёлая, из особой пластмассы бита летела, чтобы обрушиться на городошную фигуру, с глухим звоном ударялась о рюхи, и они, кувыркаясь, вымётывались за грани квадрата.
Андрей бросал биты сильно, но не метко. Ярослав злился, но и горячась, всё же наверстывал упущенное другом. Иван, к удивлению старших, бил по городкам, пожалуй, не хуже Андрея. Правда, мальчонке разрешили играть с полукона, с расстояния вдвое меньшего, чем для остальных.
Юрию Игоревичу пришлось не очень-то легко. Но всё же старик выиграл и был этим очень доволен. В душевой, пофыркивая под сильными струями воды и энергично растирая тело, он пригрозил:
— В следующий раз дам три фигуры вперёд.
Обедали на открытой веранде. Мелкими глотками отпивая фруктовый коктейль, Юрий Игоревич поинтересовался, как сегодня молодежь отдыхала. Он недаром, хотя и в шутку, назвал их бездельниками. Учебное время в школах кончилось. Через несколько дней все они должны были лететь в юношеский лагерь на Памире.
Ярослав рассказал, что с утра отливал корпус для домашней справочной картотеки, читал, затем играл в водное поло. Рано сидела над своей серией музыкально-световых миниатюр, потом занималась на стадионе художественной гимнастикой. Андрей сказал, что дежурил в школьной фонотеке, а потом просто сидел и размышлял.
Крылов слушал их с внимательным и улыбчивым прищуром. Ему нравилась мальчишеская непосредственность Ярослава: паренёк не скупился на лишние слова и мимолетные эмоции, с подробностями рассказывая, как и почему перегрел пластмассу для корпуса и как потом, во время игры, нырнул и, увлёкшись красивой ракушкой, подвёл свою команду. Рано сложнее: в ней проступает уже зрелость, она учится сдерживать свой темперамент и её порывистость мягчает от доброй и туманной, ещё не раскрытой женственности. Наверное, она очень талантлива, эта девочка; надо послушать и посмотреть её последние миниатюры, ведь прошло не меньше года, как он познакомился с первыми вещами… Андрей, как всегда, на слова скуповат; он не очень-то любит рассказывать о своих увлечениях. Вот и сейчас чувствуется: не «просто сидел и размышлял», а что-то задумал, но, пока замысел не оформится до конца, едва ли расскажет.
— Странный у нас мальчик Андрей, — с какой-то особой, иронической и вместе с тем покровительственно-нежной улыбкой сказала Рано. — Ему, наверное, нравится быть непохожим на других.
Юрий Игоревич опустил глаза. Ему не хотелось, чтобы ребята заметили сначала удивленный (как совпали мысли!), потом прихмурившийся взгляд. Помолчав, дед сказал:
— Мы все непохожи друг на друга. А странные мальчики и девочки — это не так уж плохо. Те, кто придумал когда-то первое колесо, кто изобрел иглу, разработал теорию относительности, создал единую теорию поля, — все они были, наверное, «странными» и задумчивыми.
Анна Александровна решила переменить тему: зачем смущать Андрея?
— Никто не сообразил, — спросила она, — из чего приготовлено жаркое?
Все отложили вилки: ребята — задумавшись, Юрий Игоревич — с ожиданием наблюдая за ними.
— Да, — сказала Рано, — оно какое-то… оригинальное.
— Из рыбьей печёнки, — определил Ярослав.
— А ты, Анд, что скажешь?
— Я никогда не задумываюсь, что я ем.
— А я зна-аю! — радостно пропел Иван.
— Ну ещё бы ты не знал! — ласково усмехнулся Юрий Игоревич. — Эта «печёнка» растет у нас на плантации. Но — тут Яр прав — в воде. Совершенно новый вид водорослей, недавно выведен. Пойдем гулять — покажу. Хороший сюрприз нашим тихоокаянцам. — Он говорил о своем сыне и его жене, родителях Ярослава, которые работали сейчас в одной из тихоокеанских глубоководных экспедиций. У деда была такая привычка — понарошку смешно коверкать слова. Тихоокаянец — тихоокеанец.
— А что сообщают наши? — повернулась Анна Александровна к Андрею. — Хорошо им отдыхается?
— Отлично, — буркнул Андрей, не поднимая головы от тарелки.
И всё же минуту спустя Рано вернулась к прежней теме.
— Юрий Игоревич, — её большие, широко распахнутые глаза смотрели настороженно-строго, — вот вы говорили о «странных» и задумчивых. Это, наверное, правильно. Но я хотела вас спросить… Как-то с подругами мы зашли в проекционный зал Музея истории и посмотрели два фильма. Очень старые, им, наверное, больше ста лет. Изображение плоское и серое. Люди в смешных и неудобных одеждах. Машины неуклюжие, громоздкие, угловатые. Но не в этом дело — это всё понятно, — я о другом. Я подумала вот что. Середина двадцатого века, грозного века могучих революций и жестоких битв. Советский Союз только что пережил опустошительную, хотя и победную войну — Великую Отечественную. Разрушены многие города. В воздухе носится атомная пыль от бомб. Где-то в лесах и пустынях стоят ракеты со смертоносным грузом. Нацеленные, всегда готовые взлететь. Так ведь было? А люди — в фильмах они спокойные и весёлые — не говорят ни о войне, ни об атомной пыли, а говорят о своей любви, о каких-то бригадах, о мелких житейских делах… Я, видимо, слишком многословна? Я хочу понять: вот тогда, в начале социалистической эры, когда наши предки творили такие великие дела, — какими же они были сами, эти люди?
Юрий Игоревич заметил, что Андрей особенно внимателен и напряжен. Словно Рано задавала свои вопросы от его имени.
— Ты тоже задумывался над этим, Анд? — спросил Юрий Игоревич.
— По-настоящему пока ещё нет. Но мне это интересно. Зная прошлое и сравнивая его с тем, что есть, легче представить будущее. Я думаю о будущем. Мы как раз поэтому и пришли к вам.
Рано хотелось уточнить свою мысль. Она сказала тихо и тревожно:
— Они мне показались бездумными. Поэтому я удивилась, и поэтому меня взволновали ваши слова о задумчивых. Ведь люди, делающие великое дело, не могут быть бездумными. Да, Юрий Игоревич?
— Да, Рано, это так.
С тихой и мудрой улыбкой Юрий Игоревич взглянул на свою жену, словно говоря: «Она права, эта девочка, верно? Но в ней ещё столько наивности, и сейчас мы с тобой должны кое-что объяснить ей». Он откинулся на спинку стула и задумался.
— Это так, — повторил он, — и не так. Я не знаю, какие фильмы ты смотрела, но знаю, что по двум фильмам нельзя судить об эпохе. И ещё знаю, что фильмы того времени были очень далеки от совершенства. И всё же… Тебя удивило, что люди там изображены спокойными и весёлыми, они даже показались тебе бездумными. Но почему же им не быть спокойными и весёлыми, если в них живут сознание правоты и уверенность в будущем? Зачем им быть суровыми и задумчивыми? — Он пошевелил бровями. — Трудности? Да, трудности перед ними высились грандиозные, порой почти нечеловеческие. Но в том-то истинное величие, чтобы преодолевать их не ахая. Мы ведь тоже живём не без них. Изменился лишь их характер.
Юрий Игоревич положил руки на край стола и говорил тихо, раздумчиво.
— У каждой эпохи свои трудности, но они будут сопутствовать человечеству всегда, и, если бы они исчезли, их необходимо было бы создать. Впрочем, создавать не понадобится. От классового мира мы получили в наследство неплохую технику, но обезображенную, обедненную природу. Сейчас мы воссоздаём естественные ресурсы на суше, в первую очередь — лесные. Заканчиваем строительство гигантской сети очистительных сооружений. Идёт штурм океана. Вы знаете, как это нелегко. Настанет время широкого штурма космоса — будет не легче. Потом придут и всегда будут приходить новые трудности. Единственное, чего мы не ждём и за что должны быть благодарны предыдущим поколениям, — мы избавлены от самого трудного и злого — войны.
Он замолчал. Никто из них не знал войны — этого бессмысленного, противоестественного состояния, когда люди убивают людей, и всё равно он замолчал, и все молчали, невнятно ощущая душевный холод, повеявший из далёкого прошлого.
Первой заговорила Анна Александровна. Что-то похожее на извинение за нечаянную стеснённость прозвучало в её мягком, напевном голосе.
— И бездумными они, конечно, не могли быть. Вот Юрий Игоревич говорил о трудностях. А ведь именно в то время, после Октябрьской революции, люди сознательно взвалили на себя главную, до того времени не стоявшую перед человечеством трудность — переделать самих себя, очистив от скверны прошлых эпох, выковать нового человека. Как же тут можно быть бездумными?
— Аннушка, мы с тобой совсем старики! — вовсе не по-стариковски воскликнул Юрий Игоревич. — До чего же мы умные, всё знающие и страшно скучные. Ведь всё, о чем мы с тобой толкуем, им прекрасно известно и без нас. Не правда ли, юные искатели истин?
— Нет, — сказал Андрей.
— Да, — сказала Рано, — все это мы слышали в школе, но слышанного всегда мало. Как мне хотелось бы перенестись лет на сто назад, в то время — такое трудное и боевое! Поверьте, я стала бы совсем неплохой комсомолкой, и поехала бы на какую-нибудь стройку в самую глушь, и у меня появились бы мозоли на руках…
— …и ты стала бы мечтать о том, чтобы перенестись на сто лет вперёд, — закончил за неё Ярослав.
Рано сердито покосилась на него, чуть помолчала и… рассмеялась.
— Не знаю, — сказала она. — Ведь тогда я была бы иная… Анна Александровна, разрешите, я уберу со стола.
— Нет, это моя работа, — ревниво сказал Ив.
— Мы вместе, — успокоила его Рано.
— А мы потихоньку пойдем к прудам, — сказал Юрий Игоревич, — и по дороге побеседуем с Андреем. Ты догонишь нас, Рано.
Предвечерний покой лег на землю. Ветерок исчез. Над цветниками висел пряный аромат. Среди зелени фруктовых деревьев матово светились ажурные башенки солнечных конденсаторов.
Юрий Игоревич, выслушав Андрея, одобрительно похмыкал.
— Кое-что я могу посоветовать, — сказал он. — Идёт перестройка жилого массива «Вэ-двенадцать». Оттуда, из старого хранилища, перевозят в новое вспомогательные архивные фонды. Соображаете?
Юноши дружно закивали.
— На редкость сообразительны, — усмехнулся Юрий Игоревич. — Завтра в семь представьтесь Роберту Лацису, он занимается этим.
— Спасибо, дед. Лациса я знаю.
— Тем лучше… В этих фондах не все разобрано и учтено. Предстоит предварительный просмотр, может, и вам доверят кое-что.
— О, уж мы постараемся! Верно, Анд?
— Для этого и пойдем, — пожал плечами Андрей. Они и не подозревали, что ожидает их завтра…
Утром они встретились у подъезда. Андрей был сосредоточен и нахохлен, Рано — беззаботно улыбчива.
— Ты с нами? — глянул на неё Ярослав.
— А ты думал иначе? — удивилась Рано.
Город был по-утреннему свеж. Цветники и скверы жадно дышали солнцем и, переплавив его в миллиардах крошечных потайных лабораторий на свой лад, щедро дарили людям буйную кипень многоцветья. Бесчисленные фонтаны и искусственные водопады, устроенные для ионизации воздуха, радужно искрились.
— Ты слышишь, Яр, как поёт свет? — тихо сказала Рано и сама, казалось, вся засветилась.
— Нет, — Ярослав неловко поежился, — свет я только вижу.
Андрей иронически глянул на сестру…
К зданию архива они подошли молча. Ярослав приближался к нему с трепетом. Здесь обитала сама История. Не в учёных трудах, не подвергнутая холодному анализу, не спрессованная в книги, а такая, какая была и есть. В бумагах. В разных документах. В переписке официальных лиц, постановлениях властей, в проектах зданий и рудников, в бухгалтерских отчетах и протоколах собраний — во множестве бумаг, которые когда-то в суетной текучке дней казались людям столь обычными и даже надоедными и по которым теперь историки, споря, волнуясь и радуясь, набрасывали штрихи канувшей в прошлое жизни общества.
Роберт Лацис, голубоглазый седой великан, один из хранителей архива, встретил их приветливо. Потирая висок длинными гибкими пальцами, он сказал, что поставит их на предварительный разбор материалов. Надо кое-что рассортировать по тематике, составить первичную опись, подготовить данные для киберучёта.
Им выдали лёгкие пепельно-серые комбинезоны из искусственного шелка. Точно такой же был на Лацисе. Коротким стремительным взлётом лифт доставил их на пятый этаж. Здесь шла подготовка материалов к хранению; само хранилище на двадцать этажей уходило под землю.
Вся мебель комнаты, в которую Лацис ввел их, состояла из широких стеллажей и нескольких стульев. Её дополняли видеофон, электропишущая машинка и небольшой переносной пылесос.
Вдоль наружной стены тянулась лента транспортёра. Яркий, но не бьющий в глаза, рассеянный свет заливал комнату.
На одном из крайних стеллажей лежали бумажные мешки с материалами из старого архива. Лацис объяснил, как и что нужно делать, пожелал успеха и ушел.
— Начнём? — спросил Ярослав.
Его охватило волнение. Вот сейчас он распакует мешок — что увидят они в нём? О чём, быть может, ещё неведомом, расскажут бумаги, пролежавшие во тьме более ста лет? Чьи мысли и мечты, чьи судьбы раскроют они сейчас?
— Начнём, — тихо ответила Рано.
Андрей чуть приметно поморщился. Может быть, он предполагал, что какие-нибудь архивные работы сразу же выдадут то, что было ему нужно? А тут, оказывается, ройся сам в пыльных бумагах…
Бумаги оказались не очень интересными. В основном это были финансовые документы одного из райкомов комсомола их города за шестидесятые годы прошлого, двадцатого века. Правда, изредка среди них попадались «дела» иного порядка — отдельные протоколы заседании бюро райкома, чьи-то заявления и объяснительные записки.
Обрывок одного из протоколов поразил Рано. Из него она узнала, что «пьянка и поножовщина в комсомольско-молодежном общежитии привели к убийству крановщицы Пономаревой». Рано дважды перечитала это место, руки её бессильно опустились, лицо стало недоумевающим и горестным.
— Как же так?.. Разве у них это было возможно?
Ярослав тоже был потрясён. Он звал о подобном из литературы, но, описанное в книгах, это воспринималось совсем по-иному. А сейчас перед ними лежал живой документ — неумолимое свидетельство о конкретном случае убийства человека человеком. Комсомольцем. Ярослав не знал, что ответить Рано.
— Тогда ещё многое было возможно, — сказал он, опустив голову, словно сам был виноват в той далекой нелепой беде.
Андрей уставился в окно и долго стоял так, словно силился разглядеть что-то вдали.
Другой протокол вызвал у Рано смешливое удивление.
— Послушай, Яр! Вот тут Андрей нашел: бюро одобряет инициативу школьников и призывает всех комсомольцев района выйти на сбор металлического лома.
— Да. А что тебя удивляет?
— Я не понимаю, где они могли собирать лом.
— Всюду. Во дворах, по квартирам, на пустырях.
— Откуда же он там брался?
— Выбрасывали.
— Лом? Выбрасывали? Он же был необходим металлургическим предприятиям!
— Потому и собирали.
— Но зачем же выбрасывать, а потом собирать? — не выдержал и Андрей. — Где логика?
— Вы забываете, что то было совсем другое время.
Более веского объяснения Ярослав привести не смог.
— Ох, трудно вашему брату — историку, — лукаво посочувствовала Рано.
— Легко — неинтересно, — рассудительно Ярослав, не принимая иронии.
Некоторое время они работали молча. Лацис по видеофону поинтересовался, не нуждаются ли молодые люди в каком-либо совете, пошутил насчет кислого вида Рано и, дружески скорчив уморительную гримасу, исчез с экрана.
— А он хороший, — сказала Рано.
— Он, наверное, очень много знает, — отозвался Андрей.
— Душевные качества определяются не знаниями, — возразила сестра.
— И знаниями, — поддержал товарища Ярослав. Рано не хотелось спорить. Не было настроения.
— Цифры, цифры, — вяло сказала она. — Андрей был прав: заглянуть бы в живую человеческую душу.
— Чего захотела! Цифры — это тоже очень важно. — Ярославу и самому они надоели, просто он хотел поддержать честь историка. — По цифрам можно узнать массу интересного.
— Я понимаю. Экономика. Конечно, важно. Но ведь хочется знать, о чём и как они думали, как проводили время, в чём находили счастье. В сборе лома? В мечтах о будущем?
— Скорее, в борьбе за будущее.
— Мы тоже боремся за будущее, но у нас счастливое настоящее.
Ярослав задумался. Андрей выжидательно смотрел на друга, будто тот мог ответить на все вопросы, решить все проблемы, — ведь он был в родной стихия истории.
— Это сложная штука, — сказал Ярослав. — Конечно, и в их настоящем было счастье. Была любовь. Были успехи в делах. А то, что они шли в коммунизм первыми, — одно это должно было делать их жизнь особо содержательной, исполненной чего-то высокого.
— Ну вот, я и хочу понять это. И Андрей, по-моему, тоже. Понять их формулу счастья, что ли. А эти твои цифры ничего мне не говорят.
— Почему — мои? Это их цифры.
— Не придирайся. Ладно, давай работать…
Раскрыв одну из папок, Рано увидела газету. В неё были заложены какие-то платёжные ведомости. Газета была очень старая, на рыхлой, толстой желтоватой бумаге. Рано взглянула на дату — 18 июня 1963 года. С первой страницы улыбались Валентина Терешкова и Валерий Быковский — одни из первых космонавтов Земли.
Сколько потом было космических взлётов, экспедиций, рейсов — не счесть. Они стали будничными. Но те… Ведь они были одни из первых, самых первых в истории человечества.
Лица этих космонавтов были знакомы Рано — по книжным портретам. Но здесь они выглядели совсем по-иному. Черты лица были те же, а выглядели по-иному. На газетную полосу они вошли прямо из жизни, с фотографической пленки. Они улыбались, два молодых радостных человека, слушая восторженный гул землян. Он и сейчас, через долгое столетие, вдруг почудился Рано в тихой светлой комнате архива. Она представила себя читательницей газеты тех дней и сразу ощутила, как сильно забилось сердце.

Почти всё место в газете занимали материалы о космонавтах — официальные сообщения, приветствия, очерки, статьи, фотографии. Но были тут и заметки о строительстве гигантской электростанции на сибирской реке и о новых моделях машин, о кровавых боях во Вьетнаме и забастовке в Лондоне, кого-то ругали за срыв заводской программы, а объявления на четвертой полосе газеты извещали о разводе супружеских пар, о приёме на работу и сообщали, какие фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах.
Они воздвигали могучие промышленные комплексы, лезли в глубины земли за рудой, воевали за каждую тонну металлического лома, делали машины, в заброшенных степях выращивали хлеб, а по вечерам упрямо листали книги или шли в кино, и радовались, и смеялись, а кто-то печалился и негодовал, а где-то злой, падший человек наотмашь бил ножом другого в сердце…
Спазма сжала горло Рано. Милые, далёкие мои предки! Как же нелегко и как гордо вы жили! Да, звериное прошлое ещё корежило людей, ещё поднимал человек на человека оружие, было трудно, а вы, упорные и целеустремлённые, всё же шли вперёд, отшвыривая мерзости прошлого, расчищая дорогу будущему, нам…
Сквозь все ещё звучащий приветственный гул она услышала тяжёлое погромыхивание и скрежет землеройных машин, шум станков и негромкое гудение электромоторов. На тревожное сверкание алых струй ритмически чётко накатывались спокойные широкие полосы голубого. Ей давно слышалось и виделось то, что она хотела и стеснялась назвать «Симфонией звездных дорог». Но то было лишь пение космических трасс, свистящий, пронзительный взлёт, неземные, странные перезвоны и шорохи, слепящее сияние светил. Ей не хватало земной основы будущего произведения. Сейчас она её услышала.
Закаменев, Рано вслушивалась в прошедшее столетие. Рука Ярослава легла на её плечо.
— Ты где-то очень далеко, Рано. Мы окликали тебя дважды.
— Да? — Она нехотя возвращалась в своё время. — Извини, Яр, я задумалась.
— Взгляни, что он нашел! — Андрей был необычно возбужден. — Дневник!
В руках Ярослава были две тетради, какими в двадцатом веке пользовались ученики. На каждой из них стояла подпись: «Инга Холмова» и номера — третий и четвёртый.
— Дневник, понимаешь? — Глаза Ярослава лучились.
— Но… ведь это личные записи…
— Они сделаны более ста лет назад. Их автора давно нет в живых…
Тетрадь третья
17 декабря 1962 г.
Ого, сегодня я начинаю третью тетрадь. Подумать только, уже третью! А первые записи я сделала два с лишним года назад, была совсем ещё девчонка, семиклассница. Теперь как-никак в девятом!
Я перелистала старые тетради. Смешно! Какие-то пустые, бессодержательные записи: «Сегодня по истории получила пять, по немецкому — пять. Завтра контрольная по химии». И так каждый день, и это я называла дневником! Хорошо, что Агния Ивановна дала добрый совет. В последнее время записи стали другими. Ну, и сама я, конечно, взрослею. Ведь всё-таки мне шестнадцать лет, и я в девятом классе. Впрочем, иногда мне кажется, что я полная дура, тупица, ничего не могу понять в жизни, и тогда я становлюсь противной себе…
Ну, расфилософствовалась, Ингочка!..
Вчера был хороший день. Во-первых, две пятёрки. (Только что издевалась над такими записями.) Во-вторых, на занятиях нашего литкружка я читала свой рассказ, всем понравилось, а потом был интересный разговор.
— Тут зачеркнуто, — сказал Ярослав. — По-моему, зачеркнуты слова: «В-третьих, один человек…»
— Значит, этим «в-третьих» она боялась поделиться даже сама с собой, — задумчиво сказала Рано.
— Наверное, проще: «в-третьих» было несущественным, — скептически заметил Андрей.
О нашем литкружке я ещё не писала. Он гораздо лучше, чем в старой школе, откуда я перевелась. Я считаю, что все дело в руководителе. У нас руководитель Венедикт Петрович Старцев. Он ещё не очень старый, лет сорока, лохматый и милый очкарик, толстенький и безобидный. С нами держится как с равными, выслушивает очень внимательно и спорит яростно. С ним интересно: ни казенщины, ни нотаций. Мы читаем своё (у нас несколько «писателей»), обсуждаем литературные новинки и говорим на самые различные темы. Получается как-то «не по-школьному, и это хорошо.
Ребята в кружке, конечно, самые разные. Есть, по-моему, интересные. Мне нравится (как человек) Володя Цыбин. Правда, он противоречивый. Положительное в нём: держится независимо, хорошо воспитан, мыслит оригинально. Отрицательное — слишком любит всё модное и немножко важничает. Ну, а то, что он подражает Вознесенскому и ещё кому-то (Володя у нас «поэт»), так это не страшно: начинающие все кому-нибудь подражают.
Его противоположность — Мила Цапкина. Она у нас очень «правильная», очень дисциплинированная и очень въедливая. Володя дал ей прозвище Догматик, и оно прямо-таки прилипло к Миле. Но, мне кажется, она неплохая девчонка, прямая и честная. Мы с ней, похоже, начинаем дружить. Ну, ещё не по-настоящему, но как-то сблизились. Я её раза два поддержала на собраниях (она хотя и сухарь, а говорила очень верные вещи), и Мила, видимо, почувствовала ко мне расположение. Сама она ничего не пишет, а просто любит литературу и потому записалась в кружок. Мы шутя говорим, что из неё выйдет «железный» критик. Все может быть…
— Смотрите, — сказал Ярослав, — рисунки. И дальше — тоже. Она не только писала, но и рисовала.
Среди текста теми же фиолетовыми чернилами были набросаны портреты людей, дома в каком-то уголке улицы, старинный городской трамвай.
— А она неплохая художница, — похвалила Рано. — Очень уверенная рука… Взгляните, какое неуклюжее сооружение… Ну-ка, ну-ка, покажи это…
— Надо по порядку, — сказал Андрей. Ярослав снова стал читать.
Венедикт Петрович почему-то очень тянет в кружок Даниила Седых, но тот упирается. Вообще странный парень. Девчонки говорят про него «интересный», подразумевая красивую внешность. Мне кажется, даже Мила Цапкина порой заглядывается на Данечку. Я лично не нахожу в нем ничего особенного. Здоровый, сильный парень, нормальное лицо — и всё. Сутулится, потому что высокий, ходит вразвалочку. Правда, на спортивных занятиях и в играх он всегда один из первых. Откуда-то появляются и ловкость, и быстрота. А так — руки в брюки, молчит, усмехается. Иногда грубит. Но вообще-то, видимо, толковый парень. Увлекается биологией и биофизикой, должно быть, много читает, хотя учится не блестяще.
Вчера я как староста кружка подошла к нему после уроков. Велел Венедикт Петрович. Спрашиваю:
— Ты придешь на занятия литкружка?
Он насмешливо пожал плечами:
— В обществе гениев я чувствую себя стеснённо.
— Тебя, Седых, всерьез спрашивают.
— А похоже, что я шучу?
Я разозлилась:
— Ну, как хочешь!
— Вот именно. — Он повернулся, руки в карманы и пошагал куда-то, длинный и взлохмаченный. За ним, как всегда, насвистывая, Саша Патефон, его верный адъютант…
Сегодня с Милой ходили в кино, там встретили Володю с какими-то приятелями. После сеанса они хотели проводить нас, мы отказались. Домой почти бежали: было поздно и очень холодно.
А Володя, оказывается, курит. Мила расфырчалась. А что тут особенного? Многие курят. А ведь Володя уже и паспорт имеет…
— Это что такое — паспорт? — спросила Рано. — Разрешение курить?
Ярослав улыбнулся:
— Удостоверение личности. Его выдавали органы охраны общественного порядка всем, начиная с шестнадцати лет.
— Зачем?
— Рано, у меня тоже есть вопросы, — буркнул Андрей, — но, может быть, мы их отложим?
Рано чуточку надулась, но согласилась.
23 декабря 1962 г.
Сегодня было родительское собрание. На него, как обычно, отправился папа. Вернулся он не один — с каким-то громадным тихим и улыбчивым мужчиной. Это мой папочка любит — ходить на всякие собрания, знакомиться с людьми, тащить их на чашку чая, разговаривать, и всё у него получается так просто и естественно, будто весь мир — его родственники и друзья.
Мужчина вошёл в комнату, распахнул на меня глаза и густейшим, но негромким басом рокотнул с усмешечкой:
— Вот он какой — Ингалятор!
«Ингалятор» — это моё прозвище. Я на него не злюсь, прозвище совсем неплохое. Но откуда знать его этому дюжему дядюшке? Кто он такой?
Папа представил его маме:
— Прошу любить и жаловать, Павел Иннокентьевич Седых, отец товарища Инги.
«С чего бы это он к нам?» — удивилась я.
Мама тут же начала хлопотать об ужине. Оба они у меня такие, любят угощать: мама — стряпнёй, папа — разговорами.
Они толковали о каком-то новом методе планирования производства. Папа работает заместителем начальника мартеновского цеха, а Павел Иннокентьевич — где-то на строительстве. Вроде бы совсем разные занятия, а вот нашлась общая тема. Ради неё папа и затащил гостя домой.
За ужином я всё приглядывалась к отцу Седых. Он мне понравился. Очень спокойный, немногословный, видно, что сильный и добрый. Даниилу бы с него брать пример!..
После ужина они играли в шахматы. Тут уж я, конечно, пристроилась поближе. Сразу стало ясно, что теоретически папа подкован лучше. Но Павел Иннокентьевич тоже не промах. Он придумывал такие каверзные комбинации, что мне бы, наверное, не выпутаться. Папа всё-таки выиграл и был очень доволен, словно малый ребенок. Он, конечно, старался этого не показать, но меня-то не проведёшь.
— А как, Владимир Матвеевич, насчёт шашек? — прогудел гость.
— С удовольствием, Павел Иннокентьевич.
Ну, не знаю, какое он получил удовольствие, — три партии подряд проиграл. А Седых только ухмылялся: «Хм, хм», смотрел на папу добрыми своими глазами и приговаривал: «Бывает, бывает…»
Папе он тоже понравился…
Завтра разбор домашних сочинений по литературе. Интересно, как дядя Веня отнесётся к моей мазне. Я понадеялась на себя, все откладывала работу, а потом накатала за один вечер и, наверное, нагородила там что-то…
25 декабря
Вчера начали разбирать сочинения, и был великий спор. Сегодня продолжали и снова спорили. Тема сочинения была такая: «Какой герой мне по нраву». Можно было писать по литературным произведениям, можно и просто так, «из головы».
Самое интересное сочинение, как ни странно, получилось у Саши Петряева. Он написал почти настоящий рассказ. Главный герой — командир космонавтов, очень похожий на Юрия Гагарина, весёлый и бесстрашный. На далекой планете он без всяких фраз и позы жертвует собой ради других, но в конце концов не погибает: воля к жизни и победе помогают ему выпутаться из безвыходного положения.
Рассказ всем понравился. Вот вам и Саша Патефон!
Только я не стала бы «выпутывать», спасать героя. Это ведь не меню обеда, которое завершается, да и то не всегда, сладким.
Хорошо написала о революционерах-ленинцах Мила Цапкина. Но о Милином сочинении говорили, мало, скупо; я вообще промолчала. Слишком высоки, прямо священны для меня эти имена — Дзержинский, Свердлов, не говоря уже о самом Ильиче. Конечно, они были очень человечными, земными, но в них столько мудрости, отваги, любви к людям, они настолько выше всех, что подумаешь — и сердце замирает. Сколько ни называй их «обыкновенными» — они необыкновенны! Может быть, и у них были какие-то недостатки? Возможно, но разве в этом дело! Они всё равно прекраснейший идеал, и надо стремиться к этому идеалу, только без громких слов, без битья себя в грудь. Поэтому, наверное, и молчали наши ребята.
Зато на сочинение Даниила Седых набросились. Он написал об учёных. Конечно, постарался блеснуть эрудицией. Привел такие факты, о которых мы и понятия не имели. Где только выкопал? Идею он хотел вывести такую: настоящего учёного отличают упорство, точный расчет и способность к самопожертвованию во имя науки. Насчет самопожертвования не знаю, а так — что же, вроде правильно. Но Цапкина обвинила Седых… в безыдейности. Вообще-то она заглядывается на него и строит глазки, но тут её железная принципиальность победила.
Она рассуждает так: трудолюбие, упорство, расчёт, конечно, необходимы, но «учёному вообще» — и советскому, и буржуазному, и какому угодно. А что им движет? Какой-нибудь нанятый капиталистами ученый корпит в своей лаборатории, создавая средства для уничтожения людей в биологической войне, — это одно. А наш учёный, думая о народном счастье, выводит культуры полезных микробов для защиты людей от болезней, — это совсем другое.
А будто наши учёные не работают на военные цели?
Дальше она рассуждала правильно: все зависит от того, ради чего, во имя какой цели и идеи трудится учёный.
Кое-кто поддержал Милу, Даниил говорит:
— А если бы, скажем, Эйнштейн был гражданином Советского Союза, разве бы его теория относительности от этого изменилась?
Ему возражают: нет, теория бы не изменилась, а применение — наверное. Ведь факт, что Эйнштейн своими выкладками помог американцам создать атомную бомбу, а потом рвал свои седые волосы.
«Не знаю, — подумала я, — ведь всё-таки была война…»
Начали перебирать других ученых, вспомнили и Павлова, и Курчатова, и Понтекорво. Даниил огрызался, а потом сказал:
— Ну что же вы на меня нападаете? Неужели вы подумали, что я мог говорить об учёном-убийце?
И так это у него получилось, что мне даже жалко стало парня. Я выступила и поддержала его. В самом деле, ясно, что он говорил о советских ученых. Может, он сам ученым хочет стать…
А сегодня шум был уже из-за моего сочинения. Я назвала его «Нужны ли нам Павки Корчагины?» Как дядя Веня прочел название, класс затих, а потом зашушукался, загомонил. «Вы сначала послушайте, — сказал дядя Веня, — а потом галдите». И прочитал сочинение. Я сидела будто на еже. (Это — чтобы не употреблять «как на иголках».)
До сих пор не знаю, права я или нет. В чём-то всё-таки, мне думается, права, только не сумела выразить свои мысли.
Я не против Николая Островского и его Павки. Я ценю в Павке его беззаветную преданность революции, его горячность, смелость и упорство. Но мне он представляется каким-то очень далёким, совсем не сегодняшним, словно из другой эпохи. Звонкая лихость, сабельные атаки — в наше время кому они нужны? И… какая-то ограниченность. Представляю, как раскипятился бы Павка Корчагин, начни комсомольцы при нём танцевать хотя бы даже липси…
У героя сегодняшнего дня должны быть широкие интересы, высокий интеллект, спокойное упорство, деловая, без внешних эффектов одержимость идеей — большой, сильный, умный человек. Взять наших космонавтов. Да, дух у них, может быть, корчагинский, но облик и характеры — совсем другие.
Я хотела сказать, что герои меняются, каждая эпоха выкраивает их по-своему. Павка Корчагин в наши дни ведь тоже был бы другой и вел бы себя по-иному. Он воевал бы с технической рутиной, дрался за прогресс на производстве, может быть, поехал на стройку Красноярской ГЭС или стал кандидатом наук. И пел бы модные песенки и танцевал рок. Вот такие, сегодняшние герои нужны мне, а не «сабельники».
Ну и навалились на меня! Особенно Мила. Она припомнила и моё вчерашнее выступление и даже сказала, что я недостойна быть комсоргом. Ну-ну! Поверить ей, так я наплевательски отношусь к людям, отдавшим жизнь за революцию, и мне не дороги славные традиции прошлого.
Это сейчас я остыла и пишу вроде бы как ни в чём не бывало, а тогда была совсем не в себе. Сказать про меня такое!.. Спасибо дяде Вене: он немножко утихомирил этих глупцов.
— Холмова, — сказал он, — вовсе не перечёркивает таких литературных героев, как Павел Корчагин. Она пытается, пусть неумело, проследить и понять диалектику их развития. Люди типа Корчагина бились за народное счастье в дни гражданской войны и разрухи, отважно служили Родине на фронтах Великой Отечественной войны, сейчас они самоотверженно трудятся, отдавая весь пыл души коммунистическому созиданию.
Потом он пожурил меня за торопливость и нечёткость изложения мыслей. «Уж вам-то, Инга, — сказал он, — это не должно прощаться». Почему это «уж вам-то, Инга»? Что я — Лев Толстой?..
А в голове туман, хочется спать. Мама ругается: двенадцатый час ночи. Всё, сейчас бултыхнусь в постель.
27 декабря
Потрясающая новость: в нашу квартиру переезжает… Венедикт Петрович Старцев! Кто бы мог подумать?!
Уже давно было известно, что к Новому году наши соседи (они занимают третью, угловую комнату) получат отдельную квартиру. Все мы радовались: четверым в одной комнате им не очень-то сладко.
Вчера мама говорит: «Приходил новый жилец». — «Кто он?» — «Какой-то учитель. Лупоглазый такой, в очках, вроде бы тихий, интеллигентный. Одинокий, это хорошо».
Лупоглазый, в очках?..
«Фамилия Старцев», — добавляет мама.
Здравствуйте пожалуйста. Дядя Веня!
А сегодня он в переменку сам подошел ко мне, говорит:
— Вы знаете, Инга, я ведь переезжаю в вашу квартиру, уже ордер на комнату получил.
Я немножко растерялась, молчу, глазами хлопаю. Он говорит:
— Удивлены? Я тоже, когда узнал, несколько, надо сказать, растерялся. — И улыбается смущённо. — Но что же делать?
Тут я пришла в себя, говорю:
— Что вы, Венедикт Петрович! Это же просто замечательно!
«И верно, — подумала я про себя, — будет очень хорошо. Всегда можно с ним посоветоваться, и с папой они сойдутся». Венедикт Петрович пробормотал что-то вроде того, что он очень рад, и засеменил по коридору, а я даже не догадалась спросить, когда он переезжает и не надо ли ему помочь.
А в классе об этом, оказывается, уже знают. Откуда?
С Милой мы после её разгромных речей не разговариваем. Она воротит нос, а я что — бегать за ней буду?
28 декабря
Сегодня я шла домой — меня догоняет Володя Цыбин. Как, спрашивает, я буду встречать Новый год? Наверное, говорю, дома. Он предложил встречать у него. Говорит, что будет несколько ребят и девочек — его старые друзья. Я сказала, что подумаю.
Надо спросить у папы с мамой.
Мы долго бродили с Володей. Он сказал, что ему очень понравилось моё сочинение, и будто он даже рассказал о нём дома, и его отец заинтересовался (отец его не то какой-то чин, не то адвокат, не знаю).
Я пробовала отшутиться, но разговор пошёл всерьёз. Володя стал «развивать мои мысли». Он так и сказал:
— Если развивать твои мысли, можно представить и героя будущего.
Володя рассуждает так. Возможности науки и техники безграничны. Уже в следующем веке человек всю трудоёмкую работу передаст машинам и электронным устройствам. Чем дальше, тем больше он будет поручать приборам и умственный труд. Всеохватывающие знания, совершенно точный расчёт, машинная логика устранят из жизни человека сомнения и тревоги. Человек наперёд будет всегда знать, как следует поступить. Значит, исчезнут и такие качества, как смелость, находчивость, решительность. Они станут просто не нужны.
На меня от этих рассуждений повеяло каким-то опустошительным холодом — я не могла принять их.
— Ну, а в космосе, например? — пыталась я возразить. — Какие-то неизвестные условия, неожиданные опасности…
— Во-первых, человек живёт не в космосе, а на Земле. Во-вторых, ничего неожиданного в принципе быть не может. — Он рубил прямо как по писаному. — Теория вероятности будет разработана настолько детально, что электронно-счётные машины смогут предусмотреть решительно всё.
— Ну, а предположим, надо принять какое-то ответственное решение? — продолжала я. — Разве тут не нужны находчивость и смелость?
— Будут не нужны, — упорствовал Володя. — Электронный мозг поможет принять единственно верное, самое разумное решение.
Логика у него убийственная. Хотя внутренне я с ним не могла согласиться, во мне шевельнулось что-то вроде уважения к нему. Все-таки он интересный парень, думающий. И, оказывается, здорово умеет говорить — так горячо, увлеченно.
Я впервые почему-то обратила внимание на его глаза. Они у него большие, темные, выразительные.
Мы бродили по скверу, долго стояли возле нашего дома, всё разговаривали; потом Володя ушел.
Падал и искрился в свете фонарей мягкий, пушистый снежок. Во мне пробудилось что-то хорошее, словно песня. А потом стало грустно. Вот пронесутся десятилетия и века, подумала я, а все так же будет падать над нашей землёй снег, и такая же девушка выйдет под тёмное беззвёздное небо и будет так же смотреть, как бесконечно роятся снежинки. Какая она будет, та далёкая девушка! Ах, если бы, как в уэллсовской машине времени, слетать в тот грядущий мир! И поговорить… Надо же обязательно поговорить с ними, нашими потомками… Как подумаешь о таком — тревожно и сладко замирает сердце… Но неужели Володя прав?!

Пришла домой — папа увидел, что я вся заснеженная, и, конечно, заворчал: в наши дни и первоклашкам положено знать, что атмосферные осадки не всегда безобидны, надо избегать дождя и снега, а это великовозрастное дитя… И пошло! На него, случается, «находит». Ладно, мама заступилась:
— Так ведь снег — это же такая красота! — И вздохнула горестно и удивлённо, и было непонятно, то ли она на папину чёрствость досадует, то ли на то, что так неладно устроен мир: даже милого снега надо опасаться.
На самом-то деле папа не такой уж чёрствый, а мама не такая уж добрая. У них, по-моему, все «в норме», и, в общем, они — милейшие люди. Разница между ними в том, что папе после фронта удалось закончить вуз, и он гордится этим, а маме не удалось, и она, мне кажется, тоже чуть ли не гордится этим. Во всяком случае, достоинства не теряет.
30 декабря 1962 г.
Сие, наверное, уже последняя запись в этом году. Крутится старушка Земля и не ведает, что через сутки наступит Новый год. Ей хоть бы хны. А люди суетятся, бегают, чего-то жарят, парят, покупают вино, будто и на самом деле им предстоит перейти некую грань, за которой начинается Новая жизнь.
Условность? Да. Но я тоже, как все, чего-то жду от нового года, на что-то надеюсь, и мнится мне (совсем как в дрянных стихах это «мнится», за ним должно вылезти что-нибудь слащавое и сентиментальное… — лучше уж не заканчивать фразу).
А правда, чудится некая грань. Или на меня действует присутствие в квартире нового (и такого неожиданного и «необычного») жильца?
Он появился сегодня утром (соседи выехали вчера) в сопровождении… Даниила Седых. Принесли с собой обои и в два счета заново оклеили комнату. Даниил со мной и с мамой держался вежливо и суховато — на высшем официальном уровне.
— Обои — это от глагола «обивать»? — высказала предположение Рано. — Видимо, какое-то пластмассовое покрытие?
— Видимо, — согласился Ярослав.
— Наверное, они ещё не умели делать его полихромным, чтобы менять цвет, не меняя покрытия, — продолжала Рано.
Ярослав лишь кивнул рассеянно…
Днем, когда мы были в школе, Венедикт Петрович перевёз вещи. Сейчас возится с ними, передвигает, что-то приколачивает. Папа говорит, что предлагал ему помощь — Венедикт Петрович отказался. Представляю, как разговаривали эти интеллигенты.
Папа. Венедикт Петрович, может быть, вам, если позволите, нужно помочь?
Дядя Веня. Что вы, Владимир Матвеевич! Пустяки. Пожалуйста, не беспокойтесь. Спасибо.
Папа. Но всё-таки…
Дядя Веня. Что вы, что вы! Спасибо. Зачем же вам утруждаться?
А что бы папе сказать: «Давайте помогу». А тот бы ответил: «Вот хорошо!» Только и делов. И обоим приятно.
Впрочем, это я — по злости. Я всегда злюсь, когда слышу такие «сверхинтеллигентные» разговоры. Все эти «ахи», «если позволите» и прочая галантерея, по-моему, пережиток классового общества. Со временем они отомрут. Конечно, тактичность и вежливость необходимы, но отношения должны быть проще…
А заглянуть к нему хочется. Любопытно же, какой он дома. Но я нарочно не выхожу ни в коридор, ни в кухню, чтобы не подумал, что я сую свой нос.
Завтра девчонки налетят с вопросами — скажу: «Даже не видела его», — ни за что не поверят.
Так и не решила ещё, как встречать Новый год…
7 января 1963 г.
Вот и другой уже год на календаре, и каникулы подходят к концу. На этот раз они прошли как-то вяло, неинтересно. Один раз выползала в лес на лыжах, ходила в кино, была в театре, а в основном сидела дома, вернее, валялась — читала, мечтала, бездельничала.
Я стала какой-то нервной, раздражительной, нетерпеливой. Иногда находит такая тоска, что хочется реветь и лезть на стенку. Бывают, конечно, и хорошие минуты, мир засияет — всех бы обнимала. Мама усмехается: «Взбалмошная!» Никакая я не взбалмошная, просто настроение бывает разное.
Очень жалко, что у меня нет ни сестры, ни брата. Вот стану взрослой — обязательно нарожу кучу ребятишек. Семья будет большая, дружная, весёлая. Конечно, девушке в моем возрасте об этом рассуждать «не положено», так у нас многие считают. А я не считаю. Я же знаю, что детей не на базаре покупают, и почему я не могу думать о своем личном будущем?
Ну ладно, надо царапать свою мелкотравчатую «летопись».
Новый год встречала у Володи Цыбина. Для мамы это было целое событие: до сих пор я всегда проводила новогодний вечер дома. Мама, конечно, принялась расспрашивать о Володе, его семье, о тех, кто там будет. Я что-то плела.
— Что же это получается — вечеринка? — с удивлением сокрушалась она. — Моя дочь начинает ходить по вечеринкам!
Я уж не рада была, что затеяла разговор, лучше бы дома сидеть, но из упрямства настаивала. Как обычно, помог папа.
— Когда-то и ей надо начинать, — сказал он. — В предысторические времена это называлось «выезжать в свет». Почти закон природы. Все-таки девятиклассница.
Мама напустилась на него, он довольно стойко отбил все атаки, но затем мне пришлось выслушать столько советов, предупреждений, наставлений и запрещений, что к Цыбиным я явилась в самом кислейшем виде.
Вначале все было чинно, благородно и… скучно. А потом… Нет, надо ещё о «вначале».
У них большая, шикарно обставленная квартира, все — модерн. Красиво.
Я чувствовала себя не в своей тарелке: гости Володи были мне незнакомы. Какие-то две девушки и два парня. Один, с туповатой, скучающей физиономией, все рылся в пластинках, другой, Ника, щеголеватый, весь в модном, показывал карточные фокусы; держался он непринуждённо, и мне понравился. Девушка с красивым и очень глупым лицом все время почему-то противно хихикала. Вторая подсела ко мне, пыталась заговорить, но из разговора у нас мало что получилось. Галя (так зовут эту девушку) — из тех, что с восьмого класса подкрашивают губы и ресницы. Попробуй я — вот был бы дома шум!
Появились родители Володи. Папаша Цыбин, пухленький и холёный мужчина, соблаговолил разговаривать с нами. Снисходительно и благодушно он задавал нам вопросы и сам же отвечал на них, («Ну-с, как учимся, молодые люди?.. Знаю, знаю: ученье не должно заслонять радостей бытия?» Или: «Как вам нравится наша уральская погодка? Превосходная, не правда ли, хотя никто из нас не знает, что с ней случится через час. Так всё в нашей жизни, всё, дорогие мои друзья».) Очень интересный разговор!
Мама у Володи совсем другая. Она тихая, молчаливая и даже словно чем-то напуганная. Испуг в глазах, больших и ярких, как у Володи. Очень изящная и красивая женщина.
Потом родители стали собираться в гости.
— Старички тоже любят повеселиться, — сказал Владимир Михайлович и лихо подмигнул нам. — Надеюсь, леди и джентльмены, все будет в порядке?
— Все будет о’кэй, сэр! — ответил Володя. Пришли ещё двое: некто Вадим, старше всех нас, студент медицинского института, и с ним… Валя Любина, из нашего десятого «А». В школе такая скромница, глаза в пол, а тут явилась тоже накрашенная, шумная, даже развязная.
После того как родители ушли, все почувствовали себя свободнее. Меланхолик поставил пластинку с рок-н-роллом и пустился в пляс с этой писаной дурой. Вадим потребовал «пиршества», начали накрывать на стол. Рядом с маленькой капроновой елочкой на скатерти появились бутылки шампанского и портвейн. Я косилась на них с опаской. Ребята пошептались и двинулись на кухню.
— Пошли принимать эликсир мужества, — со смешком пояснила мне Валя.
Что за «эликсир», я догадалась, но не поняла, зачем идти на кухню: ведь вино на столе.
— «Бордо — питье для мальчиков, а портер для мужчин. Но кто героем хочет быть, тот должен пить лишь джин», — процитировала Валя и опять усмехнулась, — Вы этого ещё не проходили?
Я знала, это из байроновского «Капитана Блея», но промолчала, только пожала плечами.
За столом было шумно. Вадим и Ника изо всех сил старались перещеголять друг друга, изощряясь в остротах, каламбурах и анекдотах. Они не всегда знали меру, но я выпила портвейна и два фужера шампанского (узнала бы мама!), и всё мне стало трын-трава. Я сделалась смешливой и очень разговорчивой. Володя сел рядом со мной и все рассказывал о том, как прекрасно у них на даче и как весело будем мы там проводить время. Я его поминутно перебивала, пыталась «острить» и при этом хохотала громче всех.
Уж не помню почему, вдруг я полезла целоваться с Валей, потом принялась петь. Меня никто не слушал, я обиделась и, когда Вадим потащил меня танцевать, грубо оттолкнула его и убежала на кухню. Мне стало тоскливо, захотелось плакать. За мной пришел Володя, уговаривал, я плела какую-то чушь. Он усадил меня пить чай. Тут явился Ника и сморозил нечто шутливо-мерзостное насчет «пары голубков». Я залепила в него пирожным и разревелась. Потом меня стошнило, и, как в бреду, я слышала чьи-то слова о «цыпленке из детсадика» — обо мне.
Чаем Володя меня все-таки напоил, стало чуть полегче, я даже пыталась танцевать. Стол отодвинули, верхний свет в комнате притушили; было, наверное, уютно, а мне казалось — мрачно, даже зловеще. Ника пригласил меня на танго, руки у него были потные, разило водкой.
— Ничего себе «герой»! — сказала я, вспомнив строки из Байрона.
— Чем мисс недовольна? — пытался отшутиться он.
Мне стало противно, я вырвалась и забилась в угол.
В общем, вечер был испорчен; даже описывать эту муть не хочется. Домой я пришла поздно — долго бродила по улицам, чтобы освежиться, — вся продрогла.
— Ну, погуля-яла! — только и молвила мама, открыв мне дверь. А в глазах и беспокойство, и осуждение, и жалость.
— Мы на горке катались — промёрзла, — пробормотала я, отворачиваясь.
Постель была уже готова (милая мамка, позаботилась), я юркнула под одеяло и уснула.
Вот так я встретила этот год. До сих пор какой-то нехороший, стыдный осадок. Неужели весь год будет такой?..
8 января
На следующий день папа едва растормошил меня.
— Подымайся, гуляка! Мы приглашены на кофепитие к Венедикту Петровичу.
Новый год дядя Веня, оказывается, встречал у нас, с папой и мамой. А с утра он занялся стряпнёй, как самая заправская хозяйка. Никогда бы раньше не подумала, что наш всегда немножечко неуклюжий очкастик может так искусно и проворно хозяйничать на кухне. Мама всячески пыталась помочь ему, но Венедикт Петрович от помощи настойчиво уклонялся.
— Не допущу, Мария Илларионовна, не допущу, — лукаво и грозно поблёскивал он выпученными глазами. — Так вся слава вам достанется, а я хочу, чтобы мне…
Он приготовил печенье со странным названием «утопленники» и настряпал коржиков. Мама только ахала.
— И где это вы научились? — допытывалась она.
— А вы?
— Так я же всю жизнь хозяйничаю.
— И я. Тоже всю жизнь. — Венедикт Петрович сказал это весело, а мне почему-то стало жаль его.
Я с нетерпением ждала, когда мы зайдем в его комнату. Мне она представлялась почему-то пустоватой, неприбранной, с холодными голыми стенами, — наверное, такое я вычитала где-то о жилище холостяка. Ничего подобного: в комнате было уютно и красиво. Низкая широкая тахта, письменный стол, платяной шкаф и книги, книги, книги… От них, по-моему, и было так уютно. Наверное, хорошо забраться на тахту, включить торшер и листать том за томом, посматривая на книги и зная, что их ещё много, хватит надолго. Когда-нибудь, надеюсь, я до них доберусь.
Над тахтой я увидела фотографию женщины. Резковатые, восточного типа, но очень правильные, четкие черты, густые черные локоны и какие-то пронзительные, гипнотизирующие глаза. Кто она — сестра, мать или… Разглядывать портрет, спросить о нем было неудобно; я старалась даже не смотреть в ту сторону.
Венедикт Петрович был и такой же, как в школе, и не такой — совсем простой, домашний и весёлый, настоящий «дядя Веня». Он сварил замечательный кофе, и даже папа, закоренелый чаёвник, тянул чашку за чашкой и все нахваливал. Мама (неисправимая!), словно желая «отомстить» Венедикту Петровичу, развернула на кухне кипучую — деятельность и курсировала от стола к плите и обратно, добавляя то одну, то другую постряпушку. Вот будет раздолье для мамы, когда у нас появится газ!
— Газ в квартире? — вырвалось у Рано удивлённо. — Ведь это же не девятнадцатый век — двадцатый. Они сами называли его «веком электричества».
— Видимо, мечта несколько опережала события, — пожал плечами Андрей.
— Да, — сказал Ярослав, — электричество было ещё далеко не всюду. Над городами стояли громадные облака дымов.
— Проблемы энергетики… — Андрей стал серьёзным. — Они и в наше время — одни из труднейших.
Сначала разговор шел нудноватый: «Ах, как вкусно» да «Ах, как сладко». Потом папа заговорил о книгах, удивился, что у Венедикта Петровича так много научной литературы. Разговор зашёл об уровне познания, о кибернетике, бионике, автоматике и других «иках» и «атиках». Тут я увидела, что я крайне отсталый элемент, ни черта в этих проблемах не понимаю. Но меня удивило, как свободно разбирается в науке и технике Венедикт Петрович. Откуда это у него? Я гордилась им и нет-нет да посматривала на папу: вот какой у нас дядя Веня!..
Мне было так хорошо с ними, но тут к папе пришли гости — Александр Лукич с женой, начальник их цеха. Раз Александр Лукич, значит, будут пить водку. И, когда Венедикт Петрович предложил мне остаться посидеть у него, я с радостью согласилась.
Мы с ним начали убирать со стола, как вдруг раздался стук и в дверь просунулась вихрастая голова Даниила Седых. Я хотела уйти, но дядя Веня не отпустил.
— Угощай гостя, — сказал он. — Я сварю свежий кофе, — и ушёл на кухню.
Даниил сник: видимо, в моей компании ему было не по себе.
— Ну, как встретил Новый год? — спросила я.
— Нормально. А ты?
— Тоже.
— Хороша погода сегодня.
— Ничего.
Такой «содержательный» состоялся у нас разговор. А минутой позднее, когда вернулся Венедикт Петрович, выяснилось, что Даниил новогоднюю ночь провел вовсе не «нормально», а просто великолепно. Оказывается, у них в семье традиция — в ночь на первое января выезжать на электричке за город, в лес. Там они зажигают костер, украшают настоящую, живую ёлку. Вот это я понимаю!
Когда дядя Веня спросил, а как встречала я, я сказала:
— Собирались у одних знакомых. Вы их не знаете. Хорошо было, весело.
Дядя Веня бросил на меня быстрый косой взгляд. Я подумала: «Наверное, мама сказала ему, где я была. Ну и пусть…»
— Чем же мы займёмся, товарищи люди? — Венедикт Петрович смотрел на нас из-за своих увеличительных стёкол с настоящей озабоченностью.
Даниил сказал, что ему пора уходить; я обрадовалась, но дядя Веня вовсе и не думал отпускать своего дружка. Он сказал, чтобы мы пока поиграли в шахматы, а ему надо кое-что сделать; потом мы все вместе отправимся на почтамт, а оттуда — в картинную галерею; там какая-то новая выставка из Москвы.
— Ты что, играешь? — небрежно спросил меня Даниил, кивая на шахматную доску.
— Так, чуть-чуть, — сказала я.
Даниил дал мне белые фигуры. Я начала своим излюбленным е2 — е4; он стал разыгрывать, как мне показалось, защиту Каро-Канн, потом запутался и скоро отдал слона за пешку. Я старалась не очень показывать своё торжество, наоборот, изображала небрежность: сделав ход, отвертывалась и равнодушно поглядывала в окно, а сама анализировала возможные комбинации. Теперь Даниил подолгу размышлял, ерошил волосы и хмурился. Я радовалась — и напрасно: все-таки он сумел свести партию на ничью. Над второй мне пришлось попотеть. Ну, зато не зря — выиграла. Даниил сделал вид, что это его не очень огорчает. А сам переживал. Попереживай, может, зазнаваться будешь меньше!..

Венедикт Петрович что-то писал, потом заклеивал в конверты довольно объёмистые рукописи, и при этом они с Даниилом обменивались какими-то фразами, понятными только им. Я, конечно, молчала как мышонок, хотя пламенела от любопытства. (Вот написала так, чтобы не употребить затасканное «сгорала от любопытства», а ведь «сгорала» — лучше.)
Когда шли к почтамту, дёрнуло меня заговорить о радиоактивности атмосферы, — как раз пошел снег.
— Вот я читала… — начала я, думая, что они если не поразятся моей учёности, то хоть выслушают с интересом.
А Даниил послушал немножко и нагло так усмехнулся:
— А ты не читала, что на днях начнется страшный суд господний? — И уже к дяде Вене: — У нас соседка, старуха такая, церковная крыса, все бубнит о конце мира, о страшном суде и на радиоактивность ссылается. Не знаю уж, кто её просвещает, только радиоактивность — это у неё тоже любимая тема.
Главное — «тоже любимая»! Я ему глаза выцарапать хотела. Дядя Веня (всё-таки он чуткий) сразу уловил это, говорит:
— От Инги я слышу это впервые. Тема, конечно, волнующая. Правда, на ней спекулируют нытики и всякие прохвосты, даже пытаются обосновать некую философию обреченности. Но иметь представление о радиоактивной опасности надо. Недаром учёные серьёзно занимаются этой проблемой.
Даниил поутих, пробормотал только, что учёные пусть занимаются, а панику разводить нечего. Будто я панику разводила! И потом, о радиоактивности мне папа так много говорил…
Пока Венедикт Петрович сдавал на почте свои пакеты, я улизнула. Чего я буду насмешки да нотации выслушивать? У меня каникулы. Сказала Даниилу, что мы с Милой договаривались встретиться, будто только что вспомнила.
Домой идти не хотелось, бродила по улицам, толкалась по магазинам, потом зашла в кафе-мороженое. Уминаю пломбир — вдруг над головой:
— Можно, мисс, присесть к вам?
Смотрю, Володя с Никой. Нисколько не хотелось встречаться с ними после новогодней ночи. А они как ни в чём не бывало вспоминают, смеются, подзуживают друг друга. Постепенно и я отмякла. Они тянули в кино, я не пошла. Когда мы стояли возле кинотеатра, откуда-то вынырнул Седых:
— Привет! Хомлова, тебе Догматик Цапкина кланяться велела. Мы её в картинной галерее видели, — и исчез.
Так перевернул мою фамилию! И с Цапкиной — раскусил.
— Это что за дундук? — прищурился Ника.
— Один недоразвитый гений из нашего класса, — пояснил Володя.
Продолжаю сегодня же. Папа с мамой ушли в театр. Я читала — надоело, взгрустнулось что-то.
Из комнаты Венедикта Петровича доносится приглушённое постукивание пишущей машинки. Он ставит её на мягкую подстилку, чтобы стучала тише.
Чего-то хочется — чего, не знаю сама. Прямо хоть реви. Если прислушаться к себе, хочется, пожалуй, одного — среди ночи мчаться на бешеном коне и стрелять на скаку. Странное для девушки желание. Но оно почему-то появляется у меня уже не первый раз, приходит откуда-то изнутри, «из тёмных глубин души»…
Жалко, что поссорилась с Милой, а то бы пошла сейчас к ней. Хотя, если честно, не хочется. Мне кажется, ей не всё расскажешь о том, что на сердце. Все же она сухарь в казенной, скучной обертке. А пойду я к милой Агнии Ивановне. Так давно у неё не была, а старушка, говорят, болеет.
13 января
Очень хорошо, что побывала у Агнии Ивановны. Правда, чуть не опоздала домой. Едва успела раздеться — вернулись из театра папа с мамой. «Ты что такая румяная?» — «Ходила погулять, вдыхала кубометры». Ладно, что они упоены Чайковским, — им не до меня.
Об Агнии Ивановне надо подробно. Ведь, по сути, и дневник-то я веду из-за неё.
Она всё в той же тесной, забитой книгами и увешанной фотографиями своих учеников клетушке. Совсем постарела, ещё больше сгорбилась, вся в морщинах, но по-прежнему бодрящаяся и неунывающая. Поясница обёрнута шалью — болит. Конечно, сразу же взялась за чайник. Без чая у неё нельзя. И раньше, когда набивались мы в эту клетушку по пять-шесть человек, всегда был чай — из разных чашек, кружек, стаканов — и всегда с роскошным вишнёвым вареньем.
Это повторилось и вчера. Лишь водрузив на письменный стол чайник и варенье, она вскинула на меня огромные выцветшие глаза, сказала устало:
— Ну, Ингочка… рассказывай.

Я пожала плечами:
— Да ведь я, Агния Ивановна, просто так навестить вас пришла. Рассказывать — о чём?
Она всё смотрела на меня и смотрела, и я, конечно, стала рассказывать. О том о сём, о новой школе, о преподавателях. Когда Агния Ивановна услышала о Венедикте Петровиче, она обрадовалась:
— Веня Старцев!.. Это, наверное, не положено — солидного человека, учителя словесности, именовать при его ученице Веней, а? Ну, да для меня вы все — Вени, Вани, Инги, Маши.
Это-то я знаю. У неё, по-моему, тысячи учеников. Она и министра может назвать Колей.
Я сказала, что Венедикта Петровича мы любим, зовём дядей Веней. Она заулыбалась:
— Ему повезло. Меня-то вы тётей не называли… Значит, он вам нравится? Хороший преподаватель? Рада, очень рада. Ты ему передай привет от… Они меня тоже, как и вы, называли Божьим одуванчиком… Очень славный был мальчик. И, знаешь, ведь это из-за меня он стал литератором. Горжусь… А может, зря горжусь? Может, ему нужно было идти в науку… Всё-таки мы часто ошибаемся, полагаясь на свою педагогическую интуицию и тешась тщеславием. Ты не смотри на меня так, ты же почти взрослый человек и тоже должна думать о своем будущем. А когда-нибудь придётся тебе задуматься о будущем своих детей… Ты продолжаешь вести дневник?
Я сказала, что продолжаю.
— Это хорошо. — Агния Ивановна задумчиво покивала. — Дневник веди. Прилежно, подробно записывай всё и пытайся анализировать. У молодых этого всегда не хватает — анализа, оглядки на себя, на свои поступки…
Милая моя старушенция закатила целую речь. Говорила она, как всегда, грубовато, но я-то уже привыкла к этому, — мы всегда относились к ней, как к родной бабке.
— Вы любите корчить из себя самостоятельных, — «гвоздила» она, — а на самом деле выезжаете ведь не на своём, а на прихваченном у кого-то мнении… Самое большое несчастье — отсутствие твёрдых убеждений. Настоящий человек обязательно должен быть убежденным в чём-то. А для этого ему надо уметь наблюдать, оценивать факты, сопоставлять их, рассуждать.
Я сказала, что это в общем-то известные истины.
— Вот-вот! — ехидно подхватила она. — В том-то и беда, что ко всему вы относитесь с этакой лёгкостью и верхоглядством. Ты слышала, что надо быть убеждённой, а я сама убедилась в необходимости этого. Разница? Надо всё переварить в своем «я», чтобы добрые, хорошие идеи стали и твоими, выстраданными, кровными. Можно произносить слова о высоких идеалах — и оставаться холодной чинушей. Но, если эти идеалы прочно впаяются в твоё сердце, станут не только общими, но и твоими собственными, ты никогда не останешься холодной…
Я стараюсь записать этот разговор подробнее, но вижу, что получается плохо, совсем не так, как было у Агнии Ивановны. Она долго говорила о самовоспитании и незаметно перешла к взаимоотношениям с коллективом, с обществом. Это было как раз то, о чем мы ещё осенью рассуждали с Милой Цапкиной. Я сказала об этом Агнии Ивановне.
— Вот нам говорят, — сказала я, — что при коммунизме личность получит неограниченный простор для развития. А в то же время учат нас — личность всецело будет подчинена коллективу, обществу. Разве в этом нет противоречия?
Агния Ивановна посмотрела на меня с сожалением:
— У тебя, девочка, в голове вот так… — Она изобразила руками какую-то мешанину. И объяснила, как всё это, по её мнению, нужно понимать.
Совершенно неограниченный простор для развития личности так же, как и полное подчинение её обществу, сказала она, это «антидиалектический загиб». Всё дело в том, что личность и общество будут развиваться и взаимодействовать гармонически, так, чтобы было взаимно полезно и целесообразно. И выходит, что никакого противоречия между личностью и обществом в будущем не будет. Просто не может быть. Если каждая личность будет развиваться, совершенствоваться, от этого общество только выиграет. И, наоборот, сильное, дружное и доброе общество всегда поможет личности.
— По-моему, каждый человек, — сказала Агния Ивановна, — должен начинать прежде всего с себя, с самосовершенствования. Если бы все — представляешь, все в нашей громадной стране! — задумались над этим и каждый бы взялся за себя… Но вот тут-то и необходимо убеждение.
Я просидела у неё весь вечер. Когда я уходила, она сказала:
— А Венедикта Петровича вы берегите. Он очень хороший человек и, как всякий хороший человек, легкораним. У него и так… Он много пережил. Берегите его.
Тут у меня вырвалось:
— У него была несчастная любовь?
Агния Ивановна посмотрела на меня как-то странно. Словно бы удивленно и в то же время насмешливо.
— Уж обязательно несчастная!.. Как это так: любовь — и несчастная? Настоящая любовь — всегда счастье.
Но что же такое пережил дядя Веня? Она так и не сказала. И это теперь не даёт мне покоя. Я даже думать о нём стала по-особому…
Сегодня я передала ему привет от Агнии Ивановны. Он расцвёл — обрадовался. Потом задумался, качнул головой:
— Проведать бы надо старушку.
Надо, обязательно надо, дядя Веня!..
А завтра в школу. Это полугодие будем заниматься с первой смены.
15 января
Как-то всё в мире странно, или я такая глупая и непринципиальная?
Мне казалось, что с Валей Любиной после новогоднего вечера мы, кроме «привет — пока», ничего друг другу не скажем. Я даже подумывала, как увижу её в школе, прикинуться дурочкой и при всех спросить: «А почему это, Валечка, у тебя сегодня губы не подкрашены?»
Ничего подобного. Она увидела меня первая, издали, в коридоре. Подбежала, зацепила под руку, прижалась, как лучшая подруга. Отвела в сторону и сообщила, что я выгляжу «как куколка», что в театре музкомедии появился новый актёр — «выглядит божественно» — и что, по её наблюдениям, кое-кто обо мне вздыхает. Все это чушь, но я все же спросила — кто это «кое-кто»? Валя не ответила, поулыбалась интригующе и сказала, что на этих днях нам необходимо встретиться.
У меня особого желания нет.
А с Милой Цапкиной все получилось наоборот. Я уже и забыла почти о ссоре, подошла к ней, спросила, хорошо ли провела каникулы, а она и разговаривать не хочет. «Да», «нет», «не знаю» — вот и вся её щедрость.
Но этим дело не кончилось.
Володя слышал наш разговор и, когда он закончился, подмигнул мне и сказал тощим голосом: «Не обижайте цацу». При этом он поджал губы, вытянул шею, руки растопырил, как куцые крылышки. Ребята засмеялись. Я схватила мел и набросала на доске примерно такую же карикатуру. В это время звонок, мы не успели стереть с доски — входит Аркус, наш классный «зарукуводитель», грозного вида дед с добрейшей душой, — Аркадий Семенович Плотников. Он долго раскладывал на столе свои бесчисленные бумаги и бумажки, а сам, видимо, прислушивался к хихиканью и соображал, к чему оно относится. Потом оглянулся, увидел карикатуру и, словно пятилетний ребенок, спрашивает: «Кто это издевается над Цапкиной?»
Ребята грохнули. Цапкина вскочила и выбежала из класса. Дед Аркус очень смутился: «Придется извиняться» — и направился к двери. Я бросилась за ним: «Аркадий Семенович, зачем же вам-то? Это я виновата… что так похоже получилось». Он помедлил, укоризненно покачал седой головой и решил: «Ладно, пусть она поостынет, потом извинимся вместе».
В перемену я разыскала Милу. Она сказала, что в моих извинениях не нуждается. А глаза у неё были красные. И пронырливые семиклашки уже дразнили её «цацей». Мне её стало жалко. Впрочем у неё нашелся защитник. Саша Патефон. Он нам с Володей сказал: «Что же вы двое на одну?» Только я не поняла, всерьёз он или балабонит.
Начала читать «Письма об изучении природы» Герцена. Папа посмеивается: не осилить. Посмотрим! А вообще-то скучновато.
20 января
Ходили на лыжах. Уговаривались всем классом, а собралось человек десять. Как ни странно, мисс Цапкина была. Саша Петряев учил нас прыгать с трамплина (конечно, с маленького). Раза два здорово трахнулась, по прыгать понравилось. Удивительно ощущение полёта. Надо разузнать, как записаться в аэроклуб — заняться парашютным спортом. Конечно, придётся повоевать с мамой, но что поделаешь…
Когда вернулась, у нас сидел Павел Иннокентьевич Седых. Я поспала, потом читала. Начала брать книги у дяди Вени.
Писать не хочется. Не записи, а муть. Надо бы заняться немецким, много задано переводить — тоже не хочется. Ничего не хочется.
27 января
Ровно неделю не заглядывала в дневник. Опять воскресенье, и опять сижу дома. С утра помогала маме, потом читала Герцена. Не такая уж я тупица, оказывается: понимаю кое-что. Папа хитренько молчит. По глазам вижу — доволен.
За это время пришлось нажать на учебу. По немецкому чуть не схватила двойку. Только на старой репутации и вылезла. Дед Аркус тоже что-то навалился на меня: спрашивал чуть ли не на каждом уроке. Ну ничего, кажется, атаки отбиты…
Только что у нас в гостях был собственной персоной Даниил Седых. Получилось это нечаянно. Он пришёл к Венедикту Петровичу, а того не оказалось дома, мама и затащила Даниила к нам. Посиди да посиди. Он посмотрел мои книги, увидел на столе томик Герцена, спросил небрежно:
— Ты?
— Я.
— Ну-ну.
Будто профессор какой!
Сыграли с ним в шахматы. Мама, конечно, заставила нас поесть своей стряпни. Очень милое развлечение. Вернулся дядя Веня — Даниил утопал к нему.
Сегодня дам себе передых — буду валяться и читать Хемингуэя. До свидания, глупый дневничок: у твоей хозяйки есть занятие поинтересней…
…С «передыхом» ничего не получилось. Только взялась за книгу — явился… Володя Цыбин. Вот уж кого не ждала! Правда, как-то на днях он грозился нагрянуть, но я думала — в шутку.
Невольно сравнивалось: вот только что был Даниил, теперь пришел Володя, — какие они, оказывается, разные! Володя был очень покладист и вежлив, разговаривал с мамой: она, конечно, и его потчевала шанежками; он хвалил напропалую — мама расцветала.
Володя тоже заинтересовался: неужели это я читаю философский труд Герцена? Немножко подивился и сказал:
— Чудачка, над этими штуками нам ещё в вузе попотеть придется. Зачем спешить?

Но в общем-то с ним было просто и легко, не то что с Даниилом. Мы проболтали, наверное, целый час. Потом он потащил меня в кино. Билетов, конечно, не достали. А на улице мороз — вот-вот щеки отвалятся. Володя предложил пойти погреться к Вадиму. Мне казалось — неудобно: почти взрослый человек, малознакомый.
— Какой же он взрослый! — посмеивался Володя. — А кроме того, сама ты что — малолеток?
Вадим живет у тётки. У него отдельная комнатка, тесная и грязноватая. Он обрадовался нам, сказал, что вчера сдал экзамен, сегодня заниматься лень. Слушали магнитофонную запись — есть славные вещички. Потом Вадим читал стихи. Читал он хорошо. Стихи были незнакомые: Ахматова и ещё кто-то. От Ахматовой осталось что-то тоскливое и жутковатое. Почему-то запомнилось надрывное, страшное: «…Когти, когти неистовей мне чахоточную грудь».
Потом Вадим со смешком («Сейчас я вас буду развращать») читал выдержки из какой-то книжонки с названием «Формулы и теоремы любви». Много пошлого и глупого, по есть интересные житейские высказывания. Вадим говорит, что у него «изрядно подобной всячины». «Будем живы — почитаем», — пообещал он. Я хотела порыться в его книгах — он не дал, опять со смешком: «Огнеопасно, можешь опалить свои пёрышки».
Вадим, похоже, умный, много знает, но какой-то он скользкий: на что-нибудь намекнёт и уходит в сторону, не договаривает.
Просидели у него часа два. Дома сказала: были в кино.
Что-то часто я стала врать.
28 января
Сегодня в газетах — сообщение о полёте станции «Марс-1», запущенной в ноябре. Она удалилась от Земли уже на 43 миллиона километров.
Мы говорим об этом как-то спокойно: всякие там спутники и межпланетные станции становятся для нас привычными. А ведь уже само по себе то, что такое становится обычным, — это же величайший факт в истории человечества! Правда, газеты пишут об этом, но очень уж легко, даже снисходительно относился мы к напечатанному. Вот сегодня я прочла в газете заголовок: «Советский народ уверенно прокладывает Дорогу в космос» — и перелистнула страницу, словно муху отогнала. А потом что-то сделалось со мной, кто-то изнутри шепнул: «Дура, шевельни хоть чуточку своими извилинами». И верно, я задумалась, представила себе эту крохотную металлическую букашку «Марс-1», летящую в чёрном холодном безграничном мире, — на 43 миллиона километров умчалась, а попискивает, переговаривается с Землёй! — и у самой сердце замерло и полетело куда-то от удивления и гордости за Человека, который может такое…
В школе я говорила об этом с Володей.
— Очень скоро, — говорит он (и так, будто только вчера беседовал с самим академиком Келдышем), — будет ещё и не то. На Марс полетит уже человек.
— А ты, только честно, полетел бы?
Эти вопросы у нас в классе, да и всюду, задавали друг другу десятки раз, и, наверное, спрашивать было наивно и бесполезно, но что-то меня толкнуло — я спросила. А Володя говорит:
— Честно? Нет, не полетел бы.
— Боишься?
— А чего бояться? Полет будет рассчитан наверняка.
— Так почему?.. Ведь это страшно интересно — ступить, понимаешь, самому ступить на неведомую, загадочную планету.
— В том-то и дело, что интересно, — говорит он. — И на Луну интересно, и на Марс, и на Венеру. И хочется и туда и сюда. Так лучше сидеть у телевизора и смотреть на все помаленьку.
— Ты просто трус, — сказала я ему.
А потом подумала: «Нет, это не трусость». И признаться он мне не побоялся. Сказать «полечу» было проще всего. Любой мальчишка, не задумываясь, так бы, наверное, и сказал. А Володя видно, все обдумал: у него свой взгляд, своё отношение. И опять, как в том разговоре о человеке будущего, я почувствовала внутренний протест и в то же время что-то похожее на уважение к Володе…
Яша Шнейдер, наш секретарь комитета, устроил мне сегодня публичную «выволочку» за бездеятельность. Я, конечно, огрызалась, но, что ни говори, Яша прав. Пора, товарищ классный комсорг, хоть чуточку пошевелиться!
1 февраля
Сегодня провели в классе комсомольское собрание. Странное чувство осталось у меня после него: неудовлетворенность, какая-то тревога и вместе с тем желание сделать что-то хорошее.
Поначалу все шло как обычно. Дед Аркус уселся в свой любимый уголок возле окна, сказал мне: «Давай, Холмова, начинай» — и уткнулся в свои записочки. Говорят, он вот уже лет пятнадцать ищет решение какой-то сложнейшей задачи, предложенной ещё в XVIII веке, но, бедный, никак не может найти.
В повестке дня был один пункт — о плане работы. Ребята вносили совершенно серые предложения, вроде «провести культпоход в театр», «обсудить спектакль», «выпустить сатирический листок». Все были вялые и скучные. Саша Патефон маячил, что, дескать, надо закругляться, и на пальцах изображал катание на коньках. Я разозлилась и начала чуть ли не орать, обвиняя всех в том, что они такие равнодушные, безынициативные, ничего интересного придумать не могут.
— А ты можешь? — уколол меня Петряев.
«Почему это я должна придумывать?» — вертелось у меня на языке. Но если бы я так сказала, каждый мог бы повторить эти слова. И я, ещё не зная, что предложить, бухнула:
— Могу!
И только после этого стала лихорадочно соображать, а что же на самом деле предложить. Тут мне вспомнился журнал, о котором рассказывал папа. Он выходил давно, назывался «Хочу все знать». Что, если нам создать кружок с таким названием? Есть кружки физический, химический, радиотехнический, всякие там спортивные секции, а вот я, например, ни в каком кружке не состою (вру, в литературном), а знать хочу обо всем. Ведь в каждой отрасли знания так много интересного, время приносит всё новые и новые открытия, и тот из нас, кто занимается чем-либо определенным, может на этом кружке рассказывать другим о достижениях «своей» науки. Седых приготовит сообщение о своей биологии или там генетике, Петряев — о положении в спорте, Цыбин — о достижениях у физиков. Можно и настоящих ученых приглашать.
Все это я выложила ребятам. Им понравилось. Аркус тоже поддержал и процитировал из Тимирязева, что, когда человек знает все о чем-нибудь и что-нибудь обо всем, это признак подлинной культуры.
Ребята разговорились, стали предлагать разные темы для занятий кружка, поспорили о его названии. Организовать кружок поручили Даниилу Седых, Саше Петряеву и Миле Цапкиной.
По-моему, может получиться интересно. Во всяком случае, этого хочется. И все же от собрания осталась неудовлетворенность. Сидели двадцать восемь лбов, думали (а может, и не думали?) и ничего, кроме этого кружка, придумать не могли. Наверное, я действительно никудышный комсорг: не могу ни зажечь ребят, ни направить их энергию в нужное русло. Правда, энергии-то я и не замечаю особенной. Или плохо, невнимательно смотрю?
Мне кажется, это не только в нашем классе такой затор. Пожалуй, во всей школе. Не очень-то заметны у нас комсомольцы. Собрания наши — обычные классные собрания, только называются комсомольскими. Все ребята в классе комсомольцы, и это высокое звание для многих перестало быть высоким. Словно подразумевается, что если ты переходишь в старшие классы и ты не моральный урод, то обязательно и как бы автоматически тебя принимают в комсомол. А если подходить к приему построже? Тогда, скажем, в нашем классе членами организации были бы не все, а только самые лучшие, самые активные, передовые, человек десять — пятнадцать. Получилась бы группа вожаков, заводил; мы бы чувствовали, что на нас лежит особая ответственность, что мы как бы авангард. Тогда бы и сами подтянулись, и другие смотрели бы на нас так: это не просто ученики 9-го «Б», это — комсомольцы!
Или я путаю? Но, чувствую, что-то у нас не так, надо как-то по-иному браться за дело, встряхнуться самой и встряхнуть всех.
4 февраля
Сегодня ещё в раздевалке меня поймал Яша Шнейдер. Неугомонный человек, он целый день носится по школе, кого-то разыскивает, кому-то дает поручения, кого-то ругает или хвалит. Все он делает быстро и шумно — сплошной восклицательный знак. Наскочил на меня:
— Привет, Инга! Это вы здорово придумали! Молодец! — и умчался.
На лестнице — завуч:
— Холмова, что это вы там затеваете? Не спросили, не посоветовались…
— Мария Сидоровна, я не понимаю. Вы о чем?
— Интересно! Она не понимает. Она меня же и спрашивает! Афиши по всей школе — разве не ваших рук дело?
— Какие афиши?
— Не знаешь? Ну, тогда дело ещё хуже. Полюбуйся.
На лестничной площадке куча ребят облепила большущий лист бумаги. Это и есть афиша? Я прочла:
ВСЕ, КТО ИЩЕТ
интересных путей в жизни,
увлекательных дел,
новых знаний,
ВСТУПАЙТЕ В КЛУБ „ИСКАТЕЛЬ"!
ТЕМ, КТО ИЩЕТ
пустых развлечений,
безделья,
танцулек,
— дорога в клуб закрыта!
Вступительный взнос — дельное предложение о работе клуба.
За всеми справками обращаться в 9-«Б» к А. Петряеву,
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «ИСКАТЕЛЯ»
Какой «Искатель»?.. До меня по сразу дошло, что это наш кружок «Хочу все знать». А дошло — я обрадовалась: славно повернули ребята!
Наш класс гудел: его атаковали пяти— и шестиклассники. Саша Петряев мужественно отбивался от них, потом вывесил на двери объявление:
«Искатель» — только для старших классов.
Со второго урока меня, Цапкину, Сашу и Даниила вызвали к директору. Мария Сидоровна скромненько сидела в уголке, будто к вызову была непричастна.
Я рассказала о комсомольском собрании; дальше ответ держал Даниил. Собственно, это он с Сашей и затеял организацию «клуба». («Кружки — это надоело. Очень уж привычно».) Они составили Манифест Искателей — что-то вроде программы клуба. Он его тут же прочитал. Я, поднапуганная Марией Сидоровной, думала, что от директора нам достанется. Но он отнесся к клубу совсем по-другому: наоборот, похвалил нас и спросил, не прикрепить ли в помощь кого-нибудь из учителей. Я сказала: «Венедикта Петровича». Даниил и Саша запротестовали: «Мы хотим сами. Разве нельзя?» — и демонстративно, в упор расстреливают взглядами Марию Сидоровну.
Степан Иванович — человече хитрый:
— Отчего же нельзя? Если сами — ещё лучше. Верно, Мария Сидоровна?
Она отвечала не очень внятно. Сцена весьма приятная!
Степан Иванович сказал, чтобы, если понадобится, без стеснения приходили к нему. В класс мы вернулись победителями.
Все бы ладно, только эти чудики Петряев и Седых очень уж, по-моему, ревниво относятся к своему детищу. Я предложила им помочь — нос воротят: «Сами!» Они даже Милу Цапкину не очень-то подпускают к будущему клубу, а ведь ей тоже поручено. Она злится, но пока не взрывается.
После уроков Саша и Даниил ходили в параллельные классы проводить летучие собрания. Горячо взялись ребятки.
А Герцена мне так, наверное, и не дочитать.
6 февраля
Программу клуба вчера обсуждали на комитете. Всё олл райт.
Сегодня у меня состоялся мутноватый и в общем-то невеселый разговор с Валей Любиной. Она предложила проведать Вадима. Говорит, заболел, гриппует. Я мялась, не хотелось к нему идти. Мы бродили но улице взад-вперед. Заговорили о клубе. У Вали к нему отношение ироническое.

— Что же вы там будете искать? — спрашивает она. — Правильных дорог в жизни? — и насмешливо упирает на «правильных».
— Это смотря что донимать под «правильным», — сказала я. — Будем собираться, слушать сообщения о новостях науки, техники, искусства, обсуждать будем, спорить.
— Ах как благородно! Мало вам обычных занятий? Дополнительную школу решили устроить.
— А тебе неужели неинтересно знать, что творится в мире за школьными стенами? Тебя удовлетворяет одна учебная программа?
— Ничего меня не удовлетворяет, — неожиданно зло сказала Валя. — Надо же аттестат получить. Без аттестата даже замуж как-то неудобно выходить.
Я удивилась:
— Ты что, замуж собираешься?
— Какая разница — замуж не замуж!.. Тебя, Инга, не поймешь: вроде девушка как девушка, а послушаешь — совсем ребенок.
— Что же во мне такого уж детского?
— А вся ты в форменном школьном фартучке! — И передразнила: — «За школьными стенами»!.. Да никуда ты за школьные стены, видно, ещё и не заглядывала.
— А ты заглянула? — Я спросила это, и мне сделалось не то что страшно, а как-то пронзительно — как перед тем, когда ныряешь ночью в незнакомом месте. Я подумала о том «взрослом», запретном, на что намекала Валя и что могла сейчас мне раскрыть. — Ты заглянула туда? — спросила к. — Что там?
Она смотрела на меня насмешливо и грустно. Потом лицо её стало обычным:
— Ладно, я ведь так. Жалко, что ли, занимайтесь своим клубом, ищите. Может, что-нибудь и найдете… Так ты не идешь со мной?
— Подожди, Валя. Подожди. — Я о чем-то смутно догадывалась. — А ты его любишь, Вадима?
Теперь её лицо было строгим, даже сердитым. И вдруг она обмякла и сказала растерянно:
— Не знаю. Ничего я, Инга, не знаю, и ты не слушай меня. И какая она, любовь, я тоже не знаю.
— Тебе худо, Валя?
Видно, нервы у неё издерганные — она уже улыбалась. Правда, как-то не по-настоящему.
— С чего это мне худо? Ничуть… Адье, Ингочка, привет!
Она почти убежала — тоненькая, модная и… жалкая.
Что из того, что она старше меня? Ей, по-моему, трудно, она лишь храбрится, а многого не знает и не понимает. И, пожалуй, действительно наш «Искатель» не ответит на её вопросы.
И мне вот сейчас сделалось грустно и пусто. Характер у меня такой дурацкий, что ли?
9 февраля
Что-то происходит с Милой Цапкиной. Во-первых, мне кажется, она все хочет заговорить со мной и не решается. Во-вторых, что-то, должно быть, случилось между ней и Даниилом Седых. Он явно старается избегать ее, а она сделалась смирненькая и ходит за ним виноватая. На курносой физиономии Саши Петряева несвойственное ей выражение растерянности. Значит, и он не понимает происходящего.
Интересно… Володя Цыбин что-то стал лениться. Сегодня мы всем классом слушали его пикировку с немкой. А-Бэ с недоумением (один из лучших учеников — и на вот тебе!) выговаривала ему за неподготовленный урок. Она у нас умненькая: не просто на сознательность бьет, а подводит «жизненную базу». А-Бэ прекрасно знает, что Володя собирается «выбиться в физики». Поэтому мину под него она подводила примерно так:
— Ведь вы же умный человек, Цыбин, вы понимаете, как необходимо в наше время знание языков. Особенно научным работникам, инженерам, да, собственно, всем. Будете ли вы физиком-теоретиком или экспериментатором, вам не обойтись без систематического ознакомления с зарубежными источниками. Иначе вы не сможете быть в курсе дел по своей специальности. Вы меня понимаете, Цыбин?
Володя был безукоризненно вежлив:
— Да, Августа Борисовна, я вас понимаю.
— Так в чем дело?
— Я считаю, Августа Борисовна, что к тому времени, когда я кончу институт, знание иностранных языков будет совсем не обязательным.
— Наоборот, Володя, наоборот! Международные связи ещё больше расширятся.
— Но расширится, Августа Борисовна, и применение кибернетических машин. Все нужные переводы за меня в десять раз быстрее и точнее сделает электронный переводчик.
— Это несерьезно, Цыбин.
— Это, Августа Борисовна, я прочел у одного из виднейших академиков. Я полагал, что он человек вполне серьёзный.
Володя просто издевался над А-Бэ. Хотя в перемену, когда Цапкина напустилась на него, он уверял, что именно так и думает, как говорил.
— Ого, ты ещё можешь все-таки думать без помощи кибернетических устройств? — подковырнул его Даниил.
— Что поделаешь, сэр! Мы живем пока что в настоящем времени, а не в будущем.
— Все равно это чушь, — упрямо сказал Даниил. — Если все люди будут рассуждать, как ты, они через сто лет перестанут быть людьми.
— Мы проверим это не через сто лет, а через десять, — миролюбиво улыбнулся Володя.
— Мы это можем проверить и сейчас, — вмешалась Цапкина. — И вообще Седых говорит, по-моему, правильно.
Лучше бы уж не вмешивалась. Даниил тут же отошел, позвав куда-то своего Сашу-адъютанта. Спорить с Володей один на один Цапкина не решилась.
Была у Венедикта Петровича. Странно, вначале я думала: раз он в нашей квартире — будем видеться все время. Вовсе нет. Почему это я должна совать к нему нос?.. По-прежнему часто тарахтит его пишущая машинка, и по-прежнему он подкладывает под неё мягкую подстилку, чтобы стучала потише.
Сегодня я зашла попросить у него последние номера «Иностранной литературы». Он дал, долго смотрел на меня сквозь свои очки-лупы, потом улыбнулся:
— Что так редко заглядываешь?
Кто не знает дядю Веню — увидит, как он таращит внимательные марсианские глаза, и подумает: «Чудак какой-то пучеглазый». А он, может, и чудак, но очень милый и добрый. Человечный очень.
На столе у него я заметила тетрадь с надписью «Стихозы», с инициалами «Д.С.» Я сразу догадалась: это Даниил Седых. Рука невольно потянулась, я её тут же отдернула, но дядя Веня заметил. Он сделал вид, что разглядывает что-то на столе, потом все же сказал:
— Дать почитать не могу — не мое.
Вот почему он тащил Даниила в наш литкружок! Любопытно, что там сочиняет сей отрок. Скрытный: ни разу не проговорился.
Все так же загадочно смотрела на меня черноглазая женщина с портрета, как будто гипнотизировала… Кажется, очень просто спросить: «Это чей портрет, Венедикт Петрович?» — а у меня язык не поворачивается. Ни за что не буду спрашивать!
А собственно, почему — загадочно? Это мне так кажется. А на деле, наверное, обычный портрет с самой обычной историей…
Уроки сделаны, сейчас засяду читать Стейнбека.
13 февраля
Товарищ Седых соблаговолил сегодня посоветоваться со мной насчет клуба. Подошли с Петряевым, разложили свою «канцелярию»:
— Взгляни. Может, что подскажешь.
— С чего это вы мне показываете?
— Ну, ты же комсорг… Вспомнили!
Они показали списки членов клуба, проект Устава, наметки плана работы. (Я в списке есть. Когда Петряев требовал с меня «вступительный взнос», я предложила тему о телепатии — передаче мыслей на расстояние; только не знала, кто об этом может рассказать. В план её включили; в графе «докладчик» стоит: «пригласить из мединститута», в графе «ответственный» — «Холмова».)
План интересный. Что получится — посмотрим. В субботу первое, организационное собрание. Текст афиши у них уже готов. Я решила схитрить.
— Хорошо бы, — говорю, — афишу в стихах. Оригинальнее как-то. Кто-нибудь из вас сможет? — И смотрю на Даниила.
А он хоть бы хны, говорит:
— Можно. Попросим Цыбина, он изобразит. Может, «Д. С.» — это вовсе не Даниил Седых?
— А что вы все вдвоем да вдвоем? Ведь Цапкиной собрание тоже поручило…
Даниил ничего не ответил. А Саша сказал, что они не вдвоем, а коллективно.
— Нам все помогали. Вот, например, ты. Смотри, какое талантливое предложение внесла: о те-ле-па-тии. Вся школа прибежит на это заседание…
Все это, конечно, с его плутовской улыбочкой.
17 февраля
На этой страничке, в стыке тетрадных листов, притаилась небрежно сложенная записка. Ярослав развернул ее. Записка начиналась четким, но чуть изломанным угловатым почерком:
«Холмова! Степан Иванович говорил: «Если сами, ещё лучше». Сходи к нему и напомни эти мудрые слова. Д. Седых».
Потом шло почерком Инги:
«У меня есть имя. Зачем к Степ. Ив.? Чтобы не было обычных «высоких представителей»?»
По краю записи — опять ровная вязь угловатых букв:
«Догадливость — ценное для комсорга качество. Д.С.»
…За это короткое время они уже успели чуть-чуть привыкнуть к дневнику Инги, к именам её товарищей, к Даниилу Седых. Но вот сам он — уже знакомый, но далекий-далекий — ворвался живой в эту тетрадь со своей запиской, и то тревожно-томительное чувство, которое охватило их с первых страниц дневника, всколыхнулось с новой силой. Рано долго держала записку в своих тонких сильных пальцах, вглядываясь в нее, потом протянула Ярославу, сказала чуть слышно:
— Читай дальше.
Вчера произошли два «исторических» события: оргсобрание нашего клуба и… примирение тт. Холмовой и Цапкиной. Сие, конечно, должно найти достойное отражение в данных мемуарах.
Даниилу, да и всем нам, хотелось, чтобы никого из «начальства» на первом заседании не было. Не такие уж мы глупые и маленькие. Но Степан Иванович сказал:
— Ишь вы какие гордые! А если мне тоже любопытно? Или, может, я хочу приветственную речь закатить?
И пришел на собрание. Правда, сидел в сторонке, молчал, внимательно слушал и раза два одернул Яшу Шнейдера, который, по привычке, пытался командовать.
Даниил, хотя и старался быть спокойным и обычным, все же волновался, чуток важничал и выглядел напыщенно. Но все получилось здорово. Ребята, по-моему, заинтересовались всерьез. Утвердили Устав. Заседания договорились проводить два раза в месяц. Президентом клуба избрали Даниила, секретарем (совсем как в Академии наук) — Сашу Петряева. Меня тоже выбрали в Совет Искателей. Коротко и как-то очень по-дружески выступил Степан Иванович. От его слов душе сделалось тепло и широко.
Расходились мы взбудораженные, веселые, дружные — Искатели!
Вот тут-то и произошло второе «историческое» событие. Мы шли гурьбой, болтали о разных разностях. Мила Цапкина шла чуть позади. Я приотстала — поправить чулок, вдруг слышу тихое: «Инга!» Это окликнула Мила.
— Если ты не торопишься, — говорит она, — давай пройдемся.
Я пожала плечами:
— Давай.
Она молчала. Я догадывалась, о чем ей хочется заговорить, но тоже молчала. Дошли до сквера у почтамта. Она предложила: «Зайдем»? — мы зашли. Здесь было пустынно и славно. Мила остановилась и опять молчала. Потом вскинула на меня глаза:
— Инга, ты злишься на меня?
— С чего ты взяла?
— Я же знаю. Послушай. Давай забудем про эту ссору. И какая кошка перебежала нам дорогу?
Я её уколола:
— Ты — и вдруг кошка. Это же предрассудок, пережиток прошлого.
Она поджала губы. Я думала: сейчас повернется и уйдет. Но она сказала:
— Ладно уж. Кошка не кошка, а все получается глупо. Если я в чем неправа, ты меня извини. Давай — мир? — И протянула мне руку.
«В общем-то, действительно, что нам ссориться?» — подумала я и тоже протянула руку.

По форме примирение состоялось; казалось бы, должно прийти облегчение, а на деле стало ещё хуже. Какая-то отчужденность, натянутость, искусственность какая-то. Видно, эта самая «кошка» ещё бродила между нами. «И зачем было мириться?» — подумала я.
Мы молча прохаживались по скверу. Вдруг Мила сказала:
— А хочешь по-честному? Знаешь, из-за чего я на тебя взвилась?
И она рассказала, что… приревновала меня к Даниилу Седых. Когда я однажды — это было ещё до Нового года — выступила в защиту его сочинения, Мила решила, что я «подмазываюсь» к нему. С этого и началось.
— Ну и дура, — сказала я, и теперь мне сделалось легко и даже весело. — Вот дура! Как это тебе могло такое в голову прийти?
— Правда? Честное слово? — обрадовалась Мила. Так закончилась паша ссора.
Мила знает, что Даниил часто бывает у Венедикта Петровича, и ей хочется заходить ко мне: у нас она может будто нечаянно встречаться с ним. Что ж, пожалуйста.
Похоже, у неё настоящая любовь. Она прямо вся загорается, когда говорит о Данииле. Парень он, конечно, ничего, но влюбиться — не понимаю…
А вдруг когда-нибудь придет такое и ко мне. Мы вроде дружим с Володей Цыбиным, по у нас что-то совсем другое. Просто товарищи. Хотя иногда мне кажется, что не «просто». Иногда я по-настоящему любуюсь им, и мне хочется положить голову на его плечо и тихо плыть куда-то, как на лодке по ласковой зыбучей волне…
Я так и не разговаривала с Валей после того раза. А тогда между нами повисла какая-то недосказанность. Вот у неё с Вадимом что — любовь? Почему же она говорила об этом с такой тоской? Он, по всем приметам, «ухаживает» за ней. Но это у него получается как-то свысока, даже пренебрежительно. И ещё — противное словечко «крошка»: «Потанцуем, крошка?», «Устала, крошка?» Из какого-то пошлого фильма.
Если я полюблю, то человека сильного и очень хорошего, у которого большой и интересный внутренний мир, с которым можно говорить обо всем на свете. Ведь любовь — это же не просто танцевать и прижиматься друг к другу. У любви должно быть ещё что-то особое, высокое и светлое.
Я чувствую, что если об этом сказать Вадиму, он, наверное, усмехнулся бы снисходительно: «Детка!» Ну и пусть. Не такая уж я детка, дорогой товарищ Вадим, и позвольте мне остаться при своем мнении.
Ого-го! Ингочка рассвирепела. Надо охладиться. Так оно и получится: в четыре мы встречаемся с Володей на катке.
…Вернулась домой — на столе записка: «Мы на концерте, ужин на кухне». Превосходное распределение людей и вещей в пространстве!
Покаталась я славно. Погода сегодня чудесная, даже не хотелось идти домой. А бегаю на коньках я лучше Володи. Ну, наверное, так и быть должно: все-таки я уралка, а он южанин, к нам сюда приехал недавно. Встретили на катке Даниила и Сашу. Мы с Патефоном «фигуряли» под его «художественный» свист; нам даже хлопали. Все-таки он очень веселый, и, когда обходится без шпилек, с ним просто. Только он без шпилек — это, пожалуй, не он.
Странно: на Даниила после вчерашнего разговора с Милой я стала смотреть как-то по-иному, — любопытно к нему приглядеться.
Уходили с катка все вместе. На улице нам с Володей сворачивать влево, Даниилу с Сашей — направо. Даниил повернул влево.
— С нами решил прогуляться? — беззаботно, но с ехидцей спросил Володя.
Седых почему-то замялся и не пошел. А ему нужно было, оказывается, к Венедикту Петровичу: передать «одну штуку». «Штукой» был свежий номер журнала «Наука и жизнь». Он попросил сделать это меня.
Журнал нежданно помог мне узнать одну из «загадок» дяди Вели. Я застала его за письменным столом. Он просто сидел и ничего не делал — видно, думал какую-то свою думу. Машинально перелистнув журнал, он посмотрел на меня своим странным, долгим и чуть грустным взглядом и сказал:
— Вот так-то, товарищ Инга, иногда получается в жизни.
— Как? — растерянно спросила я.
Тут он указал мне на одну статью в журнале. Она называется «Старые загадки истории и новые гипотезы». Автор — какой-то кандидат наук Горбовский. Я ещё ничего не понимала. А дядя Веня продолжал:
— Вот живут два человека, ничего не знают друг о друге, а думают, как выясняется, совершенно об одном и том же.
— А вы тоже об этом думаете? О загадках истории?
— Представь, тоже. И давно. Даже книгу сел писать.
— Ой! — вырвалось у меня. Я подумала: «Так вот о чем стрекочет его машинка! Так вот какие рукописи отправлял он куда-то». И спросила: — А как же теперь быть?
Он тихо усмехнулся.
— А так тому и быть, как было… Мне приятно, что кто-то задумался над тем, над чем думаю и я. Я написал Горбовскому об этом.
— А ваша книга, Венедикт Петрович?
— Что ж книга?.. Разве, например, об одном человеке нельзя написать два рассказа? Разные авторы — разные точки зрения. Хотя рассказы и будут в чем-то походить один на другой, они не будут одинаковыми никогда. Так же и у нас с Горбовским. Во всяком случае, я эту книгу не брошу. А издадут её или нет — там будет видно.
— Обязательно издадут! — Я сказала это очень горячо, от всего сердца, и, должно быть, ему была приятна эта горячность.
А мне стало чуточку жаль его. Очень хочется, чтобы книга у дяди Вени получилась и принесла ему радость. А вообще это будет шикарно: я представила себе обложку и на ней — «В.П. Старцев». Мы ему преподнесем огромный букет цветов и всем будем рассказывать, что это наш учитель.
21 февраля
С Милой сидим на одной парте. Она мне все уши прожужжала о своем Данииле.
Володя спросил меня с кисловатой миной:
— Изволили помириться?
— Изволили.
Он пожал плечами: дескать, дело ваше, а лично я не одобряю. Подумаешь!..
Вали Любиной несколько дней нет в школе — болеет.
Пишу рассказ. Я его придумала, глядя на Венедикта Петровича. Один ученый изобретает целебное вещество. У него не получается, А в это время другой, совсем и ином месте, изобретает то же самое. С первым ученым несчастье. Второй узнает об этом и с уже полученным веществом мчится на помощь первому и спасает его. А раньше они были врагами. Что получится, ещё не знаю. Читала маме — ей нравится.
23 февраля
Сегодня «мужской день». Мы с мамой подарили папе спиннинг. Он давно мечтал о нем и теперь довольнёшенек.
В школе у всех мальчишек такой вид, будто и у них праздник. Мы с Милой вчера написали всем нашим ребятам по открытке и сегодня перед уроками разложило в парты. Пожелали им быть здоровыми, сильными, смелыми. Как-никак будущие воины!
Было только четыре урока. После школы Володя затащил меня в кафе-мороженое. Решил «кутить» — родители расщедрились ради праздника. В кафе он рассказал, что у отца Даниила какая-то большая неприятность на работе. Это он слышал от своего отца, а тот — от приятелей, адвокатов… Что такое мог сделать Павел Иннокентьевич?
Володя разошелся, купил шоколад и предложил пойти к Вадиму. Я отказалась. Мы бродили по улицам, по как-то скучно — больше молчали. Потом долго стояли у нашего дома. Когда прощались, Володя хотел меня поцеловать — я вырвалась и убежала.
Было почему-то стыдно и очень неуютно на душе. Папа с мамой ушли на заводской вечер; дядя Веня тоже куда-то испарился. Как неприкаянная бродила по квартире. Заглянула в комнату Венедикта Петровича — почему-то появилось желание посмотреть на портрет, но так и простояла на пороге, свет не зажгла.
Вдруг звонок. Я подумала: неужели Володя? Открыла — Даниил. Буркнул что-то: не то «спасибо», не то «посторонись» — топ-топ к двери своего дружка. Я взяла да и соврала, что дядя Веня скоро должен вернуться. Даниил согласился подождать. Я стала угощать его кофе (недаром я мамина дочь!)…
…Продолжаю 24-го. Вчера не успела дописать — пришли папа с мамой. Папа был навеселе («выпивши для сугрева души», — шутит он), вспоминал фронтовую жизнь, рассказывал разные истории — веселые, печальные, страшные.
Все-таки как много вынесло их поколение! Перед ними действительно надо склонить головы. А мы ворчим, капризничаем, портим им нервы…
Ну ладно. Значит, кофе. Я даже была удостоена похвалы.
— Смотри-ка ты, — усмехнулся Даниил, — Сама? Почти как у Венедикта Петровича.
Кстати, он его никогда не называет дядей Веней.
И опять (это всё Милины разговоры) я присматривалась к нему. В конце кондов не выдержала и спросила, так, будто между прочим: — Как ты относишься к Миле?
Оп косо взглянул на меня, покраснел и взъерошил и без того лохматые волосы:
— Это она, что ли, уполномочила тебя выяснить?
— Почему — она? Просто интересно.
— Какая любознательность!.. Никак не отношусь. Цапкина и Цапкина, только и всего.
— Ну, а все же? — настаивала я.
— Брось ты эту девчоночью психологию разводить! Что, не о чем больше говорить? Тогда займись чем-нибудь, а я почитаю.
Можно было и обидеться, но я не стала. Заговорила о книге Венедикта Петровича. Он удовлетворенно хмыкнул (совсем как его отец):
— Хм! Значит, ты её содержание знаешь?
Я сделала вид, что иначе и быть не могло и что я чуть ли уже не читала рукопись. Видно, он поверил и заговорил о том, что восхищается Венедиктом Петровичем, его упорством и знаниями.
— Ведь это, понимаешь, как здорово! Заглянуть куда-то в неведомое дальнее-дальнее прошлое. Вроде как геологи — знаешь? — по отдельным срезам породы рисуют общую картину. Только тут посложнее. И поважнее. Верно?
Он говорил это очень душевно, с доверием; он как бы приоткрывал себя, а мне было немножечко совестно и боязно: ведь я обманула его — я не знала, что там такое написано у Венедикта Петровича. И, хотя мне было это любопытно, я решила переменить разговор. Вдруг мне захотелось задать ему тот же вопрос, что и Володе.
— Скажи, Даниил… Вопрос очень обычный в наши дни, но ты ответь. Ты бы хотел полететь в космос?
Он ответил сразу же, не задумываясь;
— Нет, не очень.
— А почему?
— Что-то не тянет… Я серьёзно. Я понимаю, что это интересно и главное, очень нужно, но меня не тянет. Вот в океан бы спуститься, километров на десять!.. Ты не улыбайся. Океан для нас — второй космос.
Он же не знал, чему я улыбаюсь. Я просто сравнивала их ответы.
Дяди Вени он так и не дождался, ушел. Сказал, что больше ждать не может — в такой вечер надо быть дома: ведь его отец тоже фронтовик.
А что там стряслось у отца, о чем говорил Володя, я спросить не решилась. Может, Володя и путает что-то…
Вот и третья тетрадь кончилась. Ползет жизнь-то, пока что неприметная, обыденная, серенькая…
Ярослав не сразу перевернул тетрадную обложку. Он был взволнован. Конечно, это не открытие, — настоящие историки повседневно сталкиваются с живыми документами далеких эпох. Таких дневников они перебрали, наверное, немало. И все же Ярослав был потрясен. Для него-то это было событием — нечаянное знакомство с человеком из прошлого века.
Он взволновался так, будто судьба позволила ему заглянуть в сокровенные девические записи матери или прочесть думы прадеда, погибшего на Марсе. Эта девушка, вдруг шагнувшая из далекого и зыбкого марева времени, стала близка ему и дорога.
Андрей сидел, по-прежнему облокотившись на стеллаж, подперев голову руками. Взгляд его был задумчив. Рано отошла к окну и замерла там, высвеченная солнечными бликами.
Они молчали, потому что сказать хотелось слишком много.
— Читай дальше, — проговорил Андрей. — Ведь есть ещё тетрадь… Как нам все-таки повезло!
Ярослав не шевельнулся.
— Взглянуть бы на её портрет, — тихо, словно только себе, сказала Рано и повторила: — Очень интересно, какая она была внешне.
Негромкий всплеск видеофонного вызова повернул их к аппарату. Старый Лацис на экране дружелюбно улыбнулся:
— Дела идут хорошо?
— Очень! — воскликнул Ярослав. — Нам посчастливилось обнаружить… Мы нашли дневник тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Она наша сверстница — та, что писала… Понимаете?
Лицо Лациса сделалось значительным.
— Поздравляю, — сказал он. — Не буду мешать. Потом расскажете.
Экран потух.
— А ведь ему этот дневник ещё ближе, чем нам, — сказал Андрей. — По времени.
Они опять замолчали. Потом Рано улыбнулась мечтательно:
— А мы вполне могли бы с ней дружить. У меня… Помните то место, где она говорит, что иногда ей хочется среди ночи мчаться на диком коне? Странно, но у меня порой почти подсознательно возникает точно такое же. Я немножечко дикарка, да? — Она рассмеялась и весело закружилась по комнате, гибкая и легкая. Внезапно остановившись, она сказала: — А нас, своих потомков, они представляли все же наивно. Я боюсь употребить другое слово: примитивно.
— Именно это слово, говоря о тебе, употребят твои потомки, — буркнул Андрей.
— И в то же время, — не обращая внимания на брата, продолжала Рано, — они так много думали о будущем. И, видимо, не очень огорчались неустроенностью своего быта. Инга — помните? — мечтает о газе как о каком-то благе.
— Что же в этом особенного? — возразил Ярослав. — Каждой эпохе свое. Жителю пещеры благом была шкура на плечах. Ломоносову вовсе не худо было свои великие труды создавать с помощью примитивнейшего инструмента — птичьего пера. Белинский превосходно обходился без телефона. Мы пользуемся своими радиками и тоже в общем-то довольны, а через двадцать лет будем удивляться, как это нас удовлетворяла такая дребедень.
— Ты очень умненький, Яр, — дурачась, похвалила его Рано. — Потом я тебе задам ещё сто двадцать семь с половиной вопросов.
— От тебя их можно ждать и тысячу, — проворчал Андрей. — Конечно, там есть непонятные детали, есть наивности. Например, рассуждения этого… Володи о машинном мозге.
— Даже тебя они не устраивают? — притворно удивилась Рано.
— Шпильки потом, — отмахнулся Андрей. — Вчера Юрий Игоревич очень верно говорил, что у каждой эпохи свои трудности. И вот Яр — тоже, только он с другого боку… Для первобытного человека главным было выжить, победить окружающую природу, устоять перед стихиями. Потом наслоились трудности социального характера. Так, историк?
— Ну-ну, — поощрил Ярослав, ещё не совсем понимая, куда клонит Андрей.
— Но чем дальше идет, развиваясь, человечество, тем большее значение приобретают трудности интеллектуальные. А Володя, — Андрей кивнул на ветхую тетрадь, — видимо, ещё не понимал, что именно преодоление интеллектуальных трудностей движет ныне человечество. Передать функции мышления приборам — значит погубить себя, выродиться.
— Очень мило! — насмешливо прищурилась Рано. — Сколь легко этот эрудит спорит с пареньком из прошлого века!
— Что ж, — пожал плечами Ярослав, — спор — поединок равных или почти равных.
— Вот именно, — подхватил Андрей. — Кстати, второй парень, Даниил, судит одинаково со мной. Меня даже удивило как-то: они не очень-то отличались от нас, эти человеки двадцатого столетия.
— Ого, у Андрея намечается некий поворот в мыслях! — Ярослав шутливо поворошил голову друга. — К твоем энцефалокибере давно наблюдалось покосение в сторону техники. Прогресс человечества для тебя был равнозначен прогрессу техники и наоборот. Так ведь? А тут ты начал понимать, что люди, не знающие видеофона, не знакомые с единой теорией поля, в общем-то мыслят схоже с тобой, мудрец двадцать первого века.
Андрей встал. Поспорить он любил, хотя на уроках красноречия никогда не был в числе первых.
— Техника — показатель уровня развития науки, — сказал он. — А развитие науки определяет уровень мышления. — Это звучало, как скучная цитата из старенького учебника логики. Однако произносилась цитата весьма внушительно. — Ты можешь возразить?
Рано фыркнула. Брат напоминал ей сейчас петуха с детской картинки. Ярослав же нахмурился.
— А что тебе возражать? — сказал он, накаляясь. — Ведь для тебя, например, Фома Кампанелла — всего лишь средневековый монах, не знавший электричества, не имевший представления о строении вещества и вообще неуч. А для меня он — великий и светлый мыслитель.
— Великий утопист, — резко уточнил Андрей. — Устремления Кампанеллы не имели реальной основы. Крылья человечества — наука и техника.
— Крылья человечества — мечта, которая движет науку и технику, — горячо возразил Ярослав.
Рано опять закружилась по комнате.
— Разговор обещает быть острым, — весело сказала она. — Но спорить вы можете без меня, я это уже слышала. Пойдите прогуляйтесь, а я тем временем сяду за следующую тетрадь.
Все-таки её логика была практичней. Друзья переглянулись. На лицо Ярослава набежало смущение:
— Да. Это у нас с Андреем вечная тема… Отложим, Анд?
Андрей ещё пытался ершиться:
— Спор начал ты. Я хотел как раз сказать о том… о том родстве идей, которое перебрасывает мосты через века и эпохи.
Ярослав театрально раскинул руки:
— Анд прозревает!
— Я же говорила, что мой братец ещё не совсем потерянный человек.
Андрей хорошо знал старую истину: против иронии есть лишь два способа защиты — или ирония же, или полнейшая невозмутимость. Устроившись на стуле поудобнее, он сказал с превосходно разыгранным равнодушием:
— Может, всё-таки продолжим чтение?
Теперь переглянулись Ярослав и Рано. Ярослав взялся за тетрадь.
Видно, была в ней некая магическая сила, в этой пожелтевшей, с обтрепанными краями рукописной книжице. Она звала к себе тревожаще и властно. Перевернуть обложку — означало заглянуть не просто в очередную страницу — в другой век.
Тетрадь четвертая
28 февраля 1963 г.
Итак, начинается четвертая… Как всегда, перелистала предыдущую. Многие записи кажутся мне пустыми, мелкими, ненужными. Когда-нибудь, когда повзрослею, буду, наверное, смеяться над ними. Но уже привыкла записывать все подробно — теперь не остановиться. Иногда и времени как будто нет, а все равно тянет к дневнику. Все-таки потом интересно будет просмотреть свои тетради, оглянуться на собственную жизнь…
Была Мила. Вместе готовили уроки на завтра. Заниматься с ней трудновато: она все старается заучивать.
Мила все прислушивалась, не придет ли Даниил. Мне её даже стало жалко.
Сегодня отдала рассказ Венедикту Петровичу, хотя, когда закончила, мне моя писанина уже не очень понравилась. Отдала ему в школе — официально.
3 марта
Если все заседания нашего клуба будут проходить так же, как вчерашнее, я готова заседать хоть каждый день. Председательствовал В.П. Старцев. Мы так договорились: кто ведет основной рассказ, тот и председательствует.
Тема была: «О некоторых загадках в истории человечества». Я знала, что это связано с книгой Венедикта Петровича и статьей Горбовского, но не подозревала, что будет так интересно. (О книге дядя Веня не сказал ни слова. Мы с Даниилом только переглядывались, но, конечно, тоже промолчали.)
Вначале дядя Веня говорил о нашем клубе. Он сказал, что Человек — вообще искатель, в этом его сущность. Искать надо, рассуждал он, прежде всего себя, чтобы полнее раскрыть свои способности, свои возможности и отдать их обществу. Потом он говорил о неисчерпаемости мира, о счастье познания. Я невольно вспомнила горьковское: «Человек — это звучит гордо!» — так созвучно было это мыслям, которые высказал Венедикт Петрович.
О чем шла речь, конечно, не пересказать. Со следующего заседания, решила, буду во время докладов всё записывать в специальную тетрадь. Но коротко речь шла вот о чём.
Самое удивительное и самое загадочное существо на нашей планете — человек. Ученые, по сути, только-только начали прикасаться к тайнам человеческого мышления, к загадкам наследственности. До сих пор неизвестны важные детали происхождения человека. В истории цивилизации тоже множество неразгаданного.
Вот, например, Атлантида, о которой так много противоречивых толков. Оказывается, целый ряд свидетельств историков древности, современных геологов и археологов указывает на то, что в Атлантическом океане была какая-то большая суша, которая исчезла 12–14 тысяч лет назад. В это время на Земле произошла некая страшная катастрофа. В преданиях и мифах народов земного шара сохранились упоминания о великом бедствии, о потопе, землетрясениях, резких изменениях не только на Земле, но и в небе. Венедикт Петрович привел несколько гипотез. Меня особенно поразила одна.
Катастрофа, по этой гипотезе, была вызвана Луной. Именно тогда она попала в поле притяжения нашей планеты, Земля даже отдалилась от Солнца и замедлила свой бег вокруг него. Это небывалое явление подтверждается не только математическими расчетами (они говорят о возможности такого), но и древними календарями и некоторыми отрывочными фактами в преданиях народов.
Венедикт Петрович, как и Горбовский, предполагает, что до катастрофы у человечества был довольно высокий уровень развития. Но разрушились все города, многие селения были начисто сметены с лица земли, часть суши ушла под воду, а другая, наоборот, взметнулась неприступными горами. В некоторых древних хрониках этот период прямо называется «уничтожением человечества».
Однако оно выжило, выстояло, вновь поднялось! И вот что интересно и до сих пор не разгадано. Видимо, оставшиеся в живых просвещенные люди хранили осколки знаний, передавали их из поколения в поколение, учили собратьев искусству обработки металлов и камня. Об этом, в частности, говорят бронзовые изделия, остатки древних городов и культовых сооружении. Например, где-то в Индии есть храм, крыша которого, поднятая на 75 метров, состоит из каменной плиты весом в две тысячи тонн! Древние майя точно, до долей секунды, знали периоды обращения некоторых планет и звезд. Ведь для того, чтобы сеять хлеб, вести хозяйство, такая точность вовсе не нужна. И как добиться такой точности?
Для этого нужны знания почти такие же, как у современных астрономов. Очень точными астрономическими и математическими данными владели и египтяне.
Некоторые древние ученые, ссылаясь на какие-то ещё более древние источники, указывают, что подобные катастрофы случались не один раз. Венедикт Петрович, в свою очередь, указал на цикличность оледенения Земли. Единого мнения ученых на этот счет нет.
Венедикт Петрович приводил множество примеров. Мы сидели разинув рты. Очень интересно рассказывал он о последних археологических находках в Африке и Азии. Высокоразвитые цивилизации там существовали задолго до древнеегипетской… Свои предположения В.П. не выдавал за истину. Он как бы размышлял вслух, высказывал своё мнение и приводил аргументы «за» и «против». Истина придёт позднее, сказал он, когда накопится достаточно фактов. Но задумываться об этом, искать ответы на бесчисленные вопросы пора, давно пора.

Вообще человечество, считает В.П., ещё не заинтересовалось собой по-настоящему. Всё ему некогда, оно тратит свои усилия на борьбу с природой и социальным злом, и масса энергии и средств уходит на войны. Когда победит коммунизм, наука и техника пойдут в наступление и на разгадку тайн человеческой истории. Вот, например, если бы деньги, которые сейчас тратятся на военные цели, израсходовать на решение проблемы Атлантиды — она была бы уже решена.
Если бы дожить до этого!..
Ярослав замолчал. У него перехватило дыхание.
Рано и Андрей понимающе взглянули друг на друга. Они уже усвоили, что, если обсуждать каждую деталь дневника, особо заинтересовавшую их, дневник так и не дочитать. Но это «Если бы дожить!» потрясло их.
Инга! Инга! Так ты, наверное, и не узнала, какой прекрасной была эта легендарная страна. Ведь основное изучение древней цивилизации, ушедшей на дно океана, закончилось совсем недавно…
Ярослав чуть нахмурился, беря себя в руки, и стал читать дальше.
Заседание у нас затянулось. Венедикта Петровича буквально затормошили и назадавали сотни вопросов.
Даниил обещал принести мне книгу об Атлантиде. Так недолго и археологией увлечься. А что! Очень интересно.
Появилась в школе Валя Любина. Бледная, похудевшая. Я спросила, что с ней; говорит, болела. Почки, говорит. Что-то не очень разговорчивая.
7 марта
Второй день сижу дома, гриппую. Вчера температурила. Сегодня вполне могла бы идти в школу, да не пустила мама. Золото!
Под столом ворочается Машка. Все порядочные черепахи продолжают спячку, а моя, не знаю почему, выползла из своего зимнего убежища и, ещё сонная, совсем вялая, шебаршит по комнате…
Во вторник путешествовала в медицинский — договариваться насчет беседы о телепатии. Вот уж не думала, что и туда надо пропуск. Или взамен белый халат. Пыталась провести «воспитательную работу» с вахтершей; она меня чуть не вытурила. Спасибо, подвернулся Вадим. Отвел меня в комитет комсомола. Противная деталь: когда мы с ним шли по коридору, группа белохалатных девчат у окна захихикала вслед, а какая-то из них сказала:
— Не надо, девочки, смеяться. Это не просто новое, а новое серьёзное увлечение.
Они зашушукались…
Два парня в комитете комсомола расспросили меня о нашем клубе; один побежал куда-то и скоро привел лысенького, в очках преподавателя психологии. Тот принялся тоже расспрашивать и сказал, что идея нашего клуба ему нравится.
— Только, — сказал он, — не говорите, милая, такой чепухи: передача мыслей на расстояние. Мысль передать невозможно ни на какое расстояние. Передается информация о ней. Вот мы с вами беседуем, но я передаю не свои мысли, а лишь словесную информацию о них.
Он чуть не закатил мне лекцию. Ну, это неважно, главное — обещал у нас быть.
А Вадим куда-то исчез…
Странно, что папа к нашему «Искателю» относится «не очень». Он говорит, что все это, конечно, интересно и полезно, но однобоко. В том смысле, что мы всё берем и берем от общества, а об отдаче не думаем.
Спрашиваю:
— А что конкретно ты предлагаешь?
— А я не знаю, — говорит он и начинает злиться. — Думайте, думайте сами своим комсомольским разумом.
Потом предложил одну штуку. Идея вот в чём. Для старшеклассников летом надо создавать туристско-трудовые лагеря. Малыши летом отдыхают на дачах, пионеры — в пионерских лагерях, а «великовозрастные лоботрясы» (это, значит, мы) бездельничают. Надо, говорит папа, сводить «лоботрясов» в небольшие, человек по двадцать, отряды и давать им самостоятельные деловые задания: заготовлять грибы и ягоды, кедровые орехи, сено, веточный корм и всё такое. Снабдить отряд палатками, выдать сухарей, консервов — и живите в лесу, отдыхайте, но и дело делайте.
Идея, по-моему, хорошая, я за неё обеими руками, но самим нам такое дело, пожалуй, не поднять. И потом, это летом. А сейчас, зимой?
— Тоже что-нибудь придумать можно, — говорит папа. — Для этого надо одно: чувствовать себя комсомольцем, бойцом…
Даниил занес книгу Н.Ф. Жирова «Атлантида», получил от меня мат и убежал. Он с Сашей записался в дружинники.
9 марта
Рассказала ребятам о папиной идее. О папе, конечно, не говорила, сказала: «Вот один человек предлагает…» Ребятам в общем-то понравилось. Надо бы поговорить об этом в райкоме комсомола, у меня там есть знакомые…
Спорили о комсомольской форме. Кто-то вспомнил о знаменитых юнгштурмовках — вот и заспорили: стали бы мы, нынешние комсомольцы, носить форму своих отцов и матерей? Лично я стала бы. Правда, её надо сделать поизящнее.
После уроков была у Милы. Раньше я у неё не бывала. Они с мамой живут вдвоём. Маленькая чистая комната. Всё очень скромно. Отец от них ушёл. Мила о нём говорит плохо, но, по-моему, неискренне: она тоскует о нём. Это страшно — остаться без отца, когда он жив.
Мила просила поговорить с Даниилом, выяснить, как он к ней относится. Я не сказала, что уже говорила, и теперь не знаю, как быть. На её месте я бы не стала навязываться. Надо же всё-таки думать о своей гордости.
Мы кончали делать уроки, когда пришла её мама. Она работает где-то в отделе кадров. Суховатая и, должно быть, строгая женщина. Мила её побаивается.
10 марта
Какой-то странный разговор с Марией Сидоровной. Она попросила меня зайти к ней в кабинет после уроков. Расспрашивала, как живу (с чего бы?), как идёт учёба, потом вдруг — вопрос:
— Ты ведь, кажется, дружишь с Валей Любиной?
Я-то не считаю, что дружу, но все же сказала:
— Да.
— А ты знаешь такого Вадима Синельникова
— Это который из медицинского?
— А что, есть и другой Вадим?
— Какой другой?
— Я не знаю, о каком говоришь ты.
— Да ведь не я говорю, а вы говорите.
Сплошная неразбериха. Это она хотела поймать меня на слове. Зачем-то ей понадобилось знать о Вадиме, о их взаимоотношениях с Валей. Что-то неприятное, грязноватое было в этом допросе. В общем-то я ей ничего не сказала. Знакомы — и все. Собственно, так оно и есть: ведь я ничего толком не знаю.
Мария Сидоровна просила, чтобы разговор остался между нами. Как же! Уж Вале-то я, конечно, расскажу.
14 марта
Сегодня Венедикт Петрович на литкружке совершенно разгромил меня за рассказ. Хотя он и старался обойтись со мной помягче, существо дела от этого не меняется: бездарность — это бездарность. Ничего не поделаешь… Правда, он говорит, что в такие молодые годы даже по-настоящему талантливые люди не могут писать добротную прозу. Нужны, говорит, жизненные наблюдения, нужен большой опыт.
— Значит, лучше и не пробовать?
— Нет, отчего же, пробуй. — Он посмотрел на меня своим странным печальным взглядом. — Кого-нибудь другого я, может быть, и похвалил бы — за грамотность изложения, за фантазию. А тебя — нет. На тебя я почему-то надеюсь.
Это мы с ним разговаривали уже дома.
«Надеюсь» — и разгромил… Мне сделалось не то что грустно, а пусто, будто я потеряла что-то очень дорогое для меня. Но сердиться на дядю Веню я не могу. Разве виноват он в том, что я тупица?
Сегодня он показался мне очень-очень усталым, даже болезненным…
Валю так и не повидала. Опять её не было на уроках. Завтра придется сходить к ней домой.
17 марта
Я не знаю, что именно произошло, но, должно быть, что-то гнусное.
Позавчера я к Вале так и не выбралась: заседание комитета, потом двинулись на каток, а оттуда занесло в кино; о собственных-то развлечениях мы позаботиться умеем!
Вчера пошла в Валин класс узнать, где она живёт. Никто не знает. Что за чушь!
— Ну, кто из вас дружит с ней?
— С ней никто не дружит.
Пусть не дружите, черт с вами, но как же так — не знать, где живет одноклассница! Почему не ходит в школу — тоже толком никому не известно. Я психанула, надо мной посмеялись, но адрес все же выяснили.
Я попросила пойти со мной Володю Цыбина.
Отыскали с трудом. Кособокий, весь почерневший от времени домишко в глубине громадного, какого-то путаного двора. Открыла нам старая, неопрятно одетая женщина с тусклыми припухшими глазами. Мы спросили, здесь ли живет Валя Любина.
— Жила.
— То есть как «жила»?
— Вчера уехала.
— Куда?
— А вы кто такие будете?
Мы объяснили.
— Я её подруга, — сказала я.
— Поменьше бы таких подруг, так, может, и уцелела бы.
— Да в чем дело? Что случилось с Валей?
— А ничего. Уехала — и уехала. К родственникам. А куда — вам знать не обязательно. Ходят тут всякие… пигалицы в брючках! — Она захлопнула перед нами дверь.
Была бы я парнем — выломала бы дверь. А Володе хоть бы что. Действительно, пигалица в брючках!
Я потащила его к Вадиму. Тётка говорит нам:
— Болеет Вадик, нельзя к нему.
Хоть бы магнитофон выключали, прежде чем врать.
Я её почти оттолкнула. Володю оставила извиняться за меня, а сама — в комнату к Вадиму.
Он преспокойно развалился на тахте и слушал музыку. Увидел меня — немножко удивился и растерялся, но сразу галантно вскочил, заулыбался:
— О, Ингочка!
— Где Валя?
Он насторожился:
— Что такое стряслось, мисс?
— Оставь свои дурацкие словечки при себе. Меня интересует, где Валя.
— Укатила к каким-то родичам, — пожал он плечами.
— Что к родичам — мне известно.
— Что же тебе угодно от меня?.. А, Владик, привет!
Я наседала на него, он клялся, что больше ничего не знает. И причины отъезда ему неведомы. А в глазах испуг, беспокойство и злость. Юлит. Я ему не верю. Сказала, что, если что-нибудь случится с Валей, будем судить его судом чести, весь его институт на ноги поднимем.
— Ого, мисс, какая ты, оказывается, грозная!..
— Вот именно, мистер.
На том наш визит и закончился.
Володя был какой-то пришибленный и вялый. Не терплю таких. Парень должен быть сгустком энергии.
Я все-таки убеждена, что отъезд Вали связан с Вадимом. Володя говорит:
— Ну, какая тут может быть связь?
Или прикидывается дурачком, или такой и есть.
Что-то опять он говорил об отце Даниила — чуть ли не о предстоящем его аресте. Это я вспомнила уже дома, очень невнимательно его слушала.
Все время думаю о Вале. Неспокойно на душе, и чувствую себя виноватой. В чем виноватой — сама не пойму, и от этого ещё хуже…
Было заседание клуба, а мы с Володей его пропустили.
18 марта
Вчера я ходила к Яше Шнейдеру домой. Разговаривала о Вале. Она, оказывается, и не комсомолка. Но он принял всё близко к сердцу, обещал «поднять шум».
А сегодня Яша ходил к директору. Вернулся сникший, разговаривает — и глаза прячет. Говорит, что Валя подала заявление об уходе из школы и ей это разрешили.
— Но почему?
— У неё личные причины. Очень личные. И уважительные.
Я-то догадываюсь об этих причинах, но спросить у Яши не решилась. А может, и ему не сказали.
До чего все противно и как я ненавижу того «мистера»!
30 марта
Какая-то полоса несчастий. Я всё ещё зареванная. Умерла Агния Ивановна. Сегодня хоронили. Народу было очень много. Я видела, как плакал Венедикт Петрович…
Побывал он тогда у неё или нет?
24 марта
Был Павел Иннокентьевич Седых. У нас просидел недолго, ушел вместе с папой к дяде Вене. О чем они там говорили, не знаю, только папа изрядно расстроился. Топает по комнатам нахохленный и злой. Собирались ради воскресенья пойти с ним а геологический музей — теперь отнекивается.
Видимо, у Седых всерьез какие-то неприятности.
Весенние каникулы, а весной не пахнет.
26 марта
Отца у Даниила сняли с работы и исключили из партии.
Уже вот сейчас, вечером, я узнала от папы, в чём дело. Павел Иннокентьевич работал начальником строительного участка. В тресте у них орудуют мошенники. Павел Иннокентьевич поднял бучу и выложил управляющему очень серьёзные претензии. Управляющий и его подручные, боясь разоблачений, подтасовали документы и всю вину свалили с больной головы на здоровую. Павла Иннокентьевича обвинили в разбазаривании средств, перерасходе материалов, ещё в каких-то смертных грехах — по существу, в жульничестве — и подали в суд. Идёт следствие, и дело Седых плохо: документы против него. Однако папа убеждён, что Павел Иннокентьевич не виноват. Он с дядей Веней отправился к какому-то адвокату — советоваться.
27 марта
Ходили с Цапкиной проведать Даниила. Повел нас Саша Петряев.
У Седых небольшая уютная квартирка в новом доме. Но чувствуется внезапно появившийся беспорядок, пахнет лекарствами. Оказывается, Надежда Ивановна, мама Даниила, тяжело заболела — так на неё подействовало случившееся. Мы её не видели: она лежит в своей комнате. Даниил почти не отходит от неё.
Нас «принимала» Марфута, сестренка Даниила. Очень резвый и смышленый человечек. Я в неё просто влюбилась. Белобрысенькая, глазищи огромные. На месте не сидит ни секунды.
Услышав, что меня зовут Ингой, она сразу же обратила на мою персону самое серьёзное внимание:
— Значит, ты Холмова? Это ты причесываешь Данчика?
— Как так причесываю? Он, по-моему, сам…
— А в шахматы-то! Он всегда говорит: «Опять меня Инга Холмова причесала, две партии выиграла».
Смешно, а мне почему-то сделалось приятно. А с Милой получилось ещё смешнее. Бедняжка даже расстроилась. Она спрашивает у Марфуты:
— А меня ты знаешь?
Та и влепила:
— Знаю. У тебя фамилия Да-гма-тик. — И таращит глазенки: — Ты не русская?
Она непрерывно забавляла нас. Что-то сказала Саше, тот не поверил. Тогда Марфута вытянулась по стойке «смирно», прижмурила глаза и выпалила!
— Вот честное октябрятское без креста!
Мы не поняли, что значит «без креста». Оказывается, можно дать слово, незаметно скрестив при этом ноги, одна за другую, — тогда слово будет недействительным.

— Тогда немножечко можно соврать, — объяснила Марфута.
С Даниилом поговорить нам не удалось. Так, несколько пустяковых фраз. Он хмурый, побледневший, но спокойный. Мы сидели недолго. Даже не успели хорошенько рассмотреть его аквариумы. А аквариумы хороши, рыбки в них превосходные!
Саша остался, мы ушли. Сидели у Милы. Что ей пришло в голову — просит называть её Людой. Можно и Людой — все равно Людмила.
Досталось от её мамы. Она считает, что нам вовсе не нужно ходить к Седых. Всякие слова о том, что мы не знаем жизни, очень легковерны, излишне добросердечны и тэ пэ, и тэ дэ.
— Зря человека в таком преступлении не обвинят, — говорит она. — А сын его… Знаете, говорят: «Яблоко от яблони…»
— Он вовсе не плохой мальчишка, — сказала я. — А отец его не виноват. И мой папа хлопочет о нём.
— Ну, это личное дело твоего папы, — недовольно поджала губы товарищ Цапкина-старшая. — Я бы никогда не стала этого делать. Седых твоему папе мог наговорить что угодно, разжалобить его — поди разбирайся.
— Но ведь мы всегда говорим: надо верить человеку. И газеты об этом пишут.
— Пишут, конечно. И верить, естественно, надо. Но всему есть разумный предел. Верить надо честным людям, а тут… Извините, я не знаю, какой он. Это выяснит суд.
Мне очень не понравился этот разговор, как не нравится всё в Софье Петровне. Но, видимо, я неустойчивый мелкий человечишка — в мыслях у меня закопошилось: неужели Павел Иннокентьевич преступник?! Я уверена, что на мошенничество он не способен, но ведь жулики могли его окрутить.
Представляю, что переживает Даниил. Предъявили бы такое обвинение моему папке!..
А вокруг звенит и гремит превосходная жизнь. Все газеты полны радостными сообщениями о нашей новой победе: «Енисей перекрыт! Он будет работать на коммунизм!» Я представляю себе штурм этой могучей сибирской реки. Батюшка-Енисей… Непокорный, своенравный, порой бешеный. И тебя смирили наши. Теперь, милый, потрудишься для нас. Ну, и мы тебя не обидим, украсим берега новыми светлыми Дивногорсками. Имя-то какое хорошее городу дали!..
29 марта
Папа и дядя Веня развернули, должно быть, целую кампанию в защиту Седых. Были в горкоме партии. Им помогает какой-то Алексей Николаевич, заместитель секретаря партийной организации строителей.
— Плохие мы будем коммунисты, — говорит дядя Веня, — если позволим невиновного человека засадить в тюрьму.
Вчера папа был дома у Седых. Потом дядя Веня ходил к Надежде Ивановне со знакомым врачом. Состояние у неё тяжелое.
Сегодня я решила тоже сходить к ним и, конечно, позвала с собой Милу. Она вдруг начала плести какую-то чушь, будто кто-то к ним приезжает, родственник, что ли, ей надо встречать его, бежать по магазинам и ещё куда-то. Сразу было видно: врет.
— Скажи прямо, мама запретила, — сказала я.
— Понимаешь, — сказала Мила, — в одном подъезде с Седых живут её старые приятели. Они увидят меня — скажут маме…
Уговаривать я не стала. А она смотрела умоляюще:
— Только прошу тебя: не проговорись Даниилу.
«Едва ли ты имеешь теперь право на эту просьбу», — хотела я сказать, но только кивнула. Конечно, ничего я ему не сказала и не скажу. Но вовсе не ради Милы…
Даниил все такой же озабоченный и немножко растерянный. Говорит, что, возможно, придется пойти работать.
— Школу все равно надо заканчивать, — сказала я. — Перейдешь в вечернюю.
— Наверное, надо, — как-то странно ответил он. Павла Иннокентьевича опять дома не было: все переживает да хлопочет. Таскают его в прокуратуру-
— Он ведь подследственный, — сказал Даниил и скривился; вот-вот готов был заплакать.
Какое страшное слово «подследственный»!
— Ничего, Даниил, все кончится хорошо. Честпое слово, хорошо кончится. — Мне так хотелось утешить его.
Видела Володю. Он говорит, что у Вадима в институте неприятности. Очень обрадуюсь, если неприятности будут большие.
31 марта
Сегодня как-то вдруг я заметила, что на земле весна. Собственно, её ещё нет, — зима на Урале цепкая, — и всё же весна носится в воздухе.
Занятия «Искателя» вчера чуть не сорвались. Хоть и каникулы, решили проводить. Должен был по плану выступать с докладом Даниил, пришлось заменять. Следующий — Дед Аркус, но он болеет. Я поехала в медицинский за своим «телепатом». Искали его чуть ли не час. Неуловимый дядечка! Все же нашли в какой-то лаборатории, извлекли на свет божий. Я думала, он будет упрямиться. Нет, пожалуйста, всегда готов, как пионер.
Доклад был очень интересный. Я исписала полтетради. Удивительная штука — эта загадочная телепатия! Да и вообще все явления так называемой парапсихологии — это мир «чудес», пока ещё не объясненных учеными. Ого, как немало придется потрудиться его величеству Царю Природы, чтобы разобраться в самом себе!
Сразу две ассоциации. Написала слово «разобраться» и вспомнила объявление в коридоре института: комсомольское собрание, и вторым пунктом «разбор персонального дела студента 3-го курса В. Синельникова». Значит, персона Вадима всерьёз заинтересовала его товарищей по институту.
И вторая ассоциация: писала о телепатии, подумала, что надо что-нибудь дополнительно почитать о ней, и тут же вспомнила: прочитанную «Атлантиду» всё ещё Даниилу не вернула. Пойду прогуляюсь…
1 апреля
Как странно и значительно все повернулось вчера! Я и ждала похожего, и не ждала… Но надо по порядку. Папа верно говорит, что я «импульсивная». Эмоции командуют.
Сначала о посещении Седых. Я познакомилась с его мамой.
Открыла мне Марфута и с порога объявила:
— А Данчика нет дома, — подумала и решила добавить: — А мама сегодня вставала, ей лучше.
Из комнаты донесся слабый голос:
— Кто там, Марфуша?
— Это Инга Холмова, — объявила Марфута. Мне показалось, даже торжественно.
Надежда Ивановна попросила заглянуть к ней. Она мне понравилась. Тихая, улыбчивая.
А Даниил, сказала она, ушел к нам. Точнее, к Венедикту Петровичу. Вернувшись, я его застала.
Вот тут всё и произошло.
Дядя Веня сказал, что Павла Иннокентьевича все равно оправдают. И в партии восстановят.
— А если не оправдают? — говорит Даниил. — Я знаю, что его оклеветали, по если не оправдают? — Голос его сделался тоскливым и ожесточенным.
— Раз он не виноват, значит, оправдают, — твердо сказал дядя Веня. — Не те времена, — его взгляд был строгим. Не хмурым, не злым, а именно строгим. — Правда всегда восторжествует. — Он задумался, потом повторил как бы про себя: — Восторжествует…
И заговорил о том, что в любом случае, даже если бы произошло худшее, Даниил не имеет права раскисать и опускаться. Надо быть бойцом. А у бойцов закон: если выходит из строя товарищ и друг, замени его, бейся за двоих.
— Я никогда не говорил вам о том человеке, который живет со мной в этой комнате, — задумчиво сказал Венедикт Петрович.
Я сжалась вся. Я поняла — о ком он.
— Её зовут Раиса Михайловна, — продолжал дядя Веня, не смотря на нас; наверное, он догадывался, что оба мы невольно уставились на портрет. — Она погибла, но она живёт в этой комнате и будет жить среди людей.
У меня по коже побежали мурашки.
Дядя Веня рассказал нам всё. С Раисой Михайловной они учились в одном институте: он на литературном факультете, она на историческом. Они были друзьями, и Раиса Михайловна ещё тогда высказывала ему всякие удивительные предположения по истории человечества. Она мечтала, основательно изучив материал, написать об этом книгу. Но сбыться её мечте не было суждено. Она погибла в одной из дальних археологических экспедиций, в горном обвале. Однако у Венедикта Петровича сохранился план задуманной книги. И тогда он решил сам написать эту книгу. Её книгу. Он заочно закончил исторический факультет, изучал специальную литературу, подбирал и анализировал всевозможные археологические и другие материалы. И вот этот труд подходит к концу — пишутся уже последние главы…
Я готова была зареветь и расцеловать нашего милого пучеглазого дядю Веню. Он сидел притихший и чем-то смущенный.
А его друг Раиса Михайловна смотрела на нас внимательно, пытливо и, должно быть, чуточку грустно. Она как будто о чем-то спрашивала. Что-то нужно ей было узнать — очень-очень важное…
Вот какие бывают на свете дела, товарищ Инга!
6 апреля
Пришла весточка от Вали. Даже не письмо, а открыточка. Обратного адреса нет; лишь по штемпелю можно догадаться, что из Нижнего Тагила. Пишет, что работает. И больше о себе ничего. Только какие-то туманные и затасканные фразы о «разбитой жизни». «Желаю тебе найти своё счастье, — пишет она. — Только будь поумнее да поосторожней».
Что она имеет в виду? Свои отношения с Вадимом? Но разве лишь в этом счастье? Очень уж узко смотрит Валечка на мир.
Я полезла в толковый словарь Ушакова. Вот что написано там:
«Счастье, мн. нет, ср. Состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. Успех, удача».
Я даже удивилась. Как мелко это звучит! «Довольство, благополучие»… Так и представляется мещанин, к тому же сытый, лоснящийся от съеденного поросенка и улыбающийся «от полноты жизни»: у него рижский гарнитур, десять ковров и в гараже своя автомашина.
Нет, счастье не такое!
А какое?
Хоть в словаре и написано, что «мн. нет», то есть множественного числа это слово не имеет, — сколько на свете разных понятий о счастье! Наверное, сколько людей, столько и понятий.
Можно написать такой рассказ. Вот идут, бредут, продираясь сквозь тайгу, три человека. Измученные, отощавшие, падающие с ног. Кое-как, героическими усилиями добираются они до посёлка. Устояли, выжили, вышли победителями из схватки с тайгой. Они счастливы? Да. Но каждый смотрит на это по-своему. Один наелся до отвала — и счастлив. Другой встретился в этом посёлке с любимой — счастье. Третий принес людям весть о новом месторождении руды, которое он открыл, — и для него счастье в этом.
Если будет в рассказе не три, а двадцать три персонажа — будет двадцать три счастья. Вот вам и «мн. нет»!
Но ведь есть и какое-то другое, общее для всех, Главное Счастье. В чём оно? Конечно, тут рецепт не выпишешь: столько того-то и столько того, получайте, как в аптеке. А все же оно где-то какое-то есть. Должно быть!
Надо бы написать Вале Любиной. Сходить, что ли, опять к той старухе, выспросить адрес? Не скажет ведь…
Вчера в 4 часа 24 минуты по московскому времени наша ракета прошла в нескольких тысячах километров над Луной. Готовься, готовься, дорогая наша спутница, — скоро космонавты пожалуют к тебе в гости.
Кстати (почему «кстати»?), Володя приглашает к себе на день рождения. Семнадцать лет. ещё не знаю, пойду или нет.
12 апреля
Мила самоотверженно борется с «Милой», напоминая всем, что имя у неё Людмила. Её, наоборот, изводят «милочками», «милашками» и «милягами». Саша сочинил под Хлебникова:
Милая Мила умильно молит
Милу на мыло мило уволить.
Светка Суслова говорит, что скоро у Цапкиной начнётся несварение желудка от скверного настроения. Соображает Светка-то. Раньше она мне казалась пустоватой, слишком беззаботной и бездумной, смешная, курносая и конопатая девчонка росточком с шестиклассницу. А приглядываюсь — нет, просто весёлая, иногда даже остроумная, любит в жизни всё хорошее и не любит плохое. Во дворе у себя, наверное, заводила всяких дел…
Володя спрашивал, приду ли я в субботу. Я попыталась отшутиться:
— Угораздило тебя родиться в несчастливый день — тринадцатого.
— Слушайте, — сказала Рано, — я понимаю, что всё это, конечно, шутки: тринадцатое число, кошка… Но выходит, всё же древние приметы ещё жили среди них?
Ярослав оторвался от дневника:
— Не только приметы. Некоторые из них даже в церковь ходила, иконам молились.
— Варварство! — не выдержала Рано. Андрей чуть поморщился:
— Не будь примитивно-прямолинейной, как мамаша этой Цапкиной.
Рано вспыхнула, но Ярослав уже снова взялся за дневник.
Он настаивал. Тогда я спросила, почему он не приглашает никого из класса. Володя усмехнулся «со значением»:
— Тебе, конечно, нужно, чтобы я пригласил Даниила Седых.
Они в последние дни, похоже, в ссоре. Почему — не знаю. Я сказала:
— С чего ты взял?
— А сама заалела!
— Ничего я не заалела. От глупостей я синею… Вот у меня будет день рождения — я позову весь класс.
— Хоть всю школу вместе с Марией Сидоровной. — Потом принялся уговаривать: — Ну приди. Я, может, и день рождения отмечаю только потому, что ты придёшь.
Ещё чего не хватало!.. Так мы с ним и не договорились.
И сама не знаю, пойду или нет. Дурацкая нерешительность!
В доме у нас устанавливают газовые плитки. Шик! А скоро и многие предприятия перейдут на газ: из Бухары, аж с самого юга страны, на Урал тянут гигантский газопровод.
Ботвиннику приходится нелегко, Петросян жмёт. Мне маячит плитка шоколада, на которую я поспорила с Сашей.
14 апреля
Вчера Дед Аркус доказал, что математика — это поэзия. Меня он, во всяком случае, убедил. Это заседание клуба заменило, наверное, десятки уроков — оно заинтересовало ребят математикой, открыло нам какие-то особые, увлекательные стороны этой «науки наук», «всеобщего языка ученых». И сам Дед Аркус открылся нам по-новому. Оказывается, он по-настоящему вдохновенный и много знающий человек…
Саша Петряев и Даниил затевают новое «искательство». Они разговаривали со знакомым инженером из Водоканалпроекта, и он их заразил «водяной болезнью». По их словам выходит, что проблема водоснабжения становится чуть ли не самой важной к мире. Городам очень не хватает воды, они задыхаются от её недостатка. Промышленные предприятия не только пожирают воду в громадных количествах, но и сильно загрязняют естественные источники.
Если так, тут действительно есть о чем беспокоиться. Ведь мы должны думать не только о сегодняшнем и завтрашнем дне — нельзя забывать о грядущих поколениях.
Саша предлагает объявить «голубой поход». Всем искателям разбиться на небольшие группы и обследовать источники, очищать «умирающие» ключи, выявлять зарастающие озерца и речки. Если взяться за это дело, работы очень много. Хоть сотни ребят подключай. Тот инженер будто бы весьма одобряет эту затею.
Пока мы после заседания разговаривали обо всем этом с Даниилом и Сашей (нас собралось вокруг них изрядная кучка), Володя стоял тут же и все поглядывал на меня. Он ждал ответа. Я это заметила, но вида не показывала. Он нервничал все больше. Потом не вытерпел, отозвал меня в сторону:
— Мы собираемся в семь. Ты придёшь?
Я промямлила что-то насчет подарка: не успею купить. Он возмутился: какой подарок! Я опять забормотала что-то — ни то ни сё.
В это время подходит Даниил:
— Ну идём, я к Венедикту Петровичу.
И я сразу решилась:
— Ты извини, Володя, я не приду. — И ушла. С Даниилом.
Володя только обиженно сверкнул своими большими красивыми глазами. Наверно, здорово рассердился.
Даниил слышал мой ответ, но ничего не спрашивал. Молчал, вроде тоже рассердился. Вот чудики!.. Я наконец не выдержала и сказала, в чём дело: что Володя звал на день рождения, но никого из нашего класса не будет — и я отказалась.
— Угм, — был многодумный ответ.
Потом Даниил все же разговорился. А посидел у дяди Вени — заглянул к нам:
— Хочешь пойти аквариум смотреть? Ты говорила…
Я пошла. Он очень интересно рассказывал о рыбках. Только я все названия перепутала. Марфута — та знает назубок.
Потом Даниил проводил меня до дома, было уже поздно.
Мы договорились, что он даст мне несколько рыбок. Тоже буду обзаводиться аквариумом. Я смогу любоваться им, наверное, часами. Папа с мамой «за», условие одно: самой ухаживать за рыбками. А как ещё? Завтра же пойду в зоомагазин.
А на улице бушует весна!..
15 апреля
Примчался Даниил. Рот до ушей. Все сразу стало ясно.
Павла Иннокентьевича оправдали; вернее, прекратили следствие, все обвинения оказались ложными. Теперь под суд пойдут настоящие виновники безобразий, которые творились на стройке.
Странное дело, столько лет в нашей стране Советская власть, построен социализм, а как ещё сильны в некоторых людях пережитки капитализма. Сколько всяких гадов, которые стараются урвать побольше за счёт государства и ради этого идут на всякие подлости, обман, двурушничество. Тунеядцев отправляют в особые поселения, заставляют там работать, только этого, видимо, мало. Ведь те жулики, что творили свои грязные дела в строительном тресте, — это не тунеядцы. Они обыкновенные «советские служащие». А вреда принесли и нахапали больше, чем сотни тунеядцев.
Откуда это берётся? Конечно, и при социализме есть условия для всякого жулья. Ведь у нас ещё не ликвидированы деньги, и жадюги тянутся к ним, идя на преступления. Хорошо, что у нас всё крепче становится заслон против всяких хапуг и обманщиков. А нам, подрастающим, предстоит сделать его ещё непроницаемее…
18 апреля
Павла Иннокентьевича восстановили в партии. В газете был большой фельетон — отлично разделали жуликов из стройтреста.
Я все больше думаю о факультете журналистики, о работе в газете…
29 апреля
Давненько не заглядывала я в дневник. Удивительно, как быстро мчится время: вот уже и Первомай подошел!
Даниил словно родился вновь. Энергичный, веселый, даже разговорчивый. Они с Сашей действительно взялись за «водную проблему» — с группой ребят рыщут по окрестностям города с таким азартом, будто надеются открыть по меньшей мере новую Волгу. Саша говорит, что инженеры хотели создать на окраине города, на речке Петрушихе, большой искусственный водоем. Был бы у нас ещё один пруд с парком. Но приток воды в Петрушихе мал. Вот наши ребята и взялись за поиски всяческих родников и ручейков, чтобы этот приток увеличить. Их знакомый инженер сказал, что это дело совсем не пустое.
Ребята уезжают на автобусе, потом ходят по лесу, исследуя его квадрат за квадратом, всё наносят на карту.
Сегодня я должна была отправиться с ними, обещала, но случилась беда с Венедиктом Петровичем. Он последние дни вообще чувствовал себя плохо, жаловался на слабость, кровотечения из носа, а сегодня упал в обморок и долго не приходил в себя. Я бегала звонить в «скорую помощь». Ему сделали какие-то уколы, дали лекарства и выписали назначение в больницу. А в чём дело, не сказали.
Сейчас ему получше, лежит, тихонечко улыбается и подтрунивает над мамой. Она «приписала его к своему хозяйству» и ухаживает за ним, как за малым ребенком.
Вчера в Москву приехал Фидель Кастро. Говорят, он побывает и у нас, на Урале.
Передо мной аквариум. Даниил здорово мне помог. Притащил песка, вместе его промывали, дал, кроме рыб, разных водорослей. Аквариум получился — загляденье!
1 мая 1963 г.
До чего же я люблю Первомай! Каждый раз в этот день я просыпаюсь с праздником в сердце, с неясным, но уверенным чувством чего-то очень хорошего и светлого. И это чувство никогда не обманывает. Вот где очень подходит выражение «душа поёт». Ох, как я понимаю счастье композиторов, — они могут излить свою душу в музыке. А я в ней бездарь и тупица.
Вот если бы талант, я написала бы Гимн Весне и Труду — такой, что запели бы сердца людей всего мира!..
Будь я даже столетней старухой, в такой день всё равно не усидела бы дома. Улицы, дома, люди — все дышит Первомаем. Со всеми просто обниматься хочется. Всюду улыбки, цветы, оркестры.
К школе, на сборный пункт, я шла окольными путями, чтобы подольше потолкаться по улицам. Чуть не опоздала.
Мария Сидоровна не отказала себе в удовольствия уколоть меня:
— Комсорг класса, а какой пример показываешь?
Я даже не нашлась, что ответить.
На демонстрации договорились всем классом встретиться в шесть вечера у памятника Ленину. Хоть не весь класс собрался, а пришли многие. Гурьбой бродили по городу, танцевали на площади (я учила Даниила вальсу). Долго сидели на гранитной лестнице набережной и пели. Перепели, наверное, все песни, какие знаем. Потом опять бродили.
Вечер был чудесный. Как-то так получилось, что мы с Даниилом заговорились и оторвались от компании. Опять вышли к городскому пруду. На его чёрной шелковистой глади переливались отблески праздничных огней. В небо взлетели хвостатые жар-птицы — фейерверки.
Всю дорогу мы болтали, а как уселись на парапет — смолкли. Даниил сделался неловким и задумчивым. Ему задумчивость идет. У него, если присмотреться, довольно правильные черты лица, и, когда оно спокойно, становится красивым. Собственно, и в другие моменты он, пожалуй, хорош собой. Но это, конечно, ерунда, не в этом дело. Просто он славный парень. Мы за последнее время как-то сблизились, меня даже тянет к нему… (Ингочка, вы расчувствовались? Ну-ну!)
Домой вернулась поздновато, но встречена была вполне милостиво. У нас гости. До сих пор что-то там обсуждают под звон рюмочек, а я сижу в другой комнате, любуюсь аквариумом и беседую со своей тетрадью. Мы же с ней старые друзья, отчего не поболтать?
А вот в комнате дяди Вени темно и пусто. Он в больнице. После демонстрации мы с Даниилом ходили проведать его. Держится бодренько, но чувствуется — это показное. При нас у него началось кровотечение. Нас вытурили…
Гости, похоже, собираются по домам. Значит, надо закрывать тетрадь и бай-бай. Завтра рано вставать: собираемся в лес с нашими «водоискателями».
2 мая
Я одна. Папа с мамой в гостях. Что-то грустновато, чего-то хочется, чего — не знаю. Как говорит Светка Суслова, томление души и тела. Наверное, просто устала: сегодня побродили мы изрядно.
Собралось человек пятнадцать. В автобусе, хотя он был полнёхонек, всю дорогу пели. Пассажиры — ничего, не ругались, а какой-то подвыпивший парень даже подыгрывал нам на баяне.
Прежде всего «видоискатели» вывели пас к Петрушихе. Я раньше тут бывала — место славное. Журчит и булькает меж камней речушка, искрится на солнце, играет бликами. На песчаных берегах толпятся сосны, подальше дыбятся угрюмые скалы.
Хотели расположиться на берегу, но Саша потащил всех дальше. Сначала, сказал он, надо выполнить сегодняшнюю программу поисков, а потом уже бездельничать.
Ничего особенного мы, конечно, не нашли, но все же вылазка прошла недаром. Очистили один родничок. Какие-то идиоты забросали его камнями, консервными банками и полусгнившими корягами. Он почти совсем заглох. Мы повыбрасывали всю дрянь, и дно сразу же забурлило маленькими водяными вулканчиками — родник ожил.
Мила-Людмила старалась больше всех. Показывала, какая она рьяная поборница передовых идей Даниила Седых. Ну, по правде-то все старались. Хотя Володя и заявил, что поехал просто вдыхать кубометры, а эти роднички или снова кто-нибудь забросает хламом, или коровы затопчут.
На меня он вроде не обиделся. Вчера, когда мы гуляли по городу, звал в кафе, вел себя «по-джентльменски» — на всех купил коробку конфет, а мне ещё и букетик подснежников.
Второй родник, который мы нашли совсем недалеко от проезжей дороги, Саша отметил на своей карте как «нужный». Из него вытекает ручеёк и бежит в болотце. Если прийти с лопатами, очень нетрудно повернуть русло этого ручейка, и он побежит к Петрушихе. Хоть маленькая, а прибавка.
Потом мы вернулись к речке. Казалось, что запасов еды набрали дня на два, а уничтожили их в один присест. Натянули волейбольную сетку, играли, фотографировались, просто дурачились. Некоторые ребята пробовали загорать. Но холодно…
Вот тут-то у нас с Милой произошло «объяснение». Она таки здорово приревновала меня к Даниилу.
Мы сидели в сторонке от ребят на большом гранитном валуне у речки. Она билась о камень и брызгалась. Мила бросала в воду сосновые шишки и молчала. Потом вдруг, не глядя на меня, сказала:
— Ты любишь его, Инга?
Я сразу поняла, о ком она говорит, но прикинулась наивной и беспечно спросила:
— Ты о ком?
— Не виляй. К чему это? Я говорю очень серьёзно. — Она перестала бросать шишки, сложила руки на коленях и повернулась ко мне. Её глаза странно блестели. Я не могла больше прикидываться.
— Что значит «любишь»? — сказала я. — Просто мы с ним товарищи. Может быть, чуть больше, чем товарищи.
— Нет, скажи честно: ты любишь его? Я разозлилась:
— Чего ты разыгрываешь мелодраму? Я же тебе ответила. Пожалуйста, хочешь — хоть целуйся с ним.
Она опять стала бросать шишки, потом сказала:
— Я его люблю… Только у меня такая уж, видно, невезучая судьба. Он и смотреть на меня не хочет.
Наверное, все-таки я её обманывала, когда прикидывалась безразличной. Ведь Даниил мне дорог. И, видимо, я эгоистка. У неё «невезучая судьба», а мне сделалось глупо-радостно. Захотелось вскочить, побежать к ребятам, схватить Даниила, закружиться… А сказала я совсем другое:
— Все ты выдумываешь! Просто у тебя лёгкое увлечение. Я читала, это пройдёт.
— Дура! — вдруг выкрикнула Мила и вся покраснела — не от стыда, а от гнева. — Ты или издеваешься надо мной, или…
— Эй, неразлучницы! — крикнул, выскакивая из кустов, Саша Петряев. — Пошли уху варить. Я рыбину поймал — во!
Он размахивал малюсеньким, в мизинчик, пескариком.
Я воспользовалась этим и улизнула от Милы. Больше она со мной разговаривать не пыталась. Должно быть, так и просидела там, на валуне, всё остальное время.
Вернулись мы недавно. Сейчас около восьми вечера.
Почему-то мне кажется, что вот-вот придет Даниил. Данчик. Мне хочется этого — и тревожно, боязно, что ли…
Инга Владимировна, а ведь вы, должно быть, влюбились всерьёз.
3 мая
Товарищ Цапкина сегодня перед уроками спросила у меня с этаким официальным холодком:
— Мне, может быть, пересесть от тебя?
Я пожала плечами:
— С чего?
Она тоже пожала плечами. Но переселяться на другую парту не стала. Сидеть — сидим, разговаривать — не разговариваем.
Володя приглашает поехать в воскресенье к ним на дачу. Я ему прямиком:
— Даниила с Сашей позовешь?
Он сделал кислую мину:
— Можно.
…А Даниил вчера не пришел. Сердце меня обмануло.
5 мая
Так хорошо начался этот день и так плохо закончился!..
На дачу к Цыбиным мы не поехали. Не согласились Даниил и Саша. Вновь отправились в «водяной поиск». Володя, поколебавшись, поехал с нами. Опять сколотилась немалая группа — человек десять.
На этот раз ушли ещё дальше. Лес чудесный — глуховатый, обомшелый, как в царстве бабы-яги. Повсюду громоздятся валуны и скалы. Горки, пригорки, овраги.
Воду на горках искать, может быть, и смешновато, но мы забрались на одну, повыше. Вершину её венчал шихан — старая, обветренная громадина скал, похожая на развалины древнего замка. Вид с шихана — не оторвешься. Во всю неоглядную ширь раскатились невысокие горные увалы. Вблизи они зеленые, дальше темнеют, отливая синевой, и нескончаемо уходят в голубовато-белесую дымку у горизонта. Поблескивают ленты рек и серебряные шаньги озер. Дымят вдали трубы заводов — куда ни глянь. И гуляет над миром шалый, задорный ветер… Сердце заходится от любви к родной земле.
Вскоре после этой горки и началось. Мы набрели на ручеек, который бежал в сторону Петрушихи, и пошли вверх по его течению. Ручеек был жиденький, в смысле тоненький, слабый. Примерно через километр подошли к его, как нам показалось, истоку. Он вытекал из-под камней на пологом склоне лесного холма. Вроде бы ничего особенного. Но Светка Суслова сказала:
— А может, его начало вовсе и не под землёй. Может, он только под этот холм прячется, а с той стороны холма течет тоже по поверхности.
Разве лень нам обойти вокруг холма? Обошли. Никаких признаков ручья. Значит, Светка ошиблась. Но её идея застряла в голове у Саши, и он предложил «пошарить» дальше вокруг. Мы разбрелись по лесу, перекликаясь. Вдруг дикий вопль Володи:
— Сюда! Ко мне! Нашел!
Мы бросились к нему. Он стоял на берегу речушки, которая текла в сторону холма. Пошли вниз по её течению, и чуть ли не через несколько шагов — прошли всего метров пятьдесят — речушка исчезла, ушла под землю.
Саша и Светка ликовали: все-таки они оказались правы.
Но вот в чем загадка. Ручеек по ту сторону холма — тот, на который мы наткнулась вначале, — был совсем хиленький, а здесь тёк довольно солидный ручей, почти с Петрушиху. Выходит, это разные ручьи? Даниил предложил наломать спичек, бросить здесь и посмотреть, не вынесет ли их пода по ту сторону холма.
Так и сделали. Мы с Даниилом и Володей побежали к малому ручью, к его истоку; часть ребят вытянулась в цепочку по лесу для передачи сигналов, а Саша и Светка приготовились «пущать» спички. Добежав до своего ручья, мы по цепочке передали, что готовы к наблюдениям, и скоро по цепочке же получило сигнал, что спички поплыли. Прибегали остальные ребята. Ждем. Ничего нет…
Вдруг мелькнул одни обломок спички, второй… и опять ничего нет. А наломали, говорят, чуть не целый коробок.
Теперь нетрудно было сообразить, что из большого потока, ушедшего под землю, в наш ручеек попадает лишь небольшая часть. Но куда уходит остальная вода? Остается под землей?
Все начали рассуждать о карстовых явлениях, о пещерах, ну прямо как специалисты. А что толку от этих рассуждений?
— Попробуем отвалить камни, — предложила я. — Может, туда проникнуть удастся?
— Идея — блеск! — подхватил Саша. Тут-то все и произошло.
Поднатужившись, мы с помощью рычагов из жердей отвалили два камня. Было такое ощущение, что из-за них разом хлынет могучий поток. Ничего подобного, ручей как был малюсеньким, топким, таким и остался. Но за камнями, открылся подземный ход.
— Пещера!! — заорали мы.
Саша мгновенно юркнул туда. Мы сгрудились у входа; он ругался, что заслоняем свет. Из пещеры тянуло холодом и плесенью, слышалось звонкое журчанье воды.
Довольно скоро Саша вылез обратно. В руке у него была какой-то необычной формы прямоугольная старинная бутылка. Она была плотно запечатана, внутри что-то болталось. Откупорить бутылку удалось быстро, а вот достать из неё «что-то» было невозможно. «Что-то» — по виду небольшой бумажный свиточек, разбухший, но довольно плотный, покрытый зеленовато-серым налетом: влага все же просочилась в сосуд.
Эту бутылку Саша нашёл между камнями совсем недалеко от начала хода. Кто и когда положил её туда? Или, может, бросил где-то в верхнем течении ручья, и вода сама принесла её сюда?

Наверное, это неправильно, но мы не могли устоять и после споров всё же разбили бутылку. «Что-то», судя по всему, записка. Но она в сырости так слежалась, что развернуть её, не повредив, мы не смогли. Завтра Саша отнесет находку в музей. Вдруг что-то важное? А если и не важное, всё равно интересно…
Видимо, Сашин успех подхлестнул Володю. Мы даже и не заметили, когда он пробрался в пещеру. Неожиданно услышали приглушенный крик. Крик доносился из подземелья. Переглянулись. А где Володя?.. Так это же он кричит!
Даниил бросился в пещеру. Саша хотел за ним, но в лазе было очень тесно.
— Готовьте смолье на факелы! — крикнул Даниил. — Здесь темнотища!
Володя затих. Молчал и Даниил. Какое там смолье! В руки попадали только трухлявые, никуда не годные сучки.
Вдруг снова крик. Страшный. Голос Даниила. Я метнулась к пещерному лазу, плюхнулась. Саша отшвырнул меня и полез вперед.
Туго же им пришлось там, в неприветной сырой тьме, среди грозных, невидимых каменных громад!.. Первым выполз Володя. Потом Саша вытащил Даниила. С ног до головы они были заляпаны глиной. У Даниила бледное, перекошенное от боли лицо. Он сломал ногу.
Получилось так. Володя заметил боковой ход и полез в него. Полез — и застрял. Да при этом ещё сильно ушибся. Ему показалось: конец. Он и закричал, чтобы помогли. Когда подполз Даниил, Володе стало поспокойнее. Даниил вытянул его. Помогая Володе, он приподнял его и в это время оступился в какую-то расщелину. И всё. Даниил уверяет, будто слышал, как треснула кость.
Что было — ужас вспомнить. Светка с Людмилой побежали к шоссе (это несколько километров), а мы по очереди тащили Даниила на руках. Он молодец, крепился, молчал. Но тащить на себе человека, хотя и вдвоём, оказывается, страшно трудно. За час все умаялись так, что еле держались на ногах. Потом приспособили две жердины, усадили Даню на них. Ему было очень неудобно и больно, но зато тащить стало легче — вчетвером.
Вдали закричали Светка и Люда. Они возвращались с двумя мужчинами. Хорошие люди! Помогли доставить Даниила на шоссе, остановили какой-то грузовик, на нем мы и устроились.
Хотели сразу в больницу, но Даниил запротестовал: мама будет очень беспокоиться. Недалеко от их дома я вышла из машины, чтобы позвонить в «скорую помощь».
Даниила разрешили оставить дома, ногу взяли в лубки. У него перелом берцовой кости, но врачи говорят: «удачный». Ничего себе удача!..
8 мая
В школе, конечно, все знают о нашем приключении. Вчера Дед Аркус и Мария Сидоровна проводили у нас собрание. Дед больше молчал, «воспитывала» Мария Сидоровна.
А сегодня после уроков пришел Степан Иванович, с ним — научный сотрудник из музея. Записку там прочли, и он принес нам фотокопию. Это послание партизан, написанное летом 1918 года. Почти сорок пять лет назад. Колоссально!
Из школы мы чуть ли не всем классом двинулись к Даниилу. Чувствует он себя плохо, поднялась температура. Но записка здорово обрадовала его и взволновала. Он просил обязательно сходить к Венедикту Петровичу и показать ему находку. Сегодня уже поздно, завтра сходим.
Я переписала записку от строчки до строчки. Вот она:
Кто не будь найдет это писмо, прошу знать что писал раненый Истомин Павлуха, слесарь с завода Ятес а также его боевые товарищи по отряду Сизов Фола Панкратович и Голодухин Ефим. Такая должно судьба нам приходит карачун. Вечером отбились от колчаковских белых гадов геройски погибли Черных Васюта и Подгоркин Иван. Захоронили мы этих своих боевых товарищей в камнях у Петрушихи возле второго переката вниз от шихана Писанец.
Утром здесь мы примем смерть. Красные партизаны живыми, не сдаются! Биться будем до последнего жаль патронов мало, но есть ещё руки душить гидру контреволюции.
Мало на то надежды по если кто из товарищей найдет передайте всем, что погибли мы свято за мировую революцию и за светлое наше счастье. А гадов бейте до конца!
Уже развидняется. Писмо это упечатаем в бутылку, пустим в ручей и может найдут его чьи хорошие руки. Отряд не называем неизвестно в какие руки попадет.
По поручению — Истомин Павел.
Писано на расвете 7 августа 1918 года.
Ятес — так назывался раньше один из заводов в нашем городе, по фамилии владельца. Обязательно надо показать записку там. Вдруг какой-нибудь внук или внучка этого Истомина или его товарищей работает там…
Я представляю их, трёх партизан, в глухом лесу, окруженных врагами, измождённых, суровых, яростных… А может, и не такие уж они были суровые? Может, был Павлуха Истомин весёлым, неунывающим гармонистом, песенником и балагуром? Ведь в предсмертное письмо не вставишь шутки. В предсмертном письме — только главное: мы погибаем за революцию, «за светлое наше счастье».
Ах родные, бородатые, отважные! Вам бы хоть краешком глаза глянуть на нас, на нашу жизнь, за которую вы бились!..
12 мая
К дяде Вене идти не пришлось: он сам пришёл домой. Пока ещё на бюллетене, и, возможно, его снова положат в больницу. Белокровие. Хотя он посмеивается и говорит, что врачи обещают исцеление, — это страшно.
Даниилу лучше. Мы с Сашей регулярно носим ему задания и часто занимаемся вместе. Один раз пошла с нами Мила-Людмила, но уже у самого дома Седых вдруг повернулась и почти бегом утопала. Правильно сделала…
Сегодня мы к ним ходили вместе — папа, мама и я. Мама с Надеждой Ивановной виделись впервые. Должно быть, они друг другу понравились. Пили чай в комнате у Даниила. Потом пели песни. Разговор все время вертелся вокруг пашей находки, записки партизан, — ну и настроились на тот лад: запели старые комсомольские песни.
Несколько раз у меня навертывались слезы. Казалось бы, совсем простые слова:
Тут боец молодой
Вдруг поник головой:
Комсомольское сердце пробито… —
А у меня слёзы. Потому что дело не в словах. Потому что вспомнила я того Павлуху Истомина и подумала: а ведь был он совсем такой же, как вот Павел Иннокентьевич и папа. Ну, понеграмотнее, не так одет, а сердце у него было такое же.
И ещё подумала: вот мы говорим о неистовых и светлых героях прошедших дней, нередко завидуем им, а если вдуматься — они же рядом с нами. У тех была гражданская война, у этих — ещё потруднее — Великая Отечественная. У тех были голод и разруха, эти тоже, полуголодные и подчас неумелые, поднимали города из пепелищ, воздвигали новостройки пятилеток. Те отдавали себя беззаветной борьбе за революцию, у этих — борьба за коммунизм. И у тех и у этих какие-то человеческие слабости, промахи, но все равно они борцы, мужественные и сильные.
Примерно так думала я, слушая их песни, и мне было радостно, и щемила грусть, и вся я сделалась какая-то возвышенная, что ли. Вот бы сейчас писать сочинение о Павке Корчагине. Наверное, я написала бы по-другому. Наверняка по-другому…
16 мая
Сегодня Саша Петряев, гордый и важный, отбыл в «служебную командировку». Сашу отпустили с уроков, и мы всем гамузом проводили его до водоканалпроектовского «газика». Инженеры сами заехали за сей важной персоной. Из нас многие просились в эту поездку, но Степан Иванович отпустил только Сашу.
Вернувшись, он сразу же прибежал к Даниилу. Я как раз была там. У Саши превосходные новости.
О нашей находке он рассказал инженерам ещё неделю назад. Вот они и решили посмотреть все «своеглазно». Забрались в пещерку. Там действительно большая часть ручья уходит в подземные глубины по карстовым протокам.
И вот какая идея пришла инженерам. Изменить течение большого, верхнего ручья, направив его в Петрушиху, невозможно: мешают горки. Рыть через них канал — не стоит овчинка выделки. А если под землей произвести направленный взрыв, то вся вода может хлынуть во второй ручеек, который бежит в Петрушиху. И проблема сразу решится… Только нужно ещё посоветоваться с геологами, выяснить, не отыщет ли вода в известняках новую лазейку в подземные глубины.
На своих картах инженеры пометили новое название ручья: Партизанский. А раньше он был безымянным. Что ж, хоть это и малютка, а ведь нашими стараниями дано ему имя! Приятно…
Ярослав отложил дневник.
— Вы поняли? — Он внимательно посмотрел на друзей. — Неужели не поняли? Ведь то, что в нашем городе обычно называют Озером, — это искусственное водохранилище, пруд. Он создан ещё в прошлом веке и назывался Партизанским. Теперь вы поняли?
— Ты считаешь…
— Я почти уверен. Это нетрудно будет уточнить. Расскажем Лацису — он поможет.
Еще одна новость — грустная. Павел Иннокентьевич меняет место работы, и вся их семья переезжает в Нижний Тагил. Собственно, только из-за Даниила они и задерживаются. Марфута — та уже вся в поездке: строит какие-то невероятные планы, рассказывает (конечно, со слов отца), какой это замечательный город и как они там будут жить.
Даня помалкивает. А мне не по себе…
18 мая
Венедикт Петрович снова ложится в больницу, только в другую, специальную. Теперь, наверное, надолго.
Сегодня я почти весь вечер просидела у него. Хочется многое записать. Своим я сказала, что у меня домашнее сочинение, — чтобы не погнали спать.
Разговор у нас был большой, какой-то настоящий.
Задумчивый и тихий, дядя Веня сидел у стола.
Потом похлопал по толстенной пачке бумаг и оглянулся на меня:
— А знаешь, я счастлив, что успел эту штуку закончить. Теперь, если и случится что, я спокоен. Главное сделано.
А в глазах все равно задумчивость и грусть. И вот, так уж получилось, мы разговорились о счастье. О нём писала мне Валя, потом — тот партизан, и вот об этом же заговорил дядя Веня. Все об одном, и все по-разному.
Я сказала об этом. Он усмехнулся:
— Что ж, давай и мы с тобой попробуем что-нибудь выяснить, хотя до нас это делали наверняка миллионы раз.
Не знаю, так ли это, но мне кажется, что «выяснял» он не только для меня. Не только как педагог для своей надоедной ученицы. Он решал что-то важное и для себя.
Говорил дядя Веня в общем-то довольно долго. Всего мне сейчас просто не восстановить. Но основное — вот.
Счастье — это наиболее глубокое удовлетворение важнейших потребностей человека: любить, воспроизводиться, творить, совершенствоваться — удовлетворение тех потребностей, что составляют основу дальнейшего развития человеческого рода. Если короче, счастье — вся многогранная жизнь, прожитая хорошо.
Однако это «хорошо» людьми понимается по-разному. Это зависит от эпохи и от склонностей человека, от его разума, образованности, воспитания, темперамента. Для одного счастье — повелевать, для другого — жить спокойно, для третьего — творить. Лев Толстой, например, говорил: благо в жизни, а жизнь — в работе. («Умел старик формулировать. Припечатал на века», — улыбнулся Венедикт Петрович.)
Поскольку люди ищут разное счастье — каждый своё, то и находят разное. Поэтому счастье возможно в любом обществе, в любую эпоху. Дикарь был счастлив, когда возвращался с удачной охоты и засыпал у костра. своё «счастье» находил даже крепостной крестьянин, по сути раб, если помещик был не очень прижимист и лют. По-своему счастлив какой-нибудь жалкий маклер, которому удается провертывать делишки, обманывая других.
Но все это счастье ограниченное, потому что ограничен и искажён идеал. Во все эпохи он не только зависел от склонностей человека, но и уродовался социальными причинами. Бедность и богатство, плебейство и знатный род, стремление к наживе, преступность, извращения — всё накладывало свой отпечаток.
Вот почему полное, истинное счастье люди обретут лишь в коммунизме, при идеальной организации общества. И вот почему передовые люди находили и находят своё счастье в борьбе за это общество.
— Понимаешь, когда полностью, с озаренным сердцем человек отдает себя этой борьбе, он становится настолько сильным, благородным, возвышенным, что не чувствовать себя счастливым не может…
Он говорил ещё много.
— Венедикт Петрович, — решилась я, — вот вы сказали недавно: «Я счастлив», — а на лице… — Тут я смешалась, потому что это все-таки было ужасно нетактично, просто свински — говорить с ним о таком.
— Я понимаю, — подхватил он спокойно и благожелательно, — понимаю… С одной стороны, это просто привычка: ведь словом «счастлив» мы часто заменяем другое, более мелкое — «доволен». С другой… с другой стороны, я, конечно, счастлив. Хотя и не до конца… А быть счастливым, так сказать, окончательно, по-моему, и нельзя. Всегда должно что-то маячить впереди. Идеал перестает быть таковым, когда человек его достигает. Достигнув чего-то, неизбежно стремишься к другой, более высокой и прекрасной цели. Поэтому-то большое счастье у человека всегда впереди.
Он быстро и как-то странно взглянул на портрет Раисы Михайловны, и мне подумалось, что говорит он о том, что известно только ему и ей — им двоим, и я ничего не стала больше спрашивать, а подбежала к нему и — сама не знаю, отчего и как, — поцеловала его и выскочила из комнаты…
Вот какой получился у нас с дядей Веней разговор. Он мне, как говорит Даня, изрядно «накидал всяких мыслей», и теперь, пожалуй, мне долго не уснуть.
А спать надо — мама сердится и шумит:
— Вечно у неё так. Целые дни брандахлыстит (словечко-то какое — красота!), а ночью спохватится: «Ах, у меня сочинение!» Изволь хоть двойку получать, но спать!
Спокойной ночи, мамочка, двойки не будет.
23 мая
Выиграла у Саши шоколад: Петросян стал чемпионом мира. Хотела слопать одна, из принципа, по пожалела этих лопоухих — Сашу и Даню, — отломила им.

Даня сегодня выползал во двор. На костылях, нога на весу. Смешной и милый… Как же я буду жить, когда он уедет?
Мы занимались, сидя в беседке. Больше, конечно, болтали. Саша, оказывается, тоже покуривает. Я попробовала — противно. Потом попросила Марфуту принести конфетку — вдруг мама унюхает, что от меня несет табачищем. Вот было бы! (Кстати, неплохо бы придумать, куда упрятывать дневник. У моего ящика сломался ключ. Специально мама, конечно, никогда не полезет, но вдруг…)
Приходил Володя. Смутный и вялый, даже Саша не мог его расшевелить. Ссора с Даниилом у них кончилась, Володя особенно изменил своё отношение к Дане после случая в пещерке.
Обсуждали, что делать с «Искателем»: в этом месяце ещё не было ни одного заседания, и виноват тут, разумеется, не один Даня со своей ногой. Пока ничего не придумали, кроме как собраться в последний раз и «самораспуститься» на каникулы, до осени.
А осенью Дани уже не будет…
26 мая
Даня всерьез и страстно увлечен своим океаном. Он рассказывает о нем даже с азартом. Но это не азарт мальчишки, который мечтает о «морских подвигах». У Дани мечта другая — использовать богатства океана. Он говорит, что это дело недалекого будущего.
Вообще-то, действительно, — величайшая сокровищница окружает нашу сушу. На дне — невиданные залежи полезных ископаемых: руды, железа, алюминия, марганца, меди. Масса золота в воде. А растения! Одна, теперь знаменитая, хлорелла чего стоит! Даня говорит, что с подводных «полей» можно собирать кормов в двадцать раз больше, чем с обычных покосов.
Он все придумывает названия для своей будущей специальности — моредел, мореном (от «агроном»), акваном. Пока не получается. Но разве это важно? Придет время — само собой придумается и название. Даня упорный; он станет, наверное, ученым.
— Привет, товарищ профессор!
— Привет, писательница!
— Как поживают ваши хлореллы-мореллы?
— Отлично! А как ваши рассказики?
— Не печатают. Может, возьмете меня в секретари?
— Мне секретари не нужны. Их у меня заменяют киберы.
— Зазнались, товарищ профессор?
— До свиданья. Приемный час кончился.
Шутки шутками, а через неделю они уезжают…
29 мая
Холодно и мозгло. Сегодня ночью выпал снег и целый день все сыпал, сыпал на уже пышную, почти летнюю зелень…
Даня, зачем ты уезжаешь?!
30 мая
Я его поцеловала. Сама.
1 июня
Я просто не могу без него. Целыми днями торчу у них, а приду домой — и готова сейчас же бежать обратно.
Я не знала, что жить так хорошо! Когда рядом Данчик…
Наверное, я сумасшедшая. Ну и пусть. Пусть всю жизнь буду такой сумасшедшей.
Теперь для меня существует на свете только один человек — Даня Седых. Всё мне нравится в нем, всё мило. Просто диким кажется, что когда-то я могла смотреть на него равнодушно и даже посмеиваться. Мне нравится его манера говорить рассудительно и горячо, нравятся его походка и темно-серые упрямые глаза, его лицо — весь он! И когда он молчит… Пусть хоть всегда молчит — только знать, что он рядом и хоть иногда заглядывать в его глаза…
2 июня
Сейчас идем с мамой к Седых. Папа с Павлом Иннокентьевичем ушли в больницу к дяде Вене, а я прибежала за мамой. Она достряпывает на кухне свои подорожники, надо помочь ей унести.
Там сейчас без меня к Дане должны прийти ребята — попрощаться.
Как она долго возится!..
6 июня
Вот так, дорогая Инга Владимировна. Все рухнуло. Глупо и обидно. Я даже на вокзал не пошла — уехала в парк культуры и отдыха и весь день проревела там в леске.
До чего же тоскливо на душе! Хоть вешайся…
9 июня
Опять падает снег.
Очень паршиво на душе. Вообще-то наплевать бы, но, видно, такая уж у меня натура — все переживаю. Но как пережить такое?
Все полетело кувырком как-то сразу, неожиданно. Я сейчас даже и не помню первых фраз, а потом — всё в тумане. До конца я так и не досидела — убежала. Должно быть, приходил Саша; звонил, звонил — я не открыла. Папа с мамой вернулись — я лежала под одеялом, прикинулась, будто сплю. А меня всю трясло…
У Даниила, когда мы пришли с мамой, были ребята — и Саша, и Володя, и Светка, и даже Людмила. Даниил был какой-то взвинченный, нервный. Людмила такая же. Я тогда не обратила особого внимания: все объяснила отъездом. Да и не очень приглядывалась.
Потом, когда мы были во дворе, Людмила отозвала Даниила, и они о чем-то говорили. Он вернулся — я спросила:
— Любезничал с Милой-Людмилой?
Он ответил хмуро, даже грубовато. А я снова:
— Договаривались о переписке? Грустно расставаться?
И вдруг он на меня заорал. Какие-то обидные, злые слова. Чуть ли не сводней обозвал. Я стояла столбом, как вкопанная. И только, помнится, повторяла: «Дурак, дурак, дурак…» Ребята притихли. Они сидели в сторонке у беседки, не все слышали и не все понимали, только удивлялись, наверное…
Я хотела убежать сразу, но ещё выдержала, пожалуй, целый час. Даниил подошел ко мне извиниться; я сказала, что не желаю с ним разговаривать. Когда он попытался заговорить во второй раз, я убежала.
И пусть! Что стоят его слова?!
…Вот сейчас, ночью (уже все спят; меня словно подбросило в постели), кольнуло: ведь с «Милой-Людмилой» — это же звучит, как с «милой Людмилой»! Может быть, именно тут кроется что-то? Обидела я его этим?.. Все равно ничего не понимаю.
Эх, Даня, Даня!..
Вот если бы вдруг сейчас он появился в комнате. Лохматый, застенчивый, чуть сердитый… Милый Данька, я ж тебя люблю!..
10 июня
Сегодня я спросила у Саши, как, мол, там устроились Седых. Ведь должен же ему Даниил написать. Он как ни в чем не бывало:
— А что? Устроились.
— Тебе Даниил пишет?
— Прислал открытку и письмо.
Дальше я спрашивать не стала. Ведь если бы передавал привет, хотя бы просто упоминал меня, Саша бы сам сказал.
Что ж, и не надо!..
Цапкина теперь восседает на первой парте одна. Пересела от меня. Лучше, говорит, доску видно. Слепенькая стала, бедная!
12 июня
Саша спросил:
— Ты где была в тот вечер?
— В какой? — притворилась я.
— Не строй дурочку. В тот, когда со своим глупейшим фасоном убежала от Седых.
— Попридержи язык. Нигде я не была. Дома сидела.
— Не ври. Я полчаса звонил у двери.
— Не знаю. — Я пожала плечами. — А что? Ты приходил?
— Говорю, полчаса звонил.
— Зачем?
— Деревяшка! — Он со злостью отвернулся и отошел.
Ох, знал бы ты, Саша, что у этой «деревяшки» на сердце… Но все же зря я так. Может быть, он что-нибудь сказал бы о Данииле.
Отметки в этом году у меня будут, должно быть, неважные. В следующем придется наверстывать.
Что делается с погодой! Позавчера был снег, сегодня жара. Душно и противно. Ничего не хочется.
14 июня
Володя всё-таки славный парень. Сегодня шли вместе из школы; он молчал, потом говорит:
— Переживаешь?
Как-то очень хорошо сказал, не навязчиво — участливо.
— Подумаешь! — сказала я. — Что мне переживать?
Молодец, не стал навязываться с разговором…
Назавтра вызывают зачем-то в райком: звонила в школу Оля, бывшая пионервожатая из нашей старой школы.
Папа все заглядывает в почтовый ящик и посматривает на меня. Вчера спрашивает:
— Вы с Даней как — крепко поссорились?
— Навсегда.
Он похмыкал — и всё.
15 июня
Снова в космосе наш! Валерий Быковский. Запросто летает, ест, спит, разговаривает с Землей.
Что-то будет еще, предчувствую. В предыдущий полет вслед за Николаевым взмыл Попович. Какой-нибудь сюрприз приготовили и на этот раз.
Я преклоняюсь перед ними — теми учеными, инженерами, пилотами, которые скромно, в безвестности — мы не знаем даже их имен — готовят подвиги, изумляющие мир. Успехов вам, дорогие товарищи!..
А я теперь буду «шишкой», «начальством». Оля вызывала меня не по какому-нибудь пустяку. Я пришла — она говорит:
— Идем к секретарю.
Я струхнула:
— Зачем?
— Пошли, пошли. Там узнаешь.
И вот вам результат: со следующей недели я выхожу в райком комсомола на работу! В декретный отпуск идет технический секретарь; я буду её заменять. Что ж, это интересно и полезно. Лично я довольна.
17 июня
Сто раз «ура!» В космосе — женщина! У меня на столе уже красуется её портрет — Валентина Терешкова.
У всех женщин праздник. Получше, чем день Восьмого марта.
Вчера была у Венедикта Петровича. Дядя Веня больной «ходячий»; мы сидели в скверике у больницы. Уже когда он со мной прощался, сказал:
— Ты бы черкнула Даниилу.
— Зачем?
Он долго и внимательно смотрел на меня блестящими выпуклыми глазами, потом сказал устало и горько:
— Ну, как знаешь…
С его разрешения я начала учиться печатать на машинке. Пока «давлю клопов», но надеюсь, что за педелю чему-нибудь научусь.
20 июня
Папа получил от Павла Иннокентьевича письмо. Большое и весёлое. Нога у Даниила почти совсем зажила. Собирается на лето поступать на работу.
Теперь я знаю его адрес. Ну и что?
Вчера с Володей были в кино, потом ели в кафе мороженое. Я, должно быть, перехватила лишнего — что-то болит горло.
Вадим, оказывается, уехал — перевелся в Пермь. Жук!
Машинистка из меня, по-моему, получается. Конечно, надо тренироваться и тренироваться.
24 июня
Вот я и начала работать. Конечно, не по-настоящему. Весь день мне помогала Клава, которую я буду заменять. Вводила в «курс дел». Милая остроносенькая девушка (ну, скажем, не совсем девушка — через два месяца станет мамой). Она знает и умеет всё на свете. Удивительная память: помнит, наверное, тысячи фамилий и телефонов.
Народ в райкоме хороший — простой и весёлый. Мне нравится второй секретарь — Николай Ястребов. Спокойный, уравновешенный и остроумный.
Все-таки повезло мне. Я рада. Оля щурится и улыбается.
26 июня
Сегодня работала уже без Клавы. Ох, как мне её недоставало! Не работа, а сплошное горе. Как бы меня не вытурили.
Никакая я, оказывается, не работница. Ничего не знаю, с людьми разговаривать не умею, все валится из рук. Понадобилось напечатать две бумаженции, так в каждой я наляпала штук по пятнадцать опечаток. До чего было стыдно, когда Николай Петрович перепечатывал! Я ревела, а он меня утешал. Позор! Зачем я так легкомысленно согласилась? Думала: ну, технический секретарь, пустяки, конечно, справлюсь. Папа говорит: терпи, привыкай. Говорить-то легко. А мне стыдно людям в глаза смотреть. И главное — работа страдает. Все-таки райком!..
29 июня
Сижу на работе. Все давно разошлись, только Николай Петрович и Оля философствуют о чем-то в соседней комнате. Я задержалась — перепечатывала списки командиров комсомольских патрулей. Вчера тоже пришлось почти весь вечер провести в райкоме.
Помаленьку начинаю привыкать. Все-таки хорошо, когда вокруг такие внимательные, всё понимающие люди. Теперь я готова в лепешку расшибиться, чтобы все было ладно. Но «расшибиться» — ведь этого мало…
Дневник я принесла сюда и держу в сейфе. Это, наверное, не полагается, но что ж тут страшного? У Клавы, например, в сейфе лежали губная помада и пудра.
…Ушли. Николай Петрович ругался, что я сижу, хотел прогнать, но я уговорила. Сказала, что дел осталось только на полчаса, не хочется оставлять на следующую неделю.
Сегодня в райкоме был Саша Петряев. Не у меня, конечно. Но я все-таки поймала его, расспросила.
Оказывается, он, Яша Шнейдер и ещё трое из наших «искателей» включены в отряд «Веселые голоса». Это райком организовал такую группу.
Что-то вроде того, о чем когда-то говорил мне папа.
Их восемнадцать человек. Идут по определенному маршруту, с палатками, с запасом провианта. Будут отдыхать и попутно проводить в селах, деревнях, ну полевых станах беседы и давать концерты.
— Придем в колхоз, день покосим, а вечером — даёшь музыку!
У них с собой портативный магнитофон и набор пленок с песнями, частушками и прочим эстрадным репертуаром.
Как это я проморгала? Интересная штука.
Таких отрядов из нашего района посылают пять. На три недели. Потом, наверное, пойдут другие.
Еще Саша сказал:
— Даниил о тебе спрашивает.
— Ну?
— Что «ну»? Дескать, как дела. Вот и все.
— Передавай привет, — сказала я равнодушно.
— Ладно.
Вот так, Даня. Привет — и всё. Опять хочется реветь.
1 июля
Вчера были с Володей в парке. Купались, дурачились в комнате смеха. Очень глупая комната. И мне было совсем не весело. Смеялась я только для Володи. Впрочем, и он был весьма кислый.
Видели Светку с какими-то ребятами. Вот она весёлая. А что ей не веселиться?
— Ты какая-то… повзрослевшая, что ли, — сказал мне Володя.
— А как же! — сказала я. — Начальство!
— Так ты и не поедешь к нам на дачу?
Тут я сообразила, что он же должен быть на даче, а почему-то не уехал. И поняла: из-за меня. Но мне этого не надо. Ведь просто скучно было бы одной идти в парк, вот поэтому я позвонила ему вчера, позвала. У меня вдруг окончательно испортилось настроение.
Дома прибиралась в столе, нашла запись недоигранной партии в шахматы с Даниилом. ещё в апреле играли, тренировались «по всем правилам». И сразу вспомнила его, — он тогда был молчаливый, серьёзный и грустный…
Последние строчки в этой тетради. Она для меня заветная.
Я, наверное, действительно повзрослела за это время.
Сейчас, милая, пойдешь в сейф. В темноте, одна, под замком за толстенной стальной стеной… Бедная!
Что-то будет в пятой?..
Уже около часа Иван слонялся по саду возле отцовского кабинета.
Парнишка ждал Ярослава, своего племянника. Было немножко удивительно, что отец разговаривает со своим внуком в это время. Обычно до обеда Юрий Игоревич занимался только работой.
Кабинет у него был просторный и светлый. Два стола — письменный и лабораторный — стояли у прозрачной пластмассовой стены, обращенной в сад. Вдоль других стен выстроились стеллажи с повседневно необходимой справочной литературой, картотекой и фонограммами. Дед не любил работать в служебном помещении, он работал дома.
Когда Ярослав зашел в кабинет, Юрий Игоревич, прохаживаясь, диктовал самописцу какую-то статью. Записывались оба варианта — звуковой и печатный. Сделав предостерегающий жест: «подожди, не мешай», — старик произнес ещё несколько коротких отточенных фраз, затем выключил механизм.
— Ну, здравствуй, архивариус, — повернулся он к внуку. — Как дела?
— Не очень…
Юрий Игоревич ещё прошелся по комнате, глянул на Ярослава из-под густых седеющих бровей:
— Никаких следов?
— Кое-какие есть.
— Ну, рассказывай. Лациса вконец измучили?
Лациса? Ну, скорей он сам кого-нибудь измучит, этот упрямый и дотошный старикан. Находку и заботы ребят хранитель архива принял близко к сердцу — как свои. Он тоже прочёл тетради дневника и тоже загорелся мыслью отыскать дальнейшие следы этих двух молодых людей из прошлого века.
Поиски, однако, были безрезультатными. Ни в основном фонде, ни во вспомогательных больше не нашлось никаких документов, которые касались бы Инги Холмовой или Даниила Седых. Правда, Лацису удалось найти кое-что иным путём. В старом библиографическом каталоге оп обнаружил упоминание трудов Д.П. Седых по океанографии. Это было издание 1987 года.
— Так и написано: «Д.П.»? — обрадовался Ярослав. — Даниил Павлович?
— «Д.П.», — кивнул Лацис. — Профессор Д.П. Седых.
— А Инга Холмова… В том каталоге…
— …о ней, разумеется, ничего нет, — закончил за него Лацис. — И «Д.П.» может означать: Дмитрий Петрович, Денис Порфирьевич, Дормидонт Поликарпович, Пантелеевич, Пантелеймонович…
— Не может быть! — испуганно воскликнул Ярослав. Они решили обратиться в Центральное архивное управление. Ответ оттуда не был особенно утешительным, но всё же оставлял какую-то надежду. Москва рекомендовала обратиться в Дальневосточный морской архив.
— Ну и что ответили вам дальневосточники? — поинтересовался Юрий Игоревич.
— Ничего… Мы и не запрашивали.
Дед непонимающе вскинул брови.
— Я думаю лететь туда. Ты как на это посмотришь?
— Это во Владивостоке?
— Да. И ещё где-то есть филиал. Дед задумался.
— Что ж, — молвил он наконец, — отправляйся. Кстати, и наши там недалеко, может, повидаешься с ними.
— Если бы папа взял меня на глубоководную станцию!.. — Это была давняя мечта Ярослава.
Юрий Игоревич был настроен более деловито.
— Когда летишь?
— Наверное, завтра. А Рано и Анд — на Памир. Мне тоже очень хотелось туда, но архив важнее, верно?
— Смотри сам, — небрежно бросил дед; он был бы недоволен, если бы Яр отступил от задуманного.
— На Восток, уже решено, — весело сказал Ярослав: он и без слов бы понял деда.
— Ну ладно. — Юрий Игоревич задвинул самописец в стенную нишу и уселся в своё любимое кресло. — Поболтаем? Все равно заканчивать сейчас статью я не буду. Пообедаем — и я повезу тебя в гости. Ярослав взглянул вопросительно.
— Позднее узнаешь, — успокоил дед, — не бойся.
— Я не боюсь, — усмехнулся внук, — я ведь весь в тебя.
Они были большие друзья, эти два человека. И напрасно Иван поджидал своего племянника. Ярослав с дедом настолько увлеклись разговором, что не заметили даже, как мимо, приветственно помахав им, по садовой тропке прошла Анна Александровна.
Дед любил разговаривать с внуком. С ним он мог толковать на любую тему. Но чаще всего они рассуждали об истории человечества, и мудрая, неприметная снисходительность деда к чересчур категоричным, от незнания, высказываниям внука вполне уживалась с почти мальчишеской страстностью, с которой Юрий Игоревич мог доказывать свои полуфантастические гипотезы. В кабинет заглянула Анна Александровна. — Даже питекантропы старались обедать каждый день, — напомнила она.
Дед крякнул и смешливо почесал затылок… За обедом Иван поглядывал на отца и племянника хмуро: ему так и не удалось показать Ярославу свою коллекцию бабочек. А Юрий Игоревич, поддразнивая жену, толковал о возможностях регуляции состава земной атмосферы. Поддразнивая — потому что это было близко к предмету их постоянных споров на тему, заводить ли в доме установку для кондиционирования воздуха. Юрий Игоревич был против.
Он вообще был одним из наиболее ярых и последовательных сторонников всего естественного. Громадное наслаждение доставлял ему дом, в котором они жили, — его сухие просмоленные стены из сосны, не тронутой ни краской, ни штукатуркой, источали, казалось, все ароматы девственного леса. Тут, впрочем, Крылов не открывал Америки: недавно Высший совет гигиены и здоровья рекомендовал строительство всего жилья в стране, за исключением необходимости, вести из дерева. Накопление лесных ресурсов и полная замена дерева в промышленности искусственными материалами позволяли то, что ещё несколько десятилетий назад считалось роскошью…
— Да, Анна, — вдруг вспомнил дед, — Яр летит на Восток.
— К родителям? — живо повернулась Анна Александровна к Ярославу.
Он объяснил ей цель поездки.
— Мы не можем не искать, — сказал он. — Теперь это важно не только для Андрея — для всех нас… И ещё у нас спор… — Ярослав взглянул на бабушку смущенно. — Рано говорит; их дружба, Инги и Даниила, порвалась окончательно. Она говорит, у неё интуиция. А я не верю в это. Я считаю, юношеская дружба самая прочная.
— Ну, уж это выясняйте друг с другом, — усмехнулся дед.
И Ярослав покраснел.
Анна Александровна взглянула на внука светло и грустно.
Ярослав сказал сердито:
— А этот чудик Анд говорит: «Давайте я заложу все данные об Инге и Данииле в анализатор — он даст ответ».
— Для этого в анализатор надо заложить человеческие сердца, — улыбнулась Анна Александровна.
После обеда, полюбовавшись бабочками Ивана, они приготовили посылку на океан — ту удивительную водоросль, жарким из которого угощала их однажды Анна Александровна.
— В море их, на простор! — сказал Юрий Игоревич. — Только копию дневника наблюдений пусть высылают мне. Мы эту штуку ещё улучшим, есть кое-какие мысли…
Солнце уже покатилось на закат, когда Ярослав с дедом подъезжали к городскому центру. К удивлению Ярослава Юрий Игоревич свернул к их дому.
— Недогадливый ты парень. — Дед смешно сморщил нос.
— К Рано? — вспыхнул Ярослав.
Она ждала их: с Юрием Игоревичем была договоренность — он хотел познакомиться с её новыми музыкальными миниатюрами. Рано принарядилась: тонкая нитка старинного ожерелья матово переливалась на шее. Высокая ваза на столе была наполнена фруктами.
— Будете слушать? — робко спросила Рано у Крылова. Он кивнул. Она нажала кнопку — широкое, во всю стену, окно зашторилось, комната погрузилась в полумрак.

— Так лучше, — сказала Рано и подсела к электроле.
Она казалась поникшей, взгляд её тихо блуждал по клавиатуре.
Потом возникли первые, неуверенные, какие-то встопорщенные звуки. Экран над электролой дрогнул и отозвался неровными всплесками густо-сиреневого цвета. Музыка, казалось, нащупывала русло. Звуки становились более плавными и быстрыми, сквозь синкопические аккорды пробивалась мелодия; на экране заструилась бегучая волна цветовых гамм. Теперь от него уже трудно было оторвать взгляд. Казалось, цвет пел. Смутное беспокойство и грусть завладели Ярославом.
Рано преобразилась, она уже вся отдалась музыке и жила в том, своем мире.
Ярославу что-то мешало, комната стала тесной. Меж стен громоздились и рушились то исступленно-горячие, то нежно-озорные, то нежданно меланхолические звуки. Цветовой каскад на экране кричал и пел. Что-то грозное грянуло вдруг; экран взвихрился. Тяжкой поступью грохотало неведомое. Звуки стали багрово-черными. Лишь слабая трепетная струйка голубого чуть слышно звенела и билась. Но постепенно она ширилась и наливалась силой. Грохот откатывался все дальше, как гроза в изменчивом июльском небе. Величаво-раздольная мелодия раздвинула стены. Ярославу стало легко, словно птице. Светлый прозрачный аккорд завершил всё.
Они долго молчали.
— Что это? — тихо спросил Юрий Игоревич.
— Не знаю, — сказала Рано. — Просто так — этюд. Что-то о жизни.
И они снова замолчали.
— Сыграй это… ну… ты знаешь.
Все повернулись на голос. Оказывается, Андрей был тут же. Он стоял, прислонившись к стене у двери.
— Ты растерял слова? — прищурилась Рано и передразнила: «Это, ну, знаешь».
— Играй, играй, — миролюбиво сказал Андрей.
Рано опять замерла над клавиатурой, потом начала. Теперь Ярослав не спускал глаз с неё. Она была по-настоящему прекрасна. Движения рук, едва уловимые повороты тела, взгляд — все было исполнено мысли и чувств, все было одухотворено. И это её состояние неведомыми путями передалось Ярославу, весь он словно бы пронизался торжеством духа, воплощенным в музыку…
Таким, чуточку отрешенным от окружающего, он вслед за дедом вышел через час на улицу. Рано пошла с ним. Андрей остался дома — колдовать над своими любимыми математическими формулами.
Город уже отдыхал. На улицах было пустынно; светло-шоколадный лоснящийся каупласт на движущихся тротуарах бежал привольно и освобожденно, без людей. Зато ожили и стали многолюдными парковые секции и открытые эстрадные павильоны. У фонтанов уже включили вечернюю подсветку, и они вспыхивали и горели, словно громадные неземные цветы.
— Двинемся на Озеро? — сказала Рано. Ярослав взглянул на неё и рассмеялся:
— Я только что подумал об этом.
Из электролета они вышли в парке.
Невесомые волнешки умиротворенно плескались о берег. Скрытая от солнца прибрежная вода казалась синей, а вдали, убегая к невысоким пологим горам на том берегу, была белесой и искрилась.
Они присели возле самой воды.
Рано задумчиво склонила голову.
— Теперь я, как только приду сюда, всегда вспоминаю их. А ты?
— А я их просто не забываю, — сказал Ярослав.
— Ну ещё бы! Ты же влюбился в Ингу.
— Ага… Как в сестру.
— А я в Даниила — нет. И правильно, что они поссорились.
— Ты мне это уже говорила…
— Постой. Вслушайся… Тише дыши!.. Слышишь, какой многотонный перезвон в шуршании волн? У них какой-то свой разговор.
«Это у тебя свой разговор с ними», — ласково подумал Ярослав.
— Ты знаешь, — Рано осторожно прикоснулась к его руке, — я несколько дней билась… Мне захотелось написать что-то о будущем. И ничего не получается. Совершенно ничего.
Ярослав смотрел на неё выжидательно.
— Я думала, это от моей тупости. А потом решила, что нет… Вот ты как представляешь людей будущего?
— Я о них думал, — сказал Ярослав. — Они будут лучше нас. Светлее душой. Умнее. Сильней духом… И все, конечно, будут музыкальны.
Она улыбнулась его самокритичной шутке, но тут же досадливо махнула рукой:
— А! Это слова. Общие понятия. Логика. Для музыки этого мало. Изобразить будущее в музыке я не могу, потому что передаю свои, сегодняшние эмоции и мысли. А какие они будут потом, у людей будущего? Светлее, гармоничнее — да, это я тоже понимаю. Но понимать — недостаточно, надо чувствовать.
— Ничего, Ранетка, вырастешь — поумнеешь, поумнеешь — напишешь.
— Ох ты! — В её глазах запрыгали веселые бесенята. — Хочешь, я тебя сейчас окуну в воду? — Она вскочила.
— А может, верно, искупаться? — нерешительно сказал Ярослав.
Но тут неожиданно зазуммерил радик в кармане куртки. Ярослав вынул его, включил.
Вызывал Юрий Игоревич. Лицо его было прихмуренным.
— Яр, есть не очень приятная новость. Что-то произошло там… у твоего батьки. Повреждение скафандра.
К горлу Ярослава подкатил тошнотный комок. Глубоководный скафандр… Ярослав знал, что это такое.
— Где, — он трудно проглотил ставшую тягучей слюну, — где скафандр повредил? На глубине?
— Не нервничай… Деталей я не знаю, очень плохая слышимость: сильная магнитная буря… Но я понял, что Борис жив.
Он назвал его по имени. Он думал не только об отце внука — он думал о сыне.
— Я сегодня лететь не могу, Яр. Тебе оставлено место на вечернем дальневосточном лайнере. Отлёт через час. Успеешь?..
День был как день, и кто мог подумать, что именно сегодня произойдет этот страшный случай?..
После завтрака в кают-компании Борис Юрьевич вместе с женой прошел на «палубу». Так все обитатели подводной базы называли верхнюю галерею с большими иллюминаторами.
Мощнейшие наружные светильники отбрасывали, отодвигали густой глубинный мрак. Прямо перед иллюминаторами смутно виднелись настороженно-угрюмые каменные громады. База, недавно сменившая стоянку, была заякорена на отрогах тихоокеанского хребта Вирского.
— Ты сегодня на каротаж? — спросила Ольга Андреевна, поглядывая на двух акул, вертевшихся перед иллюминаторами.
— Да.
— К вечеру нам должны прислать записи нового концерта Гартаковича. Ты ведь любишь этого «звёздного романтика».
Борис Юрьевич промолчал. Потом сказал совсем о другом:
— Скверновато на душе. Боюсь, что я вчера обидел Сурэна.
И в тот же момент сам Сурэн Плавнин задорно окликнул их,
— Крыловы! — Он выходил из лифта. — Всё уединяетесь?.. Борис, ты очень сердишься на меня за вчерашнее?
Ольга Андреевна смотрела на них с любопытством.
— Что ты, Сурэн! — Борис Юрьевич был смущен; он неловко поворошил свои густые русые волосы, пробасил: — Наоборот, это я чувствовал себя виноватым. Вчера я был как мальчишка. Извини.
— Очень мило! — Плавнин взглянул на кающегося богатыря и рассмеялся. — Но ведь разозлил-то тебя я… Мы с ним вчера поругались, Оленька, — весело сообщил он. — Очень горячий был спор. А теперь, как видишь, помирились. Да? — Он опять повернулся к Борису Юрьевичу. — Через полчаса выход. Идём?
— Двинулись, — повеселел и Крылов.
Они пошли, положив руки друг другу на плечи. Ольга Андреевна улыбалась. Она-то хорошо знала характер мужа…
Из шлюзовой камеры они вышли двумя группами — энергетики и Крылов со своими гидрогеологами — и сразу же направились в разные стороны. Борис Юрьевич призывно махнул Сурэну и остальным, включил двигатель на вторую скорость и поплыл в направлении к главной вершине хребта. Здесь предполагалась закладка подводного железомарганцевого рудника. Геологи заканчивали разведку месторождения.
В привычном плотном мраке, вспарывая его желтыми лучами прожекторов, быстро скользили люди в казавшихся неуклюжими тяжёлых скафандрах. Посверкивая, как мелкий снег, косо проносились ярко-белесые точки почти микроскопических существ — планктон.
Борис Юрьевич думал о Сурэне, о себе, о людях. Думы были светлыми, но примешивалась к ним не то что горечь — досада. «Когда же, в конце концов, мы научимся обращаться друг с другом по-человечески? Конечно, вчера я вел себя свински, бестактно и тупо. Не хватало ещё повысить голос — очень солидный аргумент в споре!» Он бы, наверное, опять расстроился, но группа уже приближалась к рабочему участку.
Один из помощников Крылова запустил осветительную установку: миниатюрные автоматические ракеты, прорезая толщу воды, начали разбрасывать в ней сильно фосфоресцирующие вещества. Голубоватое сияние осветило мрачные склоны подводной горы.
Борис Юрьевич огляделся — его товарищи уже работали. Нежное и гордое чувство охватило Крылова. Сколько их, неутомимых и упорных, трудится сейчас в океане под голубыми шапками искусственных зарев! На подводных плантациях, на рудниках, химических заводах, электростанциях…
Крылову предстояло прощупать гамма-объективом небольшой участок ущелья. Подплыв к нему, Борис Юрьевич обнаружил, что широкий козырек нависшей скалы загораживает путь светящемуся веществу; в ущелье властвовала тьма. Следовало бы перенести установку сюда, но Крылов решил, что обойдется собственными источниками света. Лавируя между скальными нагромождениями, он двинулся в ущелье.
Совсем неподалеку откуда-то скользнула вверх, ритмично сжимаясь и расправляясь, спиральная медуза — длинная пружина из прозрачного студня с оранжевыми полосами. Встревожился и жутким раскоряченным шагом заспешил куда-то в сторону гигантский, с полуметровым панцирем, мохнатый краб. Взмутился на дне тонкий слой детрита — ила, смешанного с истёртым песком и глиной. Плотная тьма окружала Бориса Юрьевича, и не сразу можно было разобрать — стена ли это воды или горная громада. Лишь сзади, там, где работали товарищи, тускло мерцало голубое сияние. Борис Юрьевич приготовил прибор, включил дополнительный прожектор и вдруг ощутил, как упруго колыхнулась водная масса вокруг него, и тут же его отбросил сильнейший удар.
Один из прожекторов, видимо, разбитый, потух. ещё не понимая, в чем дело, Крылов круто повернулся, готовый, если надо, выскользнуть из ущелья — и опять был могуче и жестоко отброшен на каменный выступ.
Он успел заметить чудище, напавшее на него. Громадное, все в роговом покрове, со скрюченными лапами-плавниками, оно метнулось к выходу из ущелья, на голубой свет, туда, где работали геологи. Включив двигатель на полную мощность, Крылов ринулся за ним, сигналя товарищам об опасности. Настигая чудовище, он выхватил пистолет Кланга и разрядил его в тяжелое бронированное туловище. Свирепое животное, мгновенно обернувшись, снова кинулось на него.
Крылов не понял, в голове у него или в скафандре что-то скрежетнуло, ему показалось — он проваливается куда-то; теряя сознание, он вялым движением головы успел надавить аварийную кнопку…
Гигантский стратосферный лайнер взмыл ввысь легко и стремительно. Выйдя на прямую, он пронзал небо подобно громадному болиду. Небо было чёрное и звёздное. Земля прыгнула вниз на тридцать километров.
Земной шар крутился на восток. Но стратоплан летел навстречу солнцу ещё быстрее. В три с половиной раза. Каждую минуту позади оставалось сто километров.
На видеоэкране проплывала земная поверхность. В сплошняковых лесах виднелись реки, широко разливались искусственные водохранилища, наплывали и убегали назад заводы, поселки и города. Монотонно бежала ниточка широкой, пятиметровой, колеи старой грузовой атомовозной дороги.
Ярослав смотрел на экран рассеянно. Хотя это было очень привычно и понятно, он не переставал почти первобытно удивляться сверхзвуковому полету многотонной махины. В этом всегда ему чудилось нечто волшебное, и казалось, что, нарушив все законы, могучая машина вдруг сомнёт земное притяжение и вот так, как летит, стремительно и легко уйдет в заполненное чёрным сиянием межзвездное пространство. Чувство освобождённости и силы наполняло тело. Таинственно-неясно и светло, идя откуда-то из бездны, звучала некая ликующая мелодия. И отступала перед ней гнетущая тревога за отца.
Это продолжалось недолго. Разгон прекратился. Чуть тормозя, самолет входил в тропосферу. Впереди блеснула в утреннем солнце полоска Татарского пролива. В северной части его, у берегов пролива Невельского, виднелась плотина. Вдали туманно горбатился Западно-Сахалинский хребет.
На карте Сахалин представлялся Ярославу рыбиной с острым спинным плавником — мысом Терпения и четко вырисованным хвостом, кончающимся у Анивского залива. Ещё он походил на корабль, отходящий из гавани — Охотского моря; найтовы отданы, корма уже отвалила от причала, отходит нос, сейчас корабль развернется могуче и, вспенивая океан, уйдет в гремящие волной просторы…
Он и в самом деле оторвался от материка совсем недавно — какой-то миллион лет назад. Уже бродили по диким, необжитым лесам стада странных двуногих существ — людей, когда шумно и грозно шевельнулась земная утроба на восточном краю земли и столкнула в океан громадный длинный кусок суши. Правда, сразу же она поставила ему заслон, подняв с морского дна гряду Курильских островов. С тех пор замер в нерешительности остров Сахалин, не зная, вырвется ли он в зыбкую голубую стихию или вернет его к своему берегу суровая прародительница…
Плавно скользнув над невысокими округлыми сопками в широкую зеленую долину, стратоплан приземлился на бетоне главного сахалинского аэродрома.
Посадочная площадка электролетов располагалась на крыше аэропорта. Но Ярослав поднимался туда напрасно. Отсюда электролёты шли только в город, а ему надо было лететь к Анивскому заливу, в посёлок океанологов.
— Минутку, — сказала какая-то девушка, работница аэропорта. — Видишь, там, у локаторов, стоит маленький «эл»? Он как раз летит к океанологам. Беги, а я скажу, чтобы они тебя подождали. — Из кармана куртки она достала радик.
Пассажиры анивской машины — их было всего двое — поджидали Ярослава у трапа в кабину, о чем-то оживленно разговаривая.
— Это ты с нами? — спросил молодой человек со свежим шрамом на лице. (Во втором, уже седеющем человеке Ярослав узнал своего соседа по самолету.) — Полезай на первое кресло, оттуда лучше все видно.
Они вошли в машину следом за Ярославом. Электролёт круто взял небольшую высоту и пошел над долиной на юг.
Ярослав не успел оглядеться, как понял, что будет подслушивать беседу попутчиков. Они говорили о недавно случившемся в океане.
— Выходит, пострадал один Крылов? — спросил, продолжая разговор, старший.
— Да… А это чудовище — мы его пока так и называем: «монстр Крылова» — после выстрелов Бориса Юрьевича или сбежало, или уплыло умирать. Пока что мы его не нашли. Готовим специальную экспедицию. Ну, этим наши биологи занимаются и, кстати, жена Крылова.
— А сам-то он — что?
— С ним получилось неладно. Этот гад сорвал у него запасные баллоны, основательно повредил оболочку, чуть-чуть не разодрал скафандр. От последних ударов Крылов потерял сознание. А двигатель включен… Так, в бессознательном состоянии, его и подобрали на поверхности. Сработали аварийные автоматы, повернули вверх… Но в общем-то, Крылов отделался легко. Он уже на суше, только врачи не выпускают из-под своего контроля.
Ярославу хотелось не то что запеть — заорать что-нибудь блаженно-радостное и расцеловать этого парня со шрамом.
— Н-да, — задумчиво произнес пожилой, — если Борис Юрьевич не отогнал бы это чудище от товарищей, могло бы получиться худо.
— Могло, — коротко и убежденно подтвердил молодой. Они замолчали. Только сейчас Ярослав ощутил нервный озноб. О каком чудище речь? Что же там случилось, в океанской глуби?.. Отец, отец! Ведь ты мог и не выплыть…
— Но каково открытие! — с воодушевлением сказал молодой.
— Пока никакого открытия, Сурэн, нет, — суховато ответил его спутник.
— Но это же какой-то совершенно неизвестный вид глубоководных!
— Вот именно, — пожилой иронически усмехнулся, — совершенно неизвестный…
Электролет снижался. Из-за густой зелени виднелась стайка аккуратных домиков. За ней расстилалось море.
Ничего в поселке с прошлого года не изменилось. Впрочем, Ярослав не очень и приглядывался — спешил.
Солнце было по-южному щедрым. Бриз с моря нес солоноватую прохладу.
От дома навстречу Ярославу шла мать, тоненькая, стройная, совсем девчонка. Ярослав припустился бегом:
— Ма-ам!
— О, да ты ещё подрос, мальчишка! — Закинув руки, она ласково ерошила его волосы.
— Как папа? Где он?
— Через час будет дома. Пойди выкупайся, вернешься как раз к завтраку.
— Он что, уже здоров?
— Ну, не совсем. — Родным раздумчивым жестом она поправила свои светлые, чуть вьющиеся волосы, — Но будет совсем. — И улыбнулась укоризненно. — Паникеры. Я уже отчитала деда. Мы с ним разговаривали час назад.
— А ты надолго здесь?
— Через несколько дней снова на базу. Вместе с тобой.
— Да?! — Ярослав крепко обнял ее; она расхохоталась. — Я слышал, ты будешь заниматься поисками этого монстра?
— Ого, откуда такая осведомленность?
— А меня ты на поиски возьмёшь?
— Ну как же! Без тебя его, конечно, не сыскать.
Ярослав понял, что не возьмёт. Но все же надо добиваться. Не сейчас. Постепенно. Нужно продумать все подходы. Может быть, ещё удастся завербовать отца в сторонники.
— Но что же все-таки произошло с папой?
— Он сам тебе расскажет, потерпи.
— Ну, тогда я на море…
Она кивнула, с улыбкой продолжая рассматривать сына.
В доме была специальная кладовая для подводного снаряжения. Ярослав выбрал простенькие ласты и легкую дыхательную маску. Неподалеку у него была любимая бухточка. К ней он и пошел.
Лаперузов пролив был спокоен. Лишь у берегов тяжело и медленно плескались волны. Вдали не столько виднелись, сколько угадывались очертания острова Хоккайдо. Триста лет назад провел здесь паруса своей экспедиции неугомонный граф Лаперуз, мореплаватель и ученый, нашедший могилу в просторах Тихого океана. И триста лет назад вот так же, наверное, ярилось солнце, дул солоноватый бриз, и волны мерно и глухо плескались о берег. И триста, и тысячу лет назад…
Ярослав вошел в воду по грудь и нырнул. Мягкая, пронизанная солнцем синева тихо проплывала мимо. На плоских серо-зеленых камнях темнели кругляшки морских ежей. Ярослав ухватился за один камень; тотчас же оттуда выскочил небольшой краб и бочком, бочком прытко побежал по дну. Медленно и плавно скользнула к мидии ярко-синяя морская звезда. Она показалась Ярославу крупной, но он знал, что под водой все предметы кажутся увеличенными. Он поплыл в глубину. Здесь зеленоватый сумрак сгущался, делаясь мутным и таинственным. Что-то большое и лохматое шевельнулось в стороне. Невольный холодок окатил сердце. Однако это был, наверное, просто пук водорослей.
Стайка рыбешек лениво проплыла возле самого лица Ярослава. Глянув вслед им, он заметил небольшого, сантиметров пятнадцати в длину, кальмара. Тот, подобрав щупальца и чуть заметно шевеля хвостовым плавником, уставил неподвижно вытаращенный круглый зрачок на добычу. Ярослав направился к нему — кальмар выбрызнул чернильную струйку и, став бесцветным, исчез в толще водяной темени.
«Как близко подошел к берегу», — подумал Ярослав, сразу же вспомнив гигантских глубинных кальмаров, достигающих в длину двадцати метров. И тут же представил отца в черной миллиарднотонной глуби, недвижной и грозной, скалистое осклизлое дно и неведомое чудище с таким же страшным, как у кальмара, глазом… Ярослав резко взмахнул руками и ринулся вверх, к солнцу…
Отец был уже дома. Он совсем не походил на больного. Они обнялись, двое сероглазых русых мужчин, почти одинаково широкоплечих и рослых. Ольга Андреевна смотрела на них, и глаза её влажнели.
— А завтраком мы тебя угостим морским, — весело пробасил отец. — Вы там, на Урале, сухопутные крысы, видите лишь объедки океанских даров. Идем, сын, на кухню.
«Вот совпадение», — подумал Ярослав, увидя заготовку к завтраку — очищенные мантии мелких кальмаров. Отец подсолил кипяток и, ловко подхватывая, бросал в него сочные полупрозрачные куски. Они розовели и свертывались в трубочки.
Мясо кальмаров оказалось вкусным и нежным, чем-то оно напоминало крабье. Соус, приготовленный из водорослей припахивал морем и… сметаной.
— О, совсем забыл! Я должен был привезти вам посылку. — Ярослав принялся рассказывать о том, какое чудо вывел в бассейне дед.
— Стоп, — остановил отец. — Так ты начнешь прыгать с пятого на десятое. Позавтракаем — будем допрашивать друг друга строго систематически, а мама, — он скосил взгляд на жену, — привнесёт необходимую эмоциональность.
Ольга Андреевна усмехнулась: ещё неизвестно, кого победят эмоции…
В Ярославе всё пело. Так легко и отрадно было ему рядом с этими самыми близкими, самыми родными людьми.
Они проговорили, наверное, часа три. Всё, вплоть до самых незначительных деталей, было интересно каждому. Самым подробным образом расспрашивал Ярослав о схватке на дне океана, и его решимость добиться участия в поисках чудовища всё росла.
Отца очень заинтересовал рассказ о найденном дневнике.
— Вполне может быть, что этот паренёк Седых — тот знаменитый в своё время ученый, на трудах которого, в общем-то, выросли все мы. Он долгое время работал здесь, на Сахалине, потом — в Заполярье. Там он и погиб в конце прошлого века. Я был на его могиле… — Отец прихмурил брови, потом вскинул взгляд на сына. — Так, говоришь, владивостокские архивы? Но в нашем филиале музея, по-моему, тоже хранятся кое-какие материалы о Седых. — Отец потянулся к пульту видеофона.
Хранительница музея, неожиданно юная, ответила, что она с удовольствием познакомит их со всеми документами, но нельзя ли завтра? Отец посмотрел на Ярослава вопросительно, тот ответил умоляющим взглядом.
— А если все же сегодня? — попросил отец. — Причина, впрочем, чисто психологическая.
— Это немаловажно, — улыбнулась хранительница и, чуть помедлив, разрешила: — Приходите.
Но идти в музей Ярославу пришлось одному. Ольга Андреевна просто-напросто не отпустила мужа и возражать ей было бесполезно: на её стороне стояла сама Медицина.
Хранительница встретила Ярослава у входа в музей. Они назвали себя друг другу; её имя было Нина Леонидовна. Она спросила, почему Ярослава привлекают бумаги старого профессора. Он объяснил. Нину Леонидовну его рассказ обрадовал. Она живо заинтересовалась найденным дневником и сказала, что обязательно свяжется с уральским архивом.
— Из Владивостока все материалы о Седых тоже передали нам, — сказала Нина Леонидовна.
Потом она провела Ярослава в светлый просторный зал. К высокому потолку сплошной стеной уходили закрытые пластмассовые стеллажи.
Хранительница нажала какую-то кнопку, одна из секций стеллажей поползла вниз, и вскоре табличка с надписью «Д.П. Седых» остановилась на уровне полутора метров от пола.
— Пожалуйста, — сказала Нина Леонидовна. — Подкатывай стол и работай. Я часа на два должна уйти из музея. Если закончишь без меня, оставь всё на месте. Я вернусь и уберу. А потом мы с тобой ещё побеседуем. — И улыбнулась. — Ты пришел не зря, тебе будет интересно.
Архив профессора состоял в основном из черновых рукописей, специальных справочников, каталогов и книг с многочисленными пометками на полях. Бумага была старой, пожелтевшей, ломкой. В рукописях речь шла об океане и его освоении. Стиль профессора был чётким, суховатым, лишь местами проглядывала сдерживаемая страстность. Должно быть, он был смелый, весёлый и вместе с тем рассудительный человек, этот Д.П. Седых, бросивший вызов одной из самых грозных и таинственных стихий — океану.
Почти с нежностью и каким-то томлением перебирал Ярослав старые бумаги. Правда, их оставил уже взрослый, умудренный жизнью ученый, в них ничего не осталось от тех близких Ярославу лет, о которых писала Инга Холмова…
Среди чуть помятых, заполненных машинописью листов Ярослав увидел старинную записную книжку и пачку конвертов. Они вместе были стянуты тонким резиновым обручем. Резина высохла, ломалась. Ярослав приоткрыл обложку и чуть не ахнул, увидев цифры: «1962–1963». То были дневниковые записи. Того же времени, что и записи Инги. Дневник не Даниила Павловича, а Дани Седых.
Ярослав склонился над записной книжкой, и разом отступили, исчезли стеллажи, куда-то делся просторный светлый зал, исчезло всё — он снова был там, в далеком прошлом.
15 декабря
Это глупость, бахвальство и вредная трата времени — каждый день писать обязательно по стихотворению. А вот книгу Данина «Неизбежность странного мира» не прочитал до сих пор. Цуцик!
«Ни на что не годится тот, кто годится только для себя». Это — Вольтер. Но ведь если человек совершенствуется сначала «для себя», потом все равно будет польза и для других?
«В жизни надо все преодолевать, а прежде всего себя» (Чехов).
Мои главные недостатки
Неорганизованность
Замкнутость
Зазнайство
Лень
До чего я скромен в перечислении своих недостатков.
25 декабря
Сегодня мне вправляли мозги за сочинение об ученых. Ну не очень-то вправили.
Странно: Ингалятор за меня заступалась. Странно потому, что все-таки комсорг и обычно подпевает Догматику.
А Сашич: оказался на высоте. Его рассказ дружно хвалили. Цветёт! Как бы от радости не свихнулся. ещё решит, что писатель.
1 января 1963 г
Поздравления с Новым годом — в сторону. Это пустая формальность. С сегодняшнего дня режим. Железный! До конца жизни. Для учёного главное — режим и здоровье. Тут В.П. прав.
Перед новогодьем помог ему переехать на новую квартиру. «Миленькое» совпадение: комнату он получил в той же квартире, где живут Ингалятор и её достопочтенные предки.
Новый год, как всегда, встречали в лесу. Не вынесла душа поэта — накатал длиннющую стихозу.
Сегодня был у В.П. Пили кофе. И началось уже: тут же торчала его соседка Инга Батьковна. (Правда, она не совсем нечеловек — хоть в шахматы играет.) Пошли прогуляться. В.П. нужно было на почтамт — она потащилась с нами. Пыталась рассуждать о радиации. Я ей резанул. Сбежала. Привет!
Говорили с В. П. о поэзии.
Сейчас придет Сашич. Будем мудрить над коротковолновым.
Надо уметь быть беспощадным и честным прежде всего по отношению к самому себе.
Что мне нужно, к чему я должен стремиться:
нетерпимость к своим недостаткам,
упорство и выдержка,
уважение к людям,
благородство.
«Удар судьбы подобен удару балансира на монетном дворе, он выбивает на человеке его стоимость» (Бальзак).
16 января
Догматик — вывихнутая дура. Шлет какие-то дурацкие записочки. Если бы в этом не было чего-то от фискальства — с удовольствием выстегал бы её на комсом. собрании.
В коротковолновом мы с Сашичем изрядно напутали в схеме. Все надо заново…
Составили манифест: «Какие мы есть и какие будем». Сашич дал мне подписку не курить.
20 января
Отлично побегали на лыжах. Правда, портила настроение Мила-Догматик. (Досталось же ей имя — Мила!) Ну, её и Ингу я в конце концов сдал на попечение Сашичу. Он их и развлекал.
Папа что-то зачастил к Холмовым. Когда успел познакомиться? В восторге от Владимира Матвеевича. На мой взгляд, папаша Холмов мужик ничего, только слишком уж разговорчивый.
«Чтобы не знать мук сомнений, нужно быть священником или солдатом». Это старик Франс сказал здорово, только, по-моему, зря он сделал кому-то исключение. И солдат, и священник — тоже люди.
28 января
Вчера был «в гостях» у Ингалятора, сиречь Инги Владимировны. Ждал В.П. — пришлось зайти к ним. Все-таки неудобственно он расквартировался.
В шахматы Инга опять меня причесала. Тут надо отдать ей должное — умеет. Любопытно: читает «Письма о природе» Герцена. Надо будет взять в библиотеке.
Сегодня сообщили о полете станции «Марс-1». Все только об этом и говорят. Конечно, превосходно, но, кроме Марса, есть ещё и Земля.
Был комсомольский трёп. Мне и Сашичу (плюс — минус Цапкина) поручили организовать некий просветительский кружок. Не знаю, что из этой затеи получится.
Где-то надо подработать: нашёл интересный список книг по океанографии.
3 февраля
Болтали, болтали с Петряевым и выболтали идею кружка. Мы назовем его «Искатель». И будет вовсе не кружок, а клуб. Весь вечер сидели над статутом оного.
4 февраля
Был шум по поводу нашего «Искателя». Мария Сидоровна, наш завуч, учуяла в нем нечто «крамольное». Таскали к директору. Ну Степан Иванович — мужик мудрый. Сказал: «Действуйте!»
Схему коротковолнового переделали.
Придумывали с Сашичем «Гимн отшельников». Смысл в том, примерно, что:
Ничего и никого нам не надо,
Ничего и никого мы не ждем.
Ни к чему нам людская громада,
Мы прекрасно одни проживем!
7 февраля
Прочёл предыдущую запись. Я гад и сволочь. Выходит, под одним настроением я бью себя в грудь и говорю о своих недостатках и о том, к чему должен стремиться, а под другим — опять берусь за старое. Это двурушничество и подлость! «Гимн» выбросили.
Отдал новые стихи В.П.
Был разговор с М.Ц. Она предложила мне дружбу. Я сказал, что о дружбе не договариваются — дружба приходит сама собой. Если приходит…
10 февраля
Ходили с Сашичем на лыжах, вдвоём. Превосходно. Пробежали километров пятнадцать.
Читал «Предвидимое будущее» Д. Томсона. Мне кажется, с внедрением кибернетики и автоматики назревает некое новое диалектическое противоречие.
Человеку необходимы наиболее совершенные электронно-кибернетические устройства — от этого человеку будет лучше. Но если они станут по-настоящему совершенны, то человеку будет хуже, так как он в конце концов изленится и даже мыслить перестанет.
Спорили об этом с Володькой Цыбиным. Спорили даже не об этом. Просто он, по-моему, согласен с неизбежностью второго. Или вообще ни черта не смыслит в вопросах будущего.
А кто смыслит? Я, что ли?
«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней — работник» (Тургенев). Согласен. Только не надо превращать мастерскую в свинарник.
Лишь 33 предприятия из расположенных в районе рек Исеть, Тагил, Ница, Тура и Тавда сбрасывают в Обь-Иртышский бассейн за год более 150 миллионов кубометров загрязненных сточных вод. Это из газеты «Уральский рабочий». Все равно что 150 миллионов кубометров помоев!
На земном шаре сейчас более 20 миллионов кв. километров пустынь!
14 февраля
В.П. сказал, что когда-нибудь я буду, наверное, писать философскую лирику. Ха-ха!
А Инга — интересный человек. Настырная. Но совсем не в том плане, что М.Ц.
В Японии из подводных шахт на океанском шельфе, в прибрежной части дна, уже добывают 12 процентов каменного угля.
По первым, предварительным подсчетам, в океане около 35 миллиардов тонн железомарганцевых конкреций.
16 февраля
«Гром победы, раздавайся!», Отныне клуб «Искатель» существует!
По-моему, Володя Цыбин на крючке у Инги. Мальчик влюблен. Туда им и дорога…
23 февраля
Опять был у Холмовых. Инга спрашивала, как я отношусь к М Ц. Что они — сговорились?..
«Порядочный человек в беде становится ещё более благородным и отважным; когда пробуют наклонить факел, языки пламени все равно поднимаются кверху» (Из тибетских изречений).
24 февраля
Решили с Сашичем записаться в дружинники. Разговаривали об этом с Яшей Шнейдером.
У подъезда нового и красивого дома,
Что стоит напротив Дворца культуры,
Вчера ночью убили парнишку знакомого.
«А за что убили?» — «Да просто сдуру».
Только как это — сдуру? Как это — просто?
Или жизнь человека так дешево стоит?!
И какой же вонючей и черствой коростой
Обрасти должно сердце у этих прохвостов,
Что так «просто» вершат совсем не простое!
Я над этим думал и трудно, и долго.
Я выйду, я выйду на бой против злого.
Тут право мое становится долгом:
Рано быть ещё добрым — быть надо волком
И по-волчьи вгрызаться в коросты былого.
Что парнишка знакомый, это я выдумал. А все остальное так и есть. Рассказывают, парень моих лет.
3 марта
Вчера было первое открытое заседание клуба. Доклад читал В.П. Он — гений!
7 марта
Мы с Сашичем — дружинники. Сегодня первый раз ходили в патруль. Сволокли с ребятами в штаб двух пьяниц. Работенка так себе, но приятно, что хоть чуть-чуть да помогли очистить улицы от разной швали.
Отнес Инге «Атлантиду» Жирова и получил очередной мат. Надо где-то достать литературу по шахматам.
Славненький фактик: древнейший «папирус Присса», которому (папирусу) шесть тысяч лет, начинается словами: «К несчастью, мир не таков, каким был раньше. Всякий хочет писать книги, а дети не слушаются родителей».
Когда я рассказал об этом Деду Аркусу, он чуть не завизжал от восторга.
«Уважение к людям есть в конечном счете уважение к самому себе» (Голсуорси).
17 марта
Похоже, у папы какие-то необычные осложнения на работе.
Мне он ничего не говорит, но я вижу. Мама стала грустная и нервная.
Один гектар суши в среднем дает 3–4 тонны растительности, а гектар моря — 8–9 тонн. А если, скажем, учесть, что лес восстанавливается единожды за 40 лет, а водоросли — несколько раз за сезон…
Ультразвуковой локатор!
26 марта
Папу исключили из партии и увольняют с работы. Его — и вдруг… исключили из партии, отдают под суд!..
Он рассказывал спокойный и бледный, только вдруг нехорошо и страшно начала подергиваться щека. Тик.
Какая-то дикая нелепость. Его обвиняют в расхищении материалов и средств. Сволочи!! Они же, гады, не знают, какой он предельно честный. Он бы, если надо, все своё отдал, но никогда не прикоснулся бы ни к одной государственной копейке.
Хочется биться о стенку.
Мама слегла.
28 марта
Товарищи отца борются за него.
Я верю, что правда победит. А если нет, значит, нет и ее.
Понимаю, как и почему появлялись на Руси разбойники.
Спасибо Сашичу и Инге.
Мне, возможно, придется пойти работать. Познавать, что труд — дело чести и геройства.
Маме хуже.
Когда-то раньше у людей был бог,
И утешенья у него искали
В глухой беде и тягостной печали
Все те, кто был несчастен и убог,
Иное поколенье, мы узнали,
Что бога нет, он — выдумка людей,
Но так же всё в кипении страстей
Нас ранят боли, беды и печали.
Так кто же нам, почти полубогам,
Какой защитник нужен ныне нам,
Несчастья мрак чтобы повергнуть разом?
Он — в нас самих, он мужествен и строг,
Он добр и всемогущ. Но он не бог,
Он — это человечий разум!
4 апреля
Владимир Матвеевич и В.П. вместе с папой ходят по всяким прокуратурам и адвокатурам. Оказывается, дело сложнее, чем я думал. Суть не в том, что его просто оклеветали. Его оклеветали те, кого он критиковал за растранжиривание средств и кто должен за это отвечать, в частности, управляющий трестом Свирдов.
Свирдов — друг отца Володьки Цыбина. Он у него (отец) адвокат. Они вместе плетут какую-то интригу.
10 апреля
Папа стал спокоен, и, должно быть, не зря. Или просто храбрится?
Сегодня долго разговаривал с В.П. о Володьке Цыбине и вообще о людях. В.П. настраивал меня на то, что Вовка не виноват. Это я сам понимаю. Но все равно все кипит во мне против него. Я готов отвечать за своего отца, пусть он отвечает за своего.
А В.П. пропагандирует теорию братства…
Сашич из космоса «упал» на землю. Какой-то его родственник, инженер из Водоканалпроекта, увлек Сашеньку идеей строительства гигантской оросительной сети или что-то в этом роде. Уже два дня не заходит; только в школе видимся.
18 апреля
Победа! С папы сняты все обвинения. Свирдов с компанией пойдет в тюрьму, не отвертится; следствие ведется заново.
У нас с Ингой что-то похожее на дружбу. Она славная девчонка.
С ней интересно и можно говорить о чем угодно — она поймет. Тоже завела аквариум — я ей дал рыбок.
Затеваем с Сашичем большое дело по совету Дмитрия Павловича, инженера из Водоканалпроекта.
27 апреля
Папа в партии восстановлен!..
Я окажусь слабаком и ничтожеством, если своё мстительное чувство попытаюсь перенести на Володьку Цыбина. При чем тут Володька? Он, конечно, трепло и пустяк. Но если я сильнее и лучше его (предположим), то по-человечески и по-мужски я обязан только помогать ему.
Это я сам, дорогой Венедикт Петрович, рассудил. Вот какой я стал мудрый!

1 мая
Весна!..
Опять, как всегда, ноги просят дороги,
Обманные манят урманы к себе…
Завтра — снова в лес, к Петрушихе. С нами собирается чуть ли не полкласса.
Сегодня весь вечер бродили по городу. Долго сидели с Ингой на набережной.
Мне с ней очень хорошо.
Неуж. я влюбился?..
А В.П. в больнице. У него, должно быть, белокровие, и, что особенно плохо, запущенное.
2 мая
Это не положено — бить морду девчонкам, но я, наверное, набью.
Сегодня превосходно съездили в лес, вечером я собрался к Инге. Только вышел — на тротуаре Догматик.
— Даниил, мне нужно с тобой поговорить.
— О чем?
— Не сердись. Давай пройдемся, поговорим…
Полчаса мурыжила. Я под конец совсем разозлился и наговорил ей грубостей. И сказал, что из девочек у меня есть один друг — Инга, и больше никого мне не надо.
А к Инге уже не пошел. Испортилось все настроение.
«Классики — это те, которых все уважают, но никто не читает» (Ницше). Звонко, но не очень верно: сам же он не только читал — изучал классиков!
9 мая
Уже четвертый день лежу со сломанной ногой. Всё Сашкины ручейки. Но нашли зато такой документ — записку партизан восемнадцатого года, — ради которого я согласился бы сломать и вторую ногу.
А вообще-то настроение так себе, паршивенькое. Хочется петь какие-то каторжные песни, вроде: «Лежу на коечке, страдаю…» Хорошо, что ребята не забывают. Инга бывает каждый день.
Презренная хамса — это, оказывается, знаменитые анчоусы. Или наоборот: анчоусы — это хамса. А прекрасная макрель — наша скумбрия.
«Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми» (Толстой, который Лев).
При ливне средней силы на площади в несколько квадратных километров высвобождается такая же энергия, как при взрыве первых атомных бомб. А энергия урагана в тысячи раз больше.
Неужели нельзя ею овладеть?
На пустыни надо натравить полчища специально выведенных засухоустойчивых растений. Они создадут почву.
12 мая
Весь вечер сидело у нас семейство Холмовых. Пели песни. Старые. Хорошие. И смешные: они думают, будто только их юность опалена священным огнем революции. Но, дорогие мои, поверьте, — этот огонь и у меня, у всех нас в груди!
Интересно, черт, взглянуть на тех, кто придет на смену нам, взглянуть на наших потомков — людей, которые будут в далеком завтра…
14 мая
Большая новость: папа переводится в Нижний Тагил. Естественно, и мы с ним. Интересно. И — грустно.
Много читаю.
Был В.П. Дорогой мой учитель… Он очень худо выглядит. Я улыбался через силу. А он бодрится.
18 мая
Почему-то не пришла Инга… А наш ручеек Партизанский ещё превратится в роскошный пруд!
23 мая
Был на улице! Скоро начну бегать. С костылями, конечно.
Приходил В. Цыбин. Какой-то ушибленный — потерял свою уверенность, молчаливый и вялый. Даже жалко его стало.
До чего плохо, что я безногий. Так хочется в лес!..
Сашич по-прежнему рыщет с братвой по ручейкам. Завидно!
Счастье — высшая мера духовного удовлетворения человека. Чем выше запросы, тем выше счастье. От характера этих запросов зависит и характер счастья.
Человек тем лучше, чем больше отдает другим в достижении своего счастья.
28 мая
Укладываемся. Часть вещей папа уже отправил. Как-то даже не верится, что скоро мы уедем. Жалко Сашку. И — как без Инги?..
30 мая
Я ошалелый и безгласный: Инга поцеловала меня — первая, сама!
До чего же, черт побери, хорош этот мир — моя комната, мой дом, мой город, моя Земля, мое хмурое, облачное небо!
Худо, что живем на третьем этаже, а то бы сейчас выбрался в окно, оседлал свои костыли — и к Инге. Мне бы только взглянуть, улыбнуться ей — и больше ничего не надо…
3 июня
Пишу в поезде. Прощайте, друзья: Данька Седых уезжает навсегда…
А Инга даже на вокзал не пришла. Мы с ней поссорились глупо и жестоко. Все из-за этой сентиментальной идиотки Цапкиной. Инга вдруг приревновала меня к ней — я наорал. Все получилось по-дурацки. ещё вчера и сегодня Сашич обегал, наверное, весь город, все обыскал — нигде Инги не нашел. Скрылась прочно.
Что ж, значит, все, что было, был обман! Так, игра… Хоть мы и посмеиваемся иногда над литературой, а образ женщины в книгах довольно верный — создание ветрености и кокетства. Только не думал я, нто Инга такая…
Ничего, я умею стискивать зубы.
Впереди, совсем уже близко, — Тагил. Будут новые радости и, может быть, беды, будет новая жизнь. Все ещё впереди!..
«Неужели Рано все-таки права?» — подумал Ярослав, и ему сделалось горестно-обидно.
Он взял конверты. Их было восемь. Из плотной, голубого цвета бумаги. По подписанным адресам: «Нижний Тагил, улица Карла Маркса…» Ярослав сразу узнал руку Инги. Милая давняя знакомка, она опять давала знать о себе.
Восемь голубых конвертов — что в них? Горькая обида попранной любви? Крик о прощении? Сухие, официальные слова, обращенные уже не к другу, а просто к школьному товарищу?
Ярослав осмотрел конверты — они были разложены по порядку, по датам. С чувством трепетным и грустным он стал доставать из конвертов письма.
3.07.63
У нас осталась недоигранная партия. Если не возражаешь, делаю очередной ход: Ке5 — с6.
Инга.
8.07.63
Ла3 — а8.
Инга.
12.07.63
Кс6 — е7.
Тебе лучше было ходить: Кре6.
Инга.
16.07.63
Марфуте тоже передай привет. Я работаю в райкоме комсомола. Временно, до октября.
h3 — h4.
Инга.
22.07.63
Здравствуй.
У Венедикта Петровича бываю регулярно. Дела у него неважные. Вспоминает о тебе.
Саша напишет, наверное, с дороги.
Что за работа у тебя? Как нога?
Марфуте завтра вышлю набор открыток, видела в магазине — не то румынский, не то немецкий. Завтра у меня получка, вполне могу шикнуть.
Ты не заметил ловушку. Теперь хожу: Ке7 — q5.
Инга.
28.07.63
Здравствуй, Даниил!
Спасибо за большое хорошее письмо. Ты, наверное, лучше меня — прямей и великодушней. И сильнее.
Я очень переживала то, что произошло. Было так обидно… И больно.
Крепко жму протянутую тобой руку. Очень крепко!
Не вздумай усмехаться: руки у меня наливаются мускулами день ото дня: занимаюсь в секции парусного спорта. Нас несколько человек, из райкома, сагитировал Николай Петрович, второй секретарь. Замечательный парень, мастер спорта.
Сегодня я их всех поразила: хохотала, пела, чуть не плясала. Они, глупенькие, и не знают, что я получила такое замечательное письмо.
Марфуте открытки понравились? Поцелуй её за меня.
Хожу: Кq5 — е4.
А ты, должно быть, начинаешь меня прижимать. Сознавайся, у кого консультируешься? (Шучу.)
Большущий привет всем вашим!
Инга, твой друг.
29.07.63
Здравствуй, Даня!
Это «не по правилам», что я пишу тебе, не дождавшись ответного шахматного хода? Просто соскучилась.
Вот соскучилась, и только. Вроде того, как месяц назад, послав тебе первый шахматный ход (а хитро я придумала? Настоящий «ход конем»!), места себе не находила, ждала: ответит — не ответит? Ну, сейчас-то, конечно, другое дело, а тогда просто с ума сходила. (Только не зазнавайся.) И целыми днями почему-то вертелся в голове и на языке тот — помнишь? — романс: «Вы покидали нас, вы стали далеки. Писала Вам, ответа не имея…».
Папа даже прикрикнул на меня однажды:
«Прекрати ты эту пошлятину!»
Я, дурочка, тоже взорвалась:
«Почему это пошлятина? Почему все, что о любви — это пошлятина?»
Я хотела ещё сказать, что так рассуждать могут лишь сами пошляки, но вовремя осеклась. И он замолчал. Только рукой махнул: что с психопаткой разговаривать?
Сейчас мне смешно это, а тогда было вовсе не смешно.
Болтливая я?
Данька, милый Данька! Все же какая я умница, что решилась тогда написать тебе. И ты умница. Ты у меня настоящий умница…
Да, вот что я вспомнила. В вашем городе живет Валя Любина. Наверное, знаешь, училась в десятом «А». Я не знаю, где она живет, где работает (а видимо, работает); только ты её обязательно разыщи. Она может наделать всяких глупостей. Ты её разыщи и познакомь с Надеждой Ивановной. А мне сообщи Валин адрес. Я понимаю, что это трудно — разыскать в большом городе. Трудно, а надо. Очень надо, Данечка!..
Твой типус Саша что-нибудь пишет тебе? Нам в райком они прислали такое донесение: «Легко на сердце от песни веселой. Прошли 90 километров, полонили три села, пять деревень, двенадцать полевых станов. Концертов не счесть, убранного сена — тоже».
Николай Петрович (я тебе писала о нем) поругивается, а сам доволен: не любит стандарт и казенщину.
С нашими не встречаюсь — некогда. Вижусь только с Володей Цыбиньш. Вчера вечером он пытался… объясниться мне в любви. Ты не ревнуешь? Он сказал, что не представляет, как он вообще сможет существовать на этой планете, если меня не будет рядом. Вот, цени… Я над ним, бедненьким, посмеялась, а потом сказала:
«Володя, я, может быть, фыркнула бы или сделала что-нибудь похуже, но у меня сегодня превосходнейшее настроение: я получила письмо от Дани Седых».
Вот такие, Данечка, дела.
Я сижу в райкоме, никого уже нет, только за окном шумит наш милый неугомонный город. Ты хоть изредка скучаешь по нему?
Сейчас запечатаю письмо и побегу домой. Сегодня у папы день рождения. А ровно через месяц мне стукнет семнадцать. Ого-го, какая я большая!..
Всего лучшего, Дань!
Твоя Инга.
1 августа 1963
Маэстро!
Ответного хода не будет.
Почему? Естественный вопрос.
Очень хорошо, что на свете есть социалистическое соревнование. И что выполнение обязательств регулярно проверяется. И что наш район соревнуется с одним из районов вашего города.
Догадался?
Ти-ли-бом! Я еду в Нижний Тагил!! Ура-а-а!
Я просто голову потеряла от радости. (Видишь, какая я без головы, очень милая картинка.)
Сама не знаю, почему (правда, я такими умоляющими глазами смотрела целый день на Николая Петровича) меня включили-в состав районной молодежной организации.
Так что, Даниил Павлович, будьте готовы к приезду ревизорши. Ревизорша едет строгая.
Валю Любину не разыскивай. Я уже знаю её адрес: получила сегодня письмо. Она попала в хороший коллектив; душа её ещё не в «раю», но, видимо, на пути к нему. Мы с тобой вместе навестим её (Валю, я имею в виду).
Ах, Данька, просто не верится, что через несколько дней я увижу тебя, лохматик несчастный!
Есть и другие новости, но о них — когда приеду. Каждую свободную минуту я буду тебе что-нибудь рассказывать — о себе, о тебе, о других, и опять о себе, и опять о тебе.
Ну ладно. До встречи!..
Инга.
Он сидел и глупо улыбался, машинально перебирая конверты. Он был очень рад за Ингу и Даниила. Молодец, ах молодец девчонка!..
— Нашёл, что искал? — совсем рядом раздался голос хранительницы.
Ярослав поднял голову. Улыбка всё ещё расплывалась на лице.
— Нашёл. Большое спасибо!
Она принялась наводить порядок, украдкой поглядывая на Ярослава.
Он помялся и спросил:
— Вы не знаете, как звали у Седых жену?
— Знаю. Инга Холмова. Журналистка и путешественница. Она умерла уже в нашем веке, лет пятьдесят назад… Идем, я покажу их фото.
Нина Леонидовна подвела его к добротной, довольно крупной цветной фотографии. С неё на Ярослава смотрели два ещё молодых человека.
— Это снимок семьдесят шестого года, — сказала хранительница.
Очень обычные, ничем не примечательные люди. Симпатичные. Но, не знай Ярослав о них, он, конечно, никогда бы не стал рассматривать эти лица. А сейчас всматривался напряженно, ощущая некую нежную гордость.
Темно-серые с зеленоватым отливом глаза Даниила Павловича были спокойными и очень внимательными. В глазах Инги Владимировны таились лукавинки. Ноздри её небольшого, чуть вздернутого носа приметно раздувались; похоже, она сдерживала смех. Полные добрые губы мужа были слегка поджаты.
Они только что о чем-то говорили? Спорили? Смеялись?..
Ярослава охватило радостное и вместе с тем тоскливо-щемящее чувство. Он уже умел понимать это странное, выразимое только в музыке сложение эмоций. Оно закономерно при встрече с людьми других, далеких поколений. Радость знакомства, открытия — и грусть от неизбежности расставания, от невозможности понять открытое до конца, слиться с ним.
Ярослав отвернулся от портрета. Сдержал вздох.
— Я пойду, — сказал он. — Но — можно? — я буду приходить сюда. И, наверное, не один…
Нина Леонидовна кивнула, прикрыв глаза. Взглянула — он уже шагал к выходу…
К дому Ярослав брел берегом моря.
Тихо и мерно бежали и плескались о берег волны. Одни и те же и совсем разные, каждый раз другие.
От домиков посёлка неслась веселая разноголосица буйных ребячьих игр. Из кустов к прибрежным камням вышмыгнул парнишка, похожий на Ивана. В глазах у него были слезы. Ярослав подошел к нему, осторожно положил руку на мягкие льняные волосы:
— Тебя обидели, человек?
Парнишка поднял на него широко раскрытые, светлые, как небо, глазенки:
— Нет. Я сам обиделся.
— На что?
— Они играют в открытие новой планеты и подают команды, а я их не понимаю. Мне говорят: «Ты неправильно делаешь», а я не знаю, как правильно.
Ярослав постарался быть серьёзным. Он почувствовал себя взрослым.
— Почему же они не объяснили тебе?
— Они говорят, некогда. И ещё говорят, я маленький.
Парнишке надо было как-то помочь. Обида — это плохо… Но все ли плохое вредно? Если убрать с пути человека препятствия, каким он станет?
— Знаешь, — сказал Ярослав, — твои товарищи правы. Но ты не унывай. Ты пойди к ним, слушай все команды и старайся понять. А когда поймешь, ты будешь с ними наравне. Сам поймешь. Это очень хорошо.
В глазенках появилось недоверие.
— Ты тоже все понимаешь сам, тебе не объясняют?
Ого, парень, с тобой ухо надо держать востро!
— Иногда объясняют, когда очень уж трудно. А так вот, видишь, я хожу по берегу и думаю, стараюсь все понять сам.
— А что тебе нужно понять?
Беседа явно затягивалась.
— Очень многое, — сказал Ярослав.
— Тебе тоже некогда. — Малыш потупился; Ярославу снова стало жалко его. Но тут же парнишка улыбнулся. — Ладно, иди. Я тоже похожу, подумаю…
Ярослав подходил уже к дому, когда заметил отца, полулежавшего в широком низком шезлонге. Тот приветственно поднял руку. Ярослав подбежал к нему.
— Рассказывай. — Отец подвинулся и опустил руку на плечо присевшего рядом сына.
Выслушав Ярослава, отец молчал, откинувшись на спинку кресла, потом сказал с едва приметной усмешкой:
— Ты удачливый историк.
— Ага, — согласился Ярослав и тоже откинулся, прикрыв глаза от косых лучей солнца. — Но, знаешь, мне их чуточку жалко.
— Тебе жалко, сын, что они не с нами? — понял отец.
— Да.
— Ты чудак, Яр. — Он сказал это очень ласково. — Вот они, ты рассказывал, много думали о счастье, мечтали о будущем. Но ведь будущее для человека — это всегда некий идеал, стимул для улучшения своего настоящего. Заботясь о будущем, человек заботится о настоящем, о своем поколении, о своих потомках. Его счастье — делать доброе для них. Мы тоже мечтаем о прекрасном грядущем. Но перенеси тебя в него — ты потеряешь своё счастье, оставив его где-то в своем времени, ибо оно — в той жизни, которая неотрывна от твоих современников и твоей эпохи. Каждое поколение счастливо по-своему, и лишь нытики, это вымирающее племя, могут думать иначе…
— Подожди-ка, подожди, — вдруг сказал Ярослав. Он приглядывался к отцу как-то странно. Только сейчас он обратил внимание на то, что эти родные серые глаза отливают зеленым, что нос, небольшой и прямой, чуточку вздернут, что… — Скажи-ка, — Ярослава самого ошеломила внезапная мысль, — а мы не родственники Седых?
Отец посмотрел на него с изумлением:
— С чего ты взял? — И рассмеялся: — Этак ты скоро свихнешься… Никакой связи! А впрочем, да. Прямые потомки. По духу. А это, брат, существенная штука.
Ярослав улыбнулся смущенно. Он рассеянно глянул в сторону и вдали, у песчаной кромки берега, заметил недавнего парнишку. Человечек стоял у самой воды и смотрел в море, катившееся на него. Человечек размышлял.
— Извини, — сказал Ярослав отцу, — у меня дело, — и побежал к парнишке…
Домой он вернулся уже к вечеру. Отец с матерью слушали на веранде музыку. Ярослав посмотрел на них с хитрецой.
— Сейчас я сообщу человечеству, что оно заблуждалось, — сказал он и прошел в комнаты.
Борис Юрьевич весело переглянулся с женой.
Ярослав склонился к пульту видеоэкрана, включил аппарат в общеконтинентальную связь и набрал нужный индекс. Экран осветился матовым мерцанием. Ждать пришлось с минуту. В приёмнике раздался тихим и появилось, как всегда, прихмуренное, чуть одутловатое лицо Андрея.
— Добрый день, тихоокеанец, — сказал он. — Как дела?
— Все очень хорошо. Только у нас уже не день, а вечер.
— Это понятия относительные. Как батя?
— Полный порядок. Твоя сестрица дома?
— Держи ее. — Андрей отступил — на экране сверкнула улыбка Рано.
— Здравствуй, Яр! Я подслушала: у Бориса Юрьевича все хорошо?
— Вполне!
— А мы собираемся в дорогу. Завтра будем на Памире. Ярослав смотрел на нее, и в памяти почти подсознательно начали всплывать древние пушкинские строки: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты…» Яр смутился, словно Рано могла догадаться, и, улыбнувшись, сказал:
— Есть предложение: летите сюда. У меня для вас сюрприз.
— Что такое?
— Я выиграл у тебя спор. Инга снова нашла Даниила.
— При чем тут Инга? Ты помешался на ней. Ведь ты же ещё не был во Владивостоке.
— Я нашёл дневник Даниила и письма Инги, я видел их фотографию — муж и жена.
Рано ахнула:
— Ты разыгрываешь!.. Яр, это серьёзно?
— Очень.
На экране рядом появилось лицо Андрея:
— Зачем же лететь? Лучше расскажи.
— Ты чучело! — Рано адресовалась уже к брату. — Конечно, нужно лететь.
Ярослав торжественно улыбался.
— Ярчик, — сказала Рано, — мы это сейчас обсудим. Через час вызовем тебя и скажем, как решили. Я думаю, мы все-таки решим прилететь.
Экран потухал медленно, нехотя. В эфире ещё струился образ Рано…

1963 г.