Глава 6. В тюрьме народов
Мы не шведы, русскими мы не желаем быть, а потому будем финнами
Что это за страна, в которой «всё русское чуждо, ко всему русскому относятся враждебно. Здесь достаточно быть русским, чтобы на каждом шагу встретить притеснения, неправду и злобу если не всего населения, то всей интеллигенции без исключения»[1]. В этой стране «русские, подобно иностранцам, лишены прав политических, так как не могут ни избирать депутатов сейма, ни сами участвовать в нём. Русским закрыт доступ на военную, гражданскую и духовную службу. Русские, живущие в крае, облагаются налогом в пользу общины, но тем не менее лишены права голоса в городских и сельских общинных собраниях»[2]. В этой стране русские дети не имеют возможности учиться на родном языке. Наконец, в этой стране торжественно открывают памятники, прославляющие победы местных вооружённых формирований над русскими войсками[3].
Современный читатель может подумать, что я описываю одно из нынешних маленьких, но гордых прибалтийских «государств». Нет, это Великое Княжество Финляндское, составная часть Российской Империи. Та самая Финляндия, которая, находясь под шведской властью, не располагала ни административной, ни даже культурной автономией.
После своей смерти Александр I оставил в наследство два недоразумения в виде Королевства Польского и Великого Княжества Финляндского. Поляки отблагодарили двумя восстаниями (1830–1831 и 1863–1864 гг.) и в результате своего особого статуса лишились. В отличие от кичливой шляхты, медлительные и благоразумные финны до поры до времени не доставляли Петербургу сильных хлопот: «Жизнь в Финляндии текла мирно и тихо, почему особых мер по отношению к ней не требовалось»[4]. Поэтому они в полной мере сохранили привилегированное положение:
«Сколько похвал и благодарений неслось в своё время к трону Николая I с разных концов Финляндии! И, действительно, было за что изливать свою признательность. Горит университет, и Царь создаёт финнам ещё более великолепный храм науки. Голодают на севере, ужасная холера посетила юг, пламя пожаров испепелило целые кварталы в разных городах — и Царь широко распахивает двери русских казённых магазинов, щедрой рукой одаряет нуждающихся из собственных средств. История Финляндии не знает другого столь щедрого царствования. Николай Павлович, несомненно, являлся истинным благодетелем края»[5].
Вот такая была «российская колониальная империя» — вместо того, чтобы грабить покорённые народы, как это делали просвещённые европейцы, её правители были готовы за счёт русского населения ублажать своих новых подданных. А те воспринимали поблажки как само собой разумеющееся:
«Все льготы и привилегии, царские милости и русские ласки они принимали, как должное и заслуженное, и всё это питало их высокомерие и рождало новую требовательность»[6].
Когда Финляндия пребывала в составе Швеции, её официальным языком был шведский. Этот язык преобладал в литературе, поэзии, администрации, школе и суде. На нём говорило дворянство и весь образованный слой общества, на нём велось обучение, печатались книги. Финский же считался языком невежественных простолюдинов. Недаром губернатор одной из финляндских губерний фон Пальмберг считал целесообразным полностью искоренить финский язык, допуская его использование только где-нибудь в диких местах на границе с Лапландией[7].
После вхождения Финляндии в состав Российской Империи такое положение продолжало сохраняться. С попустительства русских монархов государственным языком оставался шведский, а все административные посты в Великом Княжестве, за исключением должности генерал-губернатора, занимали местные уроженцы.
Тем не менее, благодаря полученному Финляндией автономному статусу, в среде финской интеллигенции началось «национальное возрождение». Впрочем, начатки его проявились ещё при власти шведов. Первой «ласточкой» стал профессор красноречия Хенрик Габриель Портан, преподававший в Абоском университете в конце XVIII века.
«Портан первый из учёных Абоского университета отдался изучению финской народной поэзии, особенностей финской народности и финской старины и своими трудами много содействовал развитию финской истории, географии и языка. Он же обратил внимание на сравнительное изучение финско-угорского языка. Это был страстный патриот, охваченный „манией“ ко всему финскому. Своими трудами он поднял дремавшее национальное чувство»[8].
После присоединения Финляндии к России процесс пробуждения «национального чувства» начал идти особенно бурно. В 1820–1830-е годы на этой ниве проявилась целая плеяда деятелей. Среди них, в первую очередь, следует упомянуть Элиаса Лёнрота. Сын деревенского портного, он получил медицинское образование в Абоском университете, однако помимо лечения пациентов увлёкся филологией, занявшись собиранием финского фольклора. Вскоре у Лёнрота появилась мысль объединить собранный материал в одну эпопею, наподобие «Илиады» или скандинавской «Эдды». «Из скопившегося у него материала, из многочисленных вариантов, он добросовестно и находчиво составил одно целое, один обширный народный эпос», который и опубликовал в 1835 году[9].
Надо сказать, что идея сочинить для финнов свой эпос была высказана ещё в 1817 году в одной из статей Карла Акселя Готлунда: «…если бы только нашлось желание собрать вместе наши древние народные песни и создать из них стройное целое — будет ли это эпос, драма или нечто другое, мы имели бы нового Гомера, Оссиана или „Песнь о Нибелунгах“, и финская нация, через это прославившись, с блеском и достоинством проявила бы свою самобытность»[10].
Итак, вопреки расхожему представлению, у «финского народного эпоса» (кстати, само его название — «Калевала» — также придумано Лёнротом) имеется свой автор:
«Таким образом, изданное Лёнротом „Калевала“ не есть полное и точное воспроизведение того, что воспевалось народными певцами. В данном случае он последовал примеру самих же народных певцов. Подобно тому, как они сводили материал из разных рун, Лёнрот, — превосходивший всех финских певцов по числу известных ему рун и вариантов, — признал себя вправе слить в одно целое главнейшие части собранного им материала. Лёнрот делал в песнях некоторые изменения, сопоставления и добавления. Иногда он отбрасывал одни подробности и прибавлял другие, изменял даже имена героев и героинь, присоединял к песням вставки из баллад и других песен, не принадлежавших к циклу эпических песен Калевалы; случалось он включал связующие звенья из стихов, заимствованных из всевозможных народных песен»[11].
Интересно отметить, что современное финское литературоведение также считает «Калевалу» авторским произведением:
«Поэтическая одарённость Лёнрота проявилась в создании общей композиции, а отчасти в непосредственном личном творчестве — сочинении сюжетных связок и даже отдельных рун. Так, лирическая руна о плаче берёзы сочинена Лёнротом (фольклорная её основа минимальна).
Вопрос о соотношении авторского и фольклорного начал в „Калевале“ рассматривался в финской науке по-разному; если в XIX в. „Калевалу“ ещё часто отождествляли с фольклором, то впоследствии „Калевалу“ стали считать авторским произведением Лёнрота»[12].
Работа была проделана не зря: «После выхода „Калевалы“ в Финляндии стали восторженно говорить, что и у финнов есть своё культурное прошлое, своя история. „Калевалу“ образно называли „входным билетом“, по которому прежде малоизвестный народ вошёл в число культурных наций»[13]. Недаром в 1847 году коллеги Лёнрота по националистическому движению опубликовали на него дружескую карикатуру, подпись к которой гласила: «Один человек устроил все наши дела своей беготнёй»[14].
В начале 1830-х годов Лёнрот основал «Финское литературное общество». Сторонники этого движения получили название «финноманов». Их кредо сформулировал приват-доцент Гельсингфорского университета Адольф Ивар Арвидсон: «Мы не шведы, русскими мы не желаем быть, а потому будем финнами»[15]. Признанным лидером финноманов вскоре стал Иоган Вильгельм Снельман, бывший директор гимназии. В 1846 году для пропаганды идей финского национального возрождения Снельман вместе с Лёнротом начинают издавать журнал «Litteraturbladet» («Литературный Листок»)[16].
Следует сказать, что тогдашний финский язык представлял из себя необработанный набор диалектов. Литературного финского в то время просто не существовало. Языком образованных людей был шведский. Поэтому тот же Снельман писал свои статьи по-шведски. На шведском писал свои вирши и наиболее известный из тогдашних финских поэтов Иоган Людвиг Рунеберг, также один из лидеров финноманского движения, прославившийся как автор сборника стихотворений «Рассказы прапорщика Столя». В этих стихотворениях большей частью воспевались победы финнов над русскими во время войны 1808–1809 гг. Позднее эта книга станет настольной в каждой финской семье[17]. Более того, между собой новоявленные финские патриоты тоже общались по-шведски — вплоть до 1850 года прения в «Финском литературном обществе» велись на шведском языке[18].
Однако значительную часть населения Великого Княжества составляли этнические шведы, которым идеи «финского национального возрождения» были совершенно чужды. Более того, в этом они усматривали покушение на своё привилегированное положение. В результате вскоре сформировалось шведское национальное движение, так называемые «шведоманы». Основной их целью являлось сохранение доминирующих позиций шведоязычной элиты.
Обе конкурирующие националистические группы были враждебны России и русским. Впрочем, долгое время их деятельность не выходила за рамки «умеренного прогресса в рамках законности», сводясь к саботажу робких попыток царской администрации сблизить Финляндию с остальной частью Империи.
Зато стратегические цели обеих группировок существенно различались. Шведоманы мечтали о возвращении Финляндии в состав Швеции, в то время как финноманы рассчитывали создать в перспективе независимое государство, в котором финны станут господствующей нацией. Были и более приземлённые, сиюминутные интересы, в виде распределения чинов и должностей.
Первоначально шведоманы имели существенное преимущество над своими противниками, поскольку в их руках находились местные органы власти, включая сенат. И они не стеснялись пользоваться «административным ресурсом». В советское время дискриминация финского языка объяснялась происками самодержавия: «Напуганный польским освободительным восстанием 1830–31, революцией 1848–49 в ряде европейских стран и сочувственным отношением к ним передовой финляндской интеллигенции, царизм встал на путь открытой политической реакции… Указ 1850 запрещал печатать книги на финском языке (за исключением религиозных и сельскохозяйственных)»[19]. На самом деле царизм в данном случае совершенно не при чём. Постановление, в силу которого на финском языке разрешено было печатать только книги религиозного характера и по земледелию было принято именно финляндским сенатом[20].
Ещё одним плодотворным полем деятельности нарождающейся финской интеллигенции стали поиск и изучение родственных финскому языку наречий среди населяющих Россию народов. 19 марта 1795 года историк и филолог Портан в письме профессору Калониусу сообщал: «Я получил от путешествующего по России доброго механика горного советника Нордберга забавное письмо, в котором говорится, что я могу через Pallas'a получить от русской императрицы прогонные деньги, если пожелаю посетить живущих в Русском государстве различные племена финской нации, для изучения их рода, общности их языка, нравов и пр. Но я очень благодарен за подобную комиссию. Если б я в молодые годы имел случай получить такую поддержку, я, пожалуй, поддался бы искушению воспользоваться ею; теперь же я к России и ко всему, что до неё касается, питаю такой страх, что не имею охоты ехать даже в Петербург, — куда меня часто приглашают многие из моих бывших учеников, — не только пуститься в глубь земли этих варваров. Но всё-таки я желал бы, чтобы кто-нибудь из молодых способных людей совершил эту поездку, прежде чем все различные племена будут совершенно слиты с Россией»[21].
Спустя три десятилетия это желание воплотилось в жизнь. Для изучения «племён финской нации» в земли русских варваров отправилась целая плеяда «молодых способных людей»: Иоган Андреас Шёгрен, Матиас Александр Кастрен, Карл Аксель Готлунд, Давид Эммануэль Даниэль Европеус[22]. Некоторые из них, вроде Шёгрена, были учёными академического склада и старались придерживаться объективности. Труды других, например, Готлунда и Европеуса, «изобилуют разными „фантастическими измышлениями“»[23].
Так, Готлунд норовил всюду отыскать финнов, даже на Украине, хотя Шёгрен и пытался охладить пыл своего коллеги: «По моему мнению, ныне уже совершенно тщетно искать в Украйне потомков тех финнов, коих Карл XII там нашёл, ибо они, без всякого сомнения, давно совсем обрусели. Да и вообще не слыхать, чтобы в южной России жили где настоящие финны. Покойный Раск (Расмус Кристиан Раск, датский учёный-языковед, один из основоположников сравнительно-исторического языкознания. — И. П.) видел по Волге не финские колонии, а черемисов, чувашей и мордвы»[24].
В свою очередь, помощник Лёнрота Давид Европеус полагал, что следы финно-угров следует искать в Африке: «Во всяком случае, подробное исследование о происхождении финско-венгерского племени и всего человеческого рода из верхней Африки теперь представляется очень интересным вопросом антропологии, или науки о самом человеке, и было бы весьма желательно, чтобы этот вопрос не был оставлен без дальнейших исследований»[25].
Работа была проделана не зря. В 1920–1940-е гг. финские националисты использовали её результаты для обоснования своих бредовых планов создания «Великой Финляндии», включающей в свой состав весь север Европейской России. Поражения 1940-го и особенно 1944 года несколько охладили фантазии горячих финских парней. Однако в сегодняшней Финляндии эти идеи вновь реанимируются.
Как правило, финно-угорские исследования первой половины XIX века производились за казённый счёт. Так, Шёгрен, прибыв в 1820 году в Петербург для изучения русского языка, уже в следующем году получил должность библиотекаря у канцлера графа Румянцева. Предпринятые им в 1824–1828 годы путешествия в северную и северо-восточную часть Европейской России по ходатайству министра статс-секретаря графа Ребиндера оплачивались за счёт финляндской казны. В 1829 году Шёгрен был избран адъюнктом Российской Академии Наук[26].
Готлунд, будучи студентом Упсальского университета, подвергался преследованиям шведскими властями и даже был выслан из Стокгольма за националистическую агитацию. Однако перебравшись в Российскую Империю, он вскоре без труда занял место лектора финского языка в Гельсингфорском университете[27].
Кастрен получил в 1844 году единовременное пособие в 1900 рублей от Гельсингфорского университета. А с 11 мая 1845 года он уже занимал должность доцента с жалованьем 700 рублей в год. Кроме того, во время поездок в экспедиции он получал на содержание и расходы по 1000 рублей в год[28]. В 1849 году Кастрен был определён на службу Академии Наук «в качестве путешественника-этнографа по северной экспедиции со всеми правами и преимуществами адъюнктов оной, со времени отправки в экспедицию до представления окончательного отчёта»[29]. 2(14) марта 1851 года наследник цесаревич (будущий император Александр II), посетив Гельсингфорский университет, торжественно вручил Кастрену патент на звание профессора вновь созданной кафедры финского языка[30].
Однако чувств благодарности это отнюдь не вызывало: «Кастрен постоянно предупреждал о враждебности царского самодержавия к Финляндии. Он продолжал напоминать об этом и тогда, когда царское правительство, надеясь ослабить шведское влияние, поддерживало требования о введении финского языка»[31].
Неудивительно, если вспомнить, что в 1828 году Кастрен был на полгода исключён из университета за участие в студенческих беспорядках[32].
Крымская война 1853–1856 годов стала тяжёлым испытанием для Российской Империи. Начатая как война против Турции, она неожиданно для Николая I превратилась в очередную войну объединённой Европы против России. На стороне Турции выступили Англия, Франция и примкнувшая к ним Сардиния. К коалиции были готовы присоединиться и другие европейские державы, включая охваченную реваншистскими настроениями Швецию. Старый король Оскар действовал осмотрительно, но его наследник, кронпринц Карл открыто рвался в бой. Обращаясь к войскам на одном из парадов, горячий шведский парень прямо заявил: «Братцы! Я думаю, что нам следует послать к чёрту весь нейтралитет!»[33].
Подобные настроения активно подогревались засевшими в Стокгольме финляндскими эмигрантами. Эта компания наперебой уверяла шведские власти, будто Финляндия готова восстать против русского гнёта, а также издавала и переправляла в Великое Княжество агитационные брошюры «Финляндские дела». Организовывал весь процесс тогдашний лидер финляндских диссидентов, носивший истинно финское имя Эмиль фон Квантен. Летом 1856 года он обратился к русским властям с просьбой разрешить ему выехать на постоянное жительство в Швецию. Сделав об этом представление, генерал-губернатор Финляндии граф Ф. Ф. Берг писал: «Так как г-н фон-Квантен, во время пребывания своего в Швеции, политическими сочинениями своими выражал разные для существующего порядка в отчизне его опасные виды, то я, с своей стороны, полагал бы оставить прошение без внимания». Александр II решил по другому, наложив резолюцию: «Дозволить, ибо одним негодяем будет в Финляндии меньше»[34].
Интересно отметить, что в кругах польских эмигрантов в это время всерьёз обсуждался вопрос о присоединении Финляндии к будущему польскому государству:
«Курьёзнейший проект в это время (1854 — И. П.) возник в кое-каких не очень глубокомысленных молодых головах среди аристократической части польской эмиграции в Париже. Там, в окружении Чарторыйских и графа Ксаверия Браницкого, в течение всей Крымской войны был вообще силён дух необычайной, чисто теоретической предприимчивости с очень своеобразным уклоном… Если можно так выразиться, это был какой-то романтизм приобретательства, мечты уже не только об освобождении Польши (это считалось в молодой части эмиграции делом почти решённым), но и о том, какие именно чужие территории хорошо бы присоединить к этой будущей самостоятельной Польше. Так, некоторые парижские поляки ещё до Бомарзунда нашли очень, по их мнению, удачный выход из затруднительного положения, которое создалось для союзников вследствие упорного нежелания Оскара завоёвывать Финляндию шведскими силами и даже брать её от союзников, если после её завоевания Францией и Англией обе эти державы не дадут реальных гарантий. Так вот: почему бы не отдать Финляндию будущей Польше?»[35]
Что могли противопоставить враждебной пропаганде российские власти? Понятно, что официальные лозунги, вроде «Православия, самодержавия, народности», здесь не работали. И тут на помощь царским сатрапам неожиданно пришёл Снельман. На страницах своего «Литературного Листка» он начал борьбу с окопавшимися в Стокгольме эмигрантами. Резко осуждая их действия, он отказывался видеть в них представителей финских интересов, поскольку по своему происхождению они в основном принадлежали к шведам.
Действуя подобным образом, Снельман следовал заповеди приват-доцента Арвидсона, высказанной им ещё в 1839 году: «Если финны желают когда-либо выступить, как самостоятельная нация, то они должны прежде всего отделиться от материнской земли, т. е. Швеции, с которой они чересчур близко связаны любовью и мыслями, чтобы получить возможность думать на свой лад»[36].
Обрадованный такой поддержкой, генерал-губернатор Берг, в свою очередь, начал покровительствовать финноманам. В январе 1856 года, невзирая на неудовольствие шведоязычных чиновников, Снельман получил должность профессора философии Гельсингфорского университета[37].
Когда в марте 1856 года Александр II посетил Гельсингфорс, Берг подал ему записку, в которой предлагал ряд мер по расширению прав финского языка: ассигновать сумму на содержание в уездах и приходах переводчиков для перевода правительственных постановлений на финский язык, а также учредить на счёт казны финскую газету. 11(23) марта император одобрил эти предложения[38].
При этом генерал-губернатор самонадеянно полагал, что держит ситуацию под контролем. Так, в письме министру статс-секретарю по делам Финляндии графу Армфельту от 14 апреля 1856 года Берг, выразив своё полное удовольствие по поводу строгой критики, высказанной Снельманом по адресу шведских корреспонденций и газетных статей о Финляндии, говорил следующее:
«Что же касается той будущности, которую предсказывает финскому народу г. Снельман, то, говоря, между нами, я плохо верю в его пророчество. Мне кажется, что это племя вовсе не предназначено играть какую-нибудь роль среди цивилизованных народов Европы. Но оно должно нам послужить средством для окончательного освобождения Финляндии из-под влияния Швеции. И к этому мы прежде всего должны стремиться. Финскому народу следует дать хорошее религиозно-нравственное воспитание и сельскохозяйственное образование; далее, можно покровительствовать его народной поэзии, а вообще надлежит выяснить финнам, что наше управление лучше и выгоднее шведского. Что же касается прочих финноманских мечтаний, выходящих за пределы начертанных мною здесь рамок, то всё это производит на меня впечатление мыльных пузырей»[39].
В мае 1857 года на выпускные торжества в Гельсингфорском университете прибыла делегация шведских преподавателей из Упсальского университета. На прощальном ужине 18(30) мая молодой учёный Адольф Норденшельд провозгласил тост за будущее Финляндии: «Почему бы и нам, финляндцам, не позволить себе помечтать о грядущем?… В нас живёт сознание наших прав на свободу и узы, которые в течении 50 лет были оборваны, вновь начали завязываться, и таким образом, в той борьбе, которую ведём с тёмными силами, мы не стоим одинокими на поле брани». И вновь Снельман в своём «Литературном Листке» осудил выходку Норденшельда, назвав его речь выражением дешёвого либерализма[40].
В качестве ответной милости в 1858 году последовало распоряжение вести приходские протоколы на финском языке в тех приходах, где богослужение велось на этом же языке. Тогда же Гельсингфорский университет получил разрешение употреблять финский язык на академических диспутах[41].
С 1860 года сборник постановлений Великого Княжества Финляндского, который ранее печатался на шведском и русском языках, стал издаваться также и на финском языке. В начале того же года генерал-губернатор ходатайствовал разрешить печатать учебную литературу на финском языке и 26 января (7 февраля) 1860 года получил на это Высочайшее соизволение. Благодаря его содействию, «Финское литературное общество» получило возможность издать на финском языке Общее Уложение 1734 года[42].
Льготы и привилегии обильно сыпались на жителей Великого Княжества не только в языковой сфере. Как верно заметил П. И. Мессарош: «Царствование Императора Александра II было истинным торжеством сепаратистского движения в Финляндии. Сдерживаемое твёрдой рукой Императора Николая I, но не уничтоженное им, оно чуть не с первых дней нового царствования громко заявило о своём существовании»[43].
Ссылаясь на значительный дефицит в торговле Великого Княжества с Россией, финляндские чиновники сумели протащить проект нового торгового положения, предусматривающий создание в Финляндии собственных таможен и таможенной стражи. 20 декабря 1858 (1 января 1859) года это положение было утверждено Александром II.
Таможенная граница между Финляндией и остальной частью Российской Империи существовала и раньше. Однако до этого таможенная служба действовала лишь с российской стороны. Более того, в 1853 году Николай I принял решение о полной ликвидации таможен на финской границе. К сожалению, из-за начавшейся Крымской войны это повеление не было выполнено. Новый же император поступил прямо противоположным образом. «Никому и в голову не пришло подумать о политическом значении этой, по-видимому, неважной меры, — саркастически писал один из современников, — а о существовании повеления Николая I, вероятно, никто и не подозревал»[44].
Новое торговое положение увеличило список товаров, допущенных к беспошлинному ввозу из Великого Княжества в Империю, а также значительно расширило предельные нормы для финляндских фабричных изделий, беспошлинный ввоз которых был разрешён лишь в ограниченном количестве. Что же касается ввоза из России в Финляндию, то здесь наоборот, были установлены ограничения. Так, были обложены пошлинами виноградные вина, сахар, патока, соль, листовой табак. Пошлины были введены и на ряд иностранных товаров, ввозимых из Империи в Великое Княжество[45].
Но гораздо более важными были политические последствия. Новое торговое положение и таможенный тариф фактически превратили Финляндию из российской провинции в подобие независимого государства. Неудивительно, что благодарный финляндский сенат 19(31) января 1859 года поднёс Александру II особый верноподданнейший адрес[46].
Вскоре последовала новая монаршая милость. Манифестом от 23 марта (4 апреля) 1860 года в Финляндии была введена собственная денежная единица — марка[47]. Высочайшее объявление от 28 ноября (10 декабря) 1862 года предписывало все подати, повинности и прочие налоги в казну, а также все суммы в заёмных письмах и расписках, договорах и т. п. с 1 июля 1863 года исчислять и выводить в марках и пенни по курсу[48]. Некоторое время спустя, в 1877 году в оборот были введены золотые монеты в 10 и 20 марок. Так, по царскому недомыслию, Финляндия получила ещё один атрибут государственности.
Тем временем на горизонте вновь сгустились тучи. В воздухе запахло очередным походом объединённой Европы против России. Взойдя на престол, Александр II отменил особое военно-полицейское управление, существовавшее в Польше после бунта 1831 года, даровал политическим преступникам амнистию, а полякам многие льготы[49]. Как и следовало ожидать, спесивые шляхтичи увидели в этом лишь признак слабости. Начались волнения, а в январе 1863 года вспыхнул открытый мятеж.
Тут же выяснилось, что несмотря на старания прозападной либеральной пропаганды, десятилетиями лепившей романтический образ польских «борцов за свободу», русское общество ещё недостаточно прониклось общечеловеческими ценностями. Господствовавшие в нём настроения сводились к формулировке: «Наше право на Царство Польское есть крепкое право: оно куплено русской кровью»[50].
Разумеется, сразу же поднялся истеричный вой «прогрессивной общественности». «Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» — сокрушался А. И. Герцен[51]. Герцену вторил другой эмигрант, известный революционер-анархист М. А. Бакунин: «Я громко отрекаюсь от русского государственно-императорского патриотизма и буду радоваться разрушению Империи, откуда бы оно ни шло»[52].
В своей газете «Колокол» Герцен призывал убивать «проклятых русских офицеров, гнусных русских солдат»[53]. В течение 1863 года в издаваемой финляндскими эмигрантами в Стокгольме газете «Aftonbladet» было опубликовано несколько подстрекательских статей Бакунина. Он надеялся, что Финляндия поднимется вместе с Польшей, чтобы отвоевать себе свободу и самостоятельность и в таком случае русский анархист обещал протянуть ей свою руку:
«В крае появилась партия финноманов и мы не можем не симпатизировать ей, так как она национальна и демократична. Кроме того, силою вещей, она враждебна петербургскому двору и союзна Швеции. Финские патриоты желают политической и административной автономии и они, конечно, скорее получат её в союзе со Швецией, чем под русским мертвящим покровительством»[54].
Взбунтовавшаяся шляхта, а также сочувствующие ей духовные прадеды Новодворской прекрасно понимали, что без военного вмешательства западных держав мятеж обречён. Главную роль в предстоящей интервенции должны были сыграть Франция и Англия. Но и Швеции тоже отводилась важная роль.
Чтобы способствовать вступлению Швеции в войну против России, Бакунин под именем Анри Суле (Henri Soule) лично отправился в Стокгольм, где, невзирая на протесты русского посла Дашкова, был встречен с распростёртыми объятиями. На устроенном в его честь банкете Бакунин заявил, что протягивает руку шведским патриотам[55]. Оно и неудивительно. По мнению подобных деятелей, осуждению подлежит не всякий патриотизм, а только русский.
Ради того, чтобы посильней напакостить своей Родине, этот революционер был готов даже поступиться анархическими убеждениями. Отправившись на поклон к шведским министрам, Бакунин в конце концов добился аудиенции у брата шведского короля, а по некоторым сведениям, был принят и самим Карлом XV. Пытаясь убедить шведов начать войну с Россией, он утверждал, будто русские крестьяне готовы восстать против ненавистного самодержавия[56].
Одновременно с Бакуниным в Швецию из Лондона прибыл под именем Магнус Беринг сын Герцена, которому были даны рекомендательные письма к фон Квантену. Планировалось, что Герцен-младший сперва займётся агитацией в Швеции, а затем отправится в Финляндию. Однако молодой человек оказался на редкость благоразумным и дальше Стокгольма не поехал[57].
Увы, к разочарованию революционеров-русофобов, Швеция была уже не та. Когда выяснилось, что никто из великих держав не собирается воевать с Россией из-за поляков, она тоже не рискнула выступить. В довершение всего Бакунин вдрызг разругался с фон Квантеном.
Тем временем неутомимый Снельман продолжал свою агитацию. В статье «Война или мир для Финляндии», опубликованной в № 5 «Литературного Листка» за 1863 год, он проанализировал, к чему приведёт вмешательство Швеции в дела России. По мнению Снельмана, вступление шведских войск в Финляндию означало бы «братоубийственную войну». Описав все «прелести» боевых действий на финской территории, он советовал своим соотечественникам образумиться и не создавать поводов для превращения их Родины во вторую Польшу[58]. Подобные аргументы действовали на практичных финнов посильней всякой патриотической пропаганды.
Разумеется, такое усердие не могло остаться без награды. Согласно Высочайшему объявлению от 28 января (9 февраля) 1863 года в начальных школах и гимназиях Финляндии отменялось обязательное преподавание русского языка. Мотивировалось это тем, что «чрез это представляется возможность к более основательному изучению не только необходимых для каждого финляндского гражданина финского и шведского, но и латинского и немецкого языков, служащих основанием учёному образованию вообще и составляющих условие для более обширных занятий науками»[59].
Впрочем, «ученикам, желающим обучаться русскому языку, следует доставить случай к изучению оного, но лишь в экстренные часы, без уменьшения числа уроков, назначенных для прочих предметов»[60]. Одновременно отменялся экзамен по русскому языку при поступлении в студенты Гельсингфорского университета[61]. Высочайшим объявлением от 29 апреля (11 мая) 1863 года в Гельсингфорском университете было разрешено читать лекции на финском языке[62].
Наконец, согласно Высочайшему постановлению от 20 июля (1 августа) 1863 года, финский язык уравнивался в правах с государственным шведским[63]. Снельман наконец добился своего и мог торжествовать, а российский император вскоре назначил его членом финляндского сената.
Финский язык должен был войти в официальное делопроизводство не сразу. Для этого отводился срок до конца 1883 года[64]. Высочайшее постановление о введении финского языка в употребление в судебных и административных присутственных местах края от 8(20) февраля 1865 года детализировало сроки и этапы этого процесса[65].
В подобной отсрочке не было ничего удивительного. Причиной этому была крайняя необработанность тогдашнего финского языка, который представлял набор наречий: эстерботенское, тавастландское, абоское, существенно различающихся между собой. Письменный язык должен был образоваться путём слияния всех этих наречий, на что требовалось несколько десятков лет. Высказывалось опасение, что 20 лет может не хватить.
Опасения оказались не напрасны. Создание литературного финского языка шло с трудом. Зачастую в ходу был своеобразный «суржик» в виде смеси финского и шведского языков. Например, как свидетельствует П. И. Мессарош, в ноябре 1895 года он получил официальный документ из выборгской межевой конторы, в котором «одна фраза написана по-шведски, другая по-фински, и даже в одной фразе встречаются слова финские и слова шведские вместе»[66].
Остаётся лишь признать справедливость слов М. М. Бородкина: «Если, тем не менее, финны вырвались из-под суровой шведской опеки, то только благодаря помощи русской власти, которая периодически протягивала им свою сильную руку»[67].
Наконец, в том же 1863 году в Гельсингфорсе был созван финляндский сейм. При его открытии 6(18) сентября «царь-освободитель», как и его августейший дядюшка полвека назад, произнёс речь на французском языке[68]. Разумеется, выучить русский за время пребывания в составе Российской Империи депутатам сейма было как-то недосуг. Да и императору несолидно на русском языке выступать: всё-таки первый дворянин государства, а не мужик сиволапый.
«Нас, приезжих, принимали и чествовали со всем радушием, какое только они способны были проявить. Но должно признаться, что мы всё-таки чувствовали себя в Финляндии, как в иностранном государстве, — отмечал сопровождавший Александра II военный министр Д. А. Милютин. — Особенно коробило нас полное отсутствие русского языка и французские речи пред Русским Императором финляндских его подданных»[69].
Согласно унаследованному от Швеции законодательству, сейм состоял из четырёх палат и формировался по сословному принципу. От 1600 дворян на сейме было 148 представителей, 2928 членов духовного сословия прислали 32, 8413 избирателей-горожан — 39, а 727 417 крестьян — 48 депутатов[70]. Весьма примечательно, что 48 тысяч православных жителей Финляндии не были представлены ни одним депутатом, ни в палате духовенства, ни среди других сословий. Подобная картина повторилась и на сейме 1867 года. И лишь на сейме 1872 года среди депутатов-крестьян оказался исповедующий православие Семён Ратинен[71].
Созывая сейм в самый разгар польского мятежа, Александр II хотел показать своим финляндским подданным, что хорошее поведение не остаётся без награды, о чём он прямо сказал в своей речи: «Вам, представители Великого Княжества, достоинством, спокойствием и умеренностью ваших прений предстоит доказать, что в руках народа мудрого… либеральные учреждения, далеко не быв опасными, делаются гарантией порядка и безопасности»[72]. Однако как показали дальнейшие события, депутаты не вняли намёку монарха.
Работа дворянской палаты началась с обсуждения вопроса о стульях, поставленных не в указанном законом порядке. Чтобы расставить их надлежащим образом, потребовалось всего лишь два часа дебатов[73]. После чего трибуна сейма была немедленно использована для демонстрации ущемлённого национального достоинства. Трое депутатов-дворян — Шанц, Уггла и Брун — являлись русскими чиновниками. На этом основании их попыталась лишить полномочий, ссылаясь на шведские законы, запрещающие участвовать в сейме лицам, состоящим на службе иностранного правительства. Таким образом, ряд депутатов сейма недвусмысленно давал понять, что считает Финляндию отдельным от России государством. Наконец большинством 74 голоса против 34 дворянская палата постановило допустить троих депутатов к заседаниям, но с условием, чтобы это постановление не имело силы при открытии будущего сейма[74].
Далее один из дворянских депутатов в своей речи сравнил положение Финляндии в царствование Николая I с «временами рабства евреев в Египте»[75]. Вскоре на сейме прозвучали требования признания нейтралитета Финляндии в случае войны России с какой-либо державой и учреждения отдельного флота. «Что же более? Чего же недостаёт Финляндии, чтобы при столкновении России с другими державами она не объявила нам войну или, по крайней мере, не сохраняла грозного вооружённого нейтралитета?» — саркастически спрашивал по этому поводу редактор крупнейшей консервативной газеты «Московские ведомости» Михаил Катков[76].
Даже во время начатого в 1867 году строительства железной дороги между Петербургом и Финляндией, на которое государственное казначейство Российской Империи выделило субсидию в 2,5 млн рублей, финляндцы упорно требовали колею европейского образца. Однако на этот раз Александр II настоял на строительстве по русскому образцу, заявив: «Если финляндская железная дорога будет узкоколейной и русский подвижной состав не будет в состоянии передвигаться по ней непосредственно, то в России поднимется такая буря против Финляндии, что не в Моих силах будет защитить финляндцев»[77].
Вплоть до 1860-х годов всё обучение в Великом Княжестве велось исключительно на шведском языке. 29 апреля (11 мая) 1866 года было принято Высочайшее постановление об устройстве народного преподавания в Великом Княжестве Финляндском, вводившее обучение на родном языке[78]. В результате к концу XIX века Финляндия фактически являлась страной всеобщей грамотности. Если по переписи 1880 года среди жителей Великого Княжества обоего пола старше 10 лет неграмотными были 2,5 %, то по данным переписи 1890 года — 2,1 %[79]. И это при том, что в целом по Российской Империи неграмотных было свыше 70 %.
Однако среди православного населения Финляндии неграмотных в 1890 году было 45,3 %[80]. Это было не следствием пресловутой «русской лени», а результатом политики министерства народного просвещения. К 1895 году в Великом Княжестве имелось всего лишь 4 русских средних учебных заведения (мужская и женская гимназии в Гельсингфорсе, реальное училище и женская гимназия в Выборге) и 15 начальных школ[81]. При этом мужская гимназия в Гельсингфорсе была открыта в 1870 году, а женская — в 1875-м.
Весомую лепту в дело искоренения русского языка в Финляндии внесло православное духовенство. Невзирая на то, что большинство православного населения Выборгской губернии составляли русские и обрусевшие карелы, в приходских православных школах было введено обучение на финском языке. Требования карелов о том, чтобы преподавание шло на русском языке, отвергались под предлогом отсутствия русских учителей.
Богослужение в православных храмах также, как правило, велось на финском языке. Дошло до того, что в Сальминском православном приходе крестьяне наотрез отказывались посещать церковь, если в ней будут служить на финском. Стали служить на церковно-славянском, однако в школе продолжили преподавать по-фински, «за неимением учителей, знающих русский язык»[82].
Впрочем, справедливости ради следует сказать, что иногда Александр II все-таки вспоминал о русскоязычных жителях Финляндии. Так, 21 ноября (3 декабря) 1866 года было издано Высочайшее объявление об обязанности судебных и других присутственных мест Финляндии принимать прошения и документы, писанные на русском языке[83]. Открывая сейм 1872 года, Александр II в своей речи заявил, что «приняв во внимание безуспешность изучения русского языка в училищах, между тем как необходимость в основательном знании этого наречия обнаруживается не только на служебном поприще, но и в практической частной жизни, Я признал за благо ныне повелеть, в связи с преобразованием учебных заведений, вновь ввести в училищах края русский языке число обязательных предметов»[84].
Однако подобные минуты просветления случались с государем не часто, после чего он принимался за старое. Так, когда русская община ходатайствовала об учреждении русского периодического издания, Его Величество 22 апреля (4 мая) 1876 года наложил на её прошение резолюцию: «Нахожу основание русского журнала в Финляндии совершенно излишним»[85].
Особую роль сыграли имперские власти в создании идеологической и организационной базы для будущей финской армии. Когда в России началась подготовка к введению всеобщей воинской повинности, Высочайшим рескриптом от 31 декабря 1870 (12 января 1871) года на имя генерал-губернатора Финляндии было объявлено, что такую же повинность необходимо по справедливости ввести и в Великом Княжестве. 12(24) февраля 1871 года военный министр Д. А. Милютин представил всеподданнейший доклад, в котором признавал необходимым, чтобы финляндцы несли военную службу наравне с прочим населением Империи и сливались с ним в одно целое в армии русской. Главные положения этого доклада были Высочайше одобрены[86].
Но не тут то было. 1(13) января 1874 года был утверждён устав о воинской повинности для Российской Империи, однако на Великое Княжество он не распространялся. Тем временем комиссия из представителей всех сословий Финляндии под председательством генерал-лейтенанта Индрениуса к концу 1875 года выработала проект альтернативного устава о воинской повинности для Финляндии, в котором был целый ряд отступлений от общероссийского устава. В частности, раз и навсегда определялась численность постоянных финских войск и устранялась их связь с русской армией. Хотя военный министр Милютин высказался против этого проекта, национальные войска всё же были созданы.
В результате если в России срок действительной военной службы составлял 5 лет, то в Финляндии всего лишь 3 года. В период с 1882 по 1897 год из числа ежегодно призываемых к отбытию воинской повинности в ряды войска в России поступало 36 %, а в Финляндии только 9 %. Из всей массы населения России находилось на действительной службе 1,6 %, а в Финляндии 0,5 %. На 1 тысячу мужчин рабочего возраста в рядах армии находилось в России 39,5, а в Финляндии 9,2[87].
Очень своеобразно в Финляндии поддерживался и воинский дух армии. Признаком хорошего тона там считалось повсеместное сооружение памятников, посвящённых победам, одержанным в своё время финскими войсками над русскими. Первый раз подобное событие имело место 2(14) июля 1864 года, когда была отпразднована годовщина поражения русских войск у Лаппо. В мероприятии участвовало более 2 тысяч человек. При этом был торжественно открыт памятник, воздвигнутый на средство одного из местных предпринимателей[88].

Открытие памятника в честь сражения при Ютасе
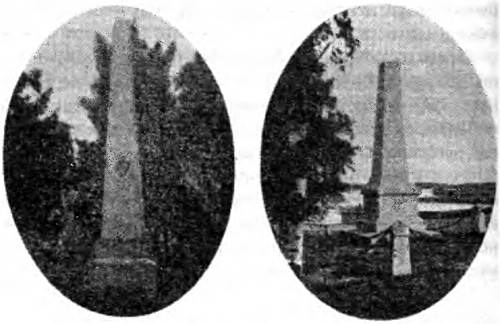
Слева памятник сражению при Алаво, справа — сражению при Иденсальми (в финской и шведской литературе этот бой именуется как сражение на мосту Вирта)
В том же 1864 году в № 32 газеты «Mikkelin Wiikko Sanomia» было помещено объявление о сборе пожертвований на сооружение памятника, в воспоминание бывшего в Поросальми в 1789 году сражения между русскими и финскими войсками[89]. И хотя тогдашним генерал-губернатором бароном П. И. Рокасовским сбор средств был запрещён, общественность не унималась. В 1882 году ей удалось увековечить сражение при Ютасе, а в августе 1885 года был открыт памятник на месте сражения при Вирте Куопиоской губернии, причём в церемонии открытия участвовал местный батальон финских войск. Однако в это время Россией правил уже Александр III, который, узнав о подобных безобразиях, запретил впредь сооружать какие-либо памятники без Высочайшего соизволения[90].
Ещё финны любили сочинять для своей игрушечной армии марши, прославляющие победы над оккупантами. «Наше „ура“ в степях (?!) раздаётся, как тысячи голосов. Долины заговорили, берега откликаются: „Долой отсюда русских!“»[91] — вдохновенно писал ректор Гельсингфорского университета Август Альквист, а власти добродушно слушали, как отцы будущих белофиннов разучивали его шедевр (Альквисту пришлось лишь заменить «Долой отсюда русских!» на «Долой отсюда насилие!»).
Но общей картины отдельные запреты не меняли. В целом власти царской России своими неразумными действиями с достойным лучшего применения упорством продолжали старательно пестовать финскую государственность. Создаётся впечатление, будто некая неведомая и таинственная сила дала поручение тогдашним правителям России — возьмите народ, никогда не имевший государственности, и создайте ему все её атрибуты.
