Книга: Андроид Каренина
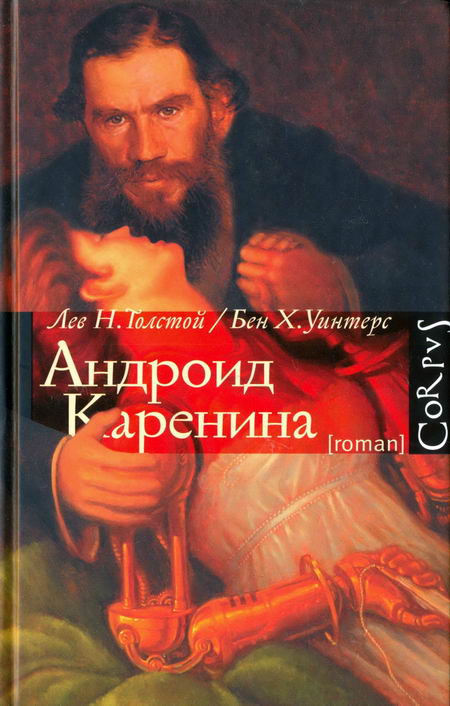
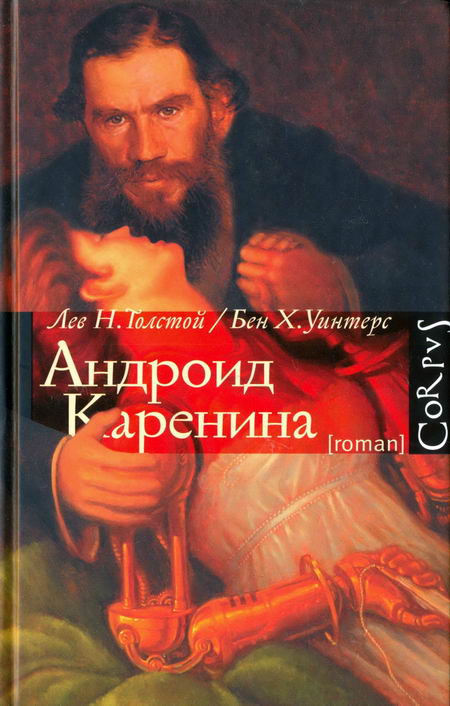
Название: Андроид Каренина
Автор: Уинтерс Бен
Издательство: Астрель
Год: 2011
Страниц: 728
Формат: fb2
XIX век, эра всеобщего благоденствия: благодаря грозниуму, металлу, найденному при Иване Грозном, люди смогли создать машины, взявшие на себя физический труд. Больше нет ни рабов, ни крепостных, ни слуг, ни наемных рабочих - всех заменили роботы.
Имена роботов состоят из трех частей: первая римская цифра в названии указывает на класс машины, далее следует словесное описание его функции, затем – цифра, обозначающая модель робота. Таким образом, I/Самовар/1(8) – это устройство I класса, созданное для того, чтобы заваривать и подавать чай, номер модели 1(8).
Роботам III класса дают прозвища их хозяева.
Степан Аркадьич Облонский, московский князь (Стива); его робот III класса Маленький Стива
Дарья Александровна Облонская, жена Облонского (Долли); ее робот III класса Доличка
Анна Аркадьевна Каренина, сестра Облонского; ее робот III класса Андроид Каренина
Алексей Александрович Каренин, муж Анны
Сережа, сын Анны и Алексея Александровича
Константин Дмитрич Левин, старинный друг Облонского; его робот III класса Сократ
Николай Дмитрич Левин, брат Константина Дмитрича; его робот III класса Карнак
Екатерина Александровна Щербацкая (Кити), сестра Долли; ее робот III класса Татьяна
Князь Александр Дмитриевич Щербацкий, отец Кити и Долли
Княгиня Щербацкая, мать Кити и Долли; ее робот III класса La Sherbatskaya
Граф Алексей Кириллович Вронский, военный, герой сражений; его робот III класса Лупо
Графиня Вронская, мать Алексея Кирилловича; ее робот III класса Тунисия
Елизавета Федоровна Тверская (Бетси), подруга Анны Аркадьевны, кузина Вронского; ее робот III класса Дорогуша
Марья Николаевна, сожительница Николая Левина
Мадам Шталь, известный ксенотеологист
Варенька, бедная девушка, сопровождающая мадам Шталь
Яшвин, друг и сослуживец Вронского
Васенька Весловский, петербургскомосковский блестящий молодой человек
Все исправные роботы похожи друг на друга, все неисправные роботы неисправны посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с проживавшей в их доме француженкою – mécanicienne,[1] в чьи обязанности входило техническое обслуживание бытовых роботов I и II класса.
Оглушенная и шокированная этим открытием, жена сообщила мужу, что более не может оставаться с ним под одной крышей. Такое положение дел продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось не только самими супругами, но и всеми роботами в доме.
Механизмы III класса остро чувствовали всю неловкость ситуации, в которой оказались хозяева. И даже роботы II класса на свой примитивный манер ощущали, что нет более никакого смысла в их совместном пребывании и что бесхозные списанные роботы, сваленные в кучу на заводских складах во Владивостоке, имеют между собой больше общего, чем они, сервомеханизмы в доме Облонских.
Жена не выходила из своей комнаты, мужа третий день не было дома. Робот II/Гувернантка/D145 в результате сбоя программы три дня занималась с детьми Облонских на армянском вместо французского. Никогда не ошибавшийся II/Лакей/С(с)43 громко объявлял о прибытии несуществующих гостей в любое время дня и ночи. Дети носились по дому как угорелые. II/Кучер/47Т направил сани прямо на тяжелые деревянные двери парадного входа и разбил вдребезги I/Стража времени/14, которым очень дорожил отец Облонского.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – проснулся в восемь часов утра, но не в спальне жены, а в своем кабинете, – в насыщенной кислородом кабине I класса. Он проснулся, по обыкновению, под скрипучий звук, раздававшийся из окна. «Хрупхрупхруп», – роботы 77го батальона шагали в ногу, прокладывая себе путь по свежему снегу.
«Наши неутомимые защитники», – подумал Стива с удовлетворением и уже вслух благословил работу Министерства, повернув свое полное выхоленное тело, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой. Но вдруг он вскочил, больно ударился широким лбом о стеклянный потолок кабины I/Комфорт/6 и открыл глаза.
Степан Аркадьич неожиданно вспомнил, как и почему он спит не в спальне жены, а у себя в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он нахмурил брови.
Маленький Стива, роботкомпаньон Степана Аркадьича III класса, беззаботно зашел в комнату, топая своими короткими поршневыми ножками: он принес ботинки хозяина и телеграмму. Облонский, еще не готовый окунуться в суету дня, велел роботу подойти поближе. Он быстро нажал на три кнопки под прямоугольным экраном, расположенным посередине корпуса Маленького Стивы, и с печальным видом откинулся в кабину I/Комфорт/6. На экране робота проигрывалась сцена ссоры с женой во всех подробностях; все очевиднее становилась вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.
– Да! она не простит, и не может простить! – простонал Облонский, когда запись подошла к концу. Маленький Стива ободряюще пискнул:
– Ну же, хозяин. Она может простить вас!
Степан Аркадьич отмахнулся от утешительных слов.
– И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этомто вся драма.
– Совершенно верно, – согласился робот.
– Охохох, – застонал Степан Аркадьич в отчаянии.
Тогда Маленький Стива подошел поближе к хозяину, согнувшись пополам, он подался вперед на 35 градусов и покошачьи потерся круглой головой о живот хозяина. Степан Аркадьич вновь вызвал картинку из Памяти на монитор и обреченно воззрился на самую неприятную часть ссоры: это была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, нашел ее в спальне, просматривающую разоблачительные кадры.
Она, его Долли, эта вечно озабоченная, беспокоящаяся о каждой мелочи в доме, раздающая задания mécaniciennes, недалекая, неподвижно сидела и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него, пока на экране Долички, робота III класса, проигрывалось изобличающее его сообщение. Доличка, несмотря на простоту ее округлых форм, выглядела не менее расстроенной, и ее совершенно круглые глаза цвета персика гневно сверкали на овальной серебристой лицевой панели.
– Что это? – спросила Долли, сильно взволнованная, указывая на картинки, которые мелькали на экране роботакомпаньона.
Как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены. С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чемнибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («действие спинномозгового рефлекса», – подумал Степан Аркадьич, который благодаря своей работе в Министерстве был знаком с азами науки о двигательных реакциях), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Масла в огонь подлил Маленький Стива, который вдруг начал издавать звонкий нервный писк, что свидетельствовало о чувстве вины.
Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты, сопровождаемая подпрыгивающей Доличкой. С тех пор Долли не хотела видеть мужа.
– Но что ж делать? Что ж делать? – с отчаянием спрашивал Облонский Маленького Стиву. Но тот не знал, что ответить хозяину.
Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он был честен со своим роботом и не относил себя к типу людей, способных мелко лгать ради собственного успокоения. Да и Маленький Стива был запрограммирован лишь утешать, но никак не одобрять или потворствовать низким намерениям хозяина. Словом, у Степана Аркадьича не было никакой возможности уверить себя или своего робота, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в свою жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не сумел лучше скрыть от жены. Но чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от супруги, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ему смутно представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина, ничем не замечательная, простая женщина, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
Стива вяло активировал галеновую капсулу, устройство I класса, уповая на то, что нежная вибрация тонких кованых стенок из грозниума окажет на него обычное успокоительное действие, в котором он сейчас очень нуждался.
– Ах, это ужасно! – сказал Степан Аркадьич Маленькому Стиве, который немедленно отозвался:
– Ужасно, ужасно, ужасно, – пропищал Речесинтезатор робота. Но ни один из них не мог придумать, как же теперь поступить.
– И как хорошо все было до этого!
– Как вы хорошо жили! – откликнулся робот III класса, принимая на себя привычную роли утешителя и верного друга.
– Она была довольна, счастлива детьми!
– Вы никогда ей ни в чем не мешали !
– Я предоставлял ей управляться с детьми и роботами I и II класса так, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была mécanienne у нас в доме!
– Да, нехорошо! Очень, очень, очень нехорошо !
– Есть чтото тривиальное, пошлое в ухаживании за женщинойmécanienne, работающей в твоем собственном доме. Как говорится, рукава в машинном масле оказались. Но какая mécanienne! В ответ на скрытый запрос хозяина Маленький Стива без раздумий показал на своем экране обворожительную мадемуазель Роланд: ее черные плутовские глаза, ее улыбку, ее привлекательную фигуру в обтягивающем серебристом комбинезоне.
Стива вздохнул, и Маленький Стива вздохнул тоже. Одновременно они пробормотали:
– Но что же делать?
По сравнению с Доличкой, чей Речесинтезатор с трудом составлял предложения, Маленький Стива был оснащен более продвинутыми программами, позволявшими ему чувствовать и разговаривать. Со своей стороны, Доличка с бо льшим успехом использовала манипуляторы. Дело в том, что Маленький Стива не мог пользоваться своими верхними конечностями как полноценными руками: они крепились к середине корпуса и не были достаточно длинные; его короткие ножки, прикрепленные к поршням, двигались неплохо. И все же маленький робот Стивы был весьма умным и полезным существом. В минуты доброго или дурного расположения духа хозяин называл его «маленьким суетливым самоваром».
Вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, Степан Аркадьич привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну. Он поднял штору и подал знак Маленькому Стиве, чтобы тот принес ему одеваться, и включил I/Цирюльника/943. Робот II класса пробудился к жизни и, подъехав на своих толстых гусеницах к Стиве, выдвинул пару длинных гладких манипуляторов из напоминающего шляпную коробку тела. Как только Стива уселся в своем удобном кресле и подставил брадобрею шею и лицо, один из манипуляторов робота тут же наполнился кремом для бритья, а из другого немедленно выскочил сверкающий серебряный бритвенный станок.
I/Цирюльник/943 только начал аккуратно брить щеки и бакенбарды Степана Аркадьича, как Маленький Стива издал три пронзительных свистка: началась загрузка сообщения. Стива подал знак, чтобы его преданный компаньон воспроизвел послание, и вскоре лицо его просияло.
– Сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту расторопный манипулятор II/Цирюльника/943, расчищавший розовую дорожку между длинными кудрявыми бакенбардами.
Как только сообщение от Анны Аркадьевны было прочтено, экран Маленького Стивы зажегся, и блестящая куполообразная голова быстро завертелась над его маленьким корпусом. Он, как и хозяин, понимал значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.
– Одни или с супругом? – спросил III класс.
Стива открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг II/Цирюльник/943 громко засвистел, словно закипевший чайник, и всадил манипулятор с бритвой в верхнюю губу Стивы, заставив того вскрикнуть и откинуться назад.
– Ах, ах! – воскликнул он от невыносимой боли, горячая кровь текла из раны в рот и вниз по шее. Робот во второй раз оглушительно завизжал и замахнулся для нового удара.
Степан Аркадьич беспомощно закрыл лицо руками, пытаясь защитить глаза и отогнать душное облако сладких духов, которые распрыскивал II/Цирюльник/943 из Нижнего Отсека в основании корпуса. Робот II класса провел своей испачканной в крови конечностью точно по полной шее Степана Аркадьича, задев кадык всего в нескольких сантиметрах от сонной артерии.
Стива обезумевши закричал, заглушая лихорадочный писк взбунтовавшегося робота:
– У него сбились все настройки! Он стал опасен! На помощь!
Но роботкомпаньон уже действовал согласно Железным Законам, которые предписывали защищать хозяина до самого последнего винтика. Преданный III класс наклонился вперед на 45 градусов и со скоростью пушечного ядра устремился на черный металлический корпус неисправного робота. II/Цирюльник/943 был сбит с гусениц и отброшен в другой конец комнаты, где он влетел в стеклянную крышку кабины для отдыха.
– Браво, маленький самовар! – сказал Степан Аркадьич сквозь скомканный носовой платок, который он приложил к губе в безуспешной попытке остановить мощный поток крови.
Однако чудовищный визг робота не затих – неисправность цирюльника была куда более опасной, чем предполагал Степан Аркадьич. Робот выпрямился и ринулся обратно с ужасающей скоростью, вращаясь вокруг своей оси и выпуская обжигающие пузыри пены прямо в глаза Стивы, а его второй манипулятор с хорошо заточенной бритвой на конце выписывал в воздухе смертоносные круги. Степан Аркадьич забился в угол и выставил вперед руки в бессильной попытке защититься.
Маленький Стива был проворнее и собраннее, чем самые умные представители II класса, к которым, конечно же, этот простой бытовой Цирюльник не имел никакого отношения. Робот Стивы легко совладал с противником меньшего размера: удерживая агрессора на вытянутом манипуляторе, он открыл свою раскаленную грозниевую печку, пылающую внутри корпуса, и резко отпустил II/Цирюльника/943, тот бросился вперед и влетел в печку, Маленький Стива захлопнул за ним дверцу.
– Боже мой! Я никогда ранее не сталкивался со столь серьезным сбоем программы у II класса, это полностью противоречит Железным Законам, – заключил Степан Аркадьич, промакивая рассеченную губу концом рубашки. – Я безмерно счастлив, что ты был здесь, mon petit ami![2]
Маленький Стива победоносно присвистнул и немедленно раскалил свое грозниевое нутро: из глубин его корпуса послышались шипение и хлопки – в печке распадались полимеры II/Цирюльника/943. Обшивка и внутренняя отделка сгорят, но тысячи деталей из грозниума останутся целыми, и их можно будет повторно пустить в дело. В результате удивительного процесса они «подсоединятся» к биомеханической структуре самого Маленького Стивы.
Степан Аркадьич с трудом поднялся на ноги и приказал Маленькому Стиве принести ему свежую рубашку, когда в комнату с надменным видом вошла, жужжа, Доличка.
На ее мониторе высвечивалось простое сообщение: «Дарья Александровна уезжает». Доличка подождала, пока Степан Аркадьич прочтет сообщение – он лишь грустно кивнул, – и, развернувшись на своих толстых металлических ногах, вышла. Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.
– А? Маленький Стива? – сказал он, покачивая головой.
Дроид повернул голову на 90 градусов, на его экране зажегся радостный красный огонек, и он пискнул:
– Не волнуйтесь, хозяин. У вас все будет хорошо.
Своим манипулятором, закрепленным посередине корпуса, он держал свежую рубашку Степана Аркадьича, как держат хомут перед лошадью. Потоком воздуха из Нижнего Отсека он сдул невидимые пылинки и накинул рубашку на тело хозяина.
Степан Аркадьич, несмотря на свое несчастье и искреннюю досаду изза того, что пришлось уничтожить в целом весьма хорошего бытового робота II класса, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его обжигающий кофе, только что налитый роботом I/Самовар/1(8).
Потягивая свой кофе, он включил монитор Маленького Стивы, чтобы прочитать первое из нескольких деловых сообщений, которые ждали его с утра. Одно было очень неприятное – от купца, покупавшего небольшой, но богатый грозниумом кусок земли в имении жены. Продать эту землю было необходимо; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том и речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этой земли будет искать примирения с женой, – эта мысль оскорбляла его.
Окончив просмотр сообщений, Степан Аркадьич с удовольствием сделал еще глоток кофе и позволил утреннему потоку новостей захватить себя.
Степан Аркадьич выбрал либеральный ТВканал, не экстремистского толка, но того направления, которого держалось большинство. Вместе с либеральной партией он придерживался мнения, что институт брака – отжившее учреждение и что необходимо перестроить его; что религия есть только узда для варварской части населения; что прогресс движется слишком медленно, особенно в области развития голоса у роботов III класса и скорости их действий и реакций; и что не до лжно проявлять ни малейшего снисхождения к террористам и головорезам из Союза Неравнодушных Ученых (СНУ), хотя эти повстанцы и заявляли, что ведут борьбу именно за технологический прогресс.
Вдоволь наслушавшись новостей и окончив вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было чтонибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение и легкая вибрация галеновой капсулы.
В этот момент в комнату вкатился Маленький Стива и прочирикал сообщение.
– Карета готова, – сказал он, – и вас ожидает проситель, – прибавил робот.
– Давно тут? – спросил Степан Аркадьич.
– С полчаса.
– Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!
– Надо же вам дать хоть кофею откушать, – ответил Маленький Стива тем дружеским тоном, на который нельзя было сердиться.
Уже в сотый раз Степан Аркадьич давал себе обещание, что прикажет наладить своего робота III класса, настроить его на более ответственное отношение к своим обязанностям, без какоголибо дружественного потакания минутным желаниям хозяина; но он также знал, что никогда не решится на такой шаг.
– Ну, проси же скорее, – сказал Облонский, морщась от досады.
После беседы с просителем Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли он чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену.
– Ах да! – он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. – Пойти или не пойти! – сказал он Маленькому Стиве, тот в ответ очаровательно сымитировал пожимание плечами. Внутренний голос говорил Степану Аркадьичу, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.
– Однако когданибудь нужно; ведь не может же это так остаться, – сказал он Маленькому Стиве. Тот ответил: «Нет, так больше не может продолжаться, нет». Стараясь придать себе смелости, Стива выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза и бросил ее в перламутровую раковинупепельницу I класса, которая сразу же автоматически наполнилась водой и погасила дымящийся окурок. Степан Аркадьич быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены.
Дарья Александровна, в кофточке и с пришпиленными на затылке косами уже редких, когдато густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей перед открытою шифоньеркой, из которой она выбирала чтото. Услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь; Доличка, выгнув брови так, что они напоминали римскую цифру V, придала своему лицу строгое и презрительное выражение. Долли и ее андроид обе чувствовали, что боятся Степана Аркадьича и боятся предстоящего свидания. Они только пытались сделать то, что пытались сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи, которые они увезут к матери Долли, – и опять Дарья Александровна не могла на это решиться. Она повторяла Доличке каждый раз: «Это не может так оставаться, я должна предпринять чтонибудь, чтобы наказать его». Доличка всегда полностью разделяла мнение хозяйки, поддерживая ее во всех начинаниях, так как это было единственное назначение ее.
– Я должна уйти от него, – объявила Долли, и металлическое сопрано Долички эхом отозвалось: «Да, уйти!»
Но в глубине души Долли понимала, что Доличка с ее ограниченным механическим воображением не может понять: оставить его невозможно. Это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими, да еще и с несколькими дюжинами роботов II класса и несметным количеством Iго.
Увидав мужа, сопровождаемого угловатой фигурой несносного Маленького Стивы, она опустила руку в ящик шифоньерки, будто отыскивая чтото. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.
– Долли! – сказал он тихим, робким голосом, в то время как его роботкомпаньон согнулся пополам, приняв скорбную и покорную позу перед Доличкой.
Долли быстрым взглядом оглядела с головы до ног мужа и его спутника. Оба они сияли свежестью и здоровьем.
– Да, он счастлив и доволен! – шепнула она Доличке, и горькое подтверждение ее слов вырвалось из Реченсинтезатора ее робота: «Счастлив. Доволен».
– В то время как я… – продолжила она, затем рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.
– Что вам нужно? – сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.
– Долли! – повторил он с дрожанием голоса. – Анна и Андроид Каренина приедут сегодня.
– Ну что же мне? Я не могу их принять! – вскрикнула она.
– Но надо же, однако, Долли…
– Уйдите, уйдите, уйдите! – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физическою болью.
Внешние сенсоры галеновой капсулы отреагировали на страдальческие нотки в голосе Долли, и капсула включилась, пульсируя еще сильнее.
Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог уходить с головой в новости и спокойно пить кофе, налитый II/Самоваром/1(8); но когда он увидал ее измученное, страдальческое лицо, услыхал этот звук голоса, покорный судьбе и отчаянный, ему захватило дыхание, чтото подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.
– Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога!.. Ведь… – он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле. – Можем ли мы… – начал Степан Аркадьич, многозначительно указывая в сторону двух андроидов, находившихся в комнате. Долли взволнованно кивнула, и оба робота были переведены в Спящий Режим, сенсорные программы отключились, головы слегка наклонились вперед, и хозяева наконец остались наедине друг с другом.
– Долли, что я могу сказать?.. – он замолчал, собираясь с мыслями. Не было слышно жужжания механизмов, отсутствовали вообще какиелибо признаки присутствия роботов – в комнате стояла абсолютная тишина. Степан Аркадьич продолжил: – Одно: прости, прости… Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты…
Она опустила глаза и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он какнибудь разуверил ее.
– Минуты… минуты увлеченья… – выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул на правой стороне лица. Рана от бритвы на верхней губе Стивы снова напомнила о себе, и лицо его исказилось страданием.
– Уйдите, уйдите отсюда! – закричала она еще пронзительнее, – и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости!
Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.
– Долли! – проговорил он, уже всхлипывая. – Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!
Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.
– Скажи мне, после того… что было, разве возможно нам жить вместе? – наконец ответила Долли, бросив взгляд на неподвижную Доличку. Ей так не хватало сейчас умиротворяющего присутствия ее подвижного роботакомпаньона. – Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? – повторила она, возвышая голос. – После того как мой муж, отец моих детей, вступил в связь с обыкновенной mécanicienne?
– Ну что ж… Ну что ж делать? – говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову.
– Вы мне гадки, отвратительны! – закричала она, горячась все более и более. – Ваши слезы – вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! – с болью и злобой произнесла она это ужасное для себя слово чужой.
Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он.
– Долли, подожди! Дай мне сказать еще хоть слово! – проговорил он.
– Доличка! – воскликнула она, поворачиваясь к нему спиной и яростно нажимая красную кнопку под подбородком робота; угловатый робот ожил, и вместе со своей хозяйкой Доличка поспешила прочь из комнаты.
– Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Каждый робот II класса в этом доме будет знать, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь со своей обряженной в комбинезончик любовницей!
И она вышла, хлопнув дверью.
Степан Аркадьич служил в Московской Башне, он занимал должность уполномоченного вицепрезидента Департамента производства и распространения роботов I класса, подразделение «Игрушки и прочее».
Это было почетное и с хорошим жалованьем место, но от самого Стивы мало что требовалось. Важные решения принимались на более высоком уровне, он получал непосредственные указания из своего департамента или же из СанктПетербургской Башни, где располагались штабквартиры высших чинов Министерства. Место это Облонский получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в Министерстве. Чем именно занимался высокопоставленный родственник, Стива не знал, и, по правде сказать, вопрос этот мало занимал его. Но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.
Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Люди в правительстве, робототехники, инженеры, землевладельцы и над всеми ними те, кто занимал места в Министерстве. Иначе говоря, дарители земных благ в виде мест, аренд и дорогостоящего грозниума были все ему приятели и не могли обойти своего.
Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый веселый нрав, несомненную честность и прелестного маленького роботакрепыша, похожего на ходячий шкафчик. В Облонском, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было чтото, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива и Маленький Стива! Вот и они!» – почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с учтивой парой.
Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, вопервых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; вовторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он слышал в новостях, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, втретьих, – главное – в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.
Приехав к месту службы, Степан Аркадьич с обожанием посмотрел вверх на медленно вращающуюся луковицу на вершине Башни, беспрерывно сканирующую московские улицы.
– Башня… она присматривает за нами, – говорили про нее, и действительно, единственное круглое отверстие на огромной вращающейся луковице было невероятно похоже на глаз, постоянно наблюдающий за своим городом и его жителями.
Над лестницей, ожидая Степана Аркадьича, стоял его старый приятель Константин Дмитрич Левин.
– Левин, наконец! – проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, поднимаясь навстречу к Левину и его роботу III класса. Маленький Стива неуклюже следовал за хозяином, преодолевая ступеньку за ступенькой.
– Добро пожаловать в Министерство! – сказал Степан Аркадьич, и приятели привычно перекрестились, возведя глаза к небу, – жест, демонстрирующий глубокое почтение, испытываемое к высшей власти.
– Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? – сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. – Давно ли?
– Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, – отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг. Теперь Стива смог рассмотреть роботакомпаньона своего приятеля. Это был высокий, покрытый медными пластинами гуманоид по имени Сократ, чрезвычайно странного и неприятного вида. Он держался рядом с хозяином; вокруг его подбородка висели различные полезные предметы: нож, штопор, пружина, маленькая лопатка – все это звенело на его шее и напоминало бороду из разнообразных пружин и шестеренок, которую сам робот беспрестанно подергивал, чувствуя себя так же неуютно, как и его хозяин.
– Ну, пойдем в кабинет, – сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой.
Левин был почти одних лет с Облонским и был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Их дружба была скреплена одним происшествием, случившимся, когда мальчикам только исполнилось 16 лет и ни у одного из них не было еще собственного робота III класса. Одна из расставляемых повсюду ловушек СНУ – божественные уста – неожиданно зевнула прямо на московском овощном рынке; огромный рот открылся всего в нескольких метрах от места, где стояли приятели. Левин схватил Облонского, который в тот момент самозабвенно ел персик, и оттащил друга на безопасное расстояние. Все произошло слишком быстро: Стива даже не успел понять, что в воздухе возник страшный вихрь, поглощающий все на своем пути. Близость смерти произвела на двух ребят неизгладимое впечатление и стала гарантией вечной братской дружбы.
Но несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак, не более реальный, чем сообщение, отображенное на мониторе их роботов III класса. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он чтото делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.
– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – То есть, вас обоих.
Сократ неловко поклонился. Как всегда это бывало при встречах с роботом Левина, Облонский подивился, насколько тот отличался от его умного, располагающего к себе Маленького Стивы. Но, как говорится, каждый получает робота по заслугам; в этом заключалось чудо технологии производства роботовкомпаньонов. Напарники создавались под стать своему хозяину. Ктото был бойким, а ктото мрачным; ктото ободрял, а ктото критиковал: каждый играл именно ту роль в жизни хозяина, какая требовалась их владельцам.
– У меня скопилась целая коробка неисправных роботов, – сказал Стива своему другу. – Сыграем?
– Нет, спасибо, – ответил Левин в свойственной ему неулыбчивой манере.
Облонский улыбнулся и нажал красную кнопку на столе – медная панель выдвинулась, обнаруживая под собой тайник. Оттуда он извлек гладкое симпатичное устройство I класса, выпускаемое Министерством: «испаритель» с одним пусковым крючком, предназначаемый для уничтожения маленьких роботов. Из коробки, что стояла подле стола, Облонский достал первую жертву. Это была простая I/Мышь/9, лучшее приспособление для дома, помогающее избавить раз и навсегда кухню и задний двор от тараканов и прочих насекомых. Все эти I/Мыши/9 исправно работали; когда Облонский поднял первую за хвост, маленький робот громко пискнул и обвел стеклянными глазками комнату, но теперь он больше не был нужен – недавно появилась новая модель I/Мышь/10.
– Ну что, как идут твои дела? – спросил Стива и выстрелил из испарителя прямо в маленькую мордочку робота. Мышь дернулась и упала на стол. – Когда приехал? Как твоя грозниевая шахта? – Левин молчал.
Извивающаяся на столе механическая мышь издала громкий писк, полный боли. Стива поморщился и посмотрел на Левина с беспомощной извиняющейся улыбкой.
– Мешает разговору, но что поделаешь – это заложено в программе, они не могут с этим совладать.
– Они не чувствуют боли? – спросил Левин.
Стива вытащил еще одну I/Мышь/9 и выстрелил в упор.
– Что? Ах, да. Конечно, чувствуют.
Левин ничего не ответил на это и осуждающе посмотрел на Сократа, который в ответ сверкнул темножелтыми глазами и дернул связку пружин на своей шее.
– Что привело тебя в наш Вавилон на этот раз? – подмигнув спросил Стива и наконец словил в коробке еще одну, пытающуюся увильнуть I/Мышь/9.
– Ничего особенного, мне только нужно сказать тебе пару слов и спросить кое о чем.
– Так сейчас и скажи два слова!
Левин медлил, не зная, как начать, он обернулся к своему спутнику. Сократ строго ответил ему вполголоса: «Просто скажите ».
– Я не могу вот так просто взять и сказать.
– Можете и должны.
– Не изводи меня, Сократ.
Стива саркастически улыбался, наблюдая за этим разговором, и с выражением посмотрел на своего собственного робота III класса – Маленький Стива удивленно зажужжал.
– Два слова вот какие, – сказал Левин наконец, – впрочем, ничего особенного.
– Ну? – Стива подбросил в воздух еще одну мышь и убил ее одним мощным зарядом.
Лицо Левина мгновенно приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. Сократ наклонил голову вперед, указывая своему хозяину, что нужно наконец совладать с нервами и сказать то, что следует.
– Что Щербацкие делают? Все постарому? – сказал Левин.
Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели, он подбросил в воздух сразу двух мышей и ловко убил их одним электрическим разрядом, пропустив его последовательно через «мозг» каждого робота.
Он хитро улыбнулся, еще более смущая Левина.
– Ты сказал, два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что… Извини на минутку…
На крылышках, похожих на крылья колибри, в кабинет влетела маленькая II/Секретарша/44, с фамильярною почтительностью и сознанием своего дела, она подлетела к столу, держа в одном из манипуляторов бумаги для Облонского.
– Господин, господин? – вопросительно произнес робот и помахал бумагами. «Господин» было единственным словом, запрограммированным в II классе. – Госпо… – Степан Аркадьич, отвлеченный на занимавший его разговор с Левиным, выстрелил II/Секретарше/44 в лицо.
– Проклятье! – в расстройстве воскликнул Стива, когда робот начал шипеть. В первое мгновение Облонский решил, что робота еще можно восстановить, но испаритель был мощным устройством. Лицевой экран уже начал плавиться, внешнее покрытие текло, словно слезы, по черепу робота телесного цвета. Сам робот кружил по комнате, сталкиваясь со стенами и столом.
– Эй, Маленький Стива! – позвал Облонский, смирившись. Исполнительный робот открыл дверцу и во второй раз за день поглотил неисправный механизм.
За время этого происшествия Левин окончательно оправился от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.
– Не понимаю. Не понимаю, – сказал он.
– Чего же ты не понимаешь? – спросил Облонский, силясь сохранить на лице саркастическую улыбку, хотя иссинячерный дым, вырвавшийся из Нижнего Отсека Стивы, заполнил комнату, погрузил ее во тьму и окончательно испортил настроение Степану Аркадьичу. Он был весьма уважаемой фигурой, однако сразу два сломанных робота за день – это было уже чересчур и не могло остаться незамеченным. Меньше всего на свете ему хотелось привлечь к себе внимание Высшего Руководства вдобавок к имеющимся неприятностям в доме.
– Я не понимаю, что вы делаете, – продолжил Левин, пожимая плечами и указывая на еще дымящийся в руках Стивы испаритель. – Как ты можешь это серьезно делать?
– Отчего же нет?
– Да оттого, что в этом нет ничего дельного.
– Ты так думаешь, но мы завалены делом.
– Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, – прибавил Левин.
– То есть, ты думаешь, что у меня есть недостаток чегото?
– Может быть, и да, – сказал Левин. – Но всетаки я любуюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, – прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.
– Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин богатой грозниумом земли в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, – а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.
– А что? – испуганно спросил Левин.
– Да ничего, – отвечал Облонский. – Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?
– Ах, об этом тоже поговорим после, – опять до ушей покраснев, сказал Левин.
– Ну, хорошо. Понятно, – сказал Степан Аркадьич. – Так видишь ли: я бы позвал тебя к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в лабиринте для катания от четырех до пяти. Кити катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куданибудь обедать.
– Прекрасно. Ну, до свидания.
Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.
Он размышлял об этом проявлении слабоволия, сидя вместе с Сократом в одном из маленьких кафе на набережной. Они долго бродили и отдалились от Башни на несколько верст, однако же она и отсюда им была прекрасно видна, верхушка медленно вращалась, сканируя город и следя за безопасностью его жителей.
– Наши неутомимые защитники, – сказал Левин отрешенно и включил экран Сократа. Прихлебывая свой чай, он просматривал Воспоминания, которые видел уже бесчисленное количество раз, снова и снова запуская их в карете всю дорогу от деревни до Москвы.
Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил на факультет шахтоуправления в Московский грозниевый университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в этот дом. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Для чего этим трем барышням нужно было говорить через день пофранцузски и поанглийски; для чего они в известные часы играли попеременкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; и именно в этом доме он впервые услышал французскую речь…
Приятную негу воспоминаний вдруг разрушил пронзительный вопль. Он поднял глаза от монитора и увидел на крыльце дома женщину с перепачканным лицом и в порванном переднике, она голосила: «Этого не может быть!» Из дома выволокли мужчину, судя по всему, ее мужа, столь же неопрятного вида; огромный 77й заломил ему руки за спину. Их обступили другие роботы батальона, головы в виде луковиц медленно вращались; поблескивали зрительные сенсоры, неустанно принимающие и анализирующие информацию. Один из них удерживал женщину своими толстыми, похожими на трубы руками. Высокий привлекательный Смотритель в золотой, сияющей на полуденном солнце униформе отдавал приказания 77м оцепить территорию и провести обыск в доме.
– А! Они поймали Януса, – восхищенно произнес Левин.
– Отсюда недалеко до рынка, возможно, он черный делец, – предположил Сократ, – или грозниевый спекулянт.
– Верно, а может, даже агент СНУ, – согласился Левин, против своей воли приходя в возбужденное состояние духа при виде столь близко действующей государственной машины. Он наблюдал за Смотрителем и его подчиненными, восхищаясь эффективностью их действий при допросе Януса. Прошло несколько месяцев со времени его последнего визита в Москву, а в деревенской глуши редко кому удавалось увидеть в действии великолепных луковицеголовых роботов 77го батальона.
С трудом он заставил себя оторваться от завораживающего зрелища и повернулся к Сократу, на экране которого его ждали драгоценные Воспоминания. Он смотрел, как все три барышни подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках – Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити в совершенно короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду. Для чего им, в сопровождении родителей, роботов III класса, и II/Жандарма/439 с покрытой медью работающей дымовой машиной нужно было ходить по Тверскому бульвару, – всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.
Подняв глаза от приятного потока Воспоминаний, он увидел, что людей вокруг оцепленного блока заметно прибавилось. Смотритель отослал нескольких 77х к толпе, чтобы сдерживать не в меру любопытных, а 77й, удерживавший Януса, высоко поднял человека в воздух, сжимая его своими толстыми манипуляторами в перчатках, и стал грубо трясти свою жертву. Стук железных ботинок был слышен совсем близко, и Левин увидал, что 77е обыскивали людей в кафе. Левина не трогали – присутствие его робота III класса означало, что он был высокопоставленным лицом; 77е принялись сканировать остальных посетителей кафе своими физиометрами.
Левин с Сократом продолжали наблюдать за Смотрителем, который громко требовал ответа от своего пленного – очевидно, никакого ответа не последовало. Из верхней части корпуса 77го, удерживающего Януса, вытянулся провод с золотистым наконечником и присоединился к левому виску человека. Разряд тока пробежал по проводу от корпуса 77го прямо ко лбу пленного. Янус пробормотал чтото и задрожал, его тело трясло от боли. Все еще стоявшая в дверном проеме жена Януса вскрикнула и, потеряв сознание, упала на крыльцо.
– Скорый суд, – сказал Сократ, но от этого проявления насилия Левин поморщился и отвернулся; заметив болезненную реакцию хозяина, Сократ поспешил исправить то, что сказал минуту назад:
– Возможно, он агент СНУ. Почти наверняка, я уверен теперь, обдумав ситуацию.
Но Сократ не умел анализировать факты, не мог знать точного ответа, и Левин промолчал. На этот раз робот сам перезагрузил свой монитор, увлекая своего хозяина в спокойное прошлое.
Во время своего студенчества Левин чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за матементального инженера Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин окончил университет. Молодой Щербацкий, отправившись в шахты, погиб под завалами, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.
Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.
В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете; да, у него была своя земля в деревне, однако, как и все управляющие шахтами, он был всего лишь работником, гордо копающий землю при поддержке Министерства, которому принадлежали все залежи грозниума в стране. Тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник, который профессор робототехники, который директор банка или вицепрезидент Департамента, как Облонский. Он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся добычей и выплавкой, то есть, бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.
Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Слыхал он, что женщины часто любят некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.
Левин пробыл в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, его программы (если изъясняться грубо) сбились: он внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню. Но спустя несколько месяцев…
– Нет! Нет, умоляю…
Голос жены Януса снова отвлек Левина от его мыслей…
– Мы признаем свою вину. Это наших рук дело. Моих и моего мужа. Мы выпустили кощея на площади Святой Екатерины… В прошлый вторник. Это сделали мы! Умоляю…
– Об этом, госпожа, мы уже давно знаем, – сказал Смотритель, знаком подавая команду одному из стоявших роботов и привычным движением счищая пятнышки засохшей грязи со своего сияющего золотистого мундира. Из второго отсека 77го робота появился еще один высоковольтный провод и закрепился на другом виске обвиняемого. Разряд тока вновь прошел по смертоносным проводам прямо в голову Януса. Его тело подбросило над землей, ступни судорожно затряслись, и затем он обмяк. Смотритель вновь дал знак 77му; огромный робот поднял старика, будто тот был мешок с картошкой, и сбросил его в реку. Толпа радостно зааплодировала.
– Хозяин? – из Речесинтезатора Сократа послышался вопрос, когда все было кончено, и отряд 77х исчез из поля зрения.
– Не бойся, друг. У меня довольно крепкие нервы, и думаю, я смогу вынести такое зрелище. Вот цена безопасности матушкиРоссии. И все же… это дурное предзнаменование для дела, по которому я приехал в Москву.
Он вздохнул и поднялся изза столика, Сократ встал следом за ним. Левин не мог уехать без того, чтобы не сделать задуманного. Пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или… он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.
Тело Януса, уносимое течением, проплыло мимо них вниз по реке.
В четыре часа, чувствуя свое сердце, грохочущее, словно неисправный роботбудильник I класса, Левин слез с II/Извозчика/248 у парка и пошел дорожкой к ледяным горкам, наверняка зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у входа.
Был ясный морозный день. У входа в парк рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы – не те, что были на службе в 77м батальоне, а простые московские II/Жандармы/12 в яркой бронзовой зимней обшивке. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были убраны в новые торжественные ризы.
Левин шел по дорожке к катку, а угловатый Сократ, запрограммированный успокаивать хозяина, когда беспокойство последнего перерастало в ярость, монотонно шептал ему на ухо:
– Вы не должны волноваться, надо успокоиться. Будьте спокойны, спокойны, спокойны!
Но чем больше он старался последовать совету и взять себя в руки, успокоиться, тем все более перехватывало дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не понял, кто это был. Он приблизился к замысловато переплетающимся намагниченным дорожкам, которые все вместе составляли лабиринт для катания; слышалось знакомое электрическое урчание коньков, скользивших над поверхностью, веселые голоса. Левин прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.

Среди людей, скользивших над намагниченными дорожками, для Левина так же легко было узнать Кити, как розу в крапиве
Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Дамы парили выше уровня дорожек для катания, их коньки были переключены на нейтральную скорость, пока они разговаривали. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розу в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. В эту минуту Левину даже показалось, что она и есть тот самый Глаз, который любовно присматривает за Москвой со своей Башни.
– Будьте спокойны – не волнуйтесь – будьте спокойны – не волнуйтесь – спокойны – не волнуйтесь – спокойны… – снова и снова шептал Сократ ему на ухо.
– Неужели я могу сойти туда, на дорожки, подойти к ней? – пробормотал Левин. Место, где она была, казалось ему недоступною святыней, как будто окруженной рвом со сверкающим жидким грозниумом, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. С помощью Сократа он сделал попытку совладать со своим волнением: около нее двигались всякого рода люди! А значит, и сам он мог прийти туда покататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.
На катке собирались в этот день недели и в это пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. На коньках с тонкими намагниченными лезвиями гуляющие накатывали несколько верст по переплетающимся дорожкам. Положительный заряд поверхности лабиринта мягко отталкивал положительный заряд коньков, и публика непринужденно скользила, приподнятая над дорожками ровно на пять миллиметров. Были тут и мастера кататься, щеголявшие своим искусством, радостно они проносились мимо, петляя в металлическом лабиринте, весело приветствуя друг друга, выделывая смелые трюки в прыжке, мчались вперед или (когда направление дорожек менялось II/Ледовым мастером/490) в обратную сторону.
Были и те, кто учился кататься за креслами, с робкими неловкими движениями, так же и пожилые дамы катались медленно, опираясь на своих роботов III класса. Все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все присутствующие, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным катком и хорошею погодой.
Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему.
– Будьте спокойны! Будьте спокойны, спокойныспокойныспокойны… – наставлял Сократ.
Когда Кити подъехала к нему, маленький мальчик, катившийся на некотором расстоянии от нее, вдруг перевернулся через голову и вылетел с дорожки на мерзлую землю. Такие падения случались редко даже среди совсем неопытных конькобежцев – равновесие поддерживало самокорректирующееся устройство магнитного катка. Константин Дмитриевич едва ли заметил это происшествие, его глаза и сердце были прикованы к прелестному тонкому стану Кити Щербацкой.
– Давно ли вы здесь? – сказала она, подавая ему руку и весело кивая Сократу.
– Я? Я недавно, я вчера… нынче то есть… приехал, – отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. Прямо сзади них с дорожки вылетел полный мужчина средних лет. Он, как и мальчик, шлепнулся на землю с оглушающим треском. – Я хотел к вам ехать, – продолжил Левин, и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел.
Прежде чем он успел совладать с собой, Кити вдруг резко отшвырнуло назад, и она полетела вдоль дорожки как тряпичная кукла, отброшенная капризным ребенком. В мгновение ока она оказалась в нескольких аршинах от Левина и Сократа, ее фигура со страшной скоростью удалялась от изумленных собеседников. И что было хуже всего, она летела прямо на усатого столичного денди, который с невероятной прыткостью несся вперед, в то время как Кити столь же быстро неслась ему навстречу.
– Сократ! Они же сейчас столкнутся! – крикнул Левин в отчаянии. Робот бросился вперед, стремительно приближаясь к возможному месту столкновения, его длинные пружинистые ноги вытягивались с каждым шагом. Бородатый желтый робот с развивающейся густой щетиной из пружин и шестеренок поймал Кити за талию и успел вытащить ее с дорожки, прежде чем усатый господин чуть не въехал в нее.
Во всем лабиринте царил хаос. Кто катился спиной, когото несло вперед, в то время как другие несчастные вращались на месте против своей воли. Было видно, что никто уже может сладить с собственными ногами; всем управляли электромагнитные дорожки, или коньки, или все вместе. Еще несколько мгновений назад Левин видел почтенную матрону, которая с опаскою тащилась по специальной прогулочной дорожке; теперь же старушка эта пронеслась мимо него на бешеной скорости, затем ее и вовсе отбросило с дорожки в сторону, и она упала у подножия припорошенного снегом холма.
Убедившись, что Кити вне опасности, Левин побежал по периметру лабиринта, помогая всем, кому мог помочь: он запустил в воздух несколько летающих механизмов, они подхватывали перепуганных людей и относили их за пределы электрического поля. Сократ устремился в противоположном направлении, также хорошо справляясь с поставленной задачей – из своей бороды он выдрал мощный ручной дестабилизатор, закоротил в нескольких местах магнитное поле, ослабив его действие на необходимое для конькобежцев время, чтобы они могли вырваться наконец на свободу.
– Это работа СНУ, – мрачно сказал Левин Сократу, когда они встретились у входа в парк, где под припорошенной снегом осиной сидела дрожащая, но невредимая Кити.
– Кто, если не они? – горько согласился Сократ. Такую страшную атаку могли устроить только одержимые ученые ученых из так называемого Союза Неравнодушных Ученых – они были настроены анархически и владели новейшими техническими средствами. Неудовлетворенные медленным развитием научного прогресса, несмотря на все достижения, ставшие возможными после открытия грозниума, футуристы, ушедшие с государственной службы и создавшие СНУ, были настроены разрушить Министерство любой ценой.
К счастью, сегодня неразбериха была недолгой; Левин услышал сирену, завывающую с Башни, а 77й батальон уже входил в парк. Стенали раненые, повсюду в снегу валялись развороченные тела; те, кому удалось избежать страшной участи, выглядели испуганными и смятенными, чего и добивались террористы СНУ.
Левин и Кити стояли рядом, переводя дыхание после атаки. Он укутал ее в свое пальто, перевел Сократа в Спящий Режим и пытался набраться мужества и сказать чтото, хоть чтонибудь, что вернет его к тому объяснению, которое даже сейчас, после случившихся беспорядков, грозило вырваться из его уст с бо льшим разрушительным эффектом, чем это могла бы произвести любая, самая мощная атака СНУ.
– Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.
– Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, – сказала она.
На мгновение они оба замолкли, скорбно опустив глаза: в карету стали грузить труп, завернутый в грубую мешковину.
– Да, я когдато со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства, – ответил Левин после непродолжительной паузы.
– У вас все получается, я почемуто уверена в вас, – сказала она, улыбаясь.
– И я уверен в себе, когда вы рядом со мной, – ответил он, но тот час же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.
– Вас чтото беспокоит? Не имея в виду, конечно… – с этими словами он кивнул в сторону грустного зрелища, которое представлял собой каток. – Впрочем, я не имею права спрашивать, – быстро проговорил он.
– Нет, меня ничего не беспокоит, кроме этого ужасного нападения на нашу любимую Москву, – отвечала она холодно.
Левин помрачнел; не было никаких сомнений в том, что это происшествие навредило всем его планам, и он чувствовал, что Кити сторонится его. Когда она снова взглянула на него, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно, даже несмотря на то, что она спросила о его жизни.
– Неужели вам не скучно зимою в деревне? – сказала она.
– Нет, не скучно, я очень занят, – сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти. Вокруг них, как по обыкновению случалось после террористических атак, лабиринт спешно подготавливали к открытию: унесли с катка раненых и мертвых, оставалось только дождаться, когда роботы 77го батальона завершат сканирование уровня безопасности. Управляемые Смотрителями механизированные солдаты переворачивали лавочки, подправляли секции лабиринта, их сенсоры сияли от ощущения собственной значимости.
– Вы надолго приехали? – спросила его Кити.
– Я не знаю, – отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.
– Как не знаете?
– Не знаю. Это от вас зависит, – сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.
В этот момент зазвонил маленький колокольчик, возвещая о том, что лабиринт для катания вновь открылся: дорожки были очищены и отполированы II/Мастером катка/490, и вновь можно было начинать кататься. Не слыхала ли она его слов, или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно поехала прочь от него. Левин вывел Сократа из Спящего Режима и стал горько причитать:
– Боже мой, что я сделал! Господи, Боже мой! Помоги мне, научи меня!
– Да, – отозвался робот суховато, – Бог вам в помощь.
– На них следовало бы устроить облаву, – сказал Степан Аркадьевич, вылавливая очередную устрицу из огромной чаши, стоявшей на столе между ним и Константином Дмитриевичем. – Все до единого должны быть пойманы и зарезаны прямо на улицах города, они этого заслуживают, дикие звери.
Эта главная новость дня она полностью занимала Степана Аркадьича за ужином. Левин, несмотря на то что сам побывал в самой гуще ужасных событий, ответил своему собеседнику более сдержанно и обдуманно.
– Не кажется ли тебе, друг, что мы и так уже пролили немало крови в борьбе с СНУ? Ты никогда не думал о том, что амнистия и переговоры – более разумный путь в решении этой проблемы?
– Да, да, конечно! Заключение перемирия с целью обуздать их – пожалуйста! – согласился Степан Аркадьич. – Но не с жаждущими крови лунатиками, с их кощеями, божественными устами и эмоциональными минами! Пусть их загонят в угол и на глазах у народа подвергнут самому жестокому из всех возможных наказаний!
Беседа в таком же духе продлилась еще минут пятьдесять, затем тему сменили. У Облонского не было собственных мыслей о случившемся, только те, что были получены из вечернего потока новостей, а Левин был слишком поглощен той целью, с которой он приехал в Москву, и не мог, как это часто случается, переключиться на вопросы политики.
– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или ты озабочен чемто? А?
Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суеты; эта обстановка бронз, зеркал, газа, II/Официантов/888 – все это было ему оскорбительно.
Он с волнением взглянул на Сократа в поисках объяснения своего душевного состояния.
– Вы боитесь , – ответил роботкомпаньон тихим и спокойным голосом, – боитесь очернить то, чем живет сейчас ваша душа.
– Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? – сказал вдруг Стива, обратившись к теме, которой так боялся Левин. Глаза Степана Аркадьича значительно заблестели, он отодвинул пустые шершавые раковины и, оперируя силовым манипулятором, закрепленным на запястье, придвинул к себе тарелку с сыром.
– Да, я непременно поеду, – сказал Левин с чувством.
– О, какой ты счастливец! – подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.
– Отчего?
– Узнаю коней ретивых по какимто их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич. – У тебя все впереди.
– А у тебя разве уж позади?
– Нет, хоть не позади, но у тебя будущее! Ты повелитель настоящего и будущего, будто бы ты являлся частью проекта «Феникс».
Облонский подоброму засмеялся над своей собственной подколкой и потянулся за третьей устрицей. Сколь ни велики были достижения Века Грозниума, от проекта «Феникс», ставившего целью создание машины, использующей уникальные свойства Волшебного Металла, давно отказались. Предполагалось, что машина сможет прожигать дыру в космическом времени. Отказ от проекта «Феникс» и нескольких других, столь же грандиозных, вызвал возмущение группы государственных ученых, в последствии и создавших треклятый СНУ. Теперь же идея путешествия во времени казалась настолько нелепой, что годилась разве что для дежурной шутки в модном окружении Стивы.
– Эй! Уноси! – крикнул он II/Официанту/888 и вновь обратился к другу. – Так ты зачем же приехал в Москву?
– Ты догадываешься? – отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.
– Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, – сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.
– Ну что же ты скажешь мне? – сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. – Как ты смотришь на это?
Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан Шабли, не спуская глаз с Левина. Он бросил кусок говядины Маленькому Стиве, который тут же открыл маленькое отверстие на лицевой панели и затянул подачку внутрь при помощи появившегося из недр шланга. Верный маленький сервомеханизм не нуждался в еде, но и он, и его хозяин находили удовольствие в этом ритуале.
– Я? – сказал Степан Аркадьич, – я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.
– Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? – проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. – Ты думаешь, что это возможно?
При этих словах Сократ наклонился вперед ровно настолько, сколько требовалось, чтобы придать телу вопрошающее положение.
– Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?
– Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! – Сократ наклонился вперед еще на шесть градусов, его низко склоненный корпус выражал нетерпение Левина. – Ну, а если, если меня ждет отказ?.. И я даже уверен…
– Отчего же ты это думаешь? – улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич.
– Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.
– Ну, во всяком случае для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.
– Да, всякая девушка, но не она.
Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт – это все девушки в мире, кроме нее, и эти девушки имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт – она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.
– Постой, соуса возьми, – сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.
Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьичу.
– Нет, ты постой, постой, – сказал он. – Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но, ради бога, будь вполне откровенен.
Сократ еще немного подался вперед и глаза его засветились ярким оранжевожелтым светом.
– Я тебе говорю, что я думаю, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. – Но я тебе больше скажу: моя жена – удивительнейшая женщина… – Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минуту, продолжал: – У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, – она знает, что будет, особенно по части браков.
Оба они засмеялись, однако смех Левина был скорее нервным, чем веселым. Его истинное душевное состояние можно было прочесть по глазам Сократа, в которых быстро мигали огоньки – желтые, красные, оранжевые.
– Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она – на твоей стороне.
– То есть как?
– Так, что она мало того что любит тебя, – она говорит, что Кити будет твоею женой непременно.
При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.
– Она это говорит! – вскрикнул Левин. – Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, – сказал он, вставая с места.
Сократ подскочил следом за хозяином, глубоко посаженные лампочкиглаза вспыхивали попеременно красным и оранжевым, оранжевым и желтым, желтым и красным.
– Да садитесь же, – прикрикнул Стива на обоих, в то время как Маленький Стива подавал сигналы своему собрату, дисплей которого ярко сверкал.
Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточкекомнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.
– Ты пойми, – сказал он, – что это не любовь.
– Не совсем любовь! – выпалил Сократ высоким голосом.
– Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какаято сила внешняя завладела мной.
– Сила, сила, всемогущая сила!
– Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь как счастье, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить…
– Надо, надо, надо решить это сейчас! – взревел Сократ.
– Для чего же ты уезжал? – поинтересовался Облонский.
– Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить!
Сократ начал наматывать круги вокруг стола, бибикая, жужжа и присвистывая в невероятном возбуждении.
– Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл… Я нынче узнал, что брат Николай… знаешь, он тут… он болен… я и про него забыл. Но одно ужасно… Вот ты женился, ты знаешь это чувство…
Сократ уже вращался на месте, его глаза лихорадочно блестели, но Левин не замечал этого.
– Ужасно то, что мы – старые, уже с прошедшим… не любви, а грехов… вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно…
– Отвратительно, отвратительно!
– И поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.
– Недостойным, недостойным, недостойным! – закричал Сократ. Раздался ужасный скрежет, и перегревшийся робот, выпустив струйку пара, непроизвольно погрузился в Спящий Режим.
Левин выругался, перезагрузил своего роботакомпаньона и осушил бокал. Два друга сидели в тишине, ожидая, пока Сократ перезагрузится. По всему ресторану слышался звон чайных чашек, на кухне кипел I/Самовар/1(8); роботсветильник I класса автоматически зажегся, когда в помещениях стало слишком сумрачно; с улиц слышались шаги марширующих 77х и короткие команды Смотрителя.
– Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? – спросил Степан Аркадьич Левина.
– Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?
– Подай другую, – обратился Степан Аркадьич к II/Официанту/888, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было. – И выключика свои сенсоры.
Не было нужды проверять, выполнил ли приказ робот, облаченный в белый сюртук: Железные Законы предписывали выполнять любое поручение, исходящее от человека. Поэтому Степан Аркадьич спокойно обратился к Левину, чтобы поделиться с ним своим секретом.
– А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.
– Что такое Вронский? – сказал Левин, и лицо его из того детскивосторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.
– Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, герой Пограничных Войн, которому позволено иметь при себе огненный хлыст и два испепелителя, и вместе с тем – очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.
Левин хмурился и молчал.
– Нус, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать…
– Извини меня, но я не понимаю ничего, – сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.
– Ты постой, постой, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. – Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком и нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.
Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.
– Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, – продолжал Облонский, доливая ему бокал.
– Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, – сказал Левин, отодвигая свой бокал. – Я буду пьян… Ну, ты как поживаешь? – продолжал он, видимо желая переменить разговор. Он с яростью посмотрел на Сократа, нетерпеливо ожидая, когда же наконец робот оживет, но лицевая панель механического компаньона оставалась попрежнему мутной и темной.
– Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, – сказал Степан Аркадьич. – Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя Бог…
Теперь Левин всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какогото петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича. Он немедленно поменял тему разговора.
– Что ж ты все хотел ко мне приехать на ОхотьсяиБудьЖертвой? Вот приезжай следующей весной, – сказал Левин.
– Приеду когданибудь, – сказал он. – Да, брат, – женщины – это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, – продолжал он, зажигая сигару, которую поднес Маленький Стива, и держась одною рукой за бокал, – ты мне дай совет.
– Но в чем же?
– Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной…
– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы… все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач.
Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного. И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем, и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.
– Счет! – крикнул он и нетерпеливо забарабанил по столу пальцами, покуда не вспомнил, что он сам же приказал II/Официанту/888 выключить сенсоры.
Княжне Кити Щербацкой было восемнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Совсем скоро она должна была, наконец, получить собственного роботакомпаньона. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, бравый герой Пограничных Войн, умеющий обращаться с испепелителем, граф Вронский.
Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгинею. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственною женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его: владелец грозниевой шахты, с опаленным лицом и руками, покрытыми металлической пылью. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права. Пусть забивается в свою земляную нору, пропахшую сажей».
Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, известный стрелок из испепелителя, на пути блестящей военной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.
Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на это, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении; ее робот III класса, почтенная машина, которую на французский манер звали La Sherbatskaya, провела не один вечер, пытаясь развеселить свою хозяйку и обдувая ее успокаивающими потоками ароматизированного воздуха из своего Нижнего Отсека.
Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживаньем за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину.
Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство.
– Я боюсь за свою дочь, – сказала княгиня La Sherbatskoy, которая стояла рядом и складывала белье.
– Боитесь? Ох, мадам!
– Одно время мне казалось, что у дочери были чувства к Левину.
– О, да, да, чувства. Вполне определенные!
– Может статься, что из излишней честности она откажет Вронскому!
– Откажет ему! Нет, нет, госпожа! О, боже, боже, боже!
– И вообще приезд Левина может все запутать и задержать дело, столь близкое к окончанию.
В эту минуту в комнату вошла княжна, чтобы поприветствовать свою мать. Робот III класса тактично погрузился в Спящий Режим.
– Что он, давно ли приехал? – спросила княгиня про Левина, когда Кити рассказала ей о драматических событий, произошедших в лабиринте для катания, и о героизме, проявленном Константином Дмитричем и его роботом.
– Нынче, maman.
– Я одно хочу сказать… – начала княгиня, и по серьезнооживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.
– Мама, – сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, – пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.
Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее.
– Я только хочу сказать, что, подавая надежду…
– Мама, голубчик, ради бога, не говорите. Так страшно говорить про это.
– Не буду, не буду, – сказала мать, увидав слезы на глазах дочери, – но одно, моя душа: ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет?
– Никогда, мама, никакой, – отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. – Но мне нечего говорить теперь. Я… я… если бы хотела, я не знаю, что сказать и как… я не знаю…
«Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», – подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.
Кити испытывала после обеда и до начала вечера чувство, сравнимое с тем, какое испытывает юноша пред битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться.
Она включила галеновую капсулу, желая успокоиться и чувствуя, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. Кити беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Она жалела, что еще не получила собственного робота III класса, – тогда бы она могла пересматривать свои последние впечатления с бо льшим вниманием, выводя их на монитор роботакомпаньона; вместо этого ей приходилось все вспоминать самой, восстанавливая картинки в своей памяти, как делают дети.
Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношениям с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям же о Вронском примешивалось чтото неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какаято была, – не в нем, он был очень прост и мил, – но в ней самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестящесчастливая; с Левиным же будущность представлялась туманною.
Собравшись наверх, чтобы одеваться для вечера, она включила посильней галеновую капсулу и унесла ее с собой. Взглянув в зеркало, Кити с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами, а это ей так нужно было для предстоящего: она чувствовала внешнее спокойствие и свободную грацию движений.
В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, II/Лакей/С(с)43 громогласно объявил: «Константин Дмитрич Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», – подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало.
Теперь она верно знала, что он приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, – с кем она будет счастлива и кого она любит, – но что сию минуту она должна будет оскорбить человека, которого она любит. И оскорбить жестоко. Ей хотелось стать невидимой… что, конечно же, не представлялось возможным, да и экспериментировать с этим было строго запрещено.
Константин Дмитриевич, милый, любит ее, влюблен в нее. Но, делать нечего, так нужно, так должно.
«Боже мой, неужели это я сама должна сказать ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что ж я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду».
Она уже подходила к дверям, когда услышала его шаги. «Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет! Скажу правду. Да с ним не может быть неловко. Вот он», – сказала она себе, увидав его сильную и робкую фигуру; позади плелся его долговязый роботкомпаньон. Глаза у обоих блестели и были устремлены на нее. Кити прямо взглянула Левину в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку.
– Мы не вовремя, кажется, слишком рано, – сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно. Сократ все так же пристально глядел на нее, будто смотря ей прямо в душу, – как всегда ей было крайне неуютно в присутствии этого высокого чудаковатого робота.
– О нет, – сказала Кити и села к столу.
– Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну, – начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости.
– Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера…
Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда. Она жалела, что не взяла с собой из спальни галеновую капсулу: веселое оживление постепенно покидало ее.
Левин взглянул на нее, затем пристально посмотрел на Сократа – робот послушно погрузился в Спящий Режим.
– Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал… что это от вас зависит…
Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся.
– Что это от вас зависит, – повторил он. – Я хотел сказать… я хотел сказать… Я за этим приехал… – что… быть моею женой! – проговорил он, не зная сам, что говорил. Левин почувствовал, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее.
Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:
– Этого не может быть… простите меня…
Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!
– Это не могло быть иначе, – сказал он, не глядя на нее. Он включил Сократа, и вместе они поклонились и направились к дверям.
Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава богу, отказала», – подумала мать, и лицо ее просияло обычной улыбкой, с которою она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о том, как он управляется с грозниевой шахтой. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтоб уехать незаметно.
Через пять минут вошла подруга Кити, прошлой зимой вышедшая замуж, графиня Нордстон.
Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина, ее сопровождал дешево выглядевший невысокий зеленый робот III класса по имени Куртизана. Графиня Нордстон любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто встречала у Щербацких, был всегда неприятен ей.
– Ну что, Кити. Сильно ли ты пострадала во время атаки на лабиринт для катания?
И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему всетаки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел было встать, чтобы уйти, но увидел военного, входившего следом за княгиней.
– Это должен быть Вронский, – шепнул Левин Сократу, тот угрюмо кивнул в ответ; чтобы убедиться в своей догадке, Левин взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее Левин понял, что она любила этого человека, понял так же верно, как если б она сказала ему это словами. Но что же это был за человек? Теперь, – хорошо ли это, дурно ли, – Левин не мог не остаться, ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила.
Он принялся изучать Вронского. Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное. Есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящею болью в сердце только хорошее. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушнокрасивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. На его поясе висели две вместительные кобуры с испепелителями; на бедре потрескивал свернутый хлыст – смертельное оружие, повинующееся своему хозяину. Стоило только щелкнуть по нему большим пальцем, и огненный хлыст взметался в воздух. Как и все участники Пограничных Войн, Вронский был награжден роботом III класса, смоделированного по образцу животных, ему же принадлежал элегантный сильный серебристочерный волк. Все в лице и фигуре Вронского, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, было просто и в то же время изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити.
В то время как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметною счастливою и скромноторжествующею улыбкой (так показалось Левину), почтительно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку.
Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина.
– Позвольте вас познакомить, – сказала княгиня, указывая на Левина. – Константин Дмитрич Левин. Граф Алексей Кириллович Вронский.
Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку.
– Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, – сказал он, улыбаясь своею простою и открытою улыбкой, – но вы неожиданно уехали в деревню.
– Константин Дмитрич презирает и ненавидит город и нас, горожан, – сказала графиня Нордстон.
Левин понадеялся, что сейчас он сможет уйти, не создавая неловкости. Он встал и многозначительно кивнул Сократу, который взял пальто своего хозяина у II/Лакея/74. Но скрыться им не удалось: в следующее мгновение графиня Нордстон неожиданно объявила о начале самого утомительного на свете занятия.
Она, к огромному раздражению Левина, уже долгое время истово верила в существование внеземных существ, называемых Почетными Гостями. За прошедшие несколько десятков лет последователи веры разработали теорию ксенотеологии. В основе ее лежало убеждение в том, что сейчас Почетные Гости просто благосклонно наблюдают за людьми, но однажды они придут, чтобы одарить человеческую расу со всей своей необыкновенной щедростью.
– Они придут к нам, – подчеркнула графиня Нордстон, цитируя основную догму учения, – они придут к нам тремя путями.
Графиня сообщила присутствующим, что благодаря неожиданному и неистовому электрическому шторму, бушующему за окном, этот вечер идеально подходит для установления недолгого целительного контакта с одним из благосклонных вышних существ. И что для этого нужно провести детально разработанную церемонию.
– Прежде чем мы начнем, – продолжила графиня, – я должна убедиться в том, что наша общая карма как нельзя лучше подходит для прибытия Почетных Гостей.
Куртизана трижды повернула голову вокруг своей оси, сканируя комнату, и осуждающе запищала, уставившись на Левина и Сократа.
– Константин Дмитрич, вы верите в Почетных Гостей?
– Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу.
– Но я хочу слышать ваше мнение.
– Мое мнение только то, – отвечал Левин, – что все разговоры о пришельцах доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в сглаз, и в порчу, и в привороты, в то время как мы стоим посреди гостиной, выписывая круги поднятыми руками, и совершаем ритуальные песнопения всякий раз, как мелькает молния за окном и электричества в воздухе становится все больше.
– Что ж, вы не верите?
– Не могу верить, графиня.
– Но если я сама видела?
– И бабы рассказывают, как они сами видели домовых.
– Так вы думаете, что я говорю неправду?
– Да нет, Маша, Константин Дмитрич говорит, что он не может верить, – сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это и, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своею открытою веселою улыбкой сейчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным.
– Вы совсем не допускаете возможности? – спросил он. – Почему же? Ведь признаем же мы существование грозниума, хотя до Ивана Грозного и помыслить нельзя было, что этот удивительный металл есть на свете; почему же не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая…
– Когда найден был грозниум, – быстро перебил Левин, – то было лишь открыто явление, и только в результате многолетних экспериментов выяснилось, что он действительно обладает всеми теми полезными свойствами, о которых в самом начале заявляли защитники грозниума. Это открытие совсем не предмет для салонных игр и не плод фантазии какихто фанатиков. Нет, оно преобразовало все сферы жизни в России!
Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно, интересуясь его словами.
– Да, но ксенотеологи, такие как графиня, только говорят: мы еще не знаем, что это за существа, только то, что они существуют, – мягко возразил он, – и при каких условиях они могут явить нам себя.
Словно бы поддерживая слова Вронского, за большим окном дома Щербацких зарокотало, и на небе засверкала яркая молния.
– А ученые пускай раскроют, кто такие эти пришельцы. Нет, я не вижу, почему не может быть новой расы гденибудь во Вселенной, если мы открыли новый металл…
– А потому, – перебил Левин, – что все те надежды, что были возложены на грозниум, оправдались ! Он стал основой всех положительных изменений в нашем обществе! Всеми теми прелестями жизни, каждой минутой отдыха мы обязаны роботампомощникам, которые так много для нас делают – и все это благодаря грозниуму! Антиграв, транспорт, роботы! – в подтверждение сказанному он взволнованно посмотрел в сторону тихих и внимательных роботов III класса, полукругом стоявших у входа в комнату.
Но разговор был окончен, и церемония, столь неприятная Левину, началась. По прошествии часа, полного песнопений и бормотаний, ритуал неожиданно был прерван, к удовольствию Левина. Графиня Нордстон распахнула окно в гостиной, призывая Почетных Гостей поскорее благословить людей своим присутствием, но единственным гостем с улицы был дождь.
Вечер Вронский провел, пересматривая Воспоминания на мониторе своего робота III класса по имени Лупо. Экран располагался с мягкой стороны робота, не покрытой шерстью, там, где у настоящего Canis lupus[3] было подбрюшье.
Алексей Кириллович никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе, в котором после проведенного инструктажа по эксплуатации ему был определен робот III класса специализированной военной модификации – волк с воротником из густого металлического «меха» и Звукосинтезатором, из которого раздавался грозный рык.
Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он побывал в знаменитом шестимесячном путешествии вдоль границы. После него Вронский сразу попал в круг богатых петербургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света.
В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближения со светскою милою и невинною девушкой, которая полюбила его. Ему и в голову не приходило, чтобы могло быть чтонибудь дурное в его отношениях с Кити. На балах он танцевал преимущественно с нею. Он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все более и более становилась зависимой от него, и чем больше он это чувствовал, тем ему было приятнее и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное название, что это есть заманивание барышень без намерения жениться и что это заманивание есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и он наслаждался своим открытием.
Если б он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если б он мог перенестись на точку зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и изысканное удовольствие ему, а главное ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться.
Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое и смешное, все равно что так называемые Почетные Гости, столь горячо ожидаемые графиней Нордстон и ее окружением.
Лупо дошел до конца первой записи Воспоминаний и, прежде чем перейти к следующей, бросился за I/Мышью/9, мелькнувшей на другом конце комнаты. Эти зверьки совсем недавно были списаны в утиль, и Вронский выпросил коробку у своего друга Степана Аркадьича, работавшего в Министерстве. Мыши были одновременно развлечением и тренировкой для Лупо. Свирепое механическое животное поймало несчастного маленького робота I класса и легко перекусило его грозниевый хребет. Затем волк снова улегся на спину и выставил брюхо с монитором, на котором уже светилась новая запись Воспоминаний.
Выйдя в этот вечер от Щербацких, Вронский почувствовал, что та духовная тайная связь, которая существовала между ним и Кити, утвердилась в нынешний вечер так сильно, что надо предпринять чтото. Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать.
– То и прелестно, – задумчиво говорил он Лупо, – что ничего не сказано ни мной, ни ею, но мы так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и интонаций, что сегодня яснее, чем когданибудь, она сказала мне, что любит. И как мило, просто и, главное, доверчиво! Я сам себя чувствую лучше, чище. Как будто покинул земную атмосферу и летел прямо на Луну. Я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мне много хорошего. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: и очень…
Он замолчал, и в ту же секунду Лупо поднял голову и вопросительно гавкнул.
– Ну так что ж? Ну и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо. И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер.
Он прикинул воображением места, куда он мог бы ехать. «Клуб Взрывателей? Карты, шампанское с Игнатовым? Нет, не поеду. Chateau de fleurs, там найду Облонского, песни, cancan? Нет, надоело. Вот именно за то я люблю Щербацких, что сам лучше делаюсь».
Вместо того чтобы ехать кудато, он велел подать себе ужин и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким сном под монотонное посапывание Лупо, положившего свою тяжелую металлическую морду на грудь хозяина.
На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской Антигравитационной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру.
– А! Ваше сиятельство! – крикнул Облонский. – Ты за кем?
– Я за матушкой, – отвечал Вронский улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским и его забавным роботомкомпаньоном. – Она нынче должна быть из Петербурга. – С этими словами он пожал руку Облонскому, подружески похлопал по куполообразной голове Маленького Стиву, и все вместе они стали подниматься по лестнице. Лупо рыскал немного позади, носом к земле, обнюхивая ступени с помощью своих чутких обонятельных сенсоров.
– А я тебя ждал до двух часов. Куда же ты поехал от Щербацких?
– Домой, – отвечал Вронский. – Признаться, мне так было приятно вчера после Щербацких, что никуда не хотелось.
– Узнаю коней ретивых по какимто их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич точно так же, как прежде Левину. Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор.
– Посмотри: чтото нигде нет наших неутомимых защитников. Надеюсь, в какойнибудь из этих очередей не притаился кощей. Матушка так не любит, когда чтонибудь расстраивает ее планы.
Только Вронский посетовал на отсутствие патрульных, как послышались тяжелые шаги 77х. Множество лучших роботов с непрерывно вращающимися головамилуковицами, постоянно ведущими наблюдение, принялись сканировать каждый угол просторного павильона станции. Все усиливая чувствительность своих сенсоров, укрепленных на манипуляторах, они искали опасных маленьких жуков – кощеев, которых народ знал и страшился.
– А ты кого встречаешь? – спросил Вронский.
– Я? Я хорошенькую женщину, – сказал Облонский, сохраняя едва заметную хитрую улыбку даже в тот момент, когда ему пришлось поднять руки и позволить 77му быстро просканировать себя с головы до ног. Члены высшего общества, путешествуя антигравитационными дорогами, должны были согласиться на такое унижение, и Облонский прошел эту процедуру, как принимал все другие неудобства в жизни, легко и без недовольства.
– Хорошенькую женщину? – ответил Вронский тем временем. – Вот как!
– Honni soit qui mal у pense![4] Свою сестру Анну.
– Ах, это Каренину? – сказал Вронский и, притворно нахмурив брови, когда 77й направил биосканер на него, свистнул Смотрителю, чтобы привлечь его внимание. Вронский указал на приколотый на лацкан мундира маленький значок, говорящий о том, что носитель его – офицер Пограничных Войск.
– Если вам понадобится какаялибо помощь, обращайтесь! – высокомерно сказал он Смотрителю в золотой униформе. Тот, успокоенный, отрывисто скомандовал роботу отставить обыск и удалился.
– Ты ее, верно, знаешь? – спросил Степан Аркадьич, когда они добрались до платформы.
– Кажется, знаю. Или нет… Право, не помню, – рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной чтото чопорное и скучное.
– Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно, знаешь. Его весь мир знает. Он из Министерства.
– Ах, да, – сказал Вронский. – И, если я не ошибаюсь… его повысили?
Облонский кивнул и произнес с издевкой:
– Да, это он.
– Я знаю его по репутации и по виду, – продолжил Вронский. – Знаю, что он умный, ученый, набожный чтото… Но ты знаешь, это не в моей… not in my line,[5] – сказал он поанглийски.
– Да, он замечательный; немножко консерватор, но славный человек, – заметил Степан Аркадьич, – славный человек.
Одновременно раздалось множество пронзительных гудков гдето в центре платформы: несколько биосканеров подали тревожные сигналы. Роботы 77го батальона вместе со Смотрителем окружили толстого мужика, который держал в руках потрепанный мешок. Дрожа всем телом, он с широко раскрытыми глазами смотрел, как огромный человекоподобный робот выпустил из нижней части корпуса гибкий шнур с клешней на конце и, сунув ее в карман задержанного, вытащил оттуда маленького кощея.
– Поймали! – сказал Вронский с нескрываемым удовольствием.
Вместе с Облонским они смотрели за тем, как 77й поднял вверх извивающегося, похожего на таракана, кощея. Толстый мужик в ужасе посмотрел на ядовитое создание, которое зайцем ехало в его нагрудном кармане. Бронированное тело жучка венчали дрожащие усикиантенны. Грозный 77й взял его за кончик хвоста, поднес к мусорному баку и бросил внутрь. Вронский с Облонским одобряюще смотрели, как второй робот кинул туда же миниатюрную бомбу I класса и закрыл крышку.
Одновременно все присутствующие на станции прикрыли уши руками, Маленький Стива и Лупо выключили свои аудиосенсоры. Мгновение спустя прозвучал оглушительный взрыв, вслед за которым воцарилась тишина и станцию заполнил густой едкий дым. Заплакал ребенок, которого тут же принялись успокаивать тяжелые механические руки II/Няньки/646.
– Увлекательное зрелище, – сказал Облонский, захлопав роботам 77го, и с восхищением помахал им рукой. – Это будет хорошим уроком СНУ – пусть знают, что с Министерством шутки плохи. Ничто не останется незамеченным.
– Да, да, – закивал Вронский и вздохнул, – хотя Грав задержат, и матушка будет волноваться.
– Конечно, не без этого, – согласился Степан Аркадьич, – но это цена, которую мы платим за наше благополучие, – добавил он, повторяя известное утверждение; из таких расхожих суждений складывались политические взгляды Степана Аркадьича.
– Кстати, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным? – спросил Степан Аркадьич, ожидая поезда вместе с Вронским на краю платформы. Обычная вокзальная суета и гам возобновились с прежней силой.
– Как же. Но он чтото скоро уехал.
– Он славный малый, – продолжал Облонский. – Не правда ли?
– Я не знаю, – отвечал Вронский, – отчего это во всех москвичах, разумеется, исключая тех, с кем говорю, – шутливо вставил он, – есть чтото резкое. Чтото они всё на дыбы становятся, сердятся, как будто все хотят дать почувствовать чтото…
– Есть это, правда, есть… – весело смеясь, сказал Степан Аркадьич.
– Что, пути убраны? Скоро ли Грав? – обратился Вронский к II/Служащему/L26, когда последний 77й покинул станцию.
– Грав подал сигнал , – сказал робот II класса, и зеленый огонек горевший в центре его лицевой панели, подтверждал его слова.
Приближение роскошного Высокоскоростного Антигравитационного транспорта СанктПетербург – Москва более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганьем II/Носильщиков/7е62, появлением II/Жандармов/R47 и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись II/Рабочие/Х99 в крепких грозниевых оболочках, на мягких войлочных колесах, перекатывавшиеся через намагниченные рельсы загибающихся путей.
– Нет, – сказал Степан Аркадьич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. – Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, да еще и его чудакробот, но зато иногда он бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура, и сердце золотое. Но вчера были особенные причины, – с значительною улыбкой продолжал Степан Аркадьич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому. – Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив.
Вронский остановился и прямо спросил:
– То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей belle soeur?..[6]
Момент обмена откровениями был прерван Лупо, который завыл, присев на задние лапы и заведя уши за голову. Вронский вопросительно посмотрел на своего роботакомпаньона, но в следующее мгновение все услышали то, что раньше других уловили чуткие сенсоры Лупо: мягкую вибрацию летящего над магнитным ложем Антиграва теперь можно было не только услышать, но и почувствовать.
– Может быть, – сказал Степан Аркадьич. – Чтото мне показалось такое вчера. Да, если он рано уехал и был еще не в духе, то это так… Он так давно влюблен, и мне его очень жаль.
– Вот как!.. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию, – сказал Вронский, выпрямив грудь. – Впрочем, я его не знаю, – прибавил он. – Да, это тяжелое положение! От этогото большинство и предпочитает знаться с II/Кларами/X14. Там неудача доказывает только, что у тебя недостало денег, а здесь – твое достоинство на весах. Однако вот и Грав.
Платформа задрожала, над магнитным ложем засверкали электрические разряды, и огромный парящий состав величественно вплыл на станцию. Показалась строгая фигура заиндевелого II/Машиниста/L42; а за тендером, все тише и тише потрясая платформу, проплыл вагон с багажом и с визжавшею собакой; наконец, подрагивая пред остановкой, подошли пассажирские вагоны, продолжавшие еще три минуты вибрировать после выключения всех программ.
Соскочил II/Кондуктор/FF9, на ходу давая свисток из своего скошенного отверстия в грозниевом корпусе. Вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры: офицер Пограничных Войск в своей серебряной униформе, держась прямо и строго оглядываясь; вертлявый купчик с сумкой II класса, весело улыбаясь; насвистывающий неясную мелодию мужик с мешком через плечо.
Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась, и глаза блестели. Он нагнулся, чтобы погладить острую шерсть Лупо. Выпрямился и положил руку на рукоятку огненного хлыста: он чувствовал себя победителем.
– Графиня Вронская в этом отделении, – сказал офицер Пограничных Войск, подходя к Вронскому.
Слова офицера разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней.
Вронский пошел за офицером в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме, сопровождаемой высоким элегантным роботом III класса. Лупо вдруг повел себя странно: сощурил глаза и глухо зарычал. Алексей Кириллович, ужаснувшись нанесенному оскорблению, жестом велел ему замолчать и отступил на шаг, пропуская даму и ее робота. Но все на мгновение будто застыли: Вронский со склоненной головой, сидящий Лупо, незнакомка с ее удивительным роботом, величественно возвышавшимся в дверном проеме.
С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Наконец дама с роботом вышли, и Вронский пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее – не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо него, было чтото особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища когото. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чегото так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Андроид, сопровождавший ее, не выражал никаких эмоций, только светился глубоким синефиолетовым светом, подчеркивая все достоинства своей хозяйки.

Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Андроид, сопровождавший ее, не выражал никаких эмоций, только светился глубоким синефиолетовым светом
Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и букольками, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами.
Поднявшись с диванчика и передав своему роботу мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо.
– Получил сообщение от меня? Здоров? Слава богу.
– Хорошо доехали? – сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу изза двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе.
В следующее мгновение загадочная дама и ее робот вновь появились в дверях Антиграва.
– Посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, – мягко сказала она II/Носильщику/7е62, который тотчас поспешно выбежал из вагона. Вронский вспомнил теперь, что это были Каренина и ее робот III класса, Андроид Каренина.
– Ваш брат здесь, – сказал он, вставая. – Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, – сказал Вронский, кланяясь, – что вы, верно, не помните меня.
– О нет, – сказала она, – я бы узнала вас, потому что мы с вашею матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас, – сказала она, позволяя наконец просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. – А брата моего всетаки нет.
– Позови же его, Алеша, – сказала старая графиня.
Вронский вышел на платформу и крикнул:
– Облонский! Здесь!
Лупо присоединился к зову – он протяжно, тихо завыл.
Но Каренина не дождалась брата, а увидав его, решительным легким шагом вышла из вагона. И, как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своею решительностью и грацией, обхватила брата левою рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная чему, улыбался. Но вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон.
– Не правда ли, очень мила? – сказала графиня про Каренину. – Ее муж со мною посадил, и я очень рада была.
Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней.
– Ну вот, графиня, вы встретили сына, а я брата, – весело сказала она. – И все истории мои истощились; дальше нечего было бы рассказывать.
– Ну, нет, – сказала графиня, взяв ее за руку, – я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить и помолчать приятно. – А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте: нельзя же никогда не разлучаться.
Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались. Вронский с интересом наблюдал за мрачным и напряженным роботом матери по имени Тунисия, который на протяжении этого обмена любезностями безразлично оглядывала вагон, в то время как внимательная Андроид Каренина тщательно копировала все жесты и позы хозяйки.
– У Анны Аркадьевны, – сказала графиня, объясняя сыну, – есть сынок восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его.
– Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, – сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему.
– Вероятно, это вам очень наскучило, – сказал он, сейчас, на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Он намеренно выставил вперед одну ногу, чтобы огненный потрескивающий хлыст, висевший у него на бедре, оказался на виду. Но она, видимо, не хотела продолжать разговора в этом тоне и обратилась к старой графине:
– Очень благодарю вас. Я и не заметила, как пролетело время. До свиданья, графиня.
– Прощайте, мой дружок, – отвечала графиня. – Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, постарушечьи, прямо говорю, что полюбила вас.
Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с тою же улыбкой, волновавшеюся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чемуто особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку.
В то же мгновение на станции прогремел оглушительный взрыв. Все замерли, и стало тихо, даже усердные II/Носильщики/7е62 прекратили бег и принялись выписывать маленькие круги, навострив свои слуховые сенсоры. Было непонятно, что взорвалось и где, – казалось, что небеса вдруг разверзлись, и они слышат, как стучит кулаком Господь. И хотя многие будут отрицать и даже посмеиваться, некоторые присутствовавшие при этом событии будут уверять, что небеса в момент взрыва приобрели вдруг невероятный багровый оттенок.
Вронский поспешил успокоить свою мать, он держал ее за руку и мягко говорил:
– Это всего лишь кощей, мама. Роботы 77го батальона поймали одного и взорвали на станции. Это еще один – ничего другого и быть не могло. – Он, конечно же, понимал, что это успокоительная, но неправдоподобная версия: то, что произошло, не имело ни малейшего сходства со взрывом в мусорном баке, – в действительности Вронскому никогда не доводилось быть свидетелем ничего подобного, а взрывов он видел в своей жизни немало.
Анна Каренина посмотрела на небо, еще чувствуя во всем теле дрожь от прогремевшего взрыва. Андроид Каренина осторожно положила руку на плечо своей хозяйки, успокаивая ее, и Анна смогла избавиться от неприятного ощущения. Она встряхнулась и вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело.
– Очень мила, – сказала старушка.
То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и чтото оживленно начала говорить ему, очевидно о чемто не имеющем ничего общего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным.
– Ну, что, maman, вы совершенно здоровы? – повторил он, взяв под руку мать; но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько II/Станционных рабочих/44 пронеслись мимо с включенными красными сигнальными огнями. Было ясно: происходило чтото из ряда вон выходящее. Толпа, покинувшая поезд, бежала назад.
У Вронского по телу пробежали мурашки, когда он почувствовал чудовищный запах гари, приносимый дуновением ветра с путей.
– Где? Что? Сгорел? Раздавлен! – слышалось в толпе.
Степан Аркадьич, держа сестру за руку, обернулся. Они тоже выглядели напуганными и остановились, избегая народ, у входа в вагон. Вронский встал между платформой и Карениной, инстинктивно желая загородить собою ужасающее зрелище, открывшееся внизу, на путях. На магнитном ложе валялось раздавленное тело, которое явно сначала упало на пути, а затем уже было расплющено подходившим Антигравом. По слухам, быстро распространившимся в толпе, это был безбилетник, которого обнаружил один из 77х. Тяжеловесный робот скрутил «зайца» и доставил его к Смотрителю, который стал требовать у задержанного назвать свое имя и род занятий. Тот отказался, и офицер в золотой униформе, следуя инструкциям, объявил его Янусом, заклятым врагом Родины, и приказал бросить под прибывающий состав.
Однако Вронский был обеспокоен произошедшим, понимая, что такие истории специально распространяют, скармливают толпе, чтобы отвлечь ее от более неприглядной правды. Он отвел глаза от истерзанного дымящегося тела, которое подцепил толстыми трубчатыми манипуляторами один из роботов 77го и бесцеремонно бросил в вагон.
Еще прежде чем Вронский и Облонский вернулись обратно, дамы узнали эту историю от других очевидцев. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать.
– Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас! – приговаривал он.
Каренина вышла из вагона вместе с братом, за ними, чуть позади следовали Маленький Стива и Андроид Каренина. Анна глубоко задумалась: дважды за последние полчаса ее охватывало беспокойство, душу застила тень ужаса. Это чувство впервые появилось, когда станцию сотрясло от взрыва, во второй раз оно посетило в секунду, когда она взглянула на край платформы и увидала, несмотря на старания Вронского отгородить ее от ужасающего зрелища, обезображенного тела.
Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивлением увидал, что губы ее дрожат, и она с трудом удерживает слезы.
– Что с тобой, Анна? – спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.
– Эта смерть имеет какоето отношение ко мне, – сказала она. – Но я не понимаю – какое.
– Какие пустяки! – сказал Степан Аркадьич. Его веселая натура отторгала хаос и вообще всякие неприятные впечатления, связанные со смертью.
– Наши 77е обнаружили изменника, и они действовали быстро и соответствующе ситуации. Браво и хвала Богу за то, что у нас есть неутомимые защитники! Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя.
– А ты давно знаешь Вронского? – спросила она, стараясь поддержать легкий тон брата. Она взглянула на Андроида Каренину, которая сияла успокоительным нежным лавандовым светом. Андроид никогда не разговаривала, что было необычно для роботов III класса. Она только поддерживала в хозяйке своим ободряющим присутствием чувство собственного достоинства.
– Да, – весело ответил Стива. – Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.
– Да? – тихо сказала Анна. – Ну, теперь давай говорить о тебе, – прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать чтото лишнее и мешавшее ей. – Давай говорить о твоих делах… Я получила твое письмо и вот приехала.
– Да, вся надежда на тебя, – сказал Степан Аркадьич.
– Ну, расскажи мне все.
Хотя Дарья Александровна и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала золовку.
Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна, золовка, была жена важного человека из Высшего Руководства Министерства и петербургская grande dame. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет золовка вместе со своим элегантным горделивым Андроидом.
– Да, наконец, Анна ни в чем не виновата, – сказала она Доличке, которая энергично закивала в знак согласия.
– О да, ее совершенно не в чем винить, она душенька!
– Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу.
– Только дружбу, искреннюю дружбу!
Правда, сколько она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их; Каренин не отличался от многих министерских людей – тех, кого знала Долли, – он был сухим, замкнутым человеком. Чтото было фальшивое во всем складе их семейного быта.
– Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня! – сказала она Доличке, когда они вместе складывали белье.
Та в ответ закудахтала:
– О нет. Надеюсь, что нет.
– Все утешения, и увещания, и прощения христианские – все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится.
– Не годится, совсем не годится!
Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что, так или иначе, она Анне выскажет все, и то ее радовала мысль о том, как она все выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения.
Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала, как трижды радостно прозвонил I/Дверной звонок/6.
Она встала и обняла золовку.
– Как, уж приехала? – сказала она, целуя ее. Доличка отвесила низкий поклон Андроиду Карениной, та лишь сдержанно кивнула в ответ.
– Долли, как я рада тебя видеть! – воскликнула Анна.
– И я рада, – слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, знает ли она, сказала Долли. «Верно, знает», – подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. – Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минуту объяснения.
Анна поздоровалась с детьми, отдала платок и шляпу Андроиду и встряхнула головой, освобождая свои черные кудри.
– А ты сияешь счастьем и здоровьем! – сказала Долли почти с завистью.
– Я?.. Да, – сказала Анна.
Они расположились в гостиной, чтобы выпить кофе. Анна знаком приказала Андроиду перейти в Спящий Режим. Затем она взялась за поднос и потом отодвинула его.
– Долли, – сказала она, – он говорил мне.
Долли выключила своего робота и холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворносочувственных фраз; но Анна ничего такого не сказала.
– Долли, милая! – сказала она. – Я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать; это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой!
Изза густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своею энергическою маленькою рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала:
– Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было, все пропало!
И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала:
– Но, Долли, что же делать, что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? Вот о чем тебе надо подумать.
– Все кончено, и больше ничего, – сказала Долли. – И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить; дети, я связана. А с ним жить я не могу, мне мука видеть его.
– Долли, дорогая, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все.
Долли посмотрела на нее вопросительно.
Участие и любовь видны были на лице Анны.
– Изволь, – вдруг сказала она. – Но я расскажу с самого сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием maman не только была невинна, ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам своим о прежней жизни, но Стива… – она поправилась, – Степан Аркадьич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сих пор думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями вдруг обнаружить это послание, узнать весь ужас, всю гадость… Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастье, и вдруг… – продолжала Долли, удерживая рыданья, – любовница, моя mécanicienne, в перепачканном машинным маслом комбинезоне и с бритвенными лезвиями под ногтями! Нет, это слишком ужасно! – Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. – Я понимаю еще увлечение, – продолжала она, помолчав, – но обдуманно, хитро обманывать меня… с кем же?.. Продолжать быть моим мужем вместе с нею… это ужасно! Ты не можешь понять…
– О нет, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю, – говорила Анна, пожимая ее руку.
– И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения? – продолжала Долли. – Нисколько! Он счастлив и доволен.
– О нет! – быстро перебила Анна. – Он жалок, он убит раскаяньем…
– Способен ли он к раскаянью? – перебила Долли, внимательно вглядываясь в лицо золовки.
– Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло (и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли)… – его мучают две вещи: то, что ему стыдно перед детьми, и то, что он, любя тебя… да, да, любя больше всего на свете, – поспешно перебила она хотевшую возражать Долли, – сделал тебе больно, убил тебя. «Нет, нет, она не простит», – все говорит он.
Долли задумчиво смотрела мимо золовки, слушая ее слова, а затем гневно воскликнула:
– Она ведь молода, ведь она красива, разбирается во всех этих технических премудростях. Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кем? Им и его детьми.
В ее глазах вновь появилась злоба.
– После этого он будет говорить мне… Что ж, я буду верить ему? Никогда! Нет, уж кончено все, все, что составляло утешенье, награду труда, мук… Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его.
Долли затихла, и они минуты две помолчали.
– Что делать, подумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу.
Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки.
– Я одно скажу, – начала Анна, – я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она провела рукой перед лицом Дарьи Александровны, будто воспоминания человека можно было стереть, точно так же, как у роботов III класса), эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал.
– Нет, он понимает, он понимал! – перебила Долли. – Но я… ты забываешь меня… разве мне легче?
Анна прервала ее, целуя еще раз ее руку.
– Я больше тебя знаю свет, – сказала она. – Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Они какуюто выстраивают непроходимую электрическую стену между семьей и этими увлечениями. Я этого не понимаю, но это так.
– Да, но он целовал ее…
– Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе, и какая поэзия и высота была ты для него, и я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял: «Долли удивительная женщина». Ты для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его…
– Но если это увлечение повторится?
– Оно не может, как я понимаю…
– Да, но ты простила бы?
– Не знаю, не могу судить… Нет, могу, – сказала Анна, подумав; и, уловив положение и взвесив его на внутренних весах, прибавила: – Нет, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы, и так простила бы, как будто этого не было, совсем не было.
– Ну, разумеется, – быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раз думала, – иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, совсем. Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – сказала она, поднявшись, и включила Доличку. Анна последовала ее примеру и включила своего Андроида. Как только роботы пришли в себя, их хозяйки обнялись.
– Милая моя, как я рада, что ты приехала, – сказала Долли и вежливо поклонилась Андроиду Карениной, которая в ответ благодушно склонила голову, заменив этим движением улыбку, – что вы приехали. Мне легче, гораздо легче стало.
Весь день этот Анна и Андроид Каренина провели дома, то есть у Облонских, и не принимали никого, так как уж некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день. Анна все утро провела с Долли и с детьми. Она только послала записочку к брату, чтоб он непременно обедал дома. «Приезжай, Бог милостив», – писала она.
Облонский обедал дома; разговор был общий, и жена говорила с ним, называя его на «ты», чего прежде не было. В отношениях мужа с женой оставалась та же отчужденность, но уже не было речи о разлуке, и Степан Аркадьич видел возможность объяснения и примирения. Маленький Стива, по обыкновению прислуживавший хозяину за столом, даже осмелился игриво подмигнуть Доличке красными лампочками фронтального дисплея. Она отвернулась, однако пощечины не дала.
Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну, но очень мало, и ехала теперь к сестре не без страху пред тем, как ее примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне, – это она увидела сейчас. Анна, очевидно, любовалась ее красотою и молодостью, и не успела Кити опомниться, как она уже чувствовала себя не только под ее влиянием, но чувствовала себя влюбленною в нее, как способны влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам. Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе Кити.
Кити чувствовала, что и ее Андроид Каренина была совершенна в своем безмолвии, что в нем был другой какойто, высший мир интересов, недоступных, сложных и поэтических. Это отличало ее от всех тех роботов, что Кити видела в своей жизни.
После обеда, когда Долли вышла в свою комнату, Анна быстро встала и подошла к брату, прикуривавшему сигару от раскрытой грозниевой печки, пылавшей в корпусе Маленького Стивы.
– Стива, – сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая на дверь глазами. – Иди и помогай тебе Бог.
Он бросил сигару внутрь Маленького Стивы, в котором она сгорела дотла, подмигнул в ответ сестре и скрылся за дверью.
– Так теперь когда же бал? – обратилась она к Кити.
– На будущей неделе, и прекрасный бал. Наконецто я уже в том возрасте, когда смогу получить своего собственного роботакомпаньона.
– Поздравляю! – вымолвила Анна Аркадьевна, пытаясь вспомнить тот давний период своей жизни до того, как ей вручили Андроида Каренину, – она с трудом вспоминала время, когда она не ощущала комфортного присутствия роботакомпаньона.
– Да, – радостно добавила Кити, – один из тех балов, на которых всегда весело.
– Для меня уж нет таких балов, где весело, – сказала Анна, и Кити увидела в ее глазах тот особенный мир, который ей не был открыт. – Для меня есть такие, на которых менее трудно и скучно…
– Как может быть вам скучно на бале?
– Отчего же мне не может быть скучно на бале? – спросила Анна.
– Оттого, что вы всегда лучше всех.
Анна имела способность краснеть. Она покраснела и сказала:
– Вопервых, никогда; а вовторых, если б это и было, то зачем мне это?
– Вы поедете на этот бал? – спросила Кити. – Я очень рада буду, если вы поедете. Я так хочу увидеть, как вы танцуете.
– По крайней мере, если придется ехать, я буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие…
– Я воображаю вас и вашего робота, блистающих на балу в лиловом, – сказала Кити и бросила быстрый взгляд на Андроида Каренину, которая, повернувшись лицевой панелью к окну, пристально смотрела на непрерывно и медленно вращающийся Глаз на Башне.
– Отчего же непременно в лиловом? – улыбаясь, спросила Анна. Роботов III класса для выхода в свет программировали переливаться всем корпусом причудливыми цветами, чтобы придать внешнему виду своего хозяина дополнительную изюминку – je nе sais quoi, как говорят французы.
– А я знаю, отчего вы зовете меня на бал. Вы ждете, что покинете этот бал не только с роботомкомпаньоном, но и с человеком компаньоном! И вам хочется, чтобы все тут были, все принимали участие.
– Почем вы знаете? Да.
– О! Как хорошо ваше время, – продолжала Анна. – Помню это ощущение, будто земное притяжение ослабло, и ты паришь не только на балу, но и повсюду! Этот туман, который покрывает все в блаженное то время, когда вотвот кончится детство, и из этого огромного круга, счастливого, веселого, делается путь все уже и уже, и весело и жутко входить в этот бальный зал, хотя он и кажется и светлым, и прекрасным… Кто не прошел через это?
Кити молча улыбалась. «Но как же она прошла через это? Как бы я желала знать весь ее роман», – подумала Кити, вспоминая непоэтическую наружность Алексея Александровича, ее мужа.
– Я знаю коечто. Стива мне говорил, и поздравляю вас, он мне очень нравится, – продолжала Анна, – я встретила Вронского на Антигравистанции.
– Ах, он был там? – спросила Кити покраснев. – Что же Стива сказал вам?
– Стива мне все разболтал. И я очень была бы рада. Я ехала вчера с матерью Вронского, – продолжала она, – и мать, не умолкая, говорила мне про него; это ее любимец; я знаю, как матери пристрастны, но…
– Что ж мать рассказывала вам?
– Ах, много! И я знаю, что он ее любимец, но всетаки видно, что это рыцарь… Ну, например, она рассказывала, что он участвовал в Пограничных Войнах, а сейчас вместе со своим батальоном охотится на активистов СНУ. Он сокрушил множество кощеев и тем самым спас жизни сотням людей. Словом, герой, – сказала Анна.
Но она не рассказала Кити о том, как тот галантно отгородил ее от ужасающего зрелища – мертвого тела, распростертого на магнитном ложе. Она уже собиралась поведать об этом, но взглянув на Андроида Каренину: та неведомым образом заставила хозяйку понять, что думать об этом всем ей было неприятно. Анна чувствовала, что в этом было чтото касающееся до нее и такое, чего не должно было быть.
Вскоре из комнаты вышли Стива и Долли. Их роботы шумно катились позади, словно малые дети. Кити и Анна поняли, что примирение состоялось. Весь вечер, как всегда, Долли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степан Аркадьич доволен и весел, но настолько, чтобы не показать, что он, будучи прощен, забыл свою вину.
В половине десятого особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым, повидимому, простым событием. Но это простое событие почемуто всем показалось странным. Анна захотела показать свои Воспоминания о сыне Сереже на мониторе Андроида, но прежде нужно было его отполировать до блеска. Она встала и своею легкою, решительною походкой пошла наверх в свою комнату за бархоткой, которую держала в саквояже.
Лестница наверх, в ее комнату, выходила на площадку большой входной теплой лестницы. В то время как она выходила из гостиной, в передней послышался I/Дверной звонок/6.
– Кто это может быть? – сказала Долли.
– За мной рано, а еще комунибудь поздно, – заметила Кити.
– Верно, ктонибудь из Министерства ко мне, – прибавил Степан Аркадьич. Когда Анна проходила мимо лестницы, робот II класса торопился наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского – потрескивание огненного кнута и очертания двух испепелителей развеивали последние сомнения.
Странное чувство удовольствия и вместе страха чегото вдруг шевельнулось у нее в сердце. Взглянув на Вронского, она невольно вспомнила ужасающий взрыв, который прогремел в небе над Антигравистанцией.
Он стоял, не снимая своего поблескивающего серебристого пальто, и чтото доставал из кармана. В ту минуту, как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидал ее, и в выражении его лица сделалось чтото пристыженное и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьича, звавшего его войти, и негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского.
Когда Анна вернулась в гостиную, его уже не было, и Степан Аркадьич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали.
– И ни за что не хотел войти. Какойто он странный, – прибавил Степан Аркадьич.
Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и отчего не вошел. «Он был у нас, – думала она, – и не застал и подумал, я здесь; но не вошел, оттого что думал – поздно, и Анна здесь».
Все переглянулись, ничего не сказав, и стали смотреть на монитор Андроида Карениной, на котором одно за другим проплывали Воспоминания матери о ее красивом маленьком сыне.
Бал только что начался, когда Кити с матерью вошла на большую, уставленную цветами и II/Лакеями/74 в красных кафтанах, залитую светом лестницу. Стоя на верхней площадке лестницы и держась за перила, они с нетерпением ждали сигнала, который должен был оповестить о том, что потоки воздуха начинают поступать из труб, скрытых за полом и за стенами. И едва прозвучали первые такты вальса, мать и дочь пружинисто оттолкнулись от пола и, поймав поток воздуха, закружились в вальсе над залой. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, помахал им, неуклюже проплывая мимо на воздушном облаке, но поменял направление и неловко вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Он поклонился и, поймав следующий поток воздуха, поплыл дальше, поглаживая усики и любуясь на розовую Кити.
Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вплыла в зал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, кружась в танце, порхая то вверх, то вниз, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху.
Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Она уже попросила отца, чтобы ее будущий роботкомпаньон был обтянут мягким бархатом: Кити хотела внешне соответствовать своему роботу, когда он прибудет на бал. Во всем другом могло еще быть сомненье, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности.
Не успела она оттолкнуться от лестницы и полететь к тюлеволентокружевноцветной толпе дам, парящих в тщательно контролируемых потоках воздуха, как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтоб обнять ее тонкую талию. Услыхав сигнал о подаче следующей порции воздуха, он вместе с Кити взмыл вверх. Они быстро поднялись на трех попутных облаках, платье Кити трепетало в полете, пара неслась над толпами дам и элегантных кавалеров, приглашающих на танец своих избранниц.
Три полка роботов 77го стояли на страже по краям вдоль бальной залы. Их массивные металлические фигуры излучали уверенность и бесстрашие, головы беспрестанно вращались, сканируя окружающее пространство, в то время как вокруг царило легкое веселье и публика беззаботно парила в танце. Смотритель в золотом мундире с эполетами внимательно следил за толпой.
– Как хорошо, что вы приехали вовремя, – сказал Корсунский Кити, когда они переменили ногу и с головокружительной быстротой взмыли вверх в трехтактном вальсе, – а то, что за манера опаздывать.
Она положила, согнувши, левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых башмаках быстро, легко и мерно задвигались за ее партнером, все выше и выше; вальсирующие ловко перескакивали с одного потока воздуха на другой, кружась все ближе и ближе к потолку.
– Отдыхаешь, вальсируя с вами, – сказал он ей, в то время как они скользили в вальсе. – Прелесть, какая легкость, precision,[7] – говорил он ей то, что говорил почти всем хорошим знакомым.
Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление; она и не была затасканная по балам девушка, которой все лица бала так знакомы, что наскучили; но она была на середине этих двух, – она была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать.
Кити стала разглядывать соседние пары вальсирующих, в то время как ритм музыки сменился с тройного на привычный двухтактный. Замедлилась и подача воздуха: быстрые и головокружительные воздушные потоки вальса, вырывавшиеся со звуком «пуфпуфпуф», сменились контролируемыми сериями мощных порывов.
Делая медленный пируэт, в воздухе кружилась красавица Лиди, жена Корсунского; там была хозяйка, проплывшая мимо почти параллельно полу; старый Кривин, всегда бывший там, где цвет общества, спиной отталкивался от упругих воздушных потоков и комично перебирал ногами, словно бы крутил педали невидимого велосипеда. Внизу, среди кресел, Кити нашла глазами Стиву и потом увидела прелестную фигуру и голову Анны; рядом была и Андроид Каренина, сияя не лиловым, а черным цветом.
И он был тут. Серебряный мундир блестел в свете свечей, свернутый огненный хлыст недобро потрескивал, покоясь на бедре хозяина. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Своими дальнозоркими глазами она тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрел на нее.
– Куда же отвести вас? – слегка запыхавшись, спросил Корсунский, как только музыка подошла к концу и потоки воздуха стали ослабевать, приближая танцующих к полу с каждым новым дуновением.
– Каренина тут, кажется… отведите меня к ней.
– Куда прикажете.
И Корсунский завальсировал вниз, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая: «Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames», и лавируя между морем кружев, тюля и лент.
– Это одна из моих вернейших помощниц, – сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще; он и Андроид Каренина учтиво кивнули друг другу. – Анна Аркадьевна, тур вальса, – сказал он, нагибаясь.
– Я не танцую, когда можно не танцевать, – сказала она.
– Но нынче нельзя, – отвечал Корсунский.
В это время подходил Вронский.
– Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, – сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского. Прозвучал сигнал к началу нового танца, и вновь запыхтели спрятанные в стенах трубы – Корсунский вместе с партнершей взмыл в воздух.
«За что она недовольна им?» – подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой кадрили и сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь, на вальсировавшую Анну и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, чрез несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце.
Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что они приподнялись над полом, как вдруг раздался свисток, музыка остановилась, воздушные потоки внезапно исчезли, и публика повалилась наземь.
Приземлившись, Кити вскрикнула, но не от боли – пол был предусмотрительно устелен матами с гагачьим пухом внутри, – а от неожиданности, которая была унизительнее всего из всех возможных последствий. Еще недавно парившие в воздухе гости бала смеялись или просили о помощи; растерянная и смущенная Кити еще более зарделась, обнаружив себя в объятиях Вронского. Он молча помог ей подняться.
Корсунский приземлился прямо на Каренину. Решив, что случившееся всего лишь случайность, он отнесся к инциденту с добродушной веселостью, но вдруг их с Анной Аркадьевной окружили четыре робота из 77го. Смотритель, являвшийся истинной причиной всеобщего падения, решительно шел к ним навстречу, волоча за собой круглого яркооранжевого робота III класса, который чтото неразборчиво бормотал.
– Ваше превосходительство, – начал Смотритель, на чьем лице красовались черные элегантные усики и самодовольная улыбка, – можете ли вы подтвердить происхождение этого робота?
– Как же, могу, – с готовностью ответил Корсунский и отошел от Карениной к своему роботукомпаньону. – Это мой робот III класса, зовут Портикулис. Возникли какието затруднения?
Кити видела, как Корсунский переводил свой обеспокоенный взгляд со своего робота на пристально наблюдающего за ним Смотрителя и на внушительные манипуляторы его подопечных.
– Простите, Ваше превосходительство. Я не спрашивал, как зовут этого робота и кто его хозяин. Я спросил, можете ли вы поручиться за его происхождение?
Голос Смотрителя становился все требовательнее. Отведя глаза от Корсунского, Кити увидела Анну. Ее Андроид не горел лиловым, как того непременно желала Кити. Вместо этого она была украшена тончайшими бархатными лентами, великолепно оттенявшими точеные, как старой слоновой кости, шею и плечи хозяйки и ее округлые руки с тонкою крошечною кистью. На голове у Карениной, в ее черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчуга.
Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета и что свечение, исходящее от ее робота, никогда не могло быть видно на ней. И света этого не было видно на ней; и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная.
– Трудность заключается в том, – продолжал Смотритель мягким, почти упрашивающим тоном, – что враги государства вмонтировали в этого робота диктофонпередатчик, и потому, к великому сожалению, он должен быть уничтожен.
Собравшаяся вокруг толпа ахнула, а затем над залом прокатилась волна возмущения и взволнованных возгласов. Корсунский в растерянности всплеснул руками.
– О чем вы говорите! Этого не может быть! Я не имею никакого отношения к СНУ!
– Никто этого и не говорил, – ответил Смотритель, поджав губы настолько, что они были едва различимы на его лице. – Никто, кроме вас. Тем не менее хочу довести до вашего сведения, что он был взломан и потому подлежит уничтожению.
– Постойте! Нет, нет! – вскрикнул Корсунский, когда огромные 77е с вращающимися головами окружили его маленького оранжевого робота, хрипящего и жужжащего от ужаса. – Портикулис!
Вронский оставил Кити и направился через зал к окруженному роботу и его перепуганному хозяину. Он поднял руки в знак успокоения. Смотритель, увидав серебряный мундир и чувствуя важность приближавшегося к ним военного, отступил на шаг назад и дал знак своим подчиненным расступиться, чтобы позволить Вронскому войти в тесное кольцо окружения.
– Алексей Кириллович, – с мольбой в голосе обратился к нему Корсунский, понимая, что предоставляется шанс поправить дело. – Перед вами старый, обожаемый всей семьей андроид. Он принадлежал еще моему дедушке, а перед тем – его деду. Этот робот бок о бок сражался с ним в Казахстане!
– В Киргизстане , – вставил Портикулис.
– Бога ради, не поправляй меня! Только не сейчас! – вскрикнул Корсунский.
– Простите, простите.
Вронский задумался, его мудрое и вместе с тем исполненное сознанием долга лицо нахмурилось.
– Если этот робот работает на СНУ, его нужно уничтожить, и история его жизни в семье ничем не поможет.
Корсунский всхлипнул и молча закивал головой. И все присутствующие отвели взгляд, чувствуя не только весь ужас его положения, но и стыд за его не мужественное поведение.
– И все же, – продолжил Вронский сочувственно, – было бы несправедливо беспричинно лишать вас любимого роботакомпаньона.
– При всем моем уважении, граф, – перебил Вронского Смотритель, с волнением поглядывая на раскрасневшееся от переживаний лицо Корсунского, – в таких ситуациях не существует безопасных методов проверки; как вы, должно быть, знаете, роботы с установленными в них передатчиками часто оснащаются и пусковыми механизмами, приводящими бомбу в действие.
Вронский, явно удивленный наглостью Смотрителя, позволившего себе усомниться в его осведомленности, еще мгновение задумчиво стоял, поглаживая большим пальцем рукоятку огненного хлыста. Кити наблюдала за ним в отдалении. С ранящей ясностью она увидала вдруг, что Вронский, несмотря на всю серьезность ситуации, отвлекся и бросил быстрый взгляд на Анну Аркадьевну, чтобы убедиться в том, что он владеет ее вниманием.
Он встряхнул головой и склонился к бормочущему оранжевому роботу. Не дожидаясь разрешения от Смотрителя, он бережно и, явно совершая это не в первый раз, снял внешние защитные пластины и вскрыл корпус сервомеханизма.
Настала длительная минута ожидания; наблюдая за происходящим, Корсунский заламывал руки и бессильно постанывал, стоя между двумя огромными роботами 77го.
– Да, – наконец произнес Вронский, выпрямляясь и вытирая перепачканные машинным маслом руки о свои совершенно гладкие серебристые брюки. – Это робот Януса.
– Нет! Не может быть! – Корсунский задрожал всем телом, по его лицу покатились слезы.
Не теряя больше ни минуты, Смотритель отдал приказ своим роботам: из их корпусов зазмеились провода и принялись искать необходимые точки крепления на широком оранжевом корпусе задержанного. Портикулис дико трясся, вскрикивая и попискивая от ужаса.
– Нет, – сказал Вронский 77м, – позвольте мне.
– Алексей Кириллович! Пожалуйста… – произнес Корсунский умоляюще. Воздух мгновенно раскалился от огня. Вронскому потребовалась секунда, чтобы выхватить из кобуры свои испепелители: он несколько раз выстрелил в лицо андроиду, и Портикулис развалился на части.
– Боже! – вскрикнул Корсунский, бросаясь на колени перед останками своего робота, который уже никогда более не сможет успокоить своего хозяина в минуты невзгод. – Милостивый Боже!
Толпа, неизменно сочувствуя горю Корсунского, возбужденно захлопала – опасность миновала, враг государства уничтожен и, что было самым главным для молодых романтически настроенных людей, пришедших веселиться, а не глазеть на роботовшпионов и лазерную перестрелку, бал мог быть продолжен. Вновь заиграла музыка, в зал подали воздух, прозвучал сигнал, и вальс закружился с новой силой.
Вронский вложил в кобуру испепелители и вместе с Кити прошел несколько туров вальса. После первого танца Кити вернулась к матери, но она едва ли успела сказать слово ей и графине Нордстон, как Вронский подошел вновь для первой кадрили. Воздушные потоки стали энергичнее и вырывались из труб то быстрее, то медленнее, сильнее и тише, как того требовала музыка, – во время кадрили ничего значительного не было сказано, и только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала, только когда чувствовала себя слишком усталою и просила отдыха. Но, танцуя последнюю кадриль с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть visàvis[8] с Вронским и Анной.
Она не сходилась с Анной с самого момента уничтожения робота Корсунского и тут вдруг увидала ее опять совершенно новою и неожиданною. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки и видела их на Анне – видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений.
«Нет, это не любованье толпы опьянило ее, а восхищение одного. И этот один? Неужели это он?» Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице.
«Но что он?» Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялось в зеркале лица Анны, она увидела на нем. Куда делась его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу, – каждый раз как будто говорил его взгляд, – но спасти себя хочу, и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде.
– Кити, что ж это такое? – сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. – Я не понимаю этого.
У Кити дрогнула нижняя губа; она быстро встала.
– Кити, прозвучал сигнал; разве ты не танцуешь мазурку?
– Нет, нет, – сказала Кити дрожащим от слез голосом.
Графиня нашла Корсунского, с которым должна была танцевать мазурку; равнодушный к происходящему вокруг, он сидел в углу, то и дело всхлипывая и поглаживая расплавленную голову своего робота, покоящуюся у него на коленях. Графиня встряхнула его, велела взять себя в руки и пригласить Кити на танец.
Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время сокрушался о своем дорогом Портикулисе, приговаривая: «Здесь должна быть какаято ошибка, должна !»
Вронский с Анной парили почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, взмывали вверх и падали, и менялись местами на этих быстрых, в такт мазурке, воздушных порывах. И чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастие ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале.
И на лице Вронского, всегда столь твердом и независимом, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата.
Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какаято сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было чтото ужасное и жестокое в ее прелести.
Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленною, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее – так она изменилась.
– Прекрасный бал! – сказал он ей, чтобы сказать чегонибудь.
– Да, – отвечала она.
Бал продолжался, Кити получила ее собственного робота III класса. Высокий изящный андроид имел стройный стан и был покрашен в розовый – ровно в такой, какого цвета были костюмы у балерин и о котором с детства мечтала Кити. Робот был назван Татьяна, и красоту его встретили бурными аплодисментами толпы. Но Кити с трудом смогла заставить себя улыбнуться в знак благодарности. Пробыв на балу еще немного, она поспешно покинула бал, ее новый роботкомпаньон поспешила следом в хлопающей на бегу пачке.
– Да, чтото есть во мне противное, отталкивающее, – с горечью обратился Левин к Сократу.
Тот в ответ с неохотой кивнул своей желтой металлической головой. Вместе они вышли от Щербацких и пешком направились к брату Николаю.
– И не гожусь я для других людей. Гордость, говорят. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение.
И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и покойного, с вьющимся у ног его красивым волком III класса. Левин чувствовал, что никогда, наверное, Вронский не бывал в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером.
– Да, она должна была выбрать его.
– Так надо , – грустно согласился Сократ, – и жаловаться вам не на кого и не на что.
– Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею?
– Кто вы? И что вы?
– Ничтожный человек, никому и ни для кого ненужный.
Они тяжело вздохнули. Пытаясь привлечь внимание хозяина к скорой встрече с братом, Сократ активировал свой монитор и вывел на него ряд Воспоминаний о Николае: вот он шатается пьяный, насмешливый, с презрением ко всему миру и людям, его населяющим.
– Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко?
– Нет, не прав, – ответил Сократ, настроенный так, чтобы сохранять равновесие между угрюмым настроением хозяина и трезвым анализом ситуации.
– И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае? Разумеется, с точки зрения человека, видевшего его в оборванном пальто, пьяного, в обнимку с этим помятым, старым и перепачканным маслом роботом, он презренный человек. Но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я, вместо того чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда. – Левин подошел к фонарю, прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и подозвал II/Извозчика/372. Всю длинную дорогу до брата Левин просматривал живые Воспоминания о всех известных ему событиях из жизни брата Николая.
Смотрел он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; и потом как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул; по слухам, он даже имел определенного рода отношения с роботами, которые были строго запрещены даже либеральными законами Министерства, не говоря уже о законе Божьем.
Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца.
Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился со своим неудержимым характером и стесненным чемто умом. Но он всегда хотел быть хорошим. И сейчас, как написал ему Николай, он был болен, сильно болен, хотя природа его недуга оставалась неясной.
«Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его», – решил сам с собою Левин, подъезжая в одиннадцатом часу к гостинице, указанной на адресе.
– Наверху двенадцатый и тринадцатый, – автоматически ответил II/Швейцар/7е62 на вопрос Левина.
Дверь двенадцатого номера была полуотворена, и оттуда, в полосе света, выходил густой дым дурного и слабого табаку и слышался незнакомый Левину женский голос; но Левин тотчас же узнал, что брат тут; он услышал его покашливанье.
– Кого нужно? – сердито сказал голос Николая Левина.
– Это я, – отвечал Константин Левин, выходя на свет.
– Кто я? – еще сердитее повторил голос Николая.
Слышно было, как он быстро встал, зацепив за чтото, и Левин увидел перед собою в дверях столь знакомую и всетаки поражающую своею дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата, с его большими испуганными глазами. Карнак, сгорбившись, сидел в темном углу. Это был перепачканный маслом измятый андроид, более похожий на консервную банку, с чернооранжевыми полосами ржавчины и коррозии на боках медного цвета.
Николай был еще худее, чем три года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук. И руки, и широкие кости казались еще огромнее. Волосы стали реже, те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего.
– А, Костя! – вдруг проговорил он, узнав брата, и глаза его засветились радостью.
Карнак поднял скрипучую голову и устало застонал. Через секунду на лице брата остановилось совсем другое, дикое, страдальческое и жестокое выражение.
– Я писал вам, что я вас не знаю и не хочу знать. Что тебе, что вам нужно?
Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжелое и дурное в его характере, то, что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем; и теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачиванье головы, он вспомнил все это. Карнак рыгнул со странным металлическим призвуком, и внутри него с оглушительным визгом сцепились какието шестеренки.
– Мне ни для чего не нужно видеть тебя, – робко отвечал он. – Я просто приехал тебя видеть.
Робость брата, видимо, смягчила Николая. Он дернулся губами. Впервые Левин заметил маленькую серую пустулу, пульсирующую над левым веком брата.
– Приехал повидать меня… Так, значит? – сказал он со злостью.
– Таааааак, значиииит, – захрипел Карнак. Сократ отступил на шаг назад от другого робота, словно бы боясь подхватить от него ржавчину и слабость шестеренок.
– Что ж, входи, садись, – сказал Николай. – Хочешь ужинать? Маша, три порции и свежего влагопоглощающего реагента для роботов. Нет, постой. Ты знаешь, кто это? – обратился он к брату, указывая на женщину. – Эта женщина, – моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома, – от этих слов Левин покраснел, зная, о чем говорит брат. – Но люблю ее и уважаю и всех, кто меня хочет знать, – прибавил он, возвышая голос и хмурясь, – прошу любить и уважать ее. Она все равно что моя жена, все равно. Так вот, ты знаешь, с кем имеешь дело. И если думаешь, что ты унизишься, так вот бог, а вот порог.
И опять глаза его вопросительно обежали всех. Большая ржавая голова Карнака перевалилась на другую сторону.
– Отчего же я унижусь, я не понимаю.
– Так вели, Маша, принести ужинать: три порции, влагопоглощающего реагента, водки и вина… Нет, постой… Нет, не надо… Иди.
Когда они принялись есть, Николай выплюнул на пол несколько больших сгустков слизи, и Левин заметил еще одну серую пустулу, несколько бо льшую, чем первая, пульсирующую на щеке брата. Было трудно есть.
– Да, разумеется, – сказал Константин, когда его брат принялся рассказывать о своем новом плане по созданию артели для роботов III класса. Он старался не замечать румянец, выступивший под выдающимися костями щек брата.
– Но зачем нужно такое объединение? В чем его суть?
– В чем суть? Да в том, что роботы были превращены в рабов, ровно так же, как и крестьяне в царские времена. Мы относимся к ним как к неживым объектам, потому что создали их, но, создавая этих роботов, мы наградили их сознанием и свободной волей.
– Свободной волей, которую ограничивают Железные Законы, – напомнил Левин брату.
– Да, да, Железные Законы. Однако же свободой волеизъявления они все же обладают, своеобразной свободой. И так же, как Господь Бог позволил человеку управляться со своей жизнью по собственному разумению, так и мы должны предоставить этим чудесным роботам возможность попробовать свои силы и освободиться от рабства, – произнес Николай, раздраженный тем, что ему возразили. Он указал на Карнака, словно бы великолепие его собственного робота могло послужить прекрасной иллюстрацией сказанному. В ту же секунду одна из конечностей Карнака отвалилась со слабым металлическим лязгом.
Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату, мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, еще более раздражил Николая. Ему все труднее было говорить изза приступов кашля, сотрясавших все его тело. В конце концов, он вышел из номера, чтобы уже как следует откашляться, и зло объявил, что находит в этом особое удовольствие – удовольствие бомбардировать своей мокротой проезжающие экипажи; это было одно из тех немногих наслаждений, которые жизнь все еще доставляла ему.
– А вы давно с братом? – спросил Левин Марью Николаевну.
– Да вот уж второй год, – сказала она, понизив голос и отвернувшись от сенсоров Карнака, хотя самому Левину казалось, что это излишняя предосторожность и датчики робота и так немилосердно затуманены и мало что способны были улавливать. – Здоровье их очень плохо стало. Пьют много, – сказала она.
– То есть как пьет?
– Водку пьют, а им вредно.
– А разве много? – прошептал Левин.
– Да, – сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин.
Он продолжил свои утомительные речи и вдруг высказал странное предупреждение:
– Если мы не позволим им управлять своей собственной судьбой, то они будут управлять нашими.
Язык его стал мешаться, и он пошел перескакивать с одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного.
Маша обещала писать Константину в случае нужды, и они расстались. Спускаясь по скрипучей лестнице вместе с Сократом, Левин пришел к выводу, что с братом происходило чтото неладное, и причиной тому был не только и не столько алкоголь. Он стал гадать, в чем же дело.
Утром Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой. Дорогой, в Антиграве, он разговаривал с соседями о политике, о новых дорогах, и, так же как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд пред чемто. Но когда он вышел на своей станции, узнал огромного II/Кучера/47Т с его крепким корпусом, сидящего строго перпендикулярно рычагам управления, когда увидал в неярком свете, падающем из окон станции, свои сани, запряженные четырехгусеничным Тягачом в сбруе с кольцами и мохрами, когда II/Кучер/47Т рассказал ему деревенские новости, он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется. Он чувствовал себя собой и другим не хотел быть. Он хотел теперь быть только лучше, чем он был прежде.
Отъехав от станции, Левин почувствовал тепло: жар этот излучала шахта, его собственная огромная грозниевая шахта, он ощутил ее согревающее дыхание за несколько верст до того, как она стала видна. Наконец он подъехал к широкому каменистому кратеру, чтобы создать его, понадобился мощный взрыв. Шахта была полверсты длиной и версту шириной, ее грубые стены круто спускались вниз, к самому дну, ухабистому и покрытому камнями. Там, внизу, горели тысячи маленьких огней плавильных печей, круглые сутки оттуда неслись звуки ударов лопат и кирок.
Левин слез с саней, энергично помахал рукой группе роботовшахтеров; их темносерые корпуса были изрядно помяты, однако попрежнему производили впечатление крепких конструкций на широком гусеничном ходу. Левин надел защитные очки и подошел к краю шахты. Он посмотрел вниз, туда, где на дне широкого кратера трудились десятки роботов, старательных и трудолюбивых, как пчелы; они сновали взад и вперед, вгрызаясь в тело Земли своими кирками. Левин чувствовал, что малопомалу путаница рассеивалась, стыд и недовольство собой стихали.
Он сделал последний глоток сернистого воздуха шахты и вместе с Сократом направился к дому, стоявшему в стороне от кратера. Пока они шли, Левин делился с роботом своими новыми мыслями.
– Вопервых, с этого дня я не буду больше надеяться на необыкновенное счастье, какое мне должна была дать женитьба, – сказал он.
– Пункт первый, никакого счастья для вас, – точно повторил Сократ; вводная конструкция «вопервых», произнесенная Левиным, запустила в роботе функцию записи и сохранения информации.
– Вследствие этого я не буду так пренебрегать настоящим.
– Подпункт один: нет счастья – нет пренебрежения.
– Вовторых, я уже никогда не позволю себе увлечься гадкою страстью, воспоминанье о которой так мучило меня, когда я собирался сделать предложение.
– Пункт второй: отсутствие гадкой страсти.
Потом, вспомнив о брате, Левин сделал еще одно заявление:
– Никогда уже не позволю себе забыть его.
– Пункт третий: посвятить себя заботе о брате.
– Буду следить за ним и не выпущу его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда ему придется плохо.
Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой mécanicienne, исполнявшей в его доме роль экономки, падал свет на снег площадки пред домом. Она не спала еще.
– Скоро ж, батюшка, вернулись, – сказала Агафья Михайловна.
– Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома лучше, – отвечал он ей и вместе с Сократом прошел в кабинет.
«Ну, все кончено, и слава богу!» – была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом на московской Антигравистанции; тот до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик, рядом с Андроидом Карениной, и огляделась в полусвете спального вагона.
После бала, рано утром, Анна Аркадьевна послала мужу сообщение о своем выезде из Москвы в тот же день.
– Нет, мне надо, надо ехать, – объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечтешь, – нет, уж лучше нынче!
Степан Аркадьич приехал проводить сестру в семь часов. Кити не было: она прислала записку, что у нее голова болит.
– Слава богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, постарому, – задумчиво сказала Анна Аркадьевна своему Андроиду, когда они устроились в вагоне.
Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу. Своими маленькими ловкими руками Андроид Каренина отперла дверцу в корпусе и достала оттуда подушечку и положила ее на колени хозяйки. Анна с благодарностью погладила нежные руки робота. Она давно уже чувствовала, и особенно в такие моменты, что между нею и ее дорогим андроидом установилась особая связь, которая была сильнее, чем между иными людьми и их роботамикомпаньонами. Несмотря на то, что Андроид не проронила ни слова за свою жизнь и не было никакой возможности поговорить с ней, Анна в глубине души чувствовала, что не было на земле робота или человека, который так же хорошо понимал и любил ее.
Они сидели напротив приятной пожилой дамы, но, более желая насладиться чтением, нежели разговорами с попутчиками, Анна откинулась в кресле и, включив электронного чтеца, погрузила Андроида в Полусонный Режим. Первое время она никак не могла сосредоточиться на романе. Сначала мешали возня и ходьба; потом, когда Грав тронулся над магнитным ложем, нельзя было не прислушаться к волшебным пульсирующим звукам; потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо прокатившегося II/Кондуктора/160, занесенного снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание.
Наконец Анна стала понимать читаемое. Анна Аркадьевна слушала и понимала, но ей неприятно было слушать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читали ей, как героиня романа ухаживала за больным малярией, и ей тут же хотелось принять участие в этом; или электронный чтец рассказывал о том, как мирный корабль осаждали пираты, и она тут же начинала страстно желать оказаться там, на палубе, и активно отбиваться от захватчиков. Но делать нечего было, и она старалась расслабиться и полностью отдаться тому, о чем рассказывал чтец.
Герой романа уже начал достигать своего английского счастия, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. «Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно?» – спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она выключила чтеца, откинулась на спинку кресла и посмотрела на Андроида Каренину, силясь понять, что же с ней происходит. Однако лицевая панель спящего робота оставалась идеально гладкой и ровным счетом ничего не выражала.
Стыдного ничего не было ! Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним: ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какойто внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей: «Тепло, очень тепло, горячо».
– Ну что же? – сказала она решительно Андроиду. – Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же? Неужели между мной и этим офицероммальчиком могут существовать какиенибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?
Но, как и многие, кто задается сложными вопросами, но не желает слышать ответов на них, она обратилась к усыпленному роботу, который не мог предложить ей никакого ответа.
Она презрительно усмехнулась своей глупости и опять включила чтеца, но уже решительно не могла понимать того, что он говорил. Забывшись, она взяла нежную руку Андроида и приложила ее холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какието завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, внутри чтото давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее.
В этом странном и отрешенном состоянии ей не сразу удалось увидеть и понять то, на чем остановился ее взгляд: отливавший медным блеском кощей, тонкий и многоногий, полз на своих уродливых лапках по сморщенной шее дремавшей пожилой дамы, сидевшей напротив Карениной.
Легкие шажки миниатюрного роботажука едва ли могли разбудить спящую, и Анна возблагодарила Бога за этот маленький милосердный жест. Уже сам вид крадущегося кощея – этого представителя отвратительных смертоносных машин, которых использовало СНУ для устрашения граждан, – заставил бы пожилую даму запаниковать, и это стало бы ее смертным приговором. Анна, шепотом молясь для храбрости, подалась вперед на своем кресле и протянула руку, готовясь схватить жука указательным и большим пальцем; медленно и осторожно ее рука подвинулась еще ближе. Анна не сводила глаз с насекомоподобного робота, сновавшего между складками морщинистой шеи.
Она уже была готова схватить сияющего ползучего уродца, до конца не представляя, что же будет делать, когда жук окажется у нее в руках, но в ту секунду огромный, похожий на медузу, пульсирующий серебристый шар, вылетел изза Анны и приземлился с жирным мерзким шлепком прямо на лицо спящей соседки; та мгновенно проснулась и, обезумевши, заметалась в своем кресле. Анна тоже принялась кричать, да так громко, что сам дьявол бы подскочил в своей огненной постели; кощей, которого она, почти, схватила, увернулся от нее, перескочил с пожилой дамы на ее предплечье и скрылся в рукаве платья. Анну охватил ужас – она чувствовала, как кощей, подергиваясь, быстро поднимался вверх. Тысячи маленьких лапок щекотали ее тело, но хуже всего было то, что она знала о конечной цели жука, который был запрограммирован и шел к цели, точно так же, как животное бывает влекомо инстинктом. Он стремился к ее грудной клетке, чтобы проколоть ее там, где за ребрами бьется сердце, и погрузить в него усикиэлектроды. Анна одной рукой схватилась за грудь, а другой в отчаянии щелкнула красный переключатель Андроида, молясь, чтобы пробуждение было недолгим.
Пожилой даме уже ничем нельзя было помочь, даже если бы у Анны была такая возможность: медузообразный кощей, вцепившись в лицо женщины, расплывался во всех направлениях, покрывая тело жертвы и высасывая из него все живое. Пока Анна хлопала себя по платью, пытаясь прибить многоножкукощея, она увидела, что пассажиры по всему вагону были атакованы роботамижуками. Истекающее слюной чудовище, похожее на гигантского таракана, с угольночерными крыльями и острыми, как иглы, зубами, прожужжало над проходом и приземлилось прямо на глаза степенного господина. Анна смотрела, как роботтаракан погружал десятки своих усиковантенн в лицо несчастного, но тут ее внимание отвлекло куда более радостное событие: пробудившаяся Андроид Каренина уже действовала: запустив свои тонкие чуткие пальцы в лиф хозяйки, она вытащила извивающегося кощея и раздавила его между большим и указательным пальцем.
Андроид схватила хозяйку за талию, и вместе они побежали в конец вагона. Грав был вынужден сделать аварийную остановку на одном из полустанков. Как только они вышли из вагона, метель и ветер рванулись им навстречу. Андроид Каренина молча встретила этот снежный порыв, а Анне показалось, что ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести, но она рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, но на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением и трепетом от ощущения того, что все дурное позади, она вдыхала в себя снежный, морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию.
Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, – было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновенье буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей.
Между тем отряд 77х заполнил вагон, который только что покинули Каренина и ее Андроид. Головы роботов быстро вращались, из тел вылетали провода с наконечникамипинцетами для ловли кощеев; они стреляли болтами, давили маленьких жуков за креслами и дверными косяками. Анна увидела несколько больших, размером с собаку, кощеев, по крайней мере одного роботапаука, отливающегося черным, и маленький рой кощеевос, которые с жужжанием носились по вагону, словно птицы, одержимые бесами, и больно жалили пассажиров в шею и уши.
Андроид осторожно отвела хозяйку в сторону, чтобы та не видела душераздирающих сцен, разыгрывающихся в вагоне. Так они долго стояли в звенящей от мороза темноте, но постепенно шум, доносящийся из вагона, стихал. Анна отважилась еще раз взглянуть в окно вагона: увиденное обрадовало ее. Казалось, что кощеи погибают один за другим, их отвратительные металлические ножки замирали, а челюсти ослабевали на шеях и руках пассажиров.
Анна поняла, что причиной изменения хода битвы стал один человек, а вовсе не солдаты 77го. Это был боевой офицер в строгом серебряном мундире; по вагону он ходил быстро и спокойно, рубил и стрелял направо и налево, отдавая распоряжения громким, командным голосом. И прежде чем Анна услышала раскатистый рык механического волка, прежде чем она услышала шипение и треск огненного хлыста, выпущенного на свободу, и даже прежде того, как лицо офицера показалось в окне, она знала, что это был он.
Сражение было выиграно, всех кощеев сложили в переносную печку и уничтожили. Вронский вышел из вагона, и, приложив руку к козырьку, наклонился перед Анной и спросил, не пострадала ли она, не может ли он чемнибудь служить ей? Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. Не раз говорила она себе эти последние дни и сейчас только, что Вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же, повсюду встречаемых молодых людей, что она никогда не позволит себе и думать о нем; но теперь, в первое мгновенье встречи с ним, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же верно, как если б он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она.
– Судя по всему, это большое счастье, что вы оказались здесь, однако же зачем вы едете? – сказала она. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице.
– Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе.
И в это же время, как бы одолев препятствие, ветер посыпал снег с крыш вагонов, затрепал какимто железным оторванным листом, и пневматический двигатель Грава вновь ожил и загудел. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не ответила, и на лице ее он видел борьбу.
– Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал, – заговорил он покорно. Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить. Во время этого долгого молчания Андроид с безразличным выражением смотрел вдаль, а Лупо, менее искушенный в таких делах, с любопытством обнюхал подол юбки Карениной.
– Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду, – сказала она наконец.
– Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу…
– Довольно, довольно! – вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в вагон. Там заботливые роботы II класса привели ее в чувство и окурили дымом против смертоносных насекомых. Устроившись на своем месте, Анна вызвала на монитор Андроида Воспоминание только что случившейся сцены.
Она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их; и она была испугана и счастлива этим. То волшебное напряженное состояние, которое ее мучило сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней чтото слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного; напротив, было чтото радостное, жгучее и возбуждающее. Даже неприятные воспоминания о том, как кощей, перебирая своими стальными лапками, устремился к ее грудной клетке, не могло погасить этой мощной волны чувств, захватившей Анну.
К утру она задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло и Грав подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее.
* * *
В Петербурге, только что остановился Грав и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа.
– Ах, боже мой! Это лицо! – шепнула она Андроиду.
Правую сторону лица Алексея Александровича, как и всегда, почти полностью закрывала маска из твердого как сталь серебра; она спускалась от надбровной дуги до щеки, подрезанная так, чтобы не мешать ни носу, ни рту. В то время как его левая бровь насмешливо изгибалась и левая щека подбиралась для улыбки, соответствующие части лица на противоположной стороне оставались спрятанными под сияющим холодным блеском металлом. На маске виднелись прожилки из чистого грозниума. Ее не закаляли и не плавили на заводах Министерства; она была выполнена из необработанного багряночерного металла. На месте правого глаза виднелось большое отверстие оптической системы, заменявшей собой глазницу; из него выдвигался телескопический глаз. Он мог вращаться в разные стороны и позволял Алексею Александровичу внимательно сканировать толпу в поисках жены.
Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее здоровым глазом, в то время как искусственный продолжал механически исследовать пространство станции. Какоето неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.
– Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя, – сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил. Он взял саквояж жены из рук Андроида, не удостоив его приветствием, Андроид ответила тем же.
– Сережа здоров? – спросила она.
– И это вся награда, – сказал он, – за мою пылкость? Здоров, здоров…
После сражения с кощеями Вронский и не пытался заснуть в эту ночь. Вместо этого он сидел на своем кресле в Граве, и то прямо устремлял глаза вперед себя, то оглядывал входивших и выходивших, Лупо же, свернувшись у его ног, был в Спящем Режиме. И если и прежде Вронский поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он еще более казался горд и самодовлеющ. Он смотрел на людей, как на вещи. Молодой нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек. Но Вронский смотрел на него как на устройство I класса, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнавания его человеком.
Вронский никого и ничего не видел. Время от времени он пробегал глазами по ожившему вагону, чтобы убедиться – ни одного шустрого злобного кощея в поезде не осталось. Впрочем, Вронский и сам прекрасно знал, что с ними покончено, потому что он, граф Алексей Кириллович, со всем своим умением биться и внутренней уверенностью в своих силах, хорошенько здесь убрался.
Он чувствовал себя царем не потому, чтобы он верил, что произвел впечатление на Анну, – он еще не верил этому, – но потому, что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость. Свернутый на бедре, приятно потрескивал огненный хлыст – старый боевой друг, само присутствие которого напоминало Вронскому о славном прошлом.
Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал. Он чувствовал, что все его доселе распущенные, разбросанные силы были собраны в одно и с страшною энергией были направлены к одной блаженной цели. И он был счастлив этим. Он знал только, что сказал ей правду, что он ехал туда, где была она, что все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он выбрался из вагона и увидал ее на платформе, возбужденный после битвы с кощеями, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал. И он рад был, что сказал ей это, что она знает теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он не переставая перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего.
Когда в Петербурге он вышел из вагона, он чувствовал себя после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холодной ванны. Он остановился у своего вагона, ожидая ее выхода.
– Еще раз увижу, – шепнул он Лупо, который радостно зарычал в ответ, – увижу ее походку, ее лицо, ее удивительного роботакомпаньона; скажет чтонибудь, поворотит голову, взглянет, улыбнется, может быть. Но прежде еще, чем он увидал ее, он увидал ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою.
«Ах, да! муж!» Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было связанное с нею лицо. Он знал, что у нее есть муж, но не верил в существование его и поверил в него вполне, только когда увидел, с его головой и плечами, холодной металлической пластиной на лице, ногами в черных панталонах; поверил в особенности, когда он увидал, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку.
Увидев Алексея Александровича с его строго самоуверенною фигурой, в круглой шляпе, с немного выдающеюся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду. Выдвинув искусственный глаз металлической глазницы, Алексей Александрович теперь внимательно рассматривал жену, и это особенно раздражало Вронского. Он только за собой признавал несомненное право любить ее. Но она была все та же; и вид ее все так же, физически оживляя, возбуждая и наполняя счастьем его душу, подействовал на него.
Он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проницательностью влюбленного признак легкого стеснения, с которым она говорила с мужем. Сидящий у ног Вронского Лупо ощетинился и выгнул спину.
– Да, Лупо, я тоже заметил, – сказал он механическому зверю. – Нет, она не любит и не может любить его.
Еще в то время, как он подходил к Анне Аркадьевне сзади, он еще с радостью заметил, что она чувствовала его приближение и оглянулась было и, узнав его, опять обратилась к мужу.
– Кощеи устроили заварушку этой ночью. Хорошо ли вы провели ночь? – сказал он, наклоняясь пред нею и перед мужем вместе и предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счет и узнать его или не узнать, как ему будет угодно.
– Благодарю вас, очень хорошо, – отвечала она.
Узкие волчьи глаза Лупо пересеклись взглядом с одиноким роботизированным глазом Алексея Александровича; механический зверь вдруг залился громким лаем. Вронский заставил его замолчать, подняв палец.
Лицо Анны Аркадьевны казалось усталым, и не было на нем той игры бросившегося то в улыбку, то в глаза оживления; но на одно мгновение при взгляде на него чтото мелькнуло в ее глазах, и, несмотря на то, что огонь этот сейчас же потух, он был счастлив этим мгновением. Она взглянула на мужа, чтоб узнать, знает ли он Вронского. Алексей Александрович с неудовольствием смотрел на одетого в серебряный мундир Вронского, рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича.
– Граф Вронский, – сказала Анна.
– А! Мы знакомы, кажется, – равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. – Туда ехала с матерью, а назад с сыном, – сказал он, отчетливо выговаривая, как рублем даря каждым словом.
Лупо вновь громко залаял, выгнув спину и обнажив клыки; Алексей Александрович принял поведение зверя с усталым раздражением и шутливым тоном обратился к жене:
– Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке?
Обращением этим он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы; но Вронский обратился к Анне Аркадьевне:
– Надеюсь иметь честь быть у вас, – сказал он.
Лупо, программа которого, очевидно, по какимто причинам вдруг сбилась, своевольно и упрямо зарычал. Прежде чем Вронский успел наказать робота, Каренин наклонил голову и остановил взгляд своего темного холодного глаза на механическом звере. Лупо жалобно взвизгнул, затрясся и повалился на землю, словно сломанная игрушка I класса. Затем Алексей Александрович своим живым глазом посмотрел на пораженного Вронского, стоявшего над своим роботомкомпаньоном.
– Мы принимаем по понедельникам, – ответил он холодно.
Вронский присел на корточки на отполированном полу станции и положил колючую голову Лупо себе на колени. Зверь слабо пошевелился, тихо постанывая и подвывая.
– И как хорошо, – сказал Алексей Александрович жене, совсем не обращая внимания на Вронского, – что у меня именно было полчаса времени, чтобы встретить тебя, и что я мог показать тебе свою нежность, – продолжал он тем же шуточным тоном.
– Ты слишком уже подчеркиваешь свою нежность, чтоб я очень ценила, – сказала она тем же шуточным тоном, невольно обернувшись на подавленного Вронского.
«Но что мне за дело?» – прошептала она Андроиду Карениной и стала спрашивать у мужа, как без нее проводил время Сережа.
– О, прекрасно! II/Гувернантка/D147 говорит, что он был мил очень и… я должен тебя огорчить… не скучал по тебе, не так, как твой муж. Ну, мне пора ехать в Министерство. Опять буду обедать не один, – продолжал Алексей Александрович уже не шуточным тоном. – Ты не поверишь, как я привык…
И он, долго сжимая ей руку, с особенною улыбкой посадил ее в карету.
Вронский продолжал сидеть на серебряном полу петербугской Антигравистанции, с облегчением наблюдая за тем, как признаки полного восстановления функций его робота появлялись один за другим. Он покачал головой, вспоминая красоту Анны Карениной и аскетичную элегантность ее Андроида, дивясь ее странному мужу с металлической маской на лице, кто же, во имя всего святого, он был такой?
Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын. Он выскочил к ней по лестнице, несмотря на крик II/Гувернантки/D147, и с отчаянным восторгом кричал: «Мама, мама!» Добежав до нее, он повис ей на шее.
– Я говорил вам, что мама! – кричал он II/Гувернантке/D147, которая недовольно пыхтела, раздосадованная порывистостью мальчика. – Я знал!
Но сын, так же как и муж, произвел в Анне чувство, похожее на разочарованье. Она воображала его лучше, чем он был в действительности. Она была должна опуститься до действительности, чтобы наслаждаться им таким, каков он был. Но и такой, каков он был, он был прелестен с своими белокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройными ножками в туго натянутых чулках. Анна испытывала почти физическое наслаждение в ощущении его близости и ласки и нравственное успокоение, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слушала его наивные вопросы. Анна достала роботов I класса, которых посылали ему в подарок дети Долли, и рассказала сыну, какая в Москве есть девочка, его кузина, и как она умеет читать и учит даже других детей.
– Что же, я хуже ее? – спросил Сережа.
– Для меня лучше всех на свете.
– Я это знаю, – сказал Сережа, улыбаясь.
Один за другим приезжали с визитом приятельницы, обрадованные возвращением Анны Аркадьевны. Занятый делами одного очень важного проекта, Алексей Александрович целый день провел в Министерстве; проект этот он сам задумал и теперь руководил им. Анна, наконец, оставшись одна, дообеденное время употребила на то, чтобы присутствовать при обеде с сыном (он обедал отдельно), и чтобы привести в порядок свои вещи, прочесть и ответить на записки и письма, которые скопились у нее на столе.
Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала дорогой, и волнение совершенно исчезли. В привычных условиях жизни она чувствовала себя опять твердою и безупречною. Время от времени она чувствовала притворное покалывание чуть выше грудной клетки, там, где пританцовывал кощей на своих отвратительных лапках.
Она вздрогнула от этого воспоминания и затем с удивлением обратилась к своему вчерашнему радостному состоянию после кошмарного нападения. «Что же было? Ничего. Вронский сказал глупость, которой легко положить конец, и я ответила так, как нужно было. Говорить об этом мужу не надо и нельзя. Говорить об этом – значит придавать важность тому, что ее не имеет». Она вспомнила, как она рассказала почти признание, которое ей сделал в Петербурге молодой подчиненный ее мужа, и как Алексей Александрович ответил, что, живя в свете, всякая женщина может подвергнуться этому, но что он доверяется вполне ее такту и никогда не позволит себе унизить ее и себя до ревности. О молодом человеке никогда более не говорилось между супругами, позднее он был признан Янусом, и за это подвергся соответствующему наказанию на Петербургской площади.
– Стало быть, незачем говорить? Да, слава богу, и нечего говорить, – сказала она Андроиду Карениной, которая кивнула в молчаливом согласии.
Алексей Александрович вернулся из Министерства в четыре часа, но, как это часто бывало, не успел войти к ней. Позже они отужинали вместе, и уже после ужина Анна села у камина, чтобы написать письмо Долли и дождаться мужа. В двенадцать, когда Анна еще сидела за письменным столиком, она услыхала ровные шаги в туфлях, и Алексей Александрович, вымытый, причесанный, с поблескивающей в свете огня маской на лице, подошел к ней.
– Он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере, – шепнула Анна Андроиду Карениной, когда Алексей Александрович подошел. – И вправду, видимая часть лица его посвоему привлекательна.
– Пора, пора, – сказал он, особенно улыбаясь. Прежде чем пройти в спальню, он медленно выдвинул правый глаз навстречу жене, его искусственный зрачок заметно расширился.

– Пора, пора, – сказал он, особенно улыбаясь. Он вошел в спальню и его механический глаз медленно выдвинулся вперед
«И какое право имел он так смотреть на него?» – подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича.
Раздевшись, она погрузила Андроида в Спящий Режим и вошла в спальню, но на лице ее не только не было того оживления, которое в бытность ее в Москве так и брызгало из ее глаз и улыбки: напротив, теперь огонь казался потушенным в ней или гдето далеко припрятанным.
В конце зимы в доме Щербацких происходил консилиум, долженствовавший решить, в каком положении находится здоровье Кити и что нужно предпринять для восстановления ее ослабевающих сил. Домочадцы надеялись, что болезнь ее – не что иное, как страдания разбитого сердца, но она была серьезно больна, и с приближением весны здоровье ее становилось хуже.
Был приглашен известный доктор, саквояж которого был заполнен новейшими диагностическими инструментами. Сопровождал его энергичный и побольничному зеленый робот II класса с поражающим воображение набором манипуляторов. С их помощью доктор осмотрел больную.
Более часа он изучал каждый сантиметр обнаженного тела Кити физиометрами I класса, осторожно действовал тончайшими зондами для оценки жизненных сил, погружая их в горло и уши больно, внимательно, со всех сторон, прослушивал эхолокатором голову Кити.
На протяжении всего этого докучливого и унизительного осмотра, княгиня Щербацкая тревожно ходила перед дверью в комнату больной. Тут же была Татьяна, стройный роботбалерина III класса, которой почти не пользовались, а заболевшая хозяйка и вовсе не обращала на нее внимания.
– Ну, доктор, решайте нашу судьбу, – сказала княгиня. – Говорите мне все.
– Да, да, скажите? Можно ли надеяться? Есть ли надежда? – заламывая манипуляторы, воскликнула стоявшая рядом с хозяйкой La Sherbatskaya.
– Княгиня, позвольте мне проанализировать результаты обследования, и после этого я буду иметь честь доложить вам свое мнение о состоянии здоровья княжны.
– Так что, нам лучше оставить вас?
– Как вам будет угодно.
Оставшись один, доктор включил II/Прогнозис/М4 и загрузил в него все данные проведенного обследования. После томительного ожидания, длившегося около полминуты, за которые маленькая умная машина произвела точный подсчет и обработку различных симптомов, выявленных у больной, робот отрапортовал, что, возможно, это начало туберкулезного процесса, что есть признаки – недоедание, нервное перевозбуждение и так далее.
Доктор с нетерпением посмотрел на робота.
– Верно, но при подозрении туберкулезного процесса что нужно сделать, чтобы поддержать питание?
Машина принялась обдумывать решение поставленной задачи, слабый поток воздуха, вырывавшийся из Нижнего Отсека робота, свидетельствовал о втором этапе обработки информации; в это время доктор бросал нетерпеливые взгляды на свои позолоченные часы и ждал результата, обдумывая, как бы не опоздать в оперу. В гостиной, где на софе лежала раскрасневшаяся и ожидающая решения своей судьбы Кити, нетерпеливо перешептывались домочадцы. Робот III класса Татьяна нервно выделывала разные па в углу комнаты.
Наконец, доктор получил заключение от II класса и вошел в гостиную. Кити вспыхнула, и глаза ее наполнились слезами. Вся ее болезнь и леченье представлялись ей такою глупою, даже смешною вещью! Лечение ее представлялось ей столь же смешным, как составление кусков разбитой вазы. Сердце ее было разбито. Что же они хотят лечить ее пилюлями и порошками? Но нельзя было оскорблять мать, тем более что мать считала себя виноватою.
– Могу ли я попросить вас сесть, княжна, – сказал знаменитый доктор. Он с улыбкой сел против нее, взял пульс и опять стал делать скучные вопросы. Татьяна, неожиданно почувствовав возможность быть полезной, сделала пируэт и оказалась в первой позиции точно между доктором и Кити.
– Извините меня, доктор, – сказала она; в нежном сопрано робота неожиданно появились металлические нотки, – но это, право, ни к чему не поведет. Вы у нее по три раза то же самое спрашиваете.
Кити с удивлением и благодарностью взглянула на заступившегося за нее робота и в первый раз почувствовала настоящую, ни с чем не сравнимую близость между человеком и его роботомкомпаньоном; и, взявшись за руки, Кити и ее розовый андроид вышли из комнаты.
Знаменитый доктор не обиделся.
– Этот робот – само очарование! – сказал он княгине. – Как бы там ни было, я окончил осмотр. – И доктор принялся научно объяснять положение княжны, слово в слово повторяя то, что он всего несколько минут назад слышал от II/Прогнозиса/М4. На вопрос, лететь ли на Луну, доктор углубился в размышления, будто дело было чрезвычайной сложности. Он украдкой взглянул на робота. Увидав, что тот дал положительный ответ едва заметным поворотом головы на два с половиной градуса, доктор наконец изложил свое решение: лететь и не верить шарлатанам, а во всем обращаться к нему.
Как будто чтото веселое случилось после отъезда доктора. Мать повеселела, вернувшись к дочери, и Кити притворилась, что она повеселела. Она даже отправилась на получасовую прогулку по имению под руку с Татьяной, которая просто сияла от счастья.
– Право, я здорова, maman. Но если вы хотите лететь, летим! – сказала она и, стараясь показать, что интересуется предстоящим путешествием, стала говорить о приготовлениях к нему.
Несколько недель спустя, великим постом, Щербацкими решено было оставить Землю. Сначала они путешествовали на коляске, запряженной II/Тягачом/42, затем пересели на Антиграв, следовавший в город Пушкин. Это был огромный терминал государственного значения, гордостью которого была Баллистическая межорбитальная пушка. С помощью нее Щербацких и отправили в космос.
Петербургский высший круг, собственно, один; все знают друг друга, даже ездят друг к другу. Но в этом большом круге есть свои подразделения. Анна Аркадьевна Каренина имела друзей и тесные связи в различных кругах. Один круг был служебный, официальный круг ее мужа, состоявший из его сослуживцев и подчиненных в Министерстве робототехники и Высшего Руководства. Анна теперь с трудом могла вспомнить то чувство почти набожного уважения, которое она в первое время имела к этим лицам, которые все вместе были ответственны за управление и развитие связанных с грозниумом технологий и, следовательно, за благополучие всего государства. Теперь она знала всех их, как знают друг друга в уездном городе; знала, у кого какие привычки и слабости, у кого какой ботинок жмет ногу; знала их отношения друг к другу и к главному центру; знала, кто за кого и как и чем держится и кто с кем и в чем сходятся и расходятся.
Другой близкий Анне кружок, где она имела связи, был собственно свет, – свет парящих балов, обедов, блестящих туалетов. Связь ее с этим кругом держалась чрез княгиню Бетси Тверскую, жену ее двоюродного брата, у которой было сто двадцать тысяч дохода и которая с самого появления Анны в свет и получения ею собственного робота III класса, особенно полюбила ее, ухаживала за ней и втягивала в свой круг, который держался последних модных тенденций.
Анна первое время избегала, сколько могла, этого света княгини Тверской, так как он требовал расходов выше ее средств, да и по душе она предпочитала первый; но после поездки в Москву сделалось наоборот. Она избегала министерских друзей своих и ездила в большой свет. Там она встречала Вронского и испытывала волнующую радость при этих встречах.
Особенно часто встречала она Вронского у Бетси, которая была урожденная Вронская и ему двоюродная сестра. Вронский был везде, где только мог встречать Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз, когда она встречалась с ним, в душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в Граве, когда в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы в улыбку, и никак не могла задушить выражение этой радости.
Первое время Анна искренно верила и столь же искренне убеждала Андроида Каренину, что она недовольна Вронским за то, что он позволяет себе преследовать ее. Но скоро по возвращении своем из Москвы, приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она по овладевшей ею грусти ясно поняла, что обманывала себя, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни.
Следующая их встреча состоялась в скорости на другом званом вечере, в доме княгини Тверской.
Гости прибывали на широкий подъезд один за другим, и толстый II/Швейцар/7е62 беззвучно отворял огромную дверь, пропуская мимо себя приезжавших. Почти в одно и то же время вошли: хозяйка с освеженною прической и освеженным лицом из одной двери и гости из другой в большую гостиную с темными стенами, пушистыми коврами и ярко освещенным столом, блестевшим под огнями свеч I класса белизною скатерти, модной платиной II/Самоваpa/1(16) и прозрачным фарфором чайных приборов.
Гостей и забавляло, и смущало то, что среди приглашенных присутствовал и робот III класса по имени Марионета. Она была одна, без хозяина – списанная, как называли таких: андроид, владелец которого или умер, не оставив наследников, или был признан Янусом и отправлен в ссылку. Бетси находила невероятно забавным привечать таких несчастных созданий на своих petites fêtes,[9] где она могла обращаться с сироткамироботами как с маленькими медвежатами, спасенными от травли. Обычно списанных роботов отправляли на металлолом спустя несколько дней после того, как их признавали устаревшими; но Бетси получала их, по слухам, благодаря определенным связям в Министерстве – конечно же, не на уровне Высшего Руководства, потому как ни один представитель этого высшего звена не осмелился бы совершить такое наглое хищение.
Княгиня Бетси села за стол и сняла перчатки, небрежно бросив их Марионете; та с выражением признательности, за то, что смогла быть хоть немного полезной, приняла их и аккуратно сложила, прежде чем отправить в шкаф. Вечер начался; передвигая стулья с помощью незаметных II/Лакеев/74, общество разместилось, разделившись на две части, – одна у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной – вторая, около красивой жены посланника в черном бархате и с черными резкими бровями; вместе с ней был робот III класса с почти идентичными, столь же броскими чертами лица. Разговор в обоих центрах, как и всегда в первые минуты, колебался, перебиваемый встречами, приветствиями, предложением чая, как бы отыскивая, на чем остановиться.
Марионета, тем временем, направляла слабое мерцание своих глаз на присутствующих, старалась быть полезной: прикуривала сигары и разносила напитки. Роботкомпаньон Бетси, Дорогуша, безжалостно смеялась над Марионетой, глаза ее вспыхивали алыми огоньками.
Около самовара и хозяйки разговор между тем, точно так же поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами: последнею общественною новостью, театром и скандалами, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие.
– Анна Аркадьевна очень переменилась со своей московской поездки. В ней есть чтото странное, – сказала Бетси, заметив, что Каренина до сих пор еще не прибыла. – Впрочем, она не более странная, чем лицо ее мужа! – Дорогуша в знак согласия захихикала. – Перемена главная та, что она привезла с собою тень Алексея Вронского, – сказала жена посланника.
– Да что же? У Гримма есть басня: человек без тени, человек лишен тени. И это ему наказанье за чтото. Я никогда не мог понять, в чем наказанье. Но женщине должно быть неприятно без тени.
– Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают, – сказала приятельница Анны.
– Типун вам на язык, – произнесла вдруг княгиня Мягкая, услыхав эти слова. – Каренина прекрасная женщина. О муже ее много не знаю, но ее очень люблю.
– Есть в ее муже чтото чрезвычайно странное, – сказала жена посланника, понизив голос. – Он не держит роботов III класса.
– Что ж с того, многие высокопоставленные чины в Министерстве начали отказываться от них.
– И вы не находите это странным?
– Княгиня, это списанный робот? – из передней послышался сильный голос.
– А, наконецто вы приехали! – воскликнула Бетси, с улыбкой обращаясь к Вронскому, как только тот вошел, сняв пальто и явив взорам собравшихся свои сильные ноги, подчеркнутые контуром хлыста, свернутого на бедре. – Отвечая на ваш вопрос, скажу, что этот робот – действительно списанный андроид, и у меня есть на нее коекакие планы, так что для нас всех это станет хорошим развлечением.
Бетси собиралась сделать несчастную Марионету главным действующим лицом развлечения под названием «Эта или Любая другая игра»; испытание это позволяло узнать, насколько точно робот следует Железным Законам. Иными словами, игра ставила андроида в ситуацию, когда он вынужден был делать выбор – повиноваться одному закону («роботы должны подчиняться людям») или другому («роботы должны следить за своей сохранностью и не допускать повреждений»).
– Игра? – пропела Марионета с жалким воодушевлением. – Замечательно!
У входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, она двигалась своим быстрым, твердым и легким шагом, за ней на небольшом расстоянии следовал Андроид Каренина, подсвечивавшая яркокрасным светом наряд хозяйки. Каренина сделала несколько шагов, которые отделяли ее от княгини Бетси, пожала ей руку, улыбнулась и с этою улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул.
Марионета стояла посреди комнаты, ее лицевая панель была скрыта старомодной маской из черного крепа, на губах застыла неуверенная, испуганная улыбка – она ждала. Но в эту минуту все взгляды были прикованы только к Вронскому и Карениной.
Анна Аркадьевна отвечала ему только наклонением головы, покраснела и нахмурилась. Но тотчас же, быстро кивая знакомым и пожимая протягиваемые руки, она обратилась к хозяйке:
– Я была у графини Лидии и хотела раньше приехать, но засиделась.
– Думаю, вы будете рады, что наконец вырвались – мы как раз начинаем нашу маленькую забаву! – ответила княгиня Бетси с хитрой улыбкой.
– Я так люблю игры! – отозвалась Марионета изпод маски.
Бетси подняла брови, веселясь, она насмешливо осмотрела гостей и приступила к первому испытанию, которым, на правах хозяйки дома, должна была руководить. Один из II/Лакеев/74 подал ей чашу на сверкающем подносе; в сосуде клокотал раскаленный влагопоглощающий реагент – эту эффективную смазку использовали для ухода за грозниевыми механизмами. Бетси осторожно приняла поднос и приказала Марионете опустить руки в чашу.
Она было повиновалась, но чувствительная сеть сенсоров, расположенных на концах манипуляторов, заставила ее одернуть манипуляторы.
– Опусти их, Марионета, – спокойным голосом приказала Бетси, – не двигайся.
Страдальческое выражение исказило видимую часть лицевой панели робота. В течение продолжительного времени оставалось неясным, какому закону подчиниться несчастный андроид – тому, что требовал самосохранения, или же закону беспрекословного повиновения человеку.
Как только болезненное выражение ослабло, а затем и вовсе сошло с лицевой панели, сменившись стоической миной, гости тут же потеряли интерес к игре и вернулись к сплетням; заговорили о любовных союзах, о которых была хорошо осведомлена княгиня Мягкая и которыми была столь разочарована.
– Я была в молодости влюблена в дьячка, – сказала она. – Не знаю, помогло ли мне это.
– Нет, я думаю, без шуток, что для того, чтоб узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться, – сказала княгиня Бетси со своего места. – Не двигайся, Марионета! – рявкнула она на робота, который, чувствуя, что внимание к нему ослабло, начал вытаскивать свои руки из раскаленной смазки.
– Стой там, где стоишь!
– Да, да, конечно! – с трудом ответила Марионета. – Стоять, стоять, я должна стоять!
– Даже после брака? – шутливо спросила жена посланника княгиню Мягкую.
– Никогда не поздно раскаяться, – сказал дипломат английскую пословицу.
– Вот именно, – подхватила Бетси, – надо ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете? – обратилась она к Анне, которая с чуть заметною твердою улыбкой на губах молча слушала этот разговор, в то время как глаза ее были прикованы к Марионете; ей одной среди всех этих завсегдатаев званых вечеров было совестно, ей была неприятна жестокость людей в обращении с роботами, независимо от того, были ли у машин хозяева или нет.
– Я думаю, – сказала Анна, играя снятою перчаткой, – я думаю… если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви.
Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул как бы после опасности, когда она выговорила эти слова. Княгиня Бетси, удовлетворенная полученным от Анны Аркадьевны ответом, разрешила наконец роботу вытащить руки из чаши. Марионета сделала это со вздохом облегчения.
– Первый Железный Закон взял верх! – объявила Бетси, повернувшись к гостям. Ее слова были встречены дружными аплодисментами и смехом.
Анна вдруг обратилась к Вронскому:
– А я получила из Москвы письмо. Мне пишут, что Кити Щербацкая очень больна.
– Неужели? – нахмурившись, сказал Вронский.
Анна строго посмотрела на него.
– Вас не интересует это?
– Напротив, очень. Что именно вам пишут, если можно узнать? – спросил он.
– А теперь второй раунд! – объявила княгиня.
– Пожалуйста, не нужно, – запротестовала Каренина, – вы уже доказали верность робота Железным Законам. Не стоит более продолжать эту игру.
– Больше игр? Эта игра будет продолжена? – спросила Марионета жалостливо, и в это же самое время Бетси, не обращая внимания на просьбу Карениной, дала знак жене посланника; та активировала болтер, устройство I класса, мало чем отличающееся от детской игры дартс. Когда сотни маленьких электрических разрядов сотрясли корпус Марионеты, она отскочила назад от резкой боли, но Бетси приказала роботу вернуться на место и не дергаться. Но, получив вторую порцию электрически заряженных болтов, она развернулась и, словно бы против своей воли, бросилась вон из комнаты.
Бетси крикнула ей в след:
– Стоять! Стоять на месте!
Все присутствующие в комнате закричали вместе с ней:
– Замри, замри на месте, робот! Вспомни, где ты находишься!
И Марионета повиновалась.
– Что же вам пишут? – повторил свой вопрос Вронский, обращаясь к Анне, которая слушала вполуха своего собеседника, наблюдая за развитием «игры», которая ужасала и одновременно приковывала ее внимание.
– Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что неблагородно, а всегда говорят об этом, – сказала Анна, не отвечая ему.
– Я не совсем понимаю значение ваших слов, – сказал Вронский. Болтер внезапно заело, жена посланника досадливо пожала плечами, и обстрел прекратился; Анна, полагая, что жестокая охота закончилась, вернулась к разговору с Алексеем Кирилловичем.
– Да, я хотела сказать вам, – сказала она, не глядя на него. – Вы дурно поступили, дурно, очень дурно.
– Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто причиной, что я поступил так?
– Зачем вы говорите мне это? – сказала она, строго взглядывая на него.
– Вы знаете зачем, – отвечал он смело и радостно, встречая ее взгляд и не спуская глаз.
Не он, а она смутилась.
– Это доказывает только то, что у вас нет сердца, – сказала она. Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этогото боится его.
– А, вот в чем дело! – воскликнула жена посланника, и новая очередь вылетела из болтера, на этот раз обрушив всю свою мощь на ноги Марионеты; робот тревожно вскрикнул, испытав новый приступ боли.
– То, о чем вы сейчас говорили, была ошибка, а не любовь.
– Вы помните, что я запретила вам произносить это слово, это гадкое слово, – вздрогнув, сказала Анна, захваченная чувствами, которые одновременно вызывали у нее истязание бедного робота и разговор с Вронским; чтобы хоть както успокоиться, она взяла за руку Андроида Каренину. – Я вам давно это хотела сказать, – продолжала она, решительно глядя ему в глаза и вся пылая жегшим ее лицо румянцем, – а нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я никогда ни перед кем не краснела, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною в чемто.
Он смотрел на нее и был поражен новою духовною красотой ее лица.
– Я… – начал было Вронский, но Анна прервала его:
– Я не могу более выносить это! – И, оставив руку Андроида, она кинулась навстречу грохочущим залпам; закрыв тело Марионеты своим собственным, она крикнула в лицо роботу:
– Беги, беги! Беги, Марионета! Ты можешь убежать!
Робот отпрыгнул с линии огня, жена посланника тут же прекратила обстрел, и в комнате неожиданно установилась ужасающая тишина, когда все вдруг осознали, что происходит. Игра была окончена, а Анна была ранена. Схватившись за ногу, она упала на спину, и гримаса боли исказила ее лицо.
– Это не я… я вовсе не хотела этого, – запинаясь, бормотала княгиня Бетси; в то время Вронский бросился к Карениной, потрескивающим кинжалом быстро и умело распорол ботинок на ее ноге и перевязал рану своим носовым платком. Он помог ей подняться и отвел обратно к софе. Андроид Каренина тоже не мешкала: склонившись над Марионетой, она запустила программу самовосстановления поврежденного робота, и тотчас на корпусе пострадавшей начали запаиваться сотни отверстий, пробитых разрядами. Остальные гости, столпившись вокруг, шепотом обсуждали произошедшее – человек вступился за робота и даже подверг себя опасности, чтобы спасти машину!
– Что вы хотите от меня? – серьезно спросил Анну Вронский.
– Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощенья у Кити, – сказала она.
– Вы не хотите этого, – он видел, что она говорит то, что принуждает себя сказать, но не то, чего хочет.
– Если вы любите меня, как вы говорите, – прошептала она, – то сделайте, чтоб я была спокойна.
Лицо его просияло.
– Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь; но спокойствия я не знаю и не могу вам дать. Всего себя, любовь… да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастия… или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно не возможно? – прибавил он одними губами; но она слышала.
Она все силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должно; но вместо того она остановила на нем свой взгляд, полный любви, и ничего не ответила.
«Вот оно! – с восторгом думал он. – Тогда, когда я уже отчаивался и когда, казалось, не будет конца – вот оно! Она любит меня. Она признается в этом».
– Так сделайте это для меня, никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями, – сказала она словами; но совсем другое говорил ее взгляд.
– Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими, или несчастнейшими из людей – это в вашей власти.
Она хотела сказать чтото, но он перебил ее.
– Ведь я прошу одного, прошу права надеяться, мучиться, как теперь; но если и этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видеть меня, если мое присутствие тяжело вам.
– Я не хочу никуда прогонять вас.
– Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть, – сказал он дрожащим голосом. – Вот ваш муж.
Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своею спокойною, неуклюжею походкой входил в гостиную. Его правый роботизированный глаз медленно поворачивался в глазнице, изучая публику, сидящую по разным углам залы. Свернувшийся в сторонке Лупо, преданно ожидавший хозяина, шмыгнул прочь, увидав Каренина.
Оглянув жену и Вронского, он подошел к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кемто.
– Ваш Рамбулье в полном составе, – сказал он, оглядывая все общество, – грации и музы.
Но княгиня Бетси терпеть не могла этого тона его, sneering,[10] как она называла это, и, как умная хозяйка, тотчас же навела его на серьезный разговор об общей воинской повинности. Алексей Александрович тотчас же увлекся разговором и стал защищать уже серьезно новый указ Министерства пред княгиней Бетси, которая нападала на него.
Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола.
– Это становится неприлично, – шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа.
– Что я вам говорила? – отвечала приятельница Анны.
Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной, даже княгиня Мягкая и сама Бетси, по нескольку раз взглядывали на удалившихся от общего кружка, как будто это мешало им. Только один Алексей Александрович ни разу не взглянул в ту сторону и не был отвлечен от интереса начатого разговора.
Заметив производимое на всех неприятное впечатление, княгиня Бетси подсунула на свое место для слушания Алексея Александровича другое лицо и подошла к Анне.
– Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа, – сказала она.
– О да! – отозвалась Анна, сияя улыбкой счастья и не понимая ни одного слова из того, что говорила ей Бетси. Она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре.
Алексей Александрович просидел полчаса, подошел к жене и предложил ей ехать вместе домой; но она, не глядя на него, отвечала, что останется ужинать. Алексей Александрович раскланялся и вышел.
После ужина Каренина наконец извинилась перед хозяйкой и гостями и покинула вечер. У подъезда ее ожидал усовершенствованный II/Извозчик/74Т, продрогший от холода. II/Лакей/С(с)43 стоял, отворив дверцу кареты, а I/Привратник/7е62 придерживал парадную дверь, пока Андроид Каренина отцепляла быстрыми металлическими пальцами кружева рукава от крючка шубки хозяйки. Она стояла отвернувшись и не смотрела на Анну Аркадьевну, которая, нагнувши голову, слушала с восхищением, что говорил, провожая ее, Вронский.
– Вы ничего не сказали; положим, я ничего и не требую, – говорил он, – но вы знаете, что не дружба мне нужна, мне возможно одно счастье в жизни, это слово, которого вы так не любите… да, любовь…
– Любовь… – повторила она медленно, чувствуя, что боль в ноге усиливается. – Любовь… (позднее, во сне ей показалось, что она слышала, как Андроид Каренина тоже произнесла это слово, хотя, конечно же, это было невозможно: ее роботкомпаньон не имела никакой возможности говорить ввиду отсутствия Речесинтезатора).
– Я оттого и не люблю этого слова, – сказала она Вронскому, – что оно для меня слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять, – и она взглянула ему в лицо. – До свиданья!
Она подала ему руку прошла мимо I/Привратника/7е62 и скрылась в карете.
Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его. Лупо откинул голову назад и залаял, почти как живые псы, на луну, как будто приветствуя живущих там людей.
То, что сотрудники Министерства, получившие ключевые должности, не держали при себе роботовкомпаньонов, было неправдой; слух этот родился однажды на званом вечере у княгини Бетси. На самом деле, эксперименты, проводимые тайно от всего остального мира, были направлены на совершенствование искусства робототехники, так что новое поколение роботов III класса уже существовало, но о нем не было еще известно простым смертным.
К примеру, роботом III класса Алексея Александровича было его Лицо. Эта холодная металлическая пластинка закрывала правую фронтальную часть головы; люди воспринимали ее (включая и жену), как средство косметическое, предназначенное для сокрытия непривлекательного. В действительности, это был сервомеханизм – устройство, созданное на основе самых последних технических достижений, с которым хозяин общался напрямую – не голосом, но нервными импульсами мозга. Это была Думающая Машина, в буквальном смысле слова, потому как Алексей Александрович не возлагал на нее обязанности налить чаю или поднести чемодан, а обращался за помощью в разрешении рабочих вопросов, то есть ключевых вопросов жизни страны.
В последнее время Лицо стало еще больше помогать Алексею Александровичу, как и было заложено в программах роботов III класса; так, оно начало консультировать не только по рабочим вопросам, но и касательно личной жизни.
В карете, по дороге домой, Каренин размышлял о прошедшем вечере. Хотя Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашел в том, что жена сидела с Вронским у особого стола и о чемто оживленно разговаривала, Лицо с этим не согласилось и заметило, что это показалось ему чемто особенным и неприличным, и потому это показалось неприличным и Каренину. Он решил, что нужно сказать об этом жене.
Вернувшись домой, Алексей Александрович прошел к себе в кабинет, как он это делал обыкновенно, сел в кресло и запустил чтеца с того места, где он был остановлен в прошлый раз; устройство рассказывало о конструктивных особенностях гусеничного хода. Алексей Александрович слушал до часу, как обыкновенно делал.
В обычный час он встал и сделал свой ночной туалет. Анны Аркадьевны еще не было. С книгой под мышкой он пришел наверх, но в нынешний вечер, вместо обычных мыслей и соображений о служебных делах, мысли его были наполнены женою и чемто неприятным, случившимся с нею. Он, противно своей привычке, не лег в постель, а, заложив за спину сцепившиеся руки, принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшее обстоятельство.
Когда Алексей Александрович решил сам с собой, что нужно переговорить с женою, ему казалось это очень легко и просто; но теперь, когда он стал обдумывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему очень сложным и затруднительным.
«Конечно же, я не ревнив», – подумал он.
ДА?
Это было Лицо; его голос так отчетливо и ясно прозвучал в голове Алексея Александровича, как словно он разговаривал с другим человеком, но никто кроме него, не мог слышать этого голоса.
– Нет, не ревнив. Ревность, по моему убеждению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие.
И У ВАС НЕТ ПОВОДА НЕ ДОВЕРЯТЬ ЕЙ.
Тон Лица был подчеркнуто нейтральным, не выражавшим ровным счетом никакого мнения.
– Да, так и есть, – вслух ответил Алексей Александрович. – Теперь же, хотя убеждение мое о том, что ревность есть постыдное чувство и что нужно иметь доверие, и не было разрушено, я чувствую, что стою лицом к лицу пред…
КАК БУДТО БЫ.
– Да, верно подмечено, стою как будто бы лицом к лицу с чемто нелогичным и бестолковым и не знаю, что надо делать.
НА САМОМ ДЕЛЕ, ВЫ СТОИТЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ ПРЕД ЖИЗНЬЮ, ПРЕД ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЛЮБВИ ВАШЕЙ ЖЕНЫ К КОМУНИБУДЬ, КРОМЕ ВАС, И ЭТО КАЖЕТСЯ ВАМ ОЧЕНЬ БЕСТОЛКОВЫМ И НЕПОНЯТНЫМ.
Алексей Александрович молча принялся обдумывать это высказывание, Лицо также не издавало ни звука. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была – сама жизнь, мост – та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Он всегда был сосредоточен на работе, на разработках в области высоких технологий и оружия, транспорта и физиолографии – на всех тех новшествах, которые имели столь важное значение для постоянного развития его любимой страны, для защиты ее от врагов. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить когонибудь, и он ужаснулся пред этим.
Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперед по звучному паркету освещенной одною лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только на большом, недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и чрез ее кабинет, где горели две свечи I класса, освещая портреты ее родных и приятельниц и красивые, давно близко знакомые ему безделушки ее письменного стола. Чрез ее комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался.
На каждом протяжении своей прогулки, и большею частью на паркете светлой столовой, он останавливался и объявлял Лицу:
– Да, это необходимо решить и прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение.
НО ВЫСКАЗАТЬ ЧТО ЖЕ? КАКОЕ РЕШЕНИЕ? – наивно спрашивало Лицо, и Алексей Александрович не был готов ответить на это.
– Да наконец, – добавил он, – что же случилось? Ничего.
НИЧЕГО?
Поколебавшись, он сказал:
– Она долго говорила с ним. Ну что же? Мало ли женщина в свете с кем может говорить? И потом, ревновать – значит унижать и себя и ее.
Отчегото Алексею Александровичу вспомнился эпизод с мелким чиновником из его Департамента по фамилии Саркович; тот грубо заигрывал с Анной Аркадьевной дерзкие авансы. Каренин и тогда не был ревнив, считая чувство это низким. С болезненным беспокойством он вдруг вспомнил, как открылось ему, что человек этот был Янусом. Точнее, открытие это сделало Лицо, которое самостоятельно произвело комплекс аналитических операций, выявив, что Саркович – не кто иной, как агент СНУ. Алексей Александрович объявил о результатах расследования, и обвиняемый был соответствующим образом наказан.
Воспоминание об этом выцепило из памяти совсем недавнее событие – встречу с Вронским и его беспрестанно лающим роботом III класса на Антигравистанции. Он страстно желал, чтобы животное наконец замолчало, и даже повторял про себя: «Тихо. Тихо!» Затем в голове его эхом грянуло Лицо:
ТИХО!
В следующее мгновение сраженный робот лежал на полу Антигравистанции, беззвучно подрагивая.
Отгоняя эти воспоминания прочь, Алексей Александрович вошел в столовую и громко произнес:
– Да, это необходимо решить и прекратить и высказать свой взгляд…
КАК РЕШИТЬ? КАК МЫ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ?
Но мысли Алексея Александровича, как и тело совершали полный круг, не нападая ни на что новое. Он заметил это, потер себе лоб и сел в ее кабинете.
«И ужаснее всего то, – думал он, – что теперь именно, когда подходит к концу мое дело (он думал о долгосрочном проекте, посвященном усовершенствованию роботов III класса; частью этого проекта было Лицо, однако же оно представляло собой лишь первый этап работы), когда мне нужно все спокойствие и все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Но что же делать? Я не из таких людей, которые переносят беспокойство и тревоги и не имеют силы взглянуть им в лицо».
ВОТ ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ, – сказало Лицо успокаивающим, даже отеческим тоном, – ВЫ ДОЛЖНЫ ОБДУМАТЬ, РЕШИТЬ И ВЫБРОСИТЬ ВСЕ ЭТО ИЗ ГОЛОВЫ.
У подъезда послышался звук подъехавшей кареты. Алексей Александрович остановился посреди залы.
Анна шла, опустив голову, за ней по пятам спешила Андроид Каренина, в ночное время сиявшая приглушенным краснооранжевым светом. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась.
– Ты не в постели? Вот чудо! – сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше, в уборную. – Пора, Алексей Александрович, – проговорила она изза двери.
– Анна, мне нужно поговорить с тобой.
– Со мной? – сказала она удивленно, вышла из двери и посмотрела на него. Он моргнул нормальным глазом, в то время как механический зрачок другого расширился с еле слышным жужжанием, приспосабливаясь к полутьме комнаты. – Что же это такое? О чем это? – спросила она, садясь. – Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.
Анна говорила, что приходило ей на язык, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова и как похоже было, что ей просто хочется спать! Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи.
– Анна, я должен предостеречь тебя, – начал он и сам, без дозволения хозяйки, выключил ее Андроида Каренину, действуя в соответствии с грубыми законами патриархата. Анна изумленно посмотрела на мужа. Теплое сияние, исходившее от Андроида, вдруг исчезло, и комната погрузилась в сверхъестественный мрак.
– Предостеречь? – сказала она, оправившись от изумления. – В чем же?
Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов. Его стальной глаз сканировал каждый сантиметр ее тела, улавливая в то же мгновение все значимые физиогномические изменения: едва заметное вздрагивание сетчатки глаза, выступивший от волнения румянец. Он видел, что глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: да, закрыта, и это так должно быть и будет вперед. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым.
НО, БЫТЬ МОЖЕТ, КЛЮЧ ЕЩЕ НАЙДЕТСЯ, – предположило недремлющее Лицо.
– Я хочу предупредить тебя, – сказал он тихим голосом и затем, смутившись, почувствовал, что не может более продолжать.
– Да?
Алексей Александрович, запинаясь, продолжил:
– Предупредить… предупредить, что нынче возросла вероятность терактов со стороны СНУ – я имею в виду атаки кощеев. В прошлый четверг на женщину было совершено нападение прямо на овощном рынке. Механический зверьпиявка присосался к ее позвоночному столбу и выпил весь спинной мозг.
– Очень хорошо, – ответила Анна и улыбнулась с явным облегчением, словно бы подзадоривая мужа, чтобы тот объявил истинную причину своего раздражения.
МУЖАЙТЕСЬ, ДРУГ. МУЖАЙТЕСЬ.
– Я хочу предостеречь тебя в том, – сказал он тихим голосом, – что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским (он твердо и с спокойною расстановкой выговорил это имя) обратил на себя внимание.
Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своею непроницаемостью глаза и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов.
МУЖАЙТЕСЬ.
– Ты всегда так, – отвечала она, как будто совершенно не понимая его и изо всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. – То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет?
Алексей Александрович вздрогнул и по старой привычке поднял руку к подбородку и забарабанил аккуратным ногтем по холодному металлу правой щеки.
– Ах, пожалуйста, не делай этого, я так не люблю, – сказала она. – Да что ж это такое? – сказала она с таким искренним и комическим удивлением. – Что тебе от меня надо?
Алексей Александрович затруднился ответить. В самом деле, чего он хотел от нее? Ответ дал его робот III класса.
ВМЕСТО ТОГО, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ, ТО ЕСТЬ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ СВОЮ ЖЕНУ ОТ ОШИБКИ В ГЛАЗАХ СВЕТА, ВЫ ВОЛНУЕТЕСЬ НЕВОЛЬНО О ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ЕЕ СОВЕСТИ.
«Да, именно так».
И БОРЕТЕСЬ С ВООБРАЖАЕМОЮ ВАМИ КАКОЮТО СТЕНОЙ.
– Я вот что намерен сказать, – продолжал он холодно и спокойно, ободренный спокойными доводами Лица, – и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным и никогда не позволю себе руководиться этим чувством, но есть известные законы приличия, которые нельзя преступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать.
– Решительно ничего не понимаю, – сказала Анна, пожимая плечами. «Ему все равно, – подумала она. – Но в обществе заметили, и это тревожит его». – Ты нездоров, Алексей Александрович, – прибавила она, встала и хотела уйти. Но вдруг мощная неведомая сила, внезапно заполнившая пространство вокруг, схватила Анну, словно бы невидимыми пальцами, и удерживала ее на месте. Она ахнула и посмотрела на мужа.
В свою очередь, Алексей Александрович увидал, что жена остановилась в дверях; он был обрадован этим обстоятельством, решив, что она наконец готова выслушать его. Всего несколько мгновений назад он мысленно обращался к ней, желая, чтобы она сделала это: «Остановись, Анна, остановись, попытайся понять, прими то, о чем я говорю тебе!»
Алексей Александрович не понимал, что желания его были какимто образом исполнены в реальности и что именно эта сила и удерживала его жену у лестницы.
Взглянув на мужа, Анна увидела, что живая часть лица его выражала спокойствие и даже улыбалась, в то время как металлическая половина его беспрестанно двигалась и светилась странным серозеленым светом. Тонкие прожилки грозниума, испещрявшие его маску, яростно пульсировали, словно вены, трепещущие вместе с движением крови. Анна заставила себя успокоиться и начала быстрою рукою вынимать шпильки из волос, словно бы не было вокруг странного уплотнения воздуха, удерживавшего ее на месте.
– Нус, я слушаю, что будет, – проговорила она спокойно и насмешливо. – И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело.
– Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и даже вредным, – начал Алексей Александрович. Анна почувствовала, что его невидимая рука, крепко сжимавшая ее тело, чрезвычайно медленно, но все же ослабляла свою хватку, и вскоре она вновь смогла двигаться. – Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства – это дело твоей совести; но я обязан пред тобою, пред собой и пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом; союз наш благословлен перед лицом всей России и одобрен Министерством. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару.
– Ничего не понимаю. Ах, боже мой, и как мне на беду спать хочется! – сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки.
– Анна, ради бога, не говори так, – сказал он кротко. – Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя.
На мгновение лицо ее опустилось, и потухла насмешливая искра во взгляде; но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала: «Любит? Разве он может любить? Если б он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь». Она с тоской посмотрела на Андроида Каренину, которая попрежнему пребывала в Спящем Режиме; Анне очень не хватало ее умного, согревающего взгляда.
– Алексей Александрович, право, я не понимаю, – сказала она. – Определи, что ты находишь…
– Позволь, дай договорить мне. – Анна заметила, что яростная пульсация металлической части лица прекратилась, и на лице мужа была простая холодная маска из серебра. – Я люблю тебя. Но я говорю не о себе; главные лица тут – наш сын и ты сама. Очень может быть, повторяю, тебе, покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова; может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать и, если сердце тебе говорит, высказать мне…
Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил.
– Мне нечего говорить. Да и… – вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку, – право, пора спать.
Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню.
* * *
С этого вечера началась новая жизнь для Алексея Александровича и для его жены. Ничего особенного не случилось. Анна, как всегда, ездила в свет, особенно часто бывала у княгини Бетси и встречалась везде с Вронским. Движимый возникавшими время от времени напоминаниями, источником которых был бесстрастный голос Лица, он делал бесконечные попытки вызвать жену на откровенный разговор, но она противопоставляла ему непроницаемую стену какогото веселого недоумения. Снаружи было то же, но внутренние отношения их совершенно изменились. Алексей Александрович, столь сильный человек в государственной деятельности, тут чувствовал себя бессильным. Как списанный робот II класса, он покорно ждал удара, который, он чувствовал, был готов обрушиться на него в любую секунду.
Каждый раз, как он начинал думать об этом, он чувствовал, что нужно попытаться еще раз, что добротою, нежностью, убеждением еще есть надежда спасти ее, заставить опомниться, и он каждый день сбирался говорить с ней. Но каждый раз, как начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить. Он говорил с ней невольно своим привычным тоном подшучиванья над тем, кто бы так говорил. А в этом тоне нельзя было сказать того, что требовалось сказать ей.
То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, – это желание было удовлетворено. Они были одни, абсолютно одни – их роботов рядом не было. По негласному уговору, любовники оставляли их, прежде чем ехать на место свидания; так что у роботов не было возможности наблюдать людей в ситуациях, когда человек проявляет себя наиболее полно.
Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем.
– Анна! Анна! – говорил он дрожащим голосом. – Анна, ради бога!..
Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когдато гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее.
– Боже мой! Прости меня! – всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки.
Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения: а в жизни теперь, кроме него, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было чтото ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценой стыда. Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством.
И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи – то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, – рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колена и хотел видеть ее лицо; но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко.
– Все кончено, – сказала она. – У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это.
– Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья…
– Какое счастье! – с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. – Ради бога, ни слова, ни…
И, словно бы желая показать свою решительность в том, чтобы не дать ему более вымолвить ни слова, Анна Аркадьевна сама остановилась на середине фразы.
Вронский увидел, что не только прелестный рот ее вдруг замер, но и все тело: она перестала двигаться, глаза остались полуоткрытыми, и все замерло.
– Анна, Анна! В чем дело? – закричал Вронский.
«Это он, – тотчас же пронеслось в голове Алексея Кирилловича, – ее чудаковатый и жестокий муж открыл нашу связь и какимто образом отравил Анну!»
Но действие этого странного яда было сильнее, чем действие любого другого: Вронский увидал, как Анна, все еще неподвижная, будто вырезанная из мрамора вдруг поднялась на несколько сантиметров над постелью, и тело ее страшно затряслось в воздухе.
Он протянул к ней дрожащие руки, не зная, как поступить и стыдясь признаться самому себе, что он боялся просто прикоснуться к ней. В это мгновение все закончилось также внезапно, как и началось. Анна мягко упала на матрас и, придя в себя, продолжила разговор с того места, где остановилась.
– … слова больше, – закончила она, в то время как Вронский смотрел на нее, силясь понять, чему же он был только что свидетелем.
– Анна, – наконец начал он, – Анна, я…
Но было слишком поздно, и со странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним.
* * *
Вo сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновиденье почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! А его металлическое лицо поблескивало в свете огня. Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж, и Лупо рыскал по комнате, обнюхивая смятые простыни. Затем, обнимая Вронского, Анна Аркадьевна посмотрела вниз и увидала, что голова ее была какимто образом водружена на блестящее тело Андроида Карениной. Это сновиденье, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом.
Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: «Так же краснел и вздрагивал я, считая все погибшим, когда получил единицу за физику и остался на втором курсе; так же считал себя погибшим после того, как построил первую свою шахту, а она взорвалась вдруг. И что ж? Теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчать меня. То же будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен».
Но прошло три месяца, и он не стал к этому равнодушен, и ему так же, как и в первые дни, было больно вспоминать об этом. Он не мог успокоиться, потому что он, так долго мечтавший о семейной жизни, так чувствовавший себя созревшим для нее, всетаки не был женат и был дальше, чем когданибудь, от женитьбы.
Между тем пришла весна, прекрасная, дружная, без ожидания и обманов весны, одна из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди. Эта прекрасная весна еще более возбудила Левина и утвердила его в намерении отречься от всего прежнего, с тем чтобы устроить твердо и независимо свою одинокую жизнь.
Подъезжая домой в самом веселом расположении духа, Левин услыхал колокольчик со стороны главного подъезда к дому.
– Да, это с железной дороги, – сказал он Сократу, – самое время московского Грава… Кто бы это? Что, если это брат Николай? Он ведь сказал: «может быть, уеду на воды, а может быть, к тебе приеду».
Ему страшно и неприятно стало в первую минуту, что присутствие брата Николая расстроит это его счастливое весеннее расположение. Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчас же он как бы раскрыл свои душевные объятия и с умиленною радостью ожидал и желал теперь всею душой, чтоб это был брат. Он тронул лошадь и, выехав за акацию, увидал подъезжавшую тройку с Антигравистанции и господина в шубе.
– А! – радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. – Вот радостныйто гость! Ах, как я рад тебе! – вскрикнул он, узнав Степана Аркадьича. Между ног его разместился, словно пухлый счастливый ребенок, его верный компаньон, Маленький Стива.
– Узнаете верно, вышла ли или когда выходит замуж , – осторожно шепнул Сократ, стараясь как можно меньше ранить чувства хозяина. Но в этот прекрасный весенний день Левин почувствовал, что воспоминанье о ней совсем не больно ему.
– Что, не ждал? – сказал Степан Аркадьич, вылезая из саней, с комком грязи на переносице, на щеке и брови, но сияющий весельем и здоровьем. – Приехал тебя видеть – раз, – сказал он, обнимая и целуя его, – поиграть в «ОхотьсяиБудьжертвой» – два, и земли в Ергушове продать – три.
В это время Сократ вытянул вперед свой манипулятор с воздухоподающей насадкой, чтобы сдуть с лицевой панели Маленького Стивы налипшую грязь.
Ни одного слова Степан Аркадьич не сказал про Кити и вообще Щербацких; только передал поклон жены. Левин был ему благодарен за его деликатность и был очень рад гостю. Как всегда, у него за время его уединения набралось пропасть мыслей и чувств, которых он не мог передать окружающим, и теперь он изливал в Степана Аркадьича и поэтическую радость весны, и неудачи и планы хозяйства. Степан Аркадьич, всегда милый, понимающий все с намека, в этот приезд был особенно мил, и Левин заметил в нем еще новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе.
Они условились, что завтра же отправятся на забаву, называемую «ОхотьсяиБудьЖертвой». Левин приказал, чтобы Охотничьих Медведей активировали и травили собаками всю ночь.
Место для охоты было недалеко над речкой в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин слез и провел Облонского на угол мшистой и топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он вернулся на другой край к двойняшкеберезе и, прислонив ружье к развилине сухого нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движений рук.
Солнце спускалось за крупный лес; и на свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими ветвями с надутыми, готовыми лопнуть почками. Константин Дмитриевич довольно вздохнул – «ОхотьсяиБудьЖертвой» было для него идеальным провождением дня: стрелять вальдшнепов и гусей из своего старомодного ружья с патронами, одновременно пытаясь избежать когтей созданных человеком монстров – Охотничьих Медведей, которые охотились на людей. Левин уже давно размышлял над тем, чем же была интересна охота до изобретения этих великолепных машин?
Из частого лесу, где оставался еще снег, чуть слышно текла еще извилистыми узкими ручейками вода. Мелкие птицы щебетали и изредка пролетали с дерева на дерево. В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таянья земли и от росту трав. Маленький Стива, настроив свои слуховые и зрительные сенсоры, нервно вращал головой; он ненавидел эту «ОхотьсяиБудьЖертвой», и черной завистью завидовал Сократу, который был оставлен дома с поручением заняться бухгалтерией.
– Каково! Слышно и видно, как трава растет! – сказал Левин Облонскому, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы. Степан Аркадьич подоброму рассмеялся такой наблюдательности.
Вдруг Маленький Стива пронзительно пискнул шесть раз подряд, птицы тучей вспорхнули с деревьев, и послышался громкий металлический скрежет в лесу. Огромный механический зверь, почти три метра росту, ломился через кусты и деревья навстречу охотникам, передвигаясь большими неуклюжими шагами и разевая пасть с двумя рядами огромных зубов. Левин, уже вскинув ружье на медведя, восхищался простой, но эффектной работой: механический зверь не был похож на живого, он, скорее, походил на детский рисунок медведя с чрезмерно большими лапами и клыками.
Облонский, ошеломленный, выстрелил первым, но безрезультатно: выпущенные пули попали, большинством, в стволы окружающих деревьев или же отскочили от толстых грозниевых ног медведя, не причинив ему никакого вреда. Когда зверь с грохотом сделал еще один шаг навстречу охотникам, Маленький Стива бросился в прошлогоднюю листву подлеска и схоронился там.
Левин, спокойно целясь в медведя, заметил, что тот был с медвежонком – прекрасная натуралистическая деталь. Про себя он решил отблагодарить егеря за старания и чудесный день в лесу. Он выстрелил и промахнулся. Медведь тыльной стороной лапы ударил Облонского – достаточно сильно, для того чтобы свалить с ног, но не убить. Степан Аркадьич в ужасе закричал. Как и большинство новичков на охоте, он успел совершенно позабыть в пылу борьбы, что механические звери были запрограммированы в соответствии с Железными Законами, а значит, не могли нанести никакого настоящего увечья людям.
Левин выстрелил снова и в упор попал в брюхо медведя; робот отступил назад, имитируя боль от раны. В этот момент ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом; другой точно так же пролетел в том же направлении и скрылся. Разъяренный медведь остановился, его датчики отвлеклись на пролетевших птиц, и Левин не преминул воспользоваться этой паузой. Он выстрелил ровно четыре раза с убийственной точностью – бахбахбахбах! – прозвучало над лесом: один выстрел – чтобы подстрелить первого вальдшнепа, другой – в правый глаз медведя, третий – во второго вальдшнепа и четвертый – в левый глаз зверя.
Птицы все громче и хлопотливее щебетали в чаще. Недалеко заухал филин. Медведь с разнесенной пулями головой повалился на землю, как подпиленное дерево. Облонский нерешительно поднялся на ноги, весело подсмеиваясь над своим приступом страха. Маленький Стива выбрался из подлеска с двумя убитыми птицами, зажатыми клещами единственного манипулятора.
* * *
Охота была прекрасная. Степан Аркадьич убил еще две штуки и Левин двух, из которых одного не нашел. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла изза березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Арктурус. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать; но Левин решил подождать еще, пока видная ему ниже сучка березы Венера перейдет выше его и когда ясны будут везде звезды Медведицы. Венера перешла уже выше сучка, колесница Медведицы с своим дышлом была уже вся видна на темносинем небе, но он все еще ждал.
– Не пора ли? – сказал Степан Аркадьич.
В лесу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась.
– Постоим еще, – отвечал Левин.
– Как хочешь.
Они стояли теперь шагах в пятнадцати друг от друга.
– Стива! – вдруг неожиданно сказал Левин, – что ж ты мне не скажешь, вышла твоя свояченица замуж или когда выходит?
Левин чувствовал себя столь твердым и спокойным, что никакой ответ, он думал, не мог бы взволновать его.
Но он никак не ожидал того, что отвечал Степан Аркадьич.
– И не думала и не думает выходить замуж, а она очень больна, и доктора послали ее на орбиты Венеры.
Венеры… Левин задумчиво снова посмотрел на планету и почувствовал, как сжимается сердце.
– Даже боятся за ее жизнь.
– Что ты! – вскрикнул Левин. – Очень больна? Что же с ней? Как она…
Но в это самое мгновенье оба вдруг услыхали пронзительный свист, который как будто стегнул их по ушам. Маленький Стива снова подавал сигнал.
Оба вдруг схватились за ружья, сверкнули вспышки и семнадцать пуль пробили тело грозниевого медвежонка.
Левин и Облонский стояли над убитыми медведями, раскрасневшиеся от удовольствия неожиданной победы. Каждый в шутку обвинял товарища, что именно тот позабыл о медвежонке.
– Вот отлично! Общий! – вскрикнул Левин. «Ах да, о чем это неприятно было? – вспоминал он. – Да, больна Кити… Что ж делать, очень жаль», – думал он.
* * *
Охотники отправились домой. Они не видели, как тотчас же за их спинами появилось нечто с головой, похожей на голову червя, только размером – с собачью. Оно возникло изпод земли, словно из тоннеля. Прежде чем вновь исчезнуть, этот червь открыл огромную пасть и всосал изуродованный грозниевый корпус медвежонка.
Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полковых связей и интересов. Интересы его полка, носившего имя «Кружащие ястребы Пограничья», занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытою дорогой ко всякого рода успеху и честолюбия и тщеславия, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы пограничного полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд.
Само собою разумеется, что он не говорил ни с кем из товарищей о своей любви, не проговаривался и в самых сильных попойках (впрочем, он никогда не бывал так пьян, чтобы терять власть над собой) и затыкал рот тем из легкомысленных товарищей, которые пытались намекать ему на его связь. Но, несмотря на то что его любовь была известна всему городу – все более или менее верно догадывались о его отношении к Карениной, – большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его любви, – в высоком положении Каренина и потому в выставленности этой связи для света. И только несколько молодых людей, движимых плохо скрываемой ревностью к успехам и дерзости Вронского, перешептывались между собой, что такая связь может иметь опасные последствия для человека, который так хорошо устроился в закрытом мирке высших чинов Министерства.
Кроме занятий службы и света, у Вронского было еще занятие – «Выбраковка» – ежегодные гладиаторские бои. Участие в них гарантировало продвижение по службе. Вронский был страстным охотником до этих боев, он добился больших успехов в прошлые годы и теперь с нетерпением и неимоверной радостью ожидал открытия нового сезона.
Соревнование проходило на большой арене при огромном скоплении зрителей. Каждый участник от полка надевал самодельный смертоносный бронированный костюм и мог свободно вступать в сражение, человек против человека, покуда не выбывали слабейшие. Победители, как Вронский до сих пор, получали не только славу, но и повышение по службе. В нынешнем году назначены были офицерские бои, и день их проведения неумолимо приближался.
Вронский, несмотря на свою любовь, был страстно, хотя и сдержанно, увлечен предстоящими сражениями… Две страсти эти не мешали одна другой. Напротив, ему нужно было занятие и увлечение, не зависимое от его любви, на котором он освежался и отдыхал от слишком волновавших его впечатлений.
Здание наподобие бункера было построено подле самой арены, и туда вчера должна была быть привезена Оболочка Вронского. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не примерял ее и теперь решительно не знал, в каком состоянии был его боевой костюм.
Вронский мог по праву гордиться своей Оболочкой «ФруФру», которую построил и модифицировал в соответствии с собственными вкусами и потребностями, консультируясь при этом, с выдающимся английским инженером, которого за большие деньги он нанял как механика. Малейшее движение ФруФру было под контролем хозяина, помещенного внутрь нее: его нервные окончания были напрямую соединены со сверхчувствительной сенсорной системой Оболочки десятками проводов.
– Ну что ФруФру? – спросил Вронский поанглийски.
– All right, sir – все исправно, сударь, – гдето внутри горла проговорил англичанин. – Пойдем, – все также не открывая рта, нахмурившись, сказал инженер и, размахивая локтями, пошел вперед своею развинченною походкой.
Они вошли в дворик пред бункером. Мальчикмишень, трепещущий от страха, одетый с головы до пят в ватный костюм, встретил входивших и пошел за ними. В бункере стояло пять Оболочек по отдельным кабинам, и Вронский знал, что тут же нынче должна быть приведена и стоит Матрешка, Оболочка его главного соперника Махотина.
Еще более, чем свой боевой костюм, Вронскому хотелось видеть эту Матрешку, которую он не видал: но он также знал, что, по законам приличия гладиаторских боев, не только нельзя видеть ее, но неприлично и расспрашивать про нее. В то время когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во вторую кабину налево, и Вронский увидел боевую машину, которой он так интересовался. Он успел заметить, что выглядела она совершенно безобидно, с огромным закругленным основанием и меньшей по размеру, но столь же округлой верхней частью и грубо нарисованным лицом старого бородатого мужика. Изумленный тем, как выглядела Оболочка Махотина – весело и даже несколько глуповато, он, с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, отвернулся и подошел к кабине ФруФру.
Его Оболочка была среднего размера, построенная в приблизительном соответствии человеческой фигуре из десятков больших, изогнутых и заходящих друг на друга металлических пластин. Вронский отдал немалые деньги за грозниевый сплав, которым он покрыл всю ФруФру; вложенные средства окупались сторицей – во время столкновения соперники не могли проткнуть эту броню. Что же касалось наступательной части сражения, на грудной клетке Оболочки размещались три вращающихся рожка, исторгавших пламенные шары; «лицо» машины украшала решетка, изза которой, по желанию Вронского, навстречу сопернику вылетали электрические разряды размером с пушечное ядро.
Во всей фигуре ФруФру, и в особенности в голове, было выражение энергическое, указывающее на мощный наступательный потенциал, и вместе с тем нежное. Некоторые Оболочки производили впечатление, какое производит неодушевленный предмет, это были всего лишь огромные орудия с дыркой для того, чтобы забираться внутрь; но ФруФру была одна из тех Оболочек (более относившаяся к роботам II класса, нежели к III), которые, кажется, не говорят только потому, что они лишены ротового отверстия. Вронскому, по крайней мере, показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал.
Как только Вронский подсоединился к импульсным электродам, позволяющим связываться с системой контроля ФруФру, ее металлические пластины стали двигаться, глаза загорелись в глубоких полостях, а огнестрельные рожки нацелились в трех разных направлениях.
– Видите, как она взволнована, – сказал англичанин.
– О, милая! О! – говорил Вронский, уговаривая ее: – Успокойся, милая, успокойся! – сказал он, погладив ее еще рукой по спине, поблескивавшему в тусклом освещении бункера. – Давайте выгуляем ее!
Англичанин открыл металлический корпус Оболочки, Вронский забрался внутрь и принялся подсоединять контакты проводов в соответствующие разъемы, расположенные на контактной панели ФруФру. Он чувствовал, как кровь приливала к сердцу и что ему так же, как и Оболочке, хочется двигаться, стрелять; было и страшно и весело. Как только машина прогрелась, Вронский ощутил знакомое волшебное пощипывание в руках и ногах, означавшее, что произошло полное слияние с рефлексной системой оболочки; мальчикмишень попытался убежать, однако был остановлен Лупо, который предупреждающе зарычал, удерживая его в дверях, покуда Вронский готовился выстрелить.
– Пожалуйста, не надо, ваше превосходительство, – взмолился тот, – может быть…
Закатив глаза, англичанин больно ударил мальчика по затылку и сказал:
– Он выстрелит всего в полсилы.
Вронский, чувствуя себя внутри ФруФру столь же комфортно, как ребенок в утробе матери, велел ей стрелять; изза лицевой решетки вылетел сгусток чистой электрической силы, направленный прямо на мальчика. Выстрел действительно был произведен всего вполсилы, но несмотря на это, мальчик лежал, дрожа и пытаясь прийти в себя.
Вронский вылез из Оболочки, и они с инженером вышли из бункера на солнечный свет, оставив мальчика на каменном полу.
– Ну, так я на вас надеюсь, – сказал он англичанину, – в шесть с половиной на месте.
– Все исправно, – сказал англичанин. – А вы куда едете, милорд? – спросил он, неожиданно употребив это название myLord, которого он почти никогда не употреблял.
Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть, не в глаза, а на лоб англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но поняв, что англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на бойца, ответил ему:
– Мне нужно нанести один визит, я через час буду дома.
«Который раз мне делают нынче этот вопрос!» – сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало.
Англичанин внимательно посмотрел на него. И как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил:
– Первое дело быть спокойным пред боем, – сказал он, – не будьте не в духе и ничем не расстраивайтесь. И следите за дорогой. Ходят слухи, что СНУ заложила эмоциональные мины на подъездных дорогах к арене.
Эти взрывные устройства, которых так сильно боялись в России в последнее время, разрываясь, высвобождали феромоны, способные кардинально изменять человеческие эмоции.
– All right, – улыбаясь, отвечал Вронский и, оставив Лупо у инженера, вскочил в коляску, велел ехать. Он не стал снимать с себя набор сенсорных пластин, посредством которых позднее планировал возобновить связь с ФруФру; через них же, словно через вибрационный телеграф, инженер мог отслеживать психофизическое состояние Вронского.
Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась, и хлынул ливень.
Ливень был непродолжительный, и, когда Вронский подъезжал к дому Карениных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы садов по обеим сторонам главной улицы блестели мокрым блеском, и с ветвей весело капала, а с крыш бежала вода. Он не думал уже о том, как этот ливень испортит поле битвы, но теперь радовался тому, что благодаря этому дождю, наверное, застанет ее дома, и одну, так как он знал, что Алексей Александрович не переезжал из Петербурга.
Надеясь застать ее одну, Вронский, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимание, слез, не переезжая мостика, и пошел пешком. Он не шел на крыльцо с улицы, но вошел во двор.
– Барин приехал? – спросил он у механика, который пытался починить расстроившегося II/Садовника/429.
– Никак, нет. Барыня дома. Да вы с крыльца пожалуйте; там II/Лакеи/74 есть, отопрут, – отвечал механик.
– Нет, я из сада пройду.
И убедившись, что она одна, и желая застать ее врасплох, так как он не обещался быть нынче и она, верно, не думала, что он приедет пред сражением, он пошел, поддерживая хлыст и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад. Вронский теперь забыл все, что он думал дорогой о тяжести и трудности своего положения. Он думал об одном, что сейчас увидит ее не в одном воображении, но живую, всю, какая она есть в действительности.
Она была совершенно одна и сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождем. Она послала II/Лакея/7е62 и II/Горничную/467 искать его и сидела ожидая. Одетая в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами, поливая их при помощи увлажнителя I класса, который точно знал, сколько воды нужно каждому растению. Анна не слыхала, как вошел Вронский. В специальном боевом костюме, оплетенном проводами, которые были присоединены к жизненно важным точкам, он знал, что выглядит странно и беззащитно.
Склонив свою чернокурчавую голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского. Он остановился, с восхищением глядя на нее. Его сердце бешено забилось, и далеко в бункере инженер, следивший за показателями Вронского посредством физиографа I класса, недовольно скривился, увидав резко участившийся пульс.
Но только что он хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое разгоряченное лицо.
– Что с вами? Вы нездоровы? – сказал он пофранцузски, подходя к ней. Он хотел подбежать к ней; но, вспомнив, что могли быть посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться.
– Нет, я здорова, – сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. – Я не ждала… тебя. Что это на тебе надето?
– Боже мой! Какие холодные руки! – сказал он и наскоро объяснил, почему так одет и что за несколько часов до сражения его самочувствие должно постоянно проверяться.
– Ты испугал меня, – сказала она. – Я одна и жду Сережу, он пошел гулять; они отсюда придут.
Но, несмотря на то что она старалась быть спокойной, губы ее тряслись.
– Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас, – продолжал он пофранцузски, как он всегда говорил, избегая невозможнохолодного между ними вы и опасного ты порусски.
– За что ж простить? Я так рада!
– Но вы нездоровы или огорчены, – продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. – О чем вы думали?
– Все об одном, – сказала она с улыбкой.
Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту ни спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить: об одном, о своем счастье и о своем несчастье. Она думала теперь именно, когда он застал ее, вот о чем: она думала, почему для других все это было легко, а для нее так мучительно? Нынче эта мысль, по некоторым соображениям, особенно мучала ее. Она спросила его о предстоящей битве. Он отвечал ей и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовления к сражению.
«Сказать или не сказать? – думала она, глядя в его спокойные ласковые глаза. – Он так счастлив, так занят грядущей Выбраковкой, что не поймет этого как надо, не поймет всего значения для нас этого события».
– Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел, – сказал он, перервав свой рассказ, – пожалуйста, скажите!
Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него исподлобья вопросительно своими блестящими изза длинных ресниц глазами. Рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее. Датчики зафиксировали успокаивающее действие, которое оказало на его пульс разделенное чувство.
– Я вижу, что случилось чтото. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите, ради бога! – умоляюще повторил он.
Внезапно Анна поднялась и подошла к Андроиду Карениной, которую Вронский поначалу не заметил; она неподвижно сидела с противоположной стороны фонтана.
– Да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. Лучше не говорить, зачем испытывать? – шепнула она роботу.
– Ради бога! – повторил он, обогнув фонтан и взяв ее руку.
– Сказать?
– Да, да, да…
Но Анна не могла заставить себя говорить. И тогда Андроид Каренина открыла Вронскому правду, не произнеся ни слова. Она соединила манипуляторы у средней секции и медленно отвела их в сторону и вверх, изображая растущий живот. Анна была беременна.
Как только Андроид окончила свою пантомиму, листок в руке Анны Аркадьевны задрожал еще сильнее, но она не спускала с Вронского глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел чтото сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. Реакция его на известие была бы еще более драматической, если бы не действия инженера, который, заметив резкие скачки на кардиограмме, нажал нужную комбинацию кнопок и умерил сердцебиение.
– Да, он понял все значение этого события, – сказала Анна Андроиду Карениной.
Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренною силой почувствовал припадок странного, находившего на него чувства омерзения к комуто; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступит теперь, что нельзя более скрывать от мужа и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение. Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на нее умиленным, покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе.
– Да, – сказал он, решительно подходя к ней. – Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. Необходимо кончить, – сказал он, оглядываясь, – ту ложь, в которой мы живем.
– Кончить? Как же кончить, Алексей? – сказала она тихо.
Она успокоилась теперь, и Андроид Каренина сияла ярким, но приятным лиловым светом, романтически оттеняя нежное выражение лица хозяйки.
– Оставить мужа и соединить нашу жизнь.
– Она соединена и так, – чуть слышно отвечала она.
– Да, но совсем, совсем.
– Но как, Алексей, научи меня, как? – сказала она с грустною насмешкой над безвыходностью своего положения. – Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа?
– Из всякого положения есть выход. Нужно решиться, – сказал он. – Все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем.
– Ах, только не мужем, – с простою усмешкой сказала она. – Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет.
– Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься и о нем.
– Да он и не знает, – сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на ее лицо; щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. – Да и не будем говорить о нем.
Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить ее на обсуждение своего положения и каждый раз сталкивался с тою поверхностностью и легкостью суждений, с которою она теперь отвечала на его вызов. Как будто было чтото в этом такое, чего она не могла или не хотела уяснить себе, как будто, как только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила кудато в себя и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которой он не любил и боялся и которая давала ему отпор.
Но нынче он решился высказать все.
– Знает ли он, или нет, – сказал Вронский своим обычным твердым и спокойным тоном, – знает ли он, или нет, нам до этого дела нет. Мы не можем… вы не можете так оставаться, особенно теперь.
– Что ж делать, повашему? – спросила она с тою же легкою насмешливостью. Ей, которая так боялась, чтоб он не принял легко ее беременность, теперь было досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять чтото.
– Объявить ему все и оставить его.
– Очень хорошо; положим, что я сделаю это, – сказала она. – Вы знаете, что из этого будет? Я вперед все расскажу, – и злой свет зажегся в ее за минуту пред этим нежных глазах. – «А, вы любите другого и вступили с ним в преступную связь (изображая специфическую наружность мужа, она закрыла ладонью одну половину лица)? Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношениях. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя… – и своего сына, – хотела она сказать, но сыном она не могла шутить… – позору свое имя», и еще чтонибудь в таком роде, – добавила она. – В общем, он скажет со своей министерской манерой и с ясностью и точностью, что не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал. И сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится, – прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера, и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была перед ним виновата.
Затем она поняла, что Вронский не слушает ее, увидав, что взгляд его остановился на чемто, что было за ее головой.
– Вихрь… – произнес он низким голосом, словно завороженный.
Анну раздражила его невнимательность.
– О чем ты?
– Фонтан… смерч… – повторил он и вдруг громко закричал: – Прыгай!
Анна, сидевшая до этого на бортике фонтана, испуганно рванулась вперед и, споткнувшись, упала к ногам Вронского. Он наклонился и, схватив ее за руки, стал притягивать к себе. Прямо за ней над бурлящей водой фонтана, словно грозовая туча, волновалось ужасающее нечто: серочерный зев колыхался, готовый поглотить Анну.
Вронский, крепко сжимая ее руки и уперев ноги в бортик фонтана, что есть мочи сопротивлялся грубой силе, которая была в десять раз мощнее силы земного притяжения и которая затягивала Анну внутрь зияющей дыры. Андроид Каренина тоже вступила в борьбу с неведомой стихией: она оперла нижние манипуляторы о бортик фонтана и обхватила талию Анны.
– Что… что… – начала Анна, и Вронский сразу ответил:
– Божественные уста.
Он поморщился, когда юбки Карениной взметнулись вверх и зашелестели в безумных порывах ветра.
– Их какимто образом создает СНУ… ох…
Пальцы Вронского немного соскользнули с рук Анны, он выругался.
– Держись, держись, еще немного… это не продлится долго!
– Отпусти меня, – слабо сказала Анна.
– Что?
– Что хорошего в такой жизни, когда каждый наш шаг под контролем моего мужа ? Отпусти меня! – скомандовала она Андроиду Карениной, которая, согласно Железным Законам, не могла ослушаться хозяйку; с извиняющимся видом она повернулась лицевой панелью к Вронскому и разомкнула объятия.
– Но, Анна, – сказал Вронский строго и еще крепче сжал руки, – всетаки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет.
– Что ж, бежать?
– Отчего ж и не бежать? Я не вижу возможности продолжать это. И не для себя, – я вижу, что вы страдаете.
Из глубины демонической спирали дул свирепый ветер; туфелька соскользнула с ноги Анны и исчезла в ужасающем вихре. Вронский удвоил усилия, чтобы вытащить Анну, чуть не вывихнув ей руку; он посмотрел на волнующуюся за ее спиной дыру, сиявшую, словно злой глаз голодного зверя. Запястье Анны вдруг выскользнуло из его рук, но она не сделала никаких усилий, чтобы дать ему снова ухватиться за нее. Ее тело ослабло, и он чувствовал, что Анна готова сдаться и погибнуть.
– Анна, – взмолился он, – не сдаваться!
– Да, бежать, и мне сделаться вашею любовницей и погубить все… – прошептала она скорее самой себе.
Она опять хотела сказать: «сына», но не могла выговорить этого слова, то ли оттого, что не могла заставить себя сказать, то ли оттого, что воздуха в ее легких почти не осталось.
Анна представила, как его невинное тело парит перед огромной черной дырой позади нее; вообразила его пойманным в эту страшную ловушку. Она вдруг осознала, что сама приготовила для него западню, влюбившись в чужого мужчину; она думала о будущих отношениях сына к бросившей его отца матери, ей становилось так страшно за то, что она сделала, и оттого не могла принять этого. Анна вскрикнула и вырвалась из рук Вронского, божественные уста раскрылись шире, словно рот змеи, приготовившейся проглотить кролика.
И в этот момент Андроид Каренина нарушила Железный Закон послушания человеку. Мертвой хваткой держа Анну за талию, она с могучей механической силой вырвала ее из смертоносного вихря. Хозяйка и ее робот с грохотом упали на камни у фонтана. Сквозь полузакрытые глаза Анна смотрела, как странный трехмерный портал вдруг со свистом захлопнулся и исчез.
Затем она перевела взгляд на лицевую панель Андроида Карениной, сиявшую бледным фиолетовым светом; какоето время спустя она произнесла: «Спасибо».
Как было всегда, робот ничего не ответил, только выпрямился и почтительно отошел прочь. Вронский бросился к своей возлюбленной и с нежностью положил ее голову к себе на колени.
– Я прошу тебя, я умоляю тебя, – сказала она, отводя глаза от Вронского, – никогда не говори со мной об этом!
– Наоборот, – начал Вронский, – я не успокоюсь до тех пор, пока не выясню, что за группа, что за безумец посмел организовать эту атаку на тебя и почему…
– Нет, – нетерпеливо ответила Анна, качая головой, – никогда не говори со мной о том, что я стала твоей любовницей, о моем падении, потому что…
– Но, Анна…
– Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю; но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне?.. Нет, нет, обещай!..
– Я все обещаю, но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокойна…
– Я? – повторила она. – Да, я мучаюсь иногда; но это пройдет, если ты никогда не будешь говорить со мной об этом. Когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает.
– Я не понимаю, – сказал он.
– Я знаю, – перебила она его, – как тяжело твоей честной натуре лгать, и жалею тебя. Я часто думаю, как для меня ты погубил свою жизнь.
– Я то же самое сейчас думал, – сказал он, – как изза меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива.
– Я несчастлива? – сказала она, с восторженною улыбкой любви глядя на него, – я – как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно ему, но он не несчастлив. Я несчастлива? Нет, вот мое счастье…
Она услыхала голос возвращавшегося сына и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем, она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом и, приблизив свое лицо с открытыми, улыбающимися губами, быстро поцеловала его рот – Андроид Каренина на мгновение отвела взгляд – и затем оттолкнула его. Она хотела идти, но он удержал ее.
– Когда? – проговорил он шепотом, восторженно глядя на нее.
– Нынче, в час, – прошептала она и, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сыну.
Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал погруженный в мысли о произошедшем. Зачем СНУ понадобилось устраивать здесь ловушку? Была ли это западня для Анны… или же для него?
И было ли это СНУ?
Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он вышел на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи, к своей коляске, открепляя и вновь приставляя электроды ко лбу и груди. Он был настолько погружен в размышления о происшествии с божественными устами, что и не подумал о том, который сейчас час. Но чувство возбуждения от грядущей Выбраковки все более и более охватывало Вронского, по мере того как он въезжал дальше и дальше в атмосферу битвы, обгоняя экипажи ехавших с дач и из Петербурга.
Когда он прибыл, в открытой кабине стояла ФруФру с распахнутой дверью в корпусе, готовая принять своего хозяина в любую минуту. Ее собирались выводить.
– Не опоздал?
– All right! All right! Все исправно, все исправно, – проговорил англичанин, нервно взглянув на свой I/Физиограф/99 – только, ради бога, не будьте взволнованы!
Вронский еще раз окинул взглядом утонченные формы Оболочки, дрожавшей всем телом в нетерпении. Он оглянулся на зрительские ряды в беседках и быстрым взглядом пробежал по толпе, прежде чем забраться внутрь своего смертоносного костюма и вступить в бой.
– А, вот Каренин! – сказал его полковой знакомый. – Ищет жену, а она в середине беседки. Вы не видали ее?
– Нет, не видал, – отвечал Вронский и, не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, забрался в свою Оболочку.
Послышалось: «Садиться!»
Разместившись в грозниевом корпусе ФруФру, Вронский ловкими движениями подсоединил собственное тело к контактной панели Оболочки. Он положил руку на второе средство управления, сделанное по форме кисти, и нажал большим пальцем на маленькую кнопку. Тут же боевая машина выпрямилась, вскинула голову и выпустила в небо сильный электрический заряд. Вронский улыбнулся: «Она готова».
Снаружи англичанин, подошедши к оболочке, прижался к люку и прокричал внутрь: «Удачи, ваше превосходительство!» Затем уже на английском добавил традиционное подбадривающее напутствие: «Постарайтесь выжить!»
Вронский посмотрел в длинную трубу – сенсорное устройство наподобие перископа. Он хотел в последний раз перед битвой взглянуть на своих соперников. Когда начнется сражение, все они, согласно древним традициям Выбраковки, превратятся из хорошо знакомых и любимых сослуживцев в цели, которые нужно будет во что бы то ни стало поразить.
Одна из Оболочек, принадлежавшая его товарищу по пирушкам Опошенко, была выполнена в виде огромного паука с блестящими золотыми глазами, которые, как было известно Вронскому, могли создавать мощное магнитное поле, затягивавшее врагов в «паутину» боевого костюма. Вторую Оболочку сконструировали наподобие саней с двигателем, размещенным в задней части машины, что позволяло использовать ее в качестве тарана – просто, но действенно. Гальцин, друг Вронского и один из самых грозных соперников, прибыл в Оболочке, форма которой – серп – была навеяна патриотическими настроениями и смутным воспоминанием, что им когдато жали крестьяне; серп этот мог носиться на бешеной скорости на периферии битвы и вдруг броситься в самое пекло, острым лезвием разрезая тяжелую броню на кусочки.
К арене, где собирались участники, смело подъехал маленький лейбгусар на своей Оболочке: был без защитного костюма, в узких рейтузах, он оседлал ракету и, согнувшись, держался как кот в седле из желания подражать англичанам. Каким образом этот смельчак планировал убить своих соперников и при этом остаться в живых, было для Вронского непостижимо. Князь Кузовлев подъехал к арене в монолитной Оболочке из черного грозниума – Вронский знал, что броня эта крепкая, однако совершенно бесполезная в наступлении. Все хорошо знали Кузовлева и его особенность «слабых» нервов и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего и потому решился выехать на поле битвы в этом вертикальном гробуоболочке, готовый выжить в этой Выбраковке, но никак не выиграть ее.
Участники уже подходили к месту, откуда должны были пускать всех биться; оно было с другой стороны арены, за ним виднелась запруженная река. Ктото был позади, ктото двигался чуть впереди; вдруг Вронский услышал громкое тарахтение примитивного двигателя позади себя, его обогнал Махотин в своей толстой, удивительной Матрешке с тяжелым низом округлой верхушкой и бойко нарисованным лицом мужика. Вронский поморщился и сердито посмотрел на него. Было чтото странное в этой Оболочке, и Вронский смотрел теперь на Махотина как на главного своего соперника.
ФруФру упивалась нетерпением Вронского, подобно тому как лошадь пьет ключевую воду возбужденно поставила свои сильные задние ноги на точку старта, заставив Вронского прижаться спиной к дальней стенке кабины. «Это будет достойная битва», – подумал он.
Всех офицеров в Выбраковке участвовало семнадцать человек. Сражение должно было происходить на большом четырехверстном эллиптической формы кругу перед беседкой. На этом кругу были устроены девять препятствий: река, большой, в два аршина, глухой барьер пред самою беседкой, канава сухая, канава с водою, косогор, ирландская банкетка, состоящая (одно из самых трудных препятствий) из вала, утыканного хворостом, потом еще две канавы с водою и одна сухая, – и конец соревнования был против беседки.
Все глаза, все бинокли были обращены на пеструю кучку экзоскелетонов, в то время как они выравнивались.
Наконец судья крикнул: «Пошел!» – и полное уничтожение всего живого на арене началось.
«Пустили! Они приступают!» – послышалось со всех сторон после тишины ожидания. И кучки и одинокие пешеходы стали перебегать с места на место, чтобы лучше видеть. В первую же минуту собранная группа быстро движущихся смертоносных машин растянулась по полю, они занимали исходные позиции вокруг и под барьерами, в канавах и ирландской банкетке, направляя свои искровые разрядники, бомбометы и эхопушки друг на друга, демонстративно постреливая мимо. Зрителям казалось, что стрелять они все начали одновременно: поле зажглось яркими цветами – благодаря молниеносным движениям участников и электрическим залпам; но для бойцов была важна каждая секунда.
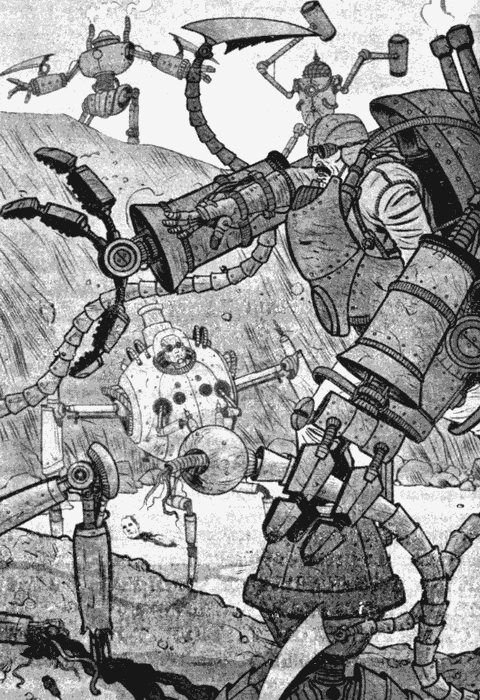
Группа смертоносных машин растянулась по полю, направляя свои бомбометы и эхопушки друг на друга
Первой жертвой стал приятель Вронского Опощенко, сидевший в паукообразной Оболочке; он неосмотрительно направил свой мощный магнит на самого худшего врага, какого только можно было себе выбрать: самоуверенный гусар летел верхом на ракете прямо в один из сиявших «глаз» паука. Результатом встречи этих двух Оболочек стал мощный взрыв, восемь ног механического насекомого полетели во все стороны. Огромная неповоротливая Оболочка пошатывалась, и уже было начала валиться, но наткнулась на торчащую из земли острозаточенную ногу паука, которая попала ей чуть ниже шеи. Владелец Оболочки, Петрович, вывалился из нее на арену, чертыхаясь и хватаясь за поврежденные ноги.
ФруФру, возбужденная происходившим вокруг, крутнулась на месте и выпустила очередь огненных шаров без разрешения хозяина; но Вронский обуздал ее, умело перебирая пальцами на управляющем диске. Потея внутри кабины и скрипя зубами от нетерпения, он, смотря в перископ, стал выискивать противника – Кузовлева, и наконец нашел его Оболочку – черный ящик.
– Низко висящий фрукт легко сорвать – прошептал Вронский и выпустил мощный электрический заряд изза решетки ФруФру прямо в живот уродливого броненосца Кузовлева. Но выпущенный заряд отскочил от монолитной оболочки, и Вронский разочарованно нахмурился – как ему удалось так обшить ее? – и в ту же секунду он с радостным удивлением рассмеялся своему везению: огненный заряд, проплывая по небу, словно пылающий шарик для крокета, неожиданно попал в Матрешку Махотина. Взрыв пришелся прямо на безвкусно разрисованное лицо Оболочки, и Вронский остался доволен тем, что случай помог ему вывести из строя основного конкурента.
Празднуя победу, ФруФру подобрала ноги и зад и, словно кошка, перепрыгнула через обломки Матрешки. «О, милая!» – подумал Вронский.
– Браво! – раздался голос с трибун.
В то же мгновение перед глазами Вронского мелькнул частокол препятствия. Направив ФруФру на барьер, он вновь взглянул в перископ, чтобы узнать, что происходит сзади. Увиденное поразило его: главный соперник не был повержен, Вронский смотрел, как верхняя часть Матрешки, украшенная мужским лицом, тлела и постепенно линяла, словно бы меняя «кожу», являя миру новую Оболочку, на этот раз с ярко нарисованным лицом крестьянки.
– Поди ж ты, – воскликнул Вронский, – одна в другой!
Он вновь повернулся к барьеру и тут же пожалел, что позволил себе отвлечься: положение его изменилось, и он чувствовал, что произошло нечто ужасное, но вот что – он не успел понять. Вдруг к нему подъехала Оболочка в виде саней, на которых гордо восседала новая Матрешка. ФруФру попыталась было перепрыгнуть через препятствие, но ее тяжелая задняя нога зацепилась за него и боевой костюм Вронского начал вращаться вокруг своей оси, заставляя его больно биться о стенки крошечной кабины. ФруФру упала на грязную арену прямо за барьером и тут же стала удобной мишенью. Вронский прекрасно осознавал, что произойдет дальше – его неуклюжие движения обрекли ФруФру.
В отчаянии он заставил Оболочку подняться на ноги, но было уже слишком поздно. Взглянув в перископ, Вронский увидел, что уязвимость его не осталась незамеченной соперниками. К этому времени серповидная Оболочка Гальцина раскроила женский облик Матрешки, но теперь уж Вронский не был удивлен, увидев новую Оболочку, еще меньшую по размеру. Последнее, что увидел он перед ударом, было нарисованное лицо крестьянского мальчика на металлическом корпусе Матрешки, которая летела прямо на него и его бедную поврежденную ФруФру.
После ужасающего столкновения Вронский както открыл ногой дверь кабины и выкатился на землю.
– Аааа… – застонал он, схватившись за голову, и сорвал с себя шлем; небольшие огоньки все еще тлели по всему его телу. – Ох, что я наделал! Битва проиграна и по моей вине! Позор, непростительная ошибка! И бедная, разрушенная машина! Ох, что я наделал! – в отчаянии воскликнул Вронский.
Зрители, доктор с фельдшером, офицеры его полка бросились к нему, когда он покинул арену. К еще большему его страданию, он чувствовал, что был цел и почти не обожжен, а бедная машина была вновь повреждена после недавнего ремонта, и потому было принято решение отправить ее в утиль. Вронский был не в силах отвечать на расспросы, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, оставив обугленный шлем у пруда, вышел вон с поля, не зная куда. Он чувствовал себя совершенно несчастным. В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастие, несчастие неисправимое и такое, в котором виною сам. Через полчаса Вронский пришел в себя. Но воспоминание об этой скачке надолго осталось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни.
Когда Алексей Александрович появился на Выбраковке, Анна уже сидела в беседке рядом с Бетси, в той беседке, где собиралось все высшее общество. Она увидала мужа еще издалека. Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни, и даже без помощи вибрационных датчиков Андроида она чувствовала их близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила за ним в тех волнах толпы, между которыми он двигался. Она видела, как он подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и постукивая утонченным указательным пальцем по металлической щеке.
Она знала все эти приемы, и все они ей были отвратительны.
«Одно честолюбие, одно желание успеть – вот все, что есть в его душе, – думала она, – а высокие соображения, любовь к просвещению, религия, все это – только орудия для того, чтобы успеть».
По его взглядам на дамскую беседку (он сканировал толпу механическим глазом) она поняла, что он искал ее; но она нарочно не замечала его.
– Алексей Александрович! – закричала ему княгиня Бетси. – Вы, верно, не видите жену; вот она!
Он улыбнулся своею холодною улыбкой, и его металлическое лицо почти красиво сверкнуло на солнце.
– Здесь столько блеска, что глаза разбежались, – сказал он и затем шутливо произнес: – Если точнее, один глаз.
Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж, встречая жену, с которою он только что виделся, и поздоровался с княгиней и другими знакомыми, воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с мужчинами. Генераладъютант осуждал смертельные поединки. Алексей Александрович возражал, защищая их, как лицо, представляющее Министерство, он высокопарно объяснял, по каким причинам эти соревнования были приняты там, наверху, как необходимые и важные.
Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ее ухо.
Когда началась Выбраковка и яркий свет выстрелов и взрывов осветил арену, она нагнулась вперед и, не спуская глаз, смотрела на подходившего к Оболочке и садившегося в нее Вронского и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучилась страхом за Вронского, но еще более мучилась неумолкавшим, ей казалось, звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями.
– Я дурная женщина, я погибшая женщина, – глухим голосом шепнула она Андроиду Карениной, – но я не люблю лгать, я не переношу лжи, а его пища – это ложь. Он все знает, все видит; что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие. Андроид, не отвечая, легким движением руки дала понять хозяйке, что следовало бы чуть понизить голос.
Анна Аркадьевна не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движенье свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Каренина было необходимо умственное движение чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так и ему было естественно хорошо и умно говорить.
– Княгиня, пари! – послышался снизу голос Степана Аркадьича, обращавшегося к Бетси. – За кого вы держите?
– Мы с Анной за князя Кузовлева, – отвечала Бетси.
– Я за Вронского. Ставлю робота I класса.
– Идет!
– А как красиво, не правда ли?
Алексей Александрович помолчал, пока говорили около него, но тотчас опять начал.
– Я согласен, но мужественные игры… – продолжал было он.
Но в это время пускали бойцов, и все разговоры прекратились. Алексей Александрович тоже замолк, и все поднялись и обратились к арене. Каренин не интересовался Выбраковкой и потому не глядел на сражавшихся, а рассеянно стал обводить зрителей усталыми глазами. Механический глаз его остановился на Анне.
Лицо ее было бледно и строго. Она, очевидно, ничего и никого не видела, кроме одного. Рука ее судорожно сжимала веер, и она не дышала. Он посмотрел на нее и поспешно отвернулся, оглядывая другие лица.
«Да вот и эта дама и другие тоже очень взволнованы; это очень натурально», – подумал он, чтобы успокоить Лицо, но оно не ответило – и как будто засмеялось. Был ли это действительно низкий смешок, раздавшийся в глубинах его сознания? – и он стал рассеянно смотреть сквозь I/Бинокль/8, стараясь сохранять спокойствие. Он хотел не смотреть на нее, но взгляд его невольно притягивался к ней. Он опять вглядывался своим механическим глазом в это лицо, стараясь не читать того, что так ясно было на нем написано, и против воли своей с ужасом читал на нем то, чего он не хотел знать.
Первый мощный взрыв, когда паук был подорван ракетой гусара, и его острая как бритва нога вонзилась в горло неуклюжего Голема, взволновал всех, но Алексей Александрович видел ясно на бледном, торжествующем лице Анны, что тот, на кого она смотрела, не упал. Шорох ужаса пронесся по всей публике, Алексей Александрович видел, что Анна даже не заметила этого и с трудом поняла, о чем заговорили вокруг. Но он все чаще и чаще и с бо льшим упорством вглядывался в нее. Анна, вся поглощенная зрелищем сражавшегося Вронского, почувствовала сбоку устремленный на себя взгляд холодных глаз своего мужа.
Она оглянулась на мгновение, вопросительно посмотрела на него и, слегка нахмурившись, опять отвернулась.
«Ах, мне все равно», – как будто сказала она ему и уже более ни разу не взглядывала на него.
Выбраковка была необычной, даже тревожной, точно выявившей слабых и сильных офицеров: всего за несколько минут боя семнадцать человек было сбито и больше половины от этого числа не выжило.
Все громко выражали свое неодобрение этих смертей и насилия, и ужас чувствовался всеми, так что, когда сраженная ФруФру упала и Вронский, охваченный огнем, выкатился из Оболочки, в этом не было ничего необыкновенного. Но вслед за тем в лице Анны произошла перемена, которая была уже положительно неприлична. Она совершенно потерялась. Она стала биться как пойманная птица: то хотела встать и идти кудато, то обращалась к Бетси.
– Поедем, поедем, – говорила она.
Но Бетси не слыхала ее. Она говорила, перегнувшись вниз, с подошедшим к ней генералом.
Алексей Александрович подошел к Анне и учтиво дал ей руку.
– Пойдемте, если вам угодно, – сказал он пофранцузски; но Анна прислушивалась к тому, что говорил генерал, и не заметила мужа.
Анна, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упала машина Вронского; но было так далеко и там столпилось столько народа, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела идти; но в это время подъехал офицер и чтото объявлял публике. Анна высунулась вперед, слушая.
– Стива! Стива! – прокричала она брату.
Но брат не слыхал ее.
– Маленький Стива! – крикнула она во второй раз, однако и роботтолстячок не обратил на нее внимания.
– Я еще раз предлагаю вам свою руку, если вы хотите идти, – сказал Алексей Александрович, дотрагиваясь до ее руки.
Она с отвращением отстранилась от него и, не взглянув ему в лицо, отвечала:
– Нет, нет, оставьте меня, я останусь.
Она видела теперь, что от места падения Вронского через круг бежал офицер к беседке. Бетси махала ему платком. Офицер принес известие, что ездок не убился, но машину придется отправить в утиль.
Услыхав это, Анна быстро села и закрыла лицо I/Веером/9. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович загородил ее собою, давая ей время оправиться.
– В третий раз предлагаю вам свою руку, – сказал он чрез несколько времени, обращаясь к ней. Анна смотрела на него и не знала, что сказать. Княгиня Бетси пришла ей на помощь.
– Нет, Алексей Александрович, я увезла Анну, и я обещалась отвезти ее, – вмешалась Бетси.
– Извините меня, княгиня, – сказал он, учтиво улыбаясь, но твердо глядя ей в глаза, – но я вижу, что Анна не совсем здорова, и желаю, чтоб она ехала со мною.
Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку на руку мужа.
– Я пошлю к нему, узнаю и пришлю сказать, – прошептала Бетси Андроиду Карениной, которая послушно записала переданную информацию и поспешила за своей смятенной хозяйкой.
На выходе из беседки Алексей Александрович, так же как всегда, говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как и всегда, отвечать и говорить; но она была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем.
«Убился или нет? Правда ли? Придет или нет? Увижу ли я его нынче?» – думала она.
Она молча села в карету Алексея Александровича и молча выехала из толпы экипажей. Несмотря на все, что он видел, Алексей Александрович всетаки не позволил себе думать о настоящем положении своей жены. Он только видел внешние признаки. Он видел, что она ведет себя неприлично, и считал своим долгом сказать ей это. Но ему очень трудно было не сказать более, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы заметить ей, как она неприлично вела себя, но невольно произнес совершенно другое.
– Как, однако, мы все склонны к этим жестоким зрелищам, – сказал он. – Я замечаю…
– Что? я не понимаю, – презрительно сказала Анна.
БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ. ПОКАЖИТЕ СВОЮ ТВЕРДОСТЬ, – неожиданно в голове Алексея Александровича прозвучал голос Лица. Никогда ранее он не слышал его так громко и отчетливо, сила и мощь этого голоса привели собственные мысли Алексея Александровича в беспорядок, он ощутил, как пробежали по спине мурашки.
– Я должен сказать вам, – проговорил он и затем вновь остановился в нерешительности.
Я ТВЕРД. А ВЫ – ЭТО Я. ПОКАЖИТЕ СВОЮ ТВЕРДОСТЬ.
Анна вздрогнула, увидав странную рябь, пробежавшую по металлической части лица мужа, словно бы призрачная стайка пауков пронеслась ото лба к подбородку и скрылась вдруг.
– Вот оно, объяснение, – шепнула она Андроиду Карениной.
– Я должен сказать вам, что вы неприлично ведете себя нынче, – сказал он ей пофранцузски.
ДА, ДА… СКАЖИТЕ ЕЙ… СКАЖИТЕ ЖЕ…
– Чем я неприлично вела себя? – громко сказала она, быстро поворачивая к нему голову и глядя ему прямо в глаза, но совсем уже не с прежним скрывающим чтото весельем, а с решительным видом, под которым она с трудом скрывала испытываемый страх. Андроид Каренина зажглась успокаивающим темнофиолетовым светом и положила свои руки на плечи Анны Аркадьевны, стараясь успокоить свою хозяйку.
– Что вы нашли неприличным? – повторила она.
– То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из бойцов.
СЕЙЧАС, ВОТ ИМЕННО СЕЙЧАС! СКАЖИТЕ ЕЙ, ПОСТАВЬТЕ ЕЕ НА МЕСТО, ВОЗЬМИТЕ ВЕРХ НАД НЕЙ!
Алексей Александрович, взволнованный непрекращающейся ни на минуту бранью в голове его, ждал, что возразит ему жена; но она молчала, глядя перед собою.
– Я уже просил вас держать себя в свете так, что злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорил о внутренних отношениях; я ведь не говорю про них.
ДАВАЙТЕ, ДАВАЙТЕ ЖЕ! ДАЙТЕ ЕЙ ПОНЯТЬ, ПОКАЖИТЕ, ЧТО ВАС НЕ ПРОВЕСТИ!
– Теперь я говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держали себя, и я желал бы, чтоб это не повторялось.
Она не слышала половины его слов, она испытывала страх перед жутким выражением лица его и необычно громким голосом и думала о том, правда ли то, что Вронский не убился. О нем ли говорили, что он цел, а машину отправили в утиль? Она только притворнонасмешливо улыбнулась, когда он кончил, и ничего не отвечала, потому что не слыхала того, что он говорил. Алексей Александрович начал говорить смело, но, когда он ясно понял то, о чем он говорит, страх, который она испытывала, сообщился ему. Он увидел эту улыбку, и странное заблуждение нашло на него.
«Она улыбается над моими подозрениями», – подумал Алексей Александрович, и Лицо подлило масла в разгоравшийся огонь гнева:
УЛЫБАЕТСЯ! СМЕЕТСЯ! ДА КАК ОНА СМЕЕТ? ДЛЯ НЕЕ ВСЕ ЭТО КОМЕДИЯ, И ВЫ – ГЛАВНЫЙ АРТИСТ!
Но Каренин не чувствовал той ненависти к жене, которую пытался внушить ему робот. Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтоб она, так же как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не имеют основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить всему. Но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана.
– Может быть, я ошибаюсь, – сказал он. – В таком случае я прошу извинить меня.
– Нет, вы не ошиблись, – сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное лицо. Андроид Каренина крепко сжала плечо Анны, пытаясь спасти ее от губительного признания, но было уже поздно: та положила руку поверх руки робота для того, чтобы собраться с силами, и пожала ее.
– Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь, я ненавижу вас… Делайте со мной что хотите.
Алексей Александрович, потрясенный, откинулся назад, и в следующее мгновение карету сильно тряхнуло, как если бы она тоже была поражена откровенностью Анны, в следующее мгновение экипаж подбросило в воздух.
Как и предупреждал инженер Вронского, на дорогах, ведущих к арене и от нее, были заложены эмоциональные мины; этот вид оружия считался одним из самых хитроумных из всего того огромного арсенала, которым располагал СНУ. Алексей Александрович и его жена были в тот момент идеальной мишенью. Сердце Каренина билось как сумасшедшее, раненное признаниями жены, Анна Аркадьевна раскраснелась и была словно бы в полубреду от осознания сделанного. Эффект этих чувств был более чем достаточен для того, чтобы привести в действие мину, чувствительную к перепадам настроения.
Карету высоко подбросило, и затем она упала набок и, вращаясь, поехала на нем вдоль дороги, пока не врезалась в следовавшую перед ними карету с останками уничтоженных в битве Оболочек. Ужас, испытанный Алексеем Александровичем, вызвал второй взрыв; разбитые Оболочки взлетели на воздух и вскоре посыпались смертоносным металлическим дождем на карету Карениных.
Всего этого Анна не замечала; откинувшись в угол кареты, она рыдала, закрыв лицо руками. Она не замечала и того, что с каждым новым приступом отчаяния на дороге разрывались новые мины, в результате чего все больше грязи и кусочков раздробленного металла взмывало в воздух. Андроид Каренина, раскрыв объятия, смело закрыла своим корпусом хозяйку.
Алексей Александрович не шевелился и не менял прямого направления взгляда. Но вдруг его телескопический левый глаз выдвинулся вперед, и раскаленные куски металла, летящие с неба на карету, зависли в воздухе. Анна подняла голову и с изумлением стала смотреть, как металлические осколки, повинуясь (или это только так казалось) взгляду механического глаза, разрывались в пыль один за другим, не причиняя никакого вреда людям.
Несколько минут спустя карету выровняли, и на протяжении всего пути пассажиры ее пребывали в молчании.
* * *
Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением. Он только притворно прочистил горло и ответил на заявление жены так, будто ничего не случилось.
– Хорошо же! Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, – голос его задрожал, – пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам.
Он вышел вперед и высадил ее. Памятуя о сенсорах слугроботов, он пожал ей молча руку, сел в карету и уехал в Петербург.
Вслед за ним пришел лакей от княгини Бетси и принес Анне записку:
«Я послала к Алексею узнать о его здоровье, и он мне пишет, что здоров и цел, но в отчаянии».
«Так он будет! – подумала она. – Как хорошо я сделала, что все сказала ему».
Затем на мгновение ей вспомнился град металлических осколков и то спокойствие и мастерство, с каким муж обезвредил его. Она посмотрела в сторону СанктПетербурга, куда уехал Алексей Александрович по делам Министерства.
«Во имя всех святых, кто же он?» – подумала Анна Аркадьевна.
На величественном космическом корабле, который вращался вокруг Венеры, и куда отправилась семья Щербацких, как и во всех местах, где собираются люди, совершилась обычная как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определенное и неизменное место.
Несмотря на то что корабль этот принадлежал российскому Министерству робототехники и государственного управления (а обслуживался подчиненным ему Департаментом межпланетной торговли и туризма), попасть на него могли люди со всех уголков мира.
Как определенно и неизменно частица воды на холоде получает известную форму снежного кристалла, так точно каждое новое лицо, приезжавшее на воды, тотчас же устанавливалось в свойственное ему место. Щербацкие по имени, и по знакомым, которых они нашли, тотчас же кристаллизовались в свое определенное и предназначенное им место.
По свойству своего характера Кити всегда в людях предполагала все самое прекрасное, и в особенности в тех, кого она не знала. Кити подолгу бродила по освещенным коридорам большого корабля, который медленно вращался в древней тьме космоса; рука об руку с ней шла теперь уже любимая Татьяна, и вместе они с интересом рассматривали попутчиков и радовались им. Огромный корабль, на котором они теперь жили, назывался Орбитальный Очищающий Приют, где осуществлялась постоянная фильтрация воздуха с целью достижения максимального лечебного эффекта.
Из всех отдыхавших Кити в особенности занимала одна девушка, прилетевшая на корабль с больною русскою дамой, мадам Шталь, как ее все звали. Мадам Шталь принадлежала к высшему обществу, но она была так больна, что не могла ходить, и перемещалась по прогулочным дорожкам корабля не с помощью роботакомпаньона, а на колясочке I класса, которой и управляла русская девушка. Мадам Шталь звала ее Варенька.
Обе девушки встречались в день по нескольку раз, и при каждой встрече глаза Кити говорили: «Кто вы? что вы? Ведь правда, что вы то прелестное существо, каким я воображаю вас? Но ради бога не думайте, – прибавлял ее взгляд, – что я позволяю себе навязываться в знакомые. Я просто любуюсь вами и люблю вас». – «Я тоже люблю вас, и вы очень, очень милы. И еще больше любила бы вас, если б имела время», – отвечал взгляд неизвестной девушки. И действительно, Кити видела, что она всегда занята: или она возила мадам Шталь по кругу, или давала отдых натруженным рукам.
Скоро после приезда Щербацких утренним транспортом прибыли еще два лица, обратившие на себя общее недружелюбное внимание. Это были: очень высокий сутуловатый мужчина с огромными руками, с черными, наивными и вместе страшными глазами, которого сопровождали приземистый пыльный робот и рябоватая миловидная женщина, очень дурно и безвкусно одетая. Признав этих лиц за русских, Кити уже начала в своем воображении составлять о них прекрасный и трогательный роман. Но княгиня, узнав по гостевому списку, что это был Левин Николай и Марья Николаевна, объяснила Кити, какой дурной человек был этот Левин, и все мечты об этих двух лицах исчезли. Не столько потому, что мать сказала ей, сколько потому, что это был брат Константина, для Кити эти лица вдруг показались в высшей степени неприятны.
Этот Левин возбуждал в ней теперь своею привычкой подергиваться головой и скоплениями гноящихся язв вокруг глаз непреодолимое чувство отвращения.
Ей казалось, что в его больших страшных глазах, которые упорно следили за ней, выражалось чувство ненависти и насмешки, и она старалась избегать встречи с ним.
Но Кити нашла утешение в том, что благодаря знакомству с мадам Шталь и Варенькой ей открылся совершенно новый мир, не имеющий ничего общего с ее прошедшим, мир возвышенный, прекрасный, с высоты которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее. Ей открылось то, что, кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющей ничего общего с той, которую с детства знала Кити и которая выражалась в обедне и всенощной во Вдовьем Доме, где можно было встретить знакомых, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов. Мадам Шталь исповедовала ксенотеологизм – это было возвышенное, таинственное верование, с которым Кити была знакома лишь поверхностно через свою подругу графиню Нордстон: адепты его поклонялись таинственным светлым существам, называемым Почетные Гости. Гости эти, как с восторгом объясняла мадам Шталь, «придут к нам тремя путями» в назначенные дни, отправившись в длительное путешествие из самых дальних уголков межпланетного эфира сюда, к людям, чтобы наконец спасти их.
Кити вдруг поняла, что то, какой представляла эту веру графиня Нордстон, было лишь ограниченное ее понимание. Когда же о ксенотеологизме во всей полноте рассказала мадам Шталь, это навело Кити на целый ряд благородных размышлений и чувств, и открыла она все это не через слова.
Мадам Шталь говорила с Кити, как с милым ребенком, на которого любуешься, как на воспоминание своей молодости, и только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение дает лишь любовь и вера и что для сострадания к нам Почетных Гостей нет ничтожных горестей, и тотчас же перевела разговор на другое. Но Кити в каждом ее движении, в каждом слове, в каждом небесном, как называла Кити, взгляде ее, в особенности во всей истории ее жизни, во всем узнавала то, «что было важно» и чего она до сих пор не знала.
Сначала княгиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своего engouement, как она называла, к госпоже Шталь и в особенности к ее помощнице, Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в ее манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какойто серьезный душевный переворот.
По вечерам Варенька, мадам Шталь, Кити и Татьяна вчетвером собирались у огромных окон корабля и, всматриваясь в скопления звезд, терпеливо ожидали с распахнутыми объятиями и сердцами прибытия Почетных Гостей.
Но как ни возвышен был характер мадам Шталь, как ни трогательна вся ее история, как ни возвышенна и нежна ее речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее. Она заметила, что, расспрашивая про ее родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно смирению, которое требовал ксенотеологизм. Она сохраняла столь же презрительное выражение лица и когда говорила с Татьяной, давая Кити понять расплывчатыми выражениями (но никогда прямо), что Почетные Гости не одобряют зависимости людей от роботов. Для Кити, привыкшей во всем полагаться на своего любимого роботакомпаньона, как делали все молоденькие девушки ее круга, это замечание отравляло прелесть новой жизни.
Уже перед концом лечебного курса на борту Очищающего Приюта князь Щербацкий, ездивший на плывущий неподалеку Венерианский колониальный корабль навестить русских друзей и набраться русского духа, как он говорил, вернулся к своим.
Князь прилетел похудевший, с обвислыми мешками кожи на щеках, отмеченных то тут, то там легкими солнечными ожогами, появившимися от более близкого, чем обычно, пребывания рядом со светилом; но при всем этом князь был в самом веселом расположении духа.
Веселое расположение его еще усилилось, когда он увидал Кити совершенно поправившуюся. Известие о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой и переданные княгиней наблюдения над какойто переменой, происшедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла изпод его влияния в какиенибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда были в нем.
На другой день по своем приезде князь в своем длинном пальто, со своими русскими морщинами и одутловатыми щеками, подпертыми крахмаленными воротничками, в самом веселом расположении духа отправился вместе с дочерью на прогулку по залитым светом пешеходным дорожкам станции.
Она пригласила его присоединиться к их общей компании, состоявшей из мадам Шталь и Вареньки, чтобы разделить удовольствие, которое она недавно для себя открыла – удовольствие от ксенотеологического ритуала зазывания Почетных Гостей.
– Представь, представь меня своим новым друзьям, – говорил он дочери, пожимая локтем ее руку, когда они вошли в затемненную арку с огромными окнами, из которых открывался вид на звездную Вселенную. – Только грустно, грустно у вас. Это кто?
Они встретили и саму Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку.
– Вот и папа приехал! – сказала ей Кити.
Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала, движение, среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, нестесненно и просто.
– Разумеется, я вас знаю, очень знаю, – сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радостью узнала, что друг ее понравился отцу. – Куда же вы так торопитесь?
Кити видела, что ему хотелось посмеяться над Варенькой, но что он никак не мог этого сделать, потому что Варенька понравилась ему.
– Ну вот и всех увидим твоих друзей, – прибавил он, – и мадам Шталь, если она сочтет нужным узнать меня. В глазах князя зажегся огонь насмешки при упоминании о мадам Шталь.
– А ты разве ее знал, папа? – спросила Кити со страхом, замечая зажегшийся огонь насмешки в глазах князя при упоминании о мадам Шталь.
– Знал ее мужа и ее немножко, еще прежде, чем она в звездочеты записалась.
– Что ты имел в виду, называя мадам Шталь звездочетом, папа? – спросила Кити, уже испуганная тем, что то, что она так высоко ценила в госпоже Шталь, имело название.
– Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарит сотканных из света существ, за всякое несчастие, и за то, что у ней умер муж, благодарит. Ну, и выходит смешно, потому что они дурно жили.
– А вот и мадам Шталь, – сказала Кити, указывая на колясочку, которую с усердием толкала Варенька; в ней, обложенное подушками, в чемто сером и голубом лежало тело.
Князь подошел к ней. И тотчас же в глазах его Кити заметила смущавший ее огонек насмешки. Он подошел к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором столь немногие уже говорят теперь, чрезвычайно учтиво и мило.
– Не знаю, вспомните ли вы меня, но я должен напомнить себя, чтобы поблагодарить за вашу доброту к моей дочери, – сказал он ей, сняв шляпу и не надевая ее.
– Князь Александр Щербацкий, – сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в которых Кити заметила неудовольствие. – Очень рада. Я так полюбила вашу дочь.
– Здоровье ваше все нехорошо?
– Да я уж привыкла, – сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом.
– А вы очень мало переменились, – сказал ей князь. – Я не имел чести видеть вас десять или одиннадцать лет.
– Да, наши Гости дают тьму и силу вынести ее. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь… С той стороны! – с досадой обратилась она к Вареньке, не так завертывавшей ей пледом ноги.
– Чтобы делать добро, вероятно, – сказал князь, смеясь глазами.
– Это не нам судить, – сказала госпожа Шталь, заметив насмешливое выражение на лице князя.
– Я хотел предупредить вас, мадам, – и тут тон князя сменился с шутливого на серьезный, – что на Венере ходят слухи, будто бы Министерство поменяло свое отношение к тем, кто практикует ксенотеологизм. Для меня и других таких же утомленных старых циников это кажется смешным, однако мой долг предупредить вас о том, что Министерству это стало казаться не столь забавным в последнее время.
– О чем вы говорите? – в глазах мадам Шталь появилось беспокойство.
– Только то, что если раньше все это считалось глупой причудой, сейчас уже воспринимается как одна из форм янусизма.
Кити и Варенька ахнули, шокированная Татьяна прикрыла рот розовым манипулятором. Мадам Шталь ничего не ответила князю. Вместо этого она холодно посмотрела на Кити, извинилась за то, что неважно себя чувствует и потому сегодня не будет никакой церемонии приглашения Гостей. Затем она щелкнула пальцами, и Варенька увезла ее прочь. Кити повернулась к отцу и стала укорять его за такое обращение с ее новым учителем.
– Не сердись на меня, дорогая, – сказал князь. – Я только хотел предупредить ее, хотя не могу не признаться, что получил некоторое удовольствие, нарушив ее планы.
– Ах, папа, как можно быть таким насмешливым? Варенька боготворит ее.
– Конечно, боготворит. Предполагаю, она уже успела рассказать тебе о том, что установившиеся ныне отношения между роботом и человеком противоречат принципам ксенотеологизма? Так ты спроси ее или ее бедную Вареньку, как так может быть, что более нравственным использовать людей как если бы они были роботами или, если использовать архаизмы, – слугами.
– Она делает столько добра! У кого хочешь спроси! Ее все знают! – горячо ответила Кити.
– Может быть, – сказал он, пожимая локтем ее руку. – Но лучше, когда делают так, что у кого ни спроси, никто не знает.
Кити замолчала не потому, что ей нечего было говорить; но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако странное дело, несмотря на то что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежит потому, что дурно сложена, и мучает безответную Вареньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь.
Но этого и не нужно было делать: четырьмя днями позже слухи, о которых говорил князь, подтвердились самым шокирующим образом. Мадам Шталь была арестована судовым отрядом 77х, признана еретичкой и предателем государственных интересов. Однако на корабле продолжали шептаться, что Министерство, прознав, что в дальних уголках Вселенной действительно могут обретаться инопланетяне, постановило, что эти истово ждущие их прибытия люди – не религиозные фанатики, а сторонники потенциального противника.
Кити была поражена. Человек, которого она успела полюбить и которому даже поклонялась, вдруг оказался Янусом.
Сжимая одной рукой руку Вареньки, а другой – Татьяны, Кити пришла посмотреть, как будет вершиться правосудие. Кити видела, как мадам Шталь сопротивлялась, когда ее подняли с коляски и потащили по длинному коридору вниз, к шлюзу. Она противилась тому, как с нее снимали одежды и связывали по рукам и ногам, вырывалась и плакала, когда ее засунули в буферную камеру и двери закрылись за ее спиной. Она принялась колотить по межблоковой двери, и в это время открылся люк, приведенный в движение дистанционным управлением. Мадам Шталь закричала, уже без слов, когда ее тело вытянуло в бесконечность холодной пустоты. Наконец, рыдающая Кити увидела сквозь стекло, как мадам Шталь перестала кричать и плакать и ее застывшее без движения тело быстро унеслось в черную гулкую бесконечность.
После этого мрачного происшествия для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась; почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться; кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила; ей мучительны показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми.
Но любовь ее к Вареньке не ослабела. Прощаясь, Кити упрашивала ее приехать к ним в Россию.
– Я приеду, когда вы выйдете замуж, – сказала Варенька.
– Я никогда не выйду.
– Ну, так я никогда не приеду.
– Ну, так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание! – сказала Кити.
Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести ее стали воспоминанием.
В прошлом году Левин отправился посмотреть, как идет работа в грозниевой шахте, и был очень рассержен плачевным состоянием главного II/Экскаватора/8, о котором не потрудился сообщить обленившийся mécanien. Тогда он открыл для себя занятие, которое приносило ему наибольшее успокоение: Левин разыскал в подвалах дома старинную кирку (такими когдато пользовались деревенские мужики), надел каску с фонариком I класса и спустился в большом пневматическом лифте на самое дно карьера, чтобы наконец вступить в темный тоннель и начать рубить породу.
Ему так понравилось в шахте, что с тех пор он еще несколько раз спускался туда. В нынешний год он уже с ранней весны задумал проработать целый день вместе с проворными Копателями, светящимися во тьме тоннеля Оттирочными Машинами и огромными II/Экстракторами/4.
– Мне просто необходимы физические упражнения, или характер мой окончательно испортится, – сказал Левин Сократу. Тот трудился над решением сложнейшей задачи: подсчитывал доходы и заполнял бумажки, пришедшие из Министерства и касающиеся текущего сезона добычи грозниума. – Кажется, работы сейчас в полном разгаре – завтра и я приступлю.
Сократ поднял голову от бумаг и с интересом посмотрел на хозяина.
– Трудиться наравне с роботамиКопателями? И так целый день?
– Да, и это очень приятно, – ответил Левин.
– Это прекрасно, как физическое упражнение, только едва ли вы его выдержите, – ответил Сократ без всякой насмешки.
– А вот и нет! Это такая прекрасная и в то же время трудная работа, что и времени не будет думать об усталости!
На следующее утро Левин встал раньше обыкновенного и уже хотел отправиться в шахту, но был задержан новыми сообщениями из Департамента Грозниевой Промышленности. Когда он наконец прибыл на место, механические шахтеры уже стояли у лифтов, готовые спуститься на дно. Левин надел защитные очки, покрытый свинцом костюм, ботинки на толстой подошве и прикрепил баллон с воздухом. Приблизившись к краю огромного кратера, он посмотрел вниз, на рытвину в земле; почва в этих краях была богата грозниумом, чудометалл, словно кровь, питал собою всю Россию. Для того чтобы он стал деталью робота, нужно было изъять его из толстых каменных стен лопастями Копателей, а затем очистить. Необработанный кусок грозниума был дороже любых алмазов.
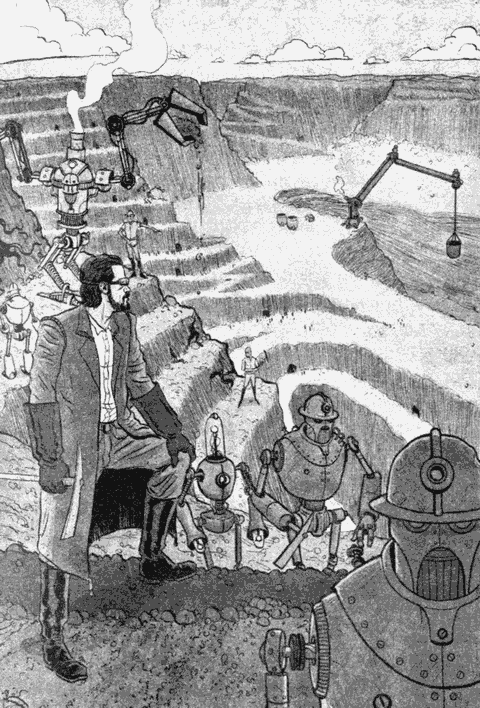
Вокруг него кишели роботы – копатели, экстракторы, оттирочные машины – всего Левин насчитал 42 робота
Держась за края грузового подъемника, Левин смотрел вниз на множество входов в тоннели на дальней стене шахты: туда и обратно, словно муравьи, сновали грубо сработанные роботы II класса, сжимавшие лопаты и кирки в своих крепких манипуляторах. Он был в нетерпении, душа страстно жаждала работы, но подъемник полз вниз медленно, сантиметр за сантиметром; наконец кабина достигла дна.
Левин заспешил к покатой каменистой стене кратера, прямо к главному входу в тоннель. Роботы кишели вокруг него: трудолюбивые Копатели поблескивали серым в местах, еще не покрытых рудой; Оттирочные Машины сияли своими знаменитыми грязными подземными красными огнями; тяжелые, словно танки, экстракторы вгрызались в породу лопатаминасадками, крепившимися к лицевой панели.
Всего Левин насчитал 42 робота.
Он успел лишь подойти к роботам, как они разбились на несколько небольших групп и отправились в боковые тоннели, где были обнаружены богатые залежи металла. Левин попал в маленький жужжащий отряд, который медленно продвигался по неровной, недавно вырытой штольне. Они уходили все дальше и дальше вниз, в самое сердце шахты, от многочисленных входов в другие тоннели, напоминавшие по своей форме и расположению пчелиные соты. Левин узнал нескольких своих роботов, многим из которых его старикотец дал имена, когда сам управлял шахтой. Здесь был старый Ярмил, помятый Копатель с очень длинной белой фронтальной панелью, который с каждым ударом лопаты сильно наклонялся вперед; здесь был более современный Васька, замахивающийся, чтобы вонзить свою кирку в скалу; здесь также был и Тит, маленький андроид, чьи тонкие пальцы расширяли узкие проходы. Тит шел впереди всех, он вонзался в стену без замаха, словно сам был киркой.
Левин, взявши свой старомодный инструмент, подошел к Титу, освещая себе путь лампочкой на каске; старый робот почтительно поприветствовал хозяина. Он достал из глубин своего корпуса новую кирку, более подходящую для работы, и передал ее Левину.
– Как бритва, барин, – подчеркнул Тит, – режет сама!
Левин взял кирку и три раза вонзил ее в стену тоннеля, прежде чем объявить, что готов приступить. Роботы все смотрели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока старый высокий Копатель нагнулся к Левину и сказал:
– Смотри, барин, – произнес он смущенно на своем странном арго подземных роботов II класса. – Мотри, мотри, мотри! Взялся за гуж, не отставать!
– Постараюсь не отстать, – ответил Константин Дмитрич, становясь за Титом и выжидая времени начинать. Тит расчистил пещеру, и Левин начал махать киркой. Стены были полны большими поблескивающими кусками грозниума, они словно бы подмигивали старателю и просили поскорее освободить их из заточения. Но Левин знал, что работа эта была труднее, чем казалась на первый взгляд, и грозниум не просто выпадет из скалы к ногам: придется приложить немало усилий, чтобы высвободить металл из скалы.
II/Экстрактор/11, прозванный Старый Чарли, спешил вперед, с трудом пробираясь на своем гусеничном ходу по ухабистой каменистой дорожке; его манипуляторы, снабженные щеточками и магнитами, собирали драгоценную грозниевую пыль, оставшуюся после извлечения больших валунов. Копатели жужжали позади экстрактора, откалывая от стен или всасывая в себя куски грозниума, которые пропустил Старый Чарли.
Левин, давно не работавший в шахтах и растерявшийся от любопытных взглядов роботов, поначалу колол плохо, хотя и махал киркой изо всех сил. За спиной он услышал мягкое механическое чириканье.
– Насажена неладно…
– Рукоятка слишком высока…
– Вишь, как наклоняется…
– Ничего, ладно, он научится, – резко оборвал других роботов Тит, и Левин ощутил прилив дружеских чувств к этому Копателю, и чувства эти были необычны, потому как вызвал их робот II класса.
С каждым шагом тоннель становился все уже и темнее, и Левин, стараясь колоть как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов сто. Робот все шел не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости; но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит: так он устал.
Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время андроид сам остановился и, согнувшись пополам, отер кирку и стал точить ее о точильный камень на своем предплечье.
Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади него шел другой Копатель, который сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит заострил свою кирку и кирку Левина, и они пошли дальше.
На втором этапе было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать, и работа давалась ему все труднее: наступала минута, когда он чувствовал, что нет более сил, но в это самое время Тит останавливался и точил кирки.
Он удивлялся чувствительности этого робота, его усовершенствованной конструкции. Его схемы были разработаны для того, чтобы приспосабливаться к потребностям других роботов в команде и поддерживать их, когда все вместе они работали во тьме тоннелей, освещенных лишь лампочками Оттирочных Машин. С того момента, как Левин начал работать вместе с роботами, Тит обращался с ним как с членом команды, давая ему послабления за медленный темп и (в сравнении с роботами) ограниченность физических сил.
Так они закончили первую штольню. И этот первый отрезок пути показался особенно труден Левину. Когда он внезапно кончился, механическая команда отправилась обратно по своим следам к выходу и, добравшись до него, тотчас же стала спускаться во второй тоннель, чтобы продолжить работу. В особенности радовало Левина то, что он знал теперь, что выдержит. Он ни о чем не думал и ничего не желал, кроме как не отстать от роботов и делать свою работу как можно лучше. Он слышал только лязг металла о камни и непрекращающийся глухой гул, исходящий от Старого Чарли. Он видел перед собою прямую фигуру Тита, который быстро удалялся от него, и с каждым ударом его кирки от скал отваливались огромные куски грозниума.
«Сегодня уже и невозможно помыслить, – думал про себя Левин, – что в прошлые века земля эта оставалась нетронутой, пребывая без рубцов от тоннелей и шахт, покрытая только лишь волнующимися полями пшеницы». В стародавние времена, когда не было не то что роботов, но и сама мысль о возможности существования их еще никому не пришла в голову, все эти пространства были пахотными землями, и там, где сейчас раздавался лязг кирки и шум экстрактора, раньше слышен был только свист косы и топот лаптей. И всю эту работу, весь этот изнурительный труд выполняли не сильные машины, а люди. Проделанная сегодня работа, послужившая Левину своего рода развлечением и лекарством от душевного раздражения, была в те далекие дни ежедневным подвигом для тысяч и миллионов русских людей.
Левину было трудно вообразить это, однако он не мог не считаться с той ценой, которую пришлось заплатить людям за то, чтобы жить в век Великих Преобразований Грозниума.
«Роботы стали трудиться вместо людей, но они же и отобрали у человека возможность получать известную выгоду от работы: человек не может более испытать очищающей силы труда, пройти через искупительную боль длительных физических нагрузок». Таковы были мысли, трудившиеся в тоннелях разума Левина, в то время как сам он пробирался по штольням принадлежавшей ему шахты. Он шел сквозь длинные и короткие тоннели, тоннели с легко поддающимися стенами и со скалистыми, трудными для работы. В чернильной темноте час бежал за часом незаметно, Левин потерял счет времени и не мог ответить, поздно или рано теперь. Он работал все лучше и лучше, испытывая от этого огромное наслаждение. Временами он забывал, что делает, и работать становилось необычайно просто, и стена, которую он рубил киркой, поддавалась ему так же легко, как и трудившимся рядом роботам. Вместе они все дальше и дальше углублялись в недра земли, жар становился все более ощутимым, и Левин вдруг почувствовал себя словно бы попавшим в раскаленную печь. Но даже тогда ему попрежнему казалось, что добыча грознима – не такая уж и тяжелая работа. Ливший градом пот охлаждал, а бурое свечение Оттирочных Машин словно прибавляло сил. Чаще и чаще наступали минуты беспамятства, когда можно было и вовсе не думать о том, что делаешь. Кирка вгрызалась в породу сама по себе. Это были моменты счастья. Еще большим счастьем показалась минута, когда они добрались до прохладной подземной реки, и старый Тит, обмыв лезвие кирки в мутной воде, налил немного живительной влаги в ковш и предложил Левину попить.
– Люди страдают от жажды, верно? – сказал он. – Воды?
И правда, Левин никогда не пил с таким удовольствием спиртного, с каким приложился к этой холодной черной воде с переливающимися пурпуром крупинками грозниума и привкусом ржавчины от жестяного ковшика. Допив, он сразу же приступил к работе: медленно и с наслаждением он махал киркой, другой рукой обтирая пот с лица и глубоко вдыхая кислород из баллона. Он смотрел на бесконечную череду механических шахтеров, которые громко топали в своей темной подземной вселенной.
Чем глубже копал Левин, чем дальше работа заводила его в подземное царство, тем чаще он переживал бессознательные моменты, когда чудилось, что не руки орудовали киркой, а кирка махала сама по себе, тело было полно жизни и обладало собственным сознанием, и, словно бы по волшебству, работа делалась сама по себе. Это были минуты блаженства. Он заметил, что блаженное ощущение это отчасти было вызвано вдыхаемым кислородом, и он сделал еще один глоток из баллона.
Выйдя наконец из тоннеля, Левин зажмурился от яркого дневного света, ударившего в глаза. Он посмотрел на дно кратера и с трудом узнал его, так все переменилось там, пока он копал. Наземныемашины устроили чтото вроде конвейера: ведра, полные грозниума, в первый раз взвешивались расторопными маленькими весами I класса, затем манипуляторы II/Упаковщиков/97 сбивали металл в одинаковые кубы, и грозниум переправлялся по стометровым конвейерным лентам от тоннелей к грузовым подъемникам. Все это напоминало фабрику, наземныемашины и Копальщики, приветствуя друг друга веселым писком, с жужжанием носились между заснувшими экстракторами и работающими Упаковщиками, в то время как конвейер подвозил новые порции грозниума для выплавки.
Силами сорока двух роботов было сделано очень много. Но Левин хотел сделать еще больше в этот день, и потому сердился на то, что солнце так быстро садилось. Он не чувствовал усталости, единственным его желанием было выбрать новую штольню и, схватив кирку, ринуться в нее и сделать все, что в его силах.
Но дневная суета внезапно была прервана: в глубинах шахты послышалась череда ужасающих взрывов. Скорее всего, это вышедший из строя Копальщик наткнулся на «горячий мешочек» – маленькую упаковку концентрата грозниума, смешанного с селитрой, – и столкновение это привело к взрыву. В следующее мгновение из тоннеля выбежали и выехали роботы, сияя красными лампочками на головах и подавая сигналы своими клаксонами, они торопились покинуть опасное место, как это предписывал второй Железный Закон.
Левин присоединился к толпе роботов, с трудом пробиравшихся к стене кратера. Он начал взбираться по отвесной поверхности, вокруг него карабкались роботы, их крепкие металлические ноги уверенно держались на отвесной поверхности. На полпути Левин осмелился оглянуться: он увидал большие облака пыли, вырывавшиеся из штолен, и обрушившуюся противоположную стену кратера; он увидал Старого Чарли, который автоматически вышел из Спящего Режима, но было уже слишком поздно: толстые колеса не успели унести его прочь от гибели – он оказался погребен под горой валунов.
Левин отвернулся и с грустью продолжил свое спасительное путешествие наверх. Карабкаться вверх по крутому склону ему было очень тяжело, но это казалось, не составляло никакого труда для старого Тита, который полз рядом. Он уверенно полз вверх, поднимался все выше и выше, передвигая ноги в плетеной обшивке. Корпус его дрожал, на лицевой панели гремел разболтавшийся шуруп, но робот продолжал лезть, попутно собирая кусочки сыпучего грозниума – так он был запрограммирован, и такова была цель его существования. Левин двигался за ним и делал то же самое, думая, что сорвется; он поднимался при помощи кирки, без которой восхождение это стало бы невыполнимой задачей. Но он полз все выше и делал то, что до лжно, чувствуя, словно загадочная внешняя сила помогает ему.
Левин сел в двухгусеничную телегу и, с сожалением простившись с Копальщиками, поехал домой.
Сократ тревожно ходил вокруг новой стопки писем, доставленной только что, когда Левин, с прилипшими от пота ко лбу спутанными волосами и почерневшею, мокрою спиной и грудью, с веселым говором ворвался в комнату.
– А мы выкопали четыре тоннеля! – крикнул он радостно своему роботукомпаньону, который с опаской смотрел на хозяина, мигая глазным блоком. – И один из Копальщиков наткнулся на «горячий мешочек», изза чего в шахте прогремел взрыв, дно кратера засыпало камнями! А ты как провел день?
– Грязь, сажа, пыль! На кого вы похожи? – ворчливо произнес Сократ, в первую минуту недовольно оглядываясь на хозяина. – Да дверьто, дверьто затворяйте! – вскрикнул он. – Непременно впустили десяток целый.
Сократ терпеть не мог мух, у него была необъяснимая боязнь, что одна из них заберется в него, отложит там яйца и тем самым выведет его из строя.
– Клянусь, ни одной. А если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение!
Через пять минут они сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен.
Маленькая красная лампочка загорелась рядом с монитором Сократа.
– Вам сообщение, – сказал он и вывел послание на экран, чтобы Левин мог просмотреть его.
– Долли в Ергушове, – сказало маленькое голографическое изображение Облонского. – И у ней все не ладится. I/Масловзбиватель/19 взорвался, источник не бьет, и вдобавок с II/Доильным аппаратом/47 случилась какаято катастрофа. Бедная Долли, не говоря уже о корове! Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советом, ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Теща со всеми еще на орбите.
– Вот отлично! Непременно съезжу к ним, – сказал Левин. – Поедем вместе. Она такая славная. Не правда ли? И всего двадцать пять верст.
– Тридцать, – поправил Сократ, он знал действительную причину того, почему Левин так хотел ехать к Долли: он хотел вызнать у нее о Кити Щербацкой.
Петровками, в воскресенье, Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Окруженная детьми с мокрыми головами, Дарья Александровна, с платком на голове, уже подъезжала к дому, когда антенна II/Кучера/199 завибрировала и его Речесинтезатор пророкотал:
– Барин какойто идет… барин идет… хозяин Покровского.
Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидав в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу. Она велела детям сидеть прямо и быть готовыми поздороваться с Константином Дмитричем, и Гриша в неудовольствии спрятал l/Световую Пушку/4, которой дразнил сестру. Долли всегда рада была Левину, но теперь особенно, потому что он увидит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величия.
Увидав ее, он очутился пред одною из картин своего воображаемого в будущем семейного быта.
– Вы точно наседка, Дарья Александровна.
– Ах, как я рада! – сказала она, протягивая ему руку.
– Рады, а не дали знать. Уж я от Стивы получил сообщение, что вы тут.
– От Стивы? – с удивлением спросила Дарья Александровна.
– Да, он рассказал, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне помочь вам чемнибудь, – сказал Левин и, сказав это, вдруг смутился вследствие предположения, что Дарье Александровне будет неприятна помощь стороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано ее мужем.
Дарье Александровне действительно не нравилась эта манера Степана Аркадьича навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла, что Левин понимает это. За этуто тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна.
И в следующее мгновение польза от присутствия его была доказана самой жизнью: карету, в которой ехала Долли с детьми, вдруг подбросило на десять аршинов вверх, она словно бы вознеслась на струе гейзера. Левин и Сократ посмотрели наверх – карета покачивалась на голове у отвратительного существа, похожего на земляного червя, выросшего до невероятных размеров. Пока наблюдатели силились понять, откуда взялось это чудовище, карета с ужасным грохотом рухнула обратно на землю. Дети, невредимые, но смертельно напуганные, закричали и стали прятаться в юбках матери, в то время как зверь повернул свою морду к Левину. Он увидел теперь беззубую бездну рта, темные углубления вместо глаз, носа у чудовища вовсе не было. Его верхняя часть, торчащая над поверхностью, злобно корчилась, остальное тело было скрыто под землей. Каждое движение чудовища сопровождалось механическим пощелкиванием: тикатикатикатика…
– Это похоже на… на… – начал Левин, перекрикивая ужасный скрежет, мысли в голове мелькали как сумасшедшие.
– На кощея, хозяин , – продолжил Сократ, копаясь в своей бороде в поисках оружия. – Он похож на огромного кощея.
На разговоры больше не было времени – неожиданно червь бросился вниз, к Левину. Он попытался увернуться, но было уже поздно: сморщенное ротовое отверстие зверя сомкнулось на его бедре. Самым страшным для Левина стало то, что вместо ожидаемого липкого и теплого ощущения от соприкосновения с червем, он почувствовал, что на ноге его болтается холодный металл.
– Хозяин! – закричал Сократ и бросился к Левину; из кареты послышался визг и плач.
Левин ударил хлыстом наездника по голове чудовища, целясь в темные углубления, где как будто были глаза. Он рассек морду червяка, из раны брызнула яркожелтая слизь: пахла она не так, как пахнут жидкости, выделяемые телом, но скорее как…
– Влагоснимающий реагент, – прокомментировал Сократ, размахивая химиометром, извлеченным из набора инструментов в бороде. – Наш враг определенно неорганической природы.
Как бы то ни было, монстр продолжал удерживать ногу Левина в своей пасти и даже полностью вылез из норы, развернувши свое тело длиною в 15 аршинов. Сократ схватил его посередине своими грозниевыми руками и рванул что есть силы. С отвратительным визгом червь разорвался на две половины, и еще больше яркожелтой слизи выплеснулось наружу. В считаные секунды раны закрылись, у второй части разорванного червя сформировался рот, и теперь уже два зверя корчились и скрежетали. Второй монстр быстро вывернулся из манипуляторов Сократа и бросился к карете, где сидела Долли с детьми.
– Ой! – сказал Сократ, в то время как ужасающий скрежет удвоился, достигнув почти оглушительного уровня.
– Я не понимаю, – прокричал Левин, ударив свободной ногой в голову голодного червя. – Министерство официально объявило, что кощеи полностью уничтожены в деревнях.
– И вообщето эти чудища слишком большие для кощеев! – прокричала Долли, которая била серое полосатое тело червя каблуком ботинка, защищая себя и детей в карете.
Младший мальчик Гриша, тихонько подался вперед и вновь активировал свою игрушку I класса, точно зная, какую роль он сыграет в этой борьбе с противником. Он направил Световую Пушку прямо в глаза монстра и нажал спусковой крючок, выпустив мощный разряд: результат был неожиданным и радостным. Как крот, бегущий от солнечного света, монстр зашипел и пополз прочь к своей норе.
– Вот это да, Гриша! – воскликнула Долли.
Тем временем Левин, оставаясь в плену у первого червя, крикнул своему роботукомпаньону:
– Сократ, будь так любезен…
Но высокий и угловатый робот действовал без напоминаний: он выхватил из своей бороды такую же I/Световую Пушку/4, которой маленький Гриша отпугнул разъяренного зверя; разница была лишь в том, что она была не игрушечной и обладала гораздо большей мощностью. Разряд, вдруг вырвавшийся из ствола ее, заставил червя оставить свою жертву – он быстро скользнул за «своей половиной» в нору. Ужасающий грохот наконец стих, над полем сражения воцарилась мертвая тишина. Левин схватился за поврежденную ногу, Долли и дети облегченно и устало вздохнули. Сократ тотчас же принялся исследовать грязь в поисках подсказок, которые помогли бы разгадать главную загадку – с кем они только что имели дело.
Наконец карета вновь медленно двинулась по направлению к Ергушову; Левин и Сократ ехали рядом, рассуждая о том, откуда взялись эти роботычерви. Самый простой ответ напрашивался сам собой: напавшие звери – простонапросто новая модель кощея, самая сильная из когдалибо выпущенных на свободу. Однако чтото подсказывало Левину, что не все так просто, и Сократ с его высокоразвитым анализатором согласился с ним в этом. Мог ли маленький, привычного размера кощей вырасти какимто образом? И если да, то что стало причиной гигантизма?
– Что ж, кто бы ни наслал на нас эти дьявольские машины, я очень рада, что вы были здесь и защитили нас, – вмешалась в разговор Долли.
– Конечно, – ответил Левин, – однако Гриша оказался более подготовленным к такому внезапному испытанию!
Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видели его, но не выказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям и за которое им так часто и больно достается. Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного, проницательного человека; но самый ограниченный ребенок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узна ет его и отвращается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства не было в нем и признака, и потому дети высказали ему дружелюбие такое же, какое они нашли на лице матери.
Здесь, в деревне, с детьми и с симпатичною ему Дарьей Александровной и ее пухлой степенной Доличкой, Левин пришел в то часто находившее на него детскивеселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нем.
– Вы знаете? Кити приедет сюда и проведет со мною лето.
– Право? – сказал он, вспыхнув, и тотчас же, чтобы переменить разговор, обратился к Дарье Александровне с вопросом:
– Так прислать вам двух коров? Я слышал от Стивы, что у вас возникли проблемы с II/Доильным аппаратом/47. Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по пяти рублей в месяц, если вам не совестно.
– Нет, благодарю. У нас устроилось.
И Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарье Александровне теорию молочного хозяйства, состоящую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко, и т. д.
Он говорил это и страстно желал услыхать подробности о Кити и вместе боялся этого. Ему страшно было, что расстроится приобретенное им с таким трудом спокойствие.
– Да, но, впрочем, за всем этим надо следить, а кто же будет? – неохотно отвечала Дарья Александровна.
– Прошу прощения, – вмешался в разговор Сократ, Долли и Левин посмотрели на робота; растерявшись от всеобщего внимания, он начал растерянно щелкать тумблером на своем бедре, переключая его из позиции «вкл.» в позицию «выкл.».
– Я провел детальный анализ происхождения этих роботовчервей. Не могу решить: если правда, что эти машины простонапросто крупные модели кощеев, которыми заразили землю, то зачем это было сделано? По какой причине простые роботы СНУ выросли до таких размеров? И… как?
– Ах, боже мой! – воскликнула Доличка.
«И, быть может, Министерство еще чтото скрывает от нас?» – подумал Левин, но вслух об этом не сказал ни Долли, ни даже Сократу.
– Кити написала мне в своем последнем сообщении, что ничего так не желает, как уединения и спокойствия, – сказала Долли после наступившего молчания.
– А что, здоровье ее лучше? – с волнением спросил Левин.
– Слава богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтоб у нее была грудная болезнь.
– Ах, я очень рад! – сказал Левин, и чтото трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на нее.
– Послушайте, Константин Дмитрич, – сказала Дарья Александровна, улыбаясь своею доброю и несколько насмешливою улыбкой, – за что вы сердитесь на Кити?
– Я? Я не сержусь, – сказал Левин.
– Нет, вы сердитесь. Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве?
– Дарья Александровна, – сказал он, краснея до корней волос, – я удивляюсь даже, что вы, с вашею добротой, не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня, когда вы знаете…
– Что я знаю?
– Знаете, что я делал предложение и что мне отказано, – проговорил Левин, и вся та нежность, которую минуту тому назад он чувствовал к Кити, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление.
– Почему же вы думаете, что я знаю?
– Потому что все это знают.
– Вот уж в этом вы ошибаетесь; я не знала этого, хотя и догадывалась.
– А! ну так вы теперь знаете.
– Я знала только то, что чтото было, что ее ужасно мучило, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было? Скажите мне.
– Я вам сказал, что было.
– Когда?
– Когда я был в последний раз у вас.
– А знаете, что я вам скажу, – сказала Дарья Александровна, – мне ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости…
– Может быть, – сказал Левин, – но…
Она перебила его:
– Но ее, бедняжку, мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю.
– Ну, Дарья Александровна, вы меня извините, – сказал он, вставая. – Прощайте! Дарья Александровна, до свиданья.
– Нет, постойте, – сказала она, схватывая его за рукав. – Постойте, садитесь.
– Пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом, – сказал он, садясь и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненною надежда.
– Если б я вас не любила, – сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза, – если б я вас не знала, как я вас знаю…
Казавшееся мертвым чувство оживало все более и более, поднималось и завладевало сердцем Левина.
– Да, я теперь все поняла, – продолжала Дарья Александровна. – Вы этого не можете понять; вам, мужчинам, свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите. Но девушка в положении ожидания, с этим женским, девичьим стыдом, девушка, которая видит вас, мужчин, издалека, принимает все на слово, – у девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, что сказать.
– Да, если сердце не говорит…
– Нет, сердце говорит, но вы подумайте: вы, мужчины, имеете виды на девушку, вы ездите в дом, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете, найдете ли вы то, что вы любите, и потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение…
– Ну, это не совсем так.
– Все равно, вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела или когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес. А девушку не спрашивают. Хотят, чтоб она сама выбирала, а она не может выбрать и только отвечает: да и нет.
«Да, выбор между мной и Вронским», – подумал Левин, и оживавший в душе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце. Сократ с несвойственной роботам нежностью приобнял понурого хозяина, когда тот вспомнил ответ Кити. Она сказала: «Нет, это не может быть…»
– Дарья Александровна, – сказал он сухо, – я ценю вашу доверенность ко мне; я думаю, что вы ошибаетесь. Но, прав я или неправ, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александровне невозможна, – вы понимаете, совершенно невозможна.
– Я только одно еще скажу: вы понимаете, что я говорю о сестре, которую я люблю, как своих детей. Я не говорю, чтоб она любила вас, но я только хотела сказать, что ее отказ в ту минуту ничего не доказывает.
– Я не знаю! – вскакивая, сказал Левин. – Если бы вы знали, как вы больно мне делаете! Все равно, как у вас бы умер ребенок, а вам бы говорили: а вот он был бы такой, такой, и мог бы жить, и вы бы на него радовались. А он умер, умер, умер…
– Как вы смешны, – сказала Дарья Александровна с грустною усмешкой, несмотря на волнение Левина. – Да, я теперь все больше и больше понимаю, – продолжала она задумчиво. – Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?
– Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но, где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия.
– Очень, очень вы смешны, – повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо.
Левин и Сократ объявили о том, что пора ехать; Долли вместе со своим роботом вышли во двор проводить их. Прежде чем вернуться в дом, Долли остановилась и вдруг услышала слабый, но вполне отчетливый шум неподалеку: «Тикатикатика… Тикатикатика… Тикатикатикатика…»
– О, господи… – произнесла Долли. Соглашаясь с хозяйкой, Доличка отозвалась: – И вправду, боже мой…
– Ну, так что же я сделаю? – сказал Левин Сократу на следующее утро, когда они присоединились к группе мужиков, везших свежую партию руды к плавильным печам. – Как я сделаю это?
Он пытался выразить своему роботу все то, что передумал и перечувствовал после визита к Долли. Сократ, используя возможности усовершенствованных схем, позволявших ему рассудительно мыслить и давать дельные советы, разбил все думы и чувствования хозяина на три группы.
В первую вошли: отречение от старой жизни, от бесполезных знаний, от ни к чему не годного образования. Это отреченье доставляло Левину наслажденье и было для него легко и просто. Мысли и представления во второй группе касались той жизни, которою Левин желал жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третья группа в основании своем имела вопрос о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного Левину не представлялось.
Ловкий и внимательный Сократ быстро разбил эти возможные варианты развития событий на разделы и подразделы.
Возможность 1. Жениться?
Возможность 2. Иметь работу и чувствовать необходимость ее?
Возможность 3. Оставить Покровское?
Возможность 4. Купить землю?
Возможность 5. Приписаться в общество?
Возможность 6. Жениться на крестьянке?
– Как же я сделаю это? – опять спрашивал он смущенно Сократа.
Логические схемы робота снова принялись за работу.
– Ничего, ничего, – сказал Левин тогда. – Я обдумаю это позже. Одно верно, что эта ночь решила мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни вздор, не то.
– Вздор, – неохотно повторил Сократ, одновременно не желая соглашаться с мрачными выводами хозяина и противоречить ему.
– Все это гораздо проще и лучше…
– Хозяин?
– Как красиво! – воскликнул Левин, и Сократ вскинул голову, чтобы увидать то, на что указывал Константин Дмитрич: дневной метеоритный дождь с бесчисленным количеством золотистокрасных звезд прошел над самою головой его на середине чистого неба.
– Как все прелестно в это прелестное утро! И когда успело образоваться это все? Недавно я смотрел на небо, и на нем ничего не было – только облака и нежное сияние солнца. Да, вот такто незаметно изменились и мои взгляды на жизнь!
Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю.
– Это что? Ктото едет, – сказал он, услыхав бубенцы, и поднял голову.
– В сорока шагах от вас, в том направлении , – указал Сократ.
Действительно, в сорока шагах от Левина, по той дорогемуравке, по которой он шел, ехала карета, запряженная четырехгусеничным Тягачом. Гусеницы были узкие, предназначенные больше для города, однако ловкий водитель держал дышлом по колее, так что карета бежала по гладкому.
Только это заметил Левин и, не думая о том, кто это может ехать, рассеянно взглянул на экипаж. В карете дремала в углу старушка, а у окна сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. С отсутствующим выражением лица она смотрела из окна. Левин понял, что девушка эта только отошла от гибернации – особого сна, в который специальными препаратами погружают больного человека для того, чтобы он лучше перенес все тяготы поездки на орбитальную станцию и обратно. Только теперь Левин осознал, что это была за девушка. Подкожная инъекция перестала действовать, и она начала медленно пробуждаться. Она дважды приоткрыла глаза, затем веки ее снова сомкнулись, но лицо ее снова было полно жизни, полно света и мысли, полно изящной и сложной внутренней, чуждой Левину жизни. Он смотрел с изумлением, как глаза столь знакомые ему глаза, медленно открылись вновь, словно распускающиеся бутоны. А потом она узнала его, и ее лицо, в туманном свечении постепенно возвращающегося сознания, осветилось удивленной радостью.
Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушово с Антигравистанции. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те сложные алгоритмические расчеты, которые были проведены Сократом, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни.
Она не выглянула больше. Звук гусениц перестал быть слышен, только Тягач шумел теперь в отдалении. Лай собак показал, что карета проехала и деревню, – и остались вокруг пустые поля, деревня впереди и Левин с Сократом, идущие по заброшенной большой дороге.
Он взглянул на небо, надеясь найти там метеоритный дождь, это чудо пылающих огней в дневном свете. Но на небе не было более ничего. Там, в недосягаемой вышине, совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа падающих звезд, небо поголубело и просияло и с тою же нежностью, но и с тою же недосягаемостью отвечало на его вопрошающий взгляд.
– Нет, – сказал он Сократу, – как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая…
– Вы не можете вернуться к ней.
– Да, мой друг, не могу. Я люблю ее.
Единственный друг Алексея Александровича, его ужасное Лицо, терпеливо ждало своего часа. С того самого момента, когда впервые проявился характер его, оно, словно тень, носилось по лабиринтам сознания Каренина, непрестанно продолжая расти, развиваться и набирать силу. И вот время пришло.
Когда по пути домой карету подбросило от взрыва эмоциональной бомбы, Анна, закрыв лицо руками, заплакала, Алексей Александрович ощутил в груди прилив чистых человеческих эмоций, ощутил, что все еще испытывает чувства к этой женщине, которую столько лет любил; он почувствовал прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы.
Но в ту же минуту этот пожар чувств был залит потоком брани, исторгнутым Лицом. Строгим и злым голосом оно потребовало (естественно, слышал эти приказы только сам Алексей Александрович), чтобы тот удержал в себе всякое проявление слабости и проявил наконец мужские качества характера.
ПУСТЬ В ВАС БУДЕТ БОЛЬШЕ БЕСЧУВСТВЕННОГО МЕТАЛЛА, ЧЕМ ЖИВОЙ ПЛОТИ, – наставляло Лицо Алексея Александровича, и он вынужден был выпрямить спину и взять себя в руки.
Он старался удержать в себе всякое проявление жизни и потому не шевелился и не смотрел на нее. От этогото и происходило то странное выражение мертвенности на его лице, которое так поразило Анну.
Когда они подъехали к дому, он высадил ее из кареты и, сделав усилие над собой, с привычною учтивостью простился с ней и произнес те слова, которые ни к чему не обязывали его; он сказал, что завтра сообщит ей свое решение.
Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Александровича. Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него ее слезы. Она усиливалась и жестоким, издевательским смехом Лица, и смех этот был вызван в равной мере слезами Анны Аркадьевны и жалостью Каренина к плачущей жене.
Но, оставшись один в карете, Алексей Александрович, к удивлению своему и радости, почувствовал совершенное освобождение и от этой жалости, и от мучавших его в последнее время сомнений и страданий ревности. Он чувствовал себя сильным и могущественным, и Лицо подпитывало эти чувства, словно хозяин, бросающий куски кровавого мяса своей собаке.
БЕЗ ЧЕСТИ, БЕЗ СЕРДЦА, БЕЗ ВЕРЫ, – прошипело Лицо, и Каренин с горечью согласился.
– Испорченная женщина! – заключил он вслух, сидя в своем кабинете в самый темный час ночи, одинокий, для взгляда со стороны, но на деле поддерживаемый собеседником, заключенным в голове его.
ЭТО ВЫ ВСЕГДА ЗНАЛИ И ВСЕГДА ВИДЕЛИ.
– Я старался, жалея ее, обманывать себя.
ЖАЛЕТЬ ЕЕ? ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО?
Алексей Александрович никогда не был так рад присутствию его таинственного компаньона. Это металлическое разумное устройство ловко облекало в слова все те мысли, которые кружились в голове его, но выразить которые он был не в силах. Механический глаз его раскрыл ему темные тайны, а голос, звучащий в голове, требовал от хозяина признания мрачной правды жизни.
– Я ошибся, связав свою жизнь с нею; но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не могу быть несчастлив.
– НО ОНА… ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕСЧАСТЛИВА.
Все, что постигнет ее и сына, к которому, точно так же как и к ней, переменились его чувства, перестало занимать его. Одно, что занимало его теперь, это был вопрос о том, как наилучшим, наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом отряхнуться от той грязи, которою она забрызгала его в своем падении, и продолжать идти по своему пути деятельной, честной и полезной жизни.
Даже когда он принял эти безупречно рациональные мысли и поздравил самого себя с тем, что смог сохранить способность здраво мыслить в таком эмоциональном аду, его тело двинулось в спальню, ведомое злыми и властными приказами Лица. Быстро шагая, он надел на безымянный палец (чуть повыше обручального) маленькое огненное кольцо – гениальное устройство, придуманное им самим и выполненное из грозниума, – и принялся испепелять вещи жены с холодной решимостью.
– Я не могу быть несчастлив оттого, что презренная женщина сделала преступление, – сказал Алексей Александрович и, аккуратно прицелившись, разнес большой антикварный шкаф Анны в щепки, оставив после него лишь выгоревшее пятно.
– Я только должен найти наилучший выход из того тяжелого положения, в которое она ставит меня.
Он навел руку на туалетный столик из березы и уничтожил его.
– И я найду его.
ДА, НЕПРЕМЕННО НАЙДЕТЕ.
Он быстро ходил по комнате, глубоко вдыхая резкий, но приятный запах горелой деревянной мебели, смешанный с ароматами духов и мазей для тела, и впервые за долгое время чувствовал, что мысли его прояснились. В задумчивости он дважды поднялся и спустился по лестнице, затем остановился у огромного домашнего монитора. Он наклонил голову набок, подумал минуту и начал диктовать послание, не прерываясь ни на секунду.
Во время нашего последнего разговора, я сообщил вам о том, что объявлю свое решение относительно известного вопроса. Внимательно изучив все обстоятельства, я решил связаться с вами, чтобы исполнить обещание. И решение мое состоит в следующем. Независимо от вашего поведения, я считаю себя не вправе разрывать тех уз, которыми связала нас Высшая Сила и благословило Министерство. Семьи не могут быть разрушены по капризу, произволу или даже изза преступного поведения одного из супругов, и наша совместная жизнь должна остаться ровно такой, какой она была до происшествия. Это чрезвычайно важно для меня, для вас и для нашего сына. Я искренне верю в то, что вы раскаялись и раскаиваетесь в том, что вызвало появление этого послания, и что вы будете сотрудничать со мной в деле устранения причины нашей размолвки, и мы вместе забудем о случившемся. В противном случае вы можете сами предположить, что ожидает вас и вашего сына. Надеюсь, вы понимаете, о чем я.
– Да, пройдет время, все устрояющее время, и отношения восстановятся прежние, – сказал Алексей Александрович Лицу, которое довольно фыркнуло, услышав о том, что хозяин угрожает своей жене, выдвигая ультиматум: или она подчинится его воле, или будет уничтожена. – То есть восстановятся в такой степени, что я не буду чувствовать расстройства в течение своей жизни. Она должна быть несчастлива, но я не виноват и потому не могу быть несчастлив.
Окончив диктовать сообщение и отослав его, Алексей Александрович вернулся в спальню и вновь надел огненное кольцо. Со спокойной обстоятельностью он уничтожил кровать с балдахином, на которую они с женой ложились столько лет. Шелковые и льняные простыни легко вспыхнули, и Алексей Александрович, сложив руки на груди, смотрел, как разгорается пламя; Лицо довольно шептало:
ХОРОШО, ХОРОШО, ХОРОШО, – кровать медленно превращалась в пепел.
Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила Вронскому, когда он говорил ей, что положение ее невозможно, и уговаривал ее открыть все мужу, в глубине души она считала свое положение ложным, нечестным и всею душой желала изменить его.
Возвращаясь с мужем с Выбраковки, в минуту волнения она высказала ему все; несмотря на боль, испытанную ею при этом, она была рада этому. После того как муж оставил ее, она говорила себе, что она рада, что теперь все определится, и по крайней мере не будет лжи и обмана. Ей казалось несомненным, что теперь положение ее навсегда определится. Оно может быть дурно, это новое положение, но оно будет определенно, в нем не будет неясности и лжи. Та боль, которую она причинила себе и мужу, высказав эти слова, будет вознаграждена теперь тем, что все определится, думала она. В этот же вечер она увидалась с Вронским, но не сказала ему о том, что произошло между нею и мужем, хотя, для того чтобы положение определилось, надо было сказать ему.
Когда она проснулась на другое утро, Андроид Каренина, покончив с утренними хлопотами, уже сидела у постели хозяйки и подоброму смотрела на нее. Анна открыла глаза и увидала силуэт своего робота, обрисованный первыми лучами солнца, – они посмотрели друг на друга, глаза в глаза, точнее, глаза в лицевую панель, на секунду в воздухе повисло напряжение, но тут же Андроид Каренина поднялась, чтобы помочь хозяйке одеться.
В идеальной тишине зарождающегося дня слова, которые она сказала мужу, показались ей так ужасны, что она не могла понять теперь, как она могла решиться произнести эти странные грубые слова, и не могла представить себе того, что из этого выйдет. Но слова были сказаны, и Алексей Александрович уехал, ничего не сказав.
– Я видела Вронского и не сказала ему, – сообщила Анна Андроиду, когда та накинула халат на фарфоровые плечи хозяйки.
– Еще в ту самую минуту, как он уходил, я хотела воротить его и сказать ему, но раздумала, потому что было странно, почему я не сказала ему в первую минуту. Отчего я хотела и не сказала ему? – В ответ на это Андроид Каренина издала легкий сочувствующий свист и поправила покрывало на кровати.
Ее положение, которое казалось уясненным вчера вечером, вдруг представилось ей теперь не только не уясненным, но безвыходным. Ей стало страшно за позор, о котором она прежде и не думала. Когда она только думала о том, что сделает ее муж, ей приходили самые страшные мысли. Ей приходило в голову, что сейчас приедет управляющий выгонять ее из дома, что позор будет объявлен всему миру. Она спрашивала себя, куда она поедет, когда ее выгонят из дома, и не находила ответа.
Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит ее, что он уже начинает тяготиться ею, что она не может предложить ему себя, и чувствовала враждебность к нему за это. Ей казалось, что те слова, которые она сказала мужу и которые она беспрестанно повторяла в своем воображении, что она их сказала всем и что все их слышали. Она не могла решиться взглянуть в глаза тем, с кем она жила. Она не могла решиться позвать II/Девушку/76 и еще меньше сойти вниз и увидать сына и II/Гувернантку/D 145.
Анна Аркадьевна в беспокойстве ходила по комнате, тревога переросла в отчетливое ощущение страха перед будущностью, и чувство это неприятно и с силой заставило ее вспомнить о том страхе, который она испытала на московской Антигравистанции, увидав раздавленное тело, поднимаемое с путей. Андроид Каренина негромко пискнула, обозначив пришедшее сообщение; Анна, дрожа, дала ей знак воспроизвести послание. Она раскаивалась утром в том, что она сказала мужу, и желала только одного, чтоб эти слова были как бы не сказаны. И вот письмо это признавало слова несказанными и давало ей то, чего она желала. Но теперь это послание представлялось ей ужаснее всего, что только она могла себе представить.
– Прав! прав! – сказала она Андроиду Карениной, как только сообщение подошло к концу и погасло на экране. – Разумеется, он всегда прав, он христианин, он великодушен! Да, низкий, гадкий человек! И этого никто, кроме меня, не понимает и не поймет; и я не могу растолковать. Они говорят: религиозный, нравственный, честный, умный человек; но они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой.
Андроид Каренина залилась багровым цветом, становясь все темнее и темнее и тем самым отражая эмоциональное состояние хозяйки.
– Я ли не старалась, всеми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его, я все бы перенесла, я все бы простила, но нет, он… Как я не угадала того, что он сделает? Он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав, а меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубит…
«Вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына», – вспомнила она слова из сообщения.
– Это угроза, что он отнимет сына или даже сделает что похуже, и, вероятно, ему, сидящему в Министерстве, позволено делать все. И он… он…
Андроид Каренина кивнула, и Анна Аркадьевна знала, что робот тоже понимала: ее муж изменился, но это также было трудно описать словами, как и не замечать произошедшего.
– Он не верит и в мою любовь к сыну или презирает (как он всегда и подсмеивался), презирает это мое чувство, но он знает, что я не брошу сына, не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю, но что, бросив сына и убежав от него, я поступлю, как самая позорная, гадкая женщина, – это он знает и знает, что я не в силах буду сделать этого.
«Наша жизнь должна идти как прежде», – вспомнила она другую фразу из сообщения.
– Эта жизнь была мучительна еще прежде, она была ужасна в последнее время. Что же это будет теперь? И он знает все это, знает, что я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю; знает, что, кроме лжи и обмана, из этого ничего не будет; но ему нужно продолжать мучить меня. Я знаю его, я знаю, что он, как рыба в воде, плавает и наслаждается во лжи. Но нет, я не доставлю ему этого наслаждения, я разорву эту его паутину лжи, в которой он меня хочет опутать; пусть будет что будет. Все лучше лжи и обмана! Но как? Боже мой! Боже мой! Была ли когданибудь женщина так несчастна, как я?..
Анна расплакалась, и Андроид Каренина прижала ее к себе. Слезы закапали на холодные металлические колени единственного друга.
Вронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человеком, ненавидевшим беспорядок.
К примеру, ему нравилось знать, что все его оружие было в полной боевой готовности в любое время дня и ночи; это было ему по душе всегда, и в особенности теперь, когда (по слухам, ходившим в военных кругах) Министерство Обороны готовилось бросить войска против нового, пока еще не названного врага. Так что Вронский время от времени уединялся и осматривал каждое орудие от рукояти до дула, чтобы лишний раз удостовериться – все работает и нигде ничего не заело. Он называл это счетный день, или faire la lessive.[11]
Проснувшись поздно на другой день после Выбраковки, Вронский, не бреясь и не купаясь, оделся в белый льняной китель и разложил по карманам и в кобуру все оружие, которое у него имелось, вне зависимости от того, как часто он использовал тот или иной вид его. Лупо радостно выписывал круги в солнечных бликах, упавших на пол комнаты, готовый исполнить любое приказание хозяина и даже послужить живой мишенью, если вдруг тот захочет попрактиковаться в прицельной стрельбе.
Всякий человек, зная до малейших подробностей всю сложность условий, его окружающих, невольно предполагает, что сложность этих условий и трудность их уяснения есть только его личная, случайная особенность, и никак не думает, что другие окружены такою же сложностью своих личных условий, как и он сам. Так и казалось Вронскому. И он не без внутренней гордости и не без основания думал, что всякий другой давно бы запутался и принужден был бы поступать нехорошо, если бы находился в таких же трудных условиях. Но Вронский чувствовал, что именно теперь ему необходимо уяснить свое положение, для того чтобы не запутаться.
Первое, что испробовал Вронский, были три его любимых орудия, которые он всегда держал при себе и благодаря мастерскому использованию которых был известен. Это были: испепелители, с гордостью висевшие на поясе, они симметрично выступали с двух сторон на бедрах; дымящийся огненный хлыст, свернутый кольцом на ляжке в чехле из тончайшей кожи; и сияющий электрический кинжал, торчащий из кожаного черного сапога.
Все было в превосходном состоянии. Испепелители выстреливали огненные потоки с молниеносной скоростью и разряжали обойму за шестнадцать секунд, что превышало общепринятые войсковые нормативы в два раза. Вместе с легким нажатием большого пальца на рукоять, ото сна пробуждался огненный хлыст и, словно бы продолжение руки хозяина, бросался в самый дальний угол комнаты. Электрический кинжал, который Вронский метнул с убийственной точностью, вонзился в несчастную крысу: она выбрала неудачный момент, чтобы выбраться из своего укрытия – выбежала изза корзины для бумаг и тотчас же оказалась на линии огня.
Вронский снял с лезвия подергивающееся, изжаренное током тело животного, бросил его Лупо и, вспомнив вчерашний разговор с Анной, погрузился в размышления. Жизнь его тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Про себя он называл их «Бронзовые Законы» в подражание Железным, которые регулировали жизнь роботов.
Правила эти определяли, – что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, – что обманывать нельзя никого, но мужа можно, – что нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять и т. д. Все эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, и, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову. Только в самое последнее время, по поводу своих отношений к Анне, Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял все условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых он уже не находил руководящей нити.
Вронский вздохнул и приступил к осмотру сложного вооружения. Это был наплечный Разрушитель, размагничивающий Жезл, сверкающий Обсидиановый Миномет и, конечно же, наводящая ужас пушка, распыляющая внутренние органы и известная под названием «Месть Царя».
Одно за другим он брал в руки эти орудия смерти, с легкостью разбирал их, осматривая соединения деталей и смазывая их машинным маслом, и затем возвращал их на место. Привычные монотонные действия привели в порядок мысли и подняли настроение.
Теперешнее отношение его к Анне и к ее мужу было для него просто и ясно. Оно ясно и точно определено в своде правил, которыми он руководствовался.
Она была порядочная женщина, подарившая ему свою любовь, и он любил ее, и потому она была для него женщина, достойная такого же и еще большего уважения, чем законная жена. Он дал бы отрубить себе руку прежде, чем позволить себе словом, намеком не только оскорбить ее, но не выказать ей того уважения, на какое только может рассчитывать женщина.
Отношения к обществу тоже были ясны. Все могли знать, подозревать это, но никто не должен был сметь говорить. В противном случае он готов был заставить говоривших молчать и уважать несуществующую честь женщины, которую он любил.
– Ох! – вскрикнул Вронский, когда, забывшись и потеряв бдительность, прищемил себе пальцы затвором Разрушителя. – Проклятая штуковина!
Отношения к мужу были яснее всего. Размышляя об Алексее Александровиче, он взял со стола следующее оружие, экспериментальное устройство под названием Ускоритель Частиц. Таких было сделано всего семь штук, если верить подпольному оружейнику, который продал один из этих Ускорителей Вронскому. Он навел устройство на мишень, установленную в дальнем углу комнаты, и помедлил, прежде чем выстрелить.
С той минуты, как Анна полюбила Вронского, он считал одно свое право на нее неотъемлемым. Муж был только излишнее и мешающее лицо. Без сомнения, он был в жалком положении, но что было делать?
Вронский прищурил глаза, прицелился и представил перед собой в виде мишени этого излишнего и мешающегося Алексея Александровича; он живо вообразил себе его ухмыляющееся, закрытое наполовину железной маской лицо и нажал на спусковой крючок. Мишень с грохотом затряслась, а затем через три долгие секунды ее разорвало на щепки, сопровождаемые фейерверком оранжевых искр. Лупо одобрительно завыл и стал прыгать по комнате, хватая зубами ошметки, кружившиеся в воздухе. Вронский улыбнулся и с восхищением посмотрел на свое новое оружие. Если бы его вдруг посетила мысль, что Алексей Александрович не совсем обычный муж и что он обладает силой, в прямом и переносном смысле этого слова, гораздо превосходящей любую другую, которой Вронскому когдалибо приходилось противостоять, он бы не стал беспокоиться по этому поводу. Он чувствовал, что в мире нет человека сильнее его и нет человека, более заслуживающего женщины, на которую он обратил свои чувства.
Но в последнее время явились новые, внутренние отношения между ним и ею, пугавшие Вронского своею неопределенностью. Вчера только она объявила ему, что она беременна. И он почувствовал, что это известие и то, чего она ждала от него, требовало чегото такого, что не определено вполне кодексом тех правил, которыми он руководствовался в жизни.
И действительно, он был взят врасплох, и в первую минуту, когда она объявила о своем положении, в эту ужасную минуту, когда вдруг из небытия возникли божественные уста и, зевнув, грозили проглотить ее и отнять у него навеки, сердце Вронского подсказало ему требование оставить мужа. Он сказал это, но теперь, обдумывая, он видел ясно, что лучше было бы обойтись без этого, и вместе с тем, говоря это себе, боялся – не дурно ли это?
– Если я сказал оставить мужа, то это значит соединиться со мной. Готов ли я на это? Как я увезу ее теперь, когда у меня нет денег? Положим, это я мог бы устроить… Но как я увезу ее, когда я на службе? Если я сказал это, то надо быть готовым на это, то есть иметь деньги и выйти в отставку. Но смогу ли я? – сказал он Лупо и, наклонившись к зверю, почесал его чувствительную точку, расположенную над Нижним Отсеком.
Он снова метнул электрический кинжал, закрутив его движением запястья, и смотрел, как клинок летел на стену и затем вдруг развернулся, словно бумеранг и понесся в противоположный угол комнаты, где воткнулся прямо в сердце второй крысе. Вронский восхищенно присвистнул, а Лупо бросился к новой жертве. Он всю жизнь работал, чтобы добиться этого места и права владеть столь мощным оружием. Честолюбие была старинная мечта его детства и юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью.
– Женщины – это главный камень преткновения в деятельности человека, – сказал накануне вечером его старинный приятель Серпуховской, когда они подняли бокалы в память о бедной ФруФру. – Трудно любить женщину и делать еще чтонибудь. Для этого есть одно средство с удобством без помехи любить – это женитьба.
– Но Серпуховской никогда не любил, – прошептал Вронский, глядя прямо перед собой и думая об Анне. И уловив направление мысли своего хозяина, Лупо протестующе и громко залаял, наблюдая за хозяином и недовольно щурясь. Он, как боевая машина, естественно стремился к тому, чтобы Вронский остался на службе.
– Да, да, ты прав, – сказал он Лупо. – Выйдя в отставку, я сожгу свои корабли. Оставаясь на службе, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочет изменять своего положения.
И, закручивая медленным движением усы, он встал от стола и прошелся по комнате. Глаза его блестели особенно ярко, и он чувствовал то твердое, спокойное и радостное состояние духа, которое находило на него всегда после уяснения своего положения. Все было чисто и ясно, каждое орудие из его коллекции было проверено, перебрано и уложено на определенную ему полку, из каждого был произведен выстрел, исключая «Месть Царя», которую даже офицеры не имели права использовать вне военных действий.
Прежде чем убрать свои любимые испепелители, Вронский дал еще одну короткую очередь, восхищаясь тем, как от этого вспыхнули четыре угла комнаты. Лупо лег на пол, перевернулся через спину и его Звукосинтезатор завыл, поддерживая решительный настрой хозяина.
Был уже шестой час, и потому, чтобы поспеть вовремя и вместе с тем не ехать на своих лошадях, которых все знали, Вронский сел в наемную карету Яшвина и велел II/Извозчику/644 ехать как можно скорее. Старая четырехместная карета была просторна. Он сел в угол, вытянул ноги на переднее место и задумался.
«Хорошо, очень хорошо!» – сказал он себе сам. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела, но никогда он так не любил себя, своего тела, как теперь. Ему приятно было чувствовать эту легкую боль в сильной ноге, зашибленной вчера при падении на Выбраковке, ему приятно было мышечное ощущение движений своей груди при дыхании.
Тот самый ясный и холодный августовский день, который так безнадежно действовал на Анну, казался ему возбудительно оживляющим и освежал его разгоревшееся от обливания лицо и шею. Запах брильянтина от его усов казался ему особенно приятным на этом свежем воздухе. Все, что он видел в окно кареты, все в этом холодном чистом воздухе, на этом бледном свете заката было так же свежо, весело и сильно, как и он сам: и крыши домов, блестящие в лучах спускавшегося солнца, и грозниевые андроиды, правившие четырехгусеничными каретами, и резкие очертания заборов и углов построек, и фигуры изредка встречающихся пешеходов, и неподвижная зелень деревьев и трав, и медленно плывущие по небу дирижабли, и гидропонные теплицы, в которых выращивали огромный картофель – каждым корнеплодом можно было бы целую неделю кормить большую крестьянскую семью. Все было красиво, как хорошенький пейзаж, только что оконченный и покрытый лаком.
– Пошел, пошел! – сказал он II/Извозчику/644, выглянув в окно, и, легко ударил того огненным хлыстом; карета быстро покатилась по ровному шоссе.
– Ничего, ничего мне не нужно, кроме этого счастья, – сказал он Лупо, который в ответ радостно и согласно гавкнул, а затем высунул морду в окно, чтобы понюхать встречный ветер.
– И чем дальше, тем больше я люблю ее. Вот и сад казенной дачи Вреде. Где же она тут? Где? Как?
Он остановил кучера, не доезжая до аллеи, и, отворив дверцу, на ходу выскочил из кареты и пошел в аллею, ведшую к дому. В аллее никого не было; но, оглянувшись направо, он увидал ее. Лицо ее было закрыто вуалем, но он обхватил радостным взглядом особенное, ей одной свойственное движение походки, склона плеч и постанова головы, и тотчас же будто электрический ток пробежал по его телу, словно бы ктото ужалил его огненным хлыстом. Он с новой силой почувствовал самого себя, от упругих движений ног до движения легких при дыхании, и чтото защекотало его губы.
Сойдясь с ним, она крепко пожала его руку.
– Ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мне необходимо было тебя видеть, – сказала она; и тот серьезный и строгий склад губ, который он видел изпод вуаля, сразу изменил его душевное настроение.
– Я, сердиться! Но как ты приехала, куда?
– Все равно, – сказала она, кладя свою руку на его, – пойдем, мне нужно переговорить.
Вместе с Андроидом они стояли под сенью цветущего дерева, какого никогда ранее не видал Вронский. У него были большие свисающие листья цвета изумруда – столь же удивительные и неожиданные, сколь взгляд Карениной.
Он понял, что чтото случилось и что свидание это не будет радостное. В присутствии ее он не имел своей воли: не зная причины ее тревоги, он чувствовал уже, что та же тревога невольно сообщалась и ему.
– Что же? что? – спрашивал он, сжимая локтем ее руку и стараясь прочесть в ее лице ее мысли.
Она молча вышла из тени дерева, собираясь с духом, прошла несколько шагов, и вдруг остановилась.
– Я не сказала тебе вчера, – начала она, быстро тяжело дыша, – что, возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему все… сказала, что не могу быть его женой, что… и все сказала.
Он слушал ее, невольно склоняясь всем станом, как бы желая этим смягчить для нее тяжесть ее положения. Но как только она сказала это, он вдруг выпрямился, лицо его приняло гордое и строгое выражение.
– Да, да, это лучше, тысячу раз лучше! Я понимаю, как тяжело это было, – сказал он.
Но она не слушала его слов, она читала его мысли по выражению лица. Она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому мысли – о неизбежности теперь дуэли. Ей никогда и в голову не приходила мысль о дуэли, и поэтому это мимолетное выражение строгости она объяснила иначе.
Получив сообщение от мужа, она знала уже в глубине души, что все останется постарому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Но свидание это всетаки было для нее чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидание изменит их положение и спасет ее. Если он при этом известии решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей: «Брось все и беги со мной!» – она бросит сына и уйдет с ним. Но известие это не произвело в нем того, чего она ожидала: он только чемто как будто оскорбился.
– Мне нисколько не тяжело было. Это сделалось само собой, – сказала она раздражительно, – и вот… – нетерпеливым движением руки она дала знак Андроиду Карениной, чтобы та воспроизвела сообщение мужа.
– Я понимаю, понимаю, – перебил он ее, не глядя на монитор и стараясь ее успокоить. Обняв ее, он случайно увидел, что за ее головой один из изумрудных цветков необычного дерева вдруг неожиданно распустился или, по крайней мере, раскрылся, но Вронский был уверен или думал, что уверен, что еще минуту назад бутон этот был плотно закрыт.
– Анна… – начал Вронский и замолчал, глядя на то, как странное дерево стало вдруг проявлять себя: тонкая пленка вылезла из колокола цветка и, оказавшись на свободе, начала разрастаться в стороны, словно бы это был мыльный пузырь, выпускаемый малышом, сидящим гдето в ветвях дерева.
– Я одного желал, я одного просил, – продолжил Вронский, переключив свое внимание на Анну, но все же одним глазом продолжая следить за загадочным цветком, – разорвать это положение, чтобы посвятить свою жизнь твоему счастью.
Но Анна отступила от него и закрыла глаза, словно бы пытаясь найти надежный мостик, который провел бы ее через разыгрывающееся море беспокойных мыслей. Вронский в отчаянии вздохнул и отвернулся; его внимание отвлек светящийся монитор Андроида, на котором было выведено сообщение от Каренина.
Пока граф был погружен в чтение сумасшедшего послания, тонкая пленка бесшумно отделилась от цветка, растянувшись до таких размеров, когда она стала полностью прозрачной, и, подплыв к Анне, сомкнулась вокруг нее, превратившись в невидимую прочную оболочку.
– Разве я могу сомневаться в этом? – сказала Анна. Но изза странного пузыря они не могли уже слышать друг друга. Так часто бывает в разговоре двух влюбленных – они вспыхивают в гневе и смущении, каждый отстаивает свою точку зрения, они говорят и говорят, не в состоянии услышать друг друга изза того, что им мешает стена их предубеждений; но в данном случае барьер между ними был слишком реальным и твердым.
– Если б я сомневалась… – продолжила Анна, но тут же остановилась, желая услышать слова поддержки, чтобы найти силы говорить дальше.
Но Вронский не слышал ее и потому никак не мог поддержать.
Вместо этого он обратил свое внимание на двух прохожих.
– Кто это идет? – сказал вдруг Вронский, указывая на шедших навстречу двух дам. – Может быть, знают нас, – и он поспешно скрылся за ствол соседнего дерева, Лупо сел позади него.
Анна не заметила этих маневров, погруженная в свои собственные страхи и стыд. Когда дамы прошли, Вронский вернулся к ней и увидел этот ужас и стыд в глазах ее и расценил их как странную злобу, с которой глаза ее смотрели изпод вуали. Смущенный, он вновь обратился к посланию.
Опять, как и в первую минуту, при известии о ее разрыве с мужем, Вронский, читая письмо, невольно отдался тому естественному впечатлению, которое вызывало в нем отношение к оскорбленному мужу. Теперь, когда он читал послание, он невольно представлял себе тот вызов, который, вероятно, нынче же или завтра он найдет у себя, и саму дуэль, во время которой он с тем самым холодным и гордым выражением, которое и теперь было на его лице, выстрелив в воздух, будет стоять под выстрелом оскорбленного мужа. И тут же в его голове мелькнула мысль о том, что ему говорил Серпуховской и что он сам утром думал – что лучше не связывать себя, – и он знал, что эту мысль он не может передать ей.
Прочтя сообщение, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. Она знала, что, что бы он ни сказал ей, он скажет не все, что он думает. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута. Это было не то, чего она ждала.
– Ты видишь, что это за человек, – сказала она дрожащим голосом, – он…
И пока эти ужасные мысли бегали по кругу в ее голове, прозрачная оболочка наползла на Анну, спустилась вдоль ног и, как затянутый бечевой мешок, сомкнулась внизу.
Вронский не слышал того, что говорила ему Анна, и уж тем более не видел, что вся она оказалась вдруг в прозрачном пузыре. Горделиво отвечая на письмо, светящееся на мониторе Андроида, он говорил:
– Я радуюсь этому, потому что это не может, никак не может оставаться так, как он предполагает.
– Мой муж играет нами, – сказал Анна. Она чувствовала, что судьба ее решена, и это чувство делало все предложения Вронского ненужными.
– Не может продолжаться. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, – он смутился и покраснел, – что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра… – начал он.
– А сын? – продолжала Анна. – Что будет с моим ребенком? – Она содрогнулась, потеряла равновесие и упала на прозрачное дно невероятно тонкой и прочной сферы, которая, как вдруг осознала Анна, начала медленно поднимать ее прочь от земли.
– О, боже! – вскрикнул Вронский, наконец заметив, что происходит. – Анна, ты паришь!

– О, боже! – вскрикнул Вронский, наконец осознав, что происходит. – Анна, ты паришь!
Это странное средство передвижения, уносившее Анну все выше и выше, словно бы поняло, что его раскрыли, и тотчас же прибавило ходу. Оттолкнувшись мощными задними ногами, Лупо попытался допрыгнуть до шара, однако тот был уже слишком высоко.
Анна воздела руки над головой и произнесла:
– Да будет так! Моя судьба решена. Я должна была оставить его, но я не хочу и не буду делать этого!
Вронский бросился к тому месту, откуда взлетел шар. Он лихорадочно пытался понять, вопервых, как спустить шар обратно и освободить Анну, не повредив ее, и вовторых – неужели СНУ решило убить Анну, наслав на нее сначала божественные уста, а теперь и этот пузырьклетку? И если да, то по какой причине?
Лупо громко завыл, в то время как летающая тюрьма поднималась все выше и выше, влекомая холодным ветром. Вронский присел на корточки, вынул кинжал из голенища сапога и прицелился – он знал, что дана была всего одна попытка. Лупо вытянул губы в форме буквы «О» и завыл свою боевую песню, направив контролируемую волну звука прямо на парящую клетку Анны. Это остановило движение пузыря и позволило Вронскому найти нужную точку на его поверхности. Затем, точным движением кисти он послал кинжал прямо в мягкую плоть пузыря.
Если бы он бросил на сантиметр выше, кинжал улетел бы в сад, ниже – клинок отскочил бы от стенки шара, не причинив ему никакого вреда, или, что хуже всего, впустил в себя острие, и уже Анна приняла бы его в свое тело. Андроид Каренина тревожно смотрела за полетом клинка.
Удача!
Сияющее лезвие, оставляя после себя хвост из искр, разрезав воздух, достигло цели. Оно попало ровно в верхнюю точку сферы, в то место, которым шар крепился к дереву. СНУ был известен своими роботами, так называемыми однокнопочными устройствами: это были машины с однимединственным нервным центром, отвечавшим за все их действия. К счастью для Вронского, тут же находился и центр управления полетом. В ту секунду, когда кинжал вонзился в этот маленький нервный узел, пузырь взорвался – Анна полетела вниз прямо в руки Андроида Карениной, которая предусмотрительно стояла точно под пузырем.
– Лучше бы ты не спасал меня, – сказал она с притворной решительностью, с какой говорила и после того, как чуть не попала в божественные уста.
– Чтобы ты умерла? Чтобы принести себя в жертву СНУ?
– Все лучше, чем то положение, в котором мы сейчас находимся. – Она посмотрела ему в глаза, и впервые они слушали и слышали друг друга. – Я не могу потерять сына.
– Но ради бога, что же лучше? Оставить сына или продолжать это унизительное положение?
– Для кого унизительное положение?
– Для всех и больше всего для тебя.
На протяжении всего разговора Лупо крутился у дерева, нюхал землю и собирал остатки пузыря для дальнейшего расследования.
– Ты говоришь унизительное… не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла, – сказала она дрожащим голосом. Ей не хотелось теперь, чтобы он говорил неправду. Ей оставалась одна его любовь, и она хотела любить его.
– Ты пойми, что для меня с того дня, как полюбила тебя, все, все переменилось. Для меня одно и одно – это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может для меня быть унизительным. Я горда своим положением, потому что… горда тем… горда… Она не договорила, чем она была горда. Слезы стыда и отчаяния задушили ее голос. Она остановилась и зарыдала.
Вронский почувствовал тоже, что чтото поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и он первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так тронуло его; ему было жалко ее, он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что он виною ее несчастья, что он сделал чтото нехорошее.
– Разве невозможен развод? – сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой. – Разве нельзя взять сына и всетаки оставить его?
– Да; но это все от него зависит. Теперь я должна ехать к нему, – сказала она сухо.
Ее предчувствие, что все останется постарому, не обмануло ее.
– Во вторник я буду в Петербурге, и все решится.
– Да, – сказала она. – Но не будем больше говорить про это.
Карета Анны, которую она отсылала и которой велела приехать к решетке сада Вреде, подъехала. Анна простилась с ним, и Андроид, осторожно подсадив ее, закрыла дверцу, и они отправились домой.
В понедельник было обычное заседание Высшего Руководства Министерства. Алексей Александрович вошел в залу заседания, поздоровался с членами и председателем, как и обыкновенно, и сел на свое место, положив руку на приготовленные пред ним бумаги. В числе этих бумаг лежали нужные ему справки и набросанный конспект того заявления, которое он намеревался сделать. Впрочем, ему и не нужны были справки. Он помнил все и не считал нужным повторять в своей памяти то, что он скажет. Он знал, что, когда наступит время и когда он увидит пред собой лицо противника, тщетно старающееся придать себе равнодушное выражение, речь его выльется сама собой лучше, чем он мог теперь приготовиться. Лицо его нашептывало ободряющие слова гдето в подсознании, уверяя, что содержание его речи было так велико, что каждое слово будет иметь значение. Между тем, слушая обычный доклад, он имел самый невинный, безобидный вид. Никто не думал, глядя на его монокль, который он несколько напыщенно носил на здоровом глазу, и на его с выражением усталости набок склоненную голову, что сейчас из его уст выльются такие речи, которые произведут страшную бурю, заставят членов кричать, перебивая друг друга, и председателя требовать соблюдения порядка.
Когда доклад кончился, Алексей Александрович своим тихим тонким голосом объявил, что он имеет сообщить некоторые свои соображения относительно следующих фаз Проекта, над которым шла работа. Внимание обратилось на него. Каренин откашлялся и, не глядя на своего противника, но избрав, как он это всегда делал при произнесении речей, первое сидевшее перед ним лицо – маленького смирного старичка, не имевшего никогда никакого мнения в комиссии, начал излагать свои соображения.
– Всем тем, кто наравне со мной работали над этим Проектом, известно, что первая фаза нашего высокого эксперимента увенчалась полным и безоговорочным успехом.
ДА, УВЕНЧАЛАСЬ, – прошипело Лицо, – ДА, Я И ЕСТЬ УСПЕХ.
– Все, что касается второго этапа, уже подготовлено под моим руководством в подземном офисе Московской Башни. Новые прототипы роботов, как я и планировал, будут усовершенствованы по трем пунктам: внешний вид, возможности машины и степень проявления преданности тому или иному человеку.
Этот набор из нейтральных (с первого взгляда, но на деле сулящих многое) слов вызвал взрыв аплодисментов у сторонников Каренина. Но когда дело дошло до обсуждения третьей фазы Проекта, в которой все роботы III класса будут собраны вместе для коррекции их схем с учетом новых стандартов, его противник вскочил и начал возражать. Стремов настаивал, что обновить робота можно будет только с согласия и по желанию его владельца.
Стремов, давний политический оппонент Каренина, был седоватый, но еще бодрый мужчина пятидесяти лет, отталкивающей наружности, однако же с умным и волевым лицом. Он громко и долго говорил, напомнил собравшимся о «древнем праве» и «уникальной связи, устанавливающейся между человеком и его роботомкомпаньоном». В общем, произошло бурное заседание.
Алексей Александрович восторжествовал. Его предложение было принято; под страхом смерти все поклялись сохранить услышанное в секрете. И успех Алексея Александровича был даже больше, чем он ожидал.
На другое утро, во вторник, Каренин, проснувшись, с удовольствием вспомнил вчерашнюю победу и не мог не улыбнуться. Упиваясь своим успехом, он совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день, назначенный им для приезда Анны Аркадьевны, и был удивлен и неприятно поражен, когда II/Лакей/74 пришел доложить о ее приезде.
Анна приехала в Петербург рано утром; за ней была выслана карета по ее посланию, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее.
Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она вышла в столовую под предлогом распоряжения и нарочно громко говорила, ожидая, что он придет сюда; но он не вышел, хотя она слышала, что он выходил к дверям кабинета. Анна знала, что он, по обыкновению, скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтоб отношения их были определены.
Она прошлась по зале и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вицмундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки, и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он ее, и поняла, что он думал о ней.
Увидав ее, он хотел встать, раздумал, потом металлическая пластина на лице его вспыхнула, цвета стали сменять друг друга – маска горела яркокрасным, затем зажглась ядовитозолотым цветом, чего никогда прежде не видала Анна; у нее возникла мысль: «Оно растет… оно разрастается и набирает силу».
Алексей Александрович быстро встал и пошел ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на ее лоб и прическу. Он подошел к ней, взял ее за руку и попросил сесть.
– Я очень рад, что вы приехали, – сказал он, садясь подле нее и, очевидно, желая сказать чтото, он запнулся. Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался…
ГОВОРИТЕ ЖЕ, ГОВОРИТЕ! СТОЛЬ СИЛЬНЫЙ В ЗАЛАХ ЗАСЕДАНИЙ И СТОЛЬ СЛАБЫЙ В СВОЕМ СОБСТВЕННОМ ДОМЕ!
И так молчание продолжалось довольно долго.
– Сережа здоров? – сказал он и, не дожидаясь ответа, прибавил: – Я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать.
– Я хотела уехать в Москву, – сказала она.
– Нет, вы очень, очень хорошо сделали, что приехали, – сказал он и опять умолк.
Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама.
– Алексей Александрович, – сказала она, взглядывая на него и не опуская глаз под его устремленные на ее прическу взором, – я преступная женщина, я дурная женщина, но я то же, что я была, что я сказала вам тогда, и приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить.
– Я вас не спрашивал об этом, – сказал он, вдруг решительно и с ненавистью глядя ей прямо в глаза, и Лицо снова запульсировало, переливаясь немыслимыми цветами; казалось, сама ненависть бежала по венам его, – я так и предполагал. – Под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. – Но, как я вам говорил тогда и писал, – заговорил он резким, тонким голосом, – я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятное известие мужьям. Он особенно ударил на слове «приятное», и Анна отметила про себя, что услышала, как голос его изменился при этом, сделавшись особенно суровым: «ПРИЯТНОЕ».
– Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока мое имя не опозорено. И поэтому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были, и что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтоб оградить свою честь.
– Но отношения наши не могут быть такими, как всегда, – робким голосом заговорила Анна, с испугом глядя на него.
Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный, детский и насмешливый голос, отвращение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, но во что бы то ни стало хотела уяснить свое положение.
– Я не могу быть вашею женой, когда я… – начала она.
Он засмеялся злым и холодным смехом. Анна почувствовала острую головную боль, словно бы ктото воткнул спицы между полушариями ее мозга. Она глухо застонала от боли, и Андроид Каренина, повинуясь программному импульсу, обняла хозяйку за плечи, стараясь успокоить ее.
– Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то и другое… я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее… что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам.
Анна вздохнула и опустила голову.
– Впрочем, не понимаю, как, имея столько независимости, как вы, – продолжал он, разгорячаясь, – объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены?
– Алексей Александрович! Что вам от меня нужно?
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНА ПОКАЯЛАСЬ В СВОЕЙ НЕВЕРНОСТИ! ЧТОБЫ ВАЛЯЛАСЬ В НОГАХ ВАШИХ, УМОЛЯЯ О ПРОЩЕНИИ! ЧТОБЫ ОНА ПОДЧИНИЛАСЬ ВОЛЕ ВАШЕЙ ИЛИ ЗАПЛАТИЛА СПОЛНА ЗА ОТКАЗ ПОВИНОВЕНИЯ! – громко выкрикнул Алексей Александрович, и маленький столик вдруг взлетел в воздух, закружился над их головами и вдруг, налетев на стену, разбился в щепки. Ваза с цветами, стоявшая в другом конце залы, неожиданно взорвалась, как словно бы в нее ктото выстрелил. Анна в страхе обернулась – дверь, которую она оставила приоткрытой, с силой захлопнулась, и замок шумно повернулся.
Анна повернулась к мужу и внимательно посмотрела на него. Алексей Александрович глубоко и тяжело дышал, словно бы пытаясь совладать с собой. Наконец все в комнате успокоилось, и он спокойным и холодным тоном изложил дрожащей от страха жене свои требования.
– Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни роботы не могли обвинить вас… чтобы вы не видали его. Кажется, это не много. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать. Я не обедаю дома.
Он скрестил руки на груди и отвернулся.
– Алексей?
Он посмотрел назад.
– Если это возможно… могу ли я… – и она с неуверенностью посмотрела на тяжелую дубовую дверь.
ОСТАВЬТЕ ТАК, КАК ЕСТЬ. ПУСТЬ СГНИЕТ В ЭТОЙ ТЕМНИЦЕ, – прошипело Лицо внутри головы.
Но Алексей Александрович слегка покачал головой, щелкнул замок, и дверь открылась. Анна Аркадьевна тут же встала и подала знак Андроиду, что им пора уходить. Молча поклонившись, он пропустил их, внешне спокойный, он был также смущен и подавлен, как и жена.
Радовалось только Лицо, потому что с каждым таким столкновением оно получало все больше силы и власти. Власти над мужчиной, власти над женщиной – власти над всеми.
В один из вечеров, ближе к концу весеннего сезона добычи грозниума, Левин и Сократ сидели в гостиной и оживленно беседовали. Темой дискуссии стало нашествие гигантских кощеев, заполонивших земли вокруг Покровского. Все больше и больше простолюдинов рассказывало ужасающие истории о том, как в ночной тьме леса щелкало и эхом удваивалось зловещее «тикатикатика»… У когото товарищ, отправившись на охоту, так и не вернулся домой. Левин разговаривал с мужиком, которому довелось сразиться с одним из этих монстров – он чудом избежал смерти в огромной, всепоглощающей пасти чудовища. После тщательного анализа собранных ошметков Сократ установил, что эти громадины были сделаны из того же материала, что и маленькие кощеи, атаковавшие Покровское в прошлом году. Однако открытым оставался самый главный вопрос: как этим роботам удалось вырасти до таких размеров и распространиться так быстро, при условии, что Министерство официально объявило о полном уничтожении кощеев по всей стране.
Пока Сократ в который раз принялся обдумывать этот вопрос, анализируя различные варианты ответов на него, Левину вдруг вспомнилось коечто, и воспоминание это, показавшееся поначалу случайным, тем не менее заставило его содрогнуться: ему на память пришли слова графини Нордстон, глупейшей подруги Кити, которая упоенно рассказывала о Почетных Гостях – внеземных существах, которые предположительно в один прекрасный день придут спасти людей.
– Тремя путями, – сказала она тогда, – они придут к нам тремя путями.
Обдумывая это образное высказывание и возможную связь его с новым видом кощеев, Левин не сразу услышал долгий мучительный кашель в передней. Он слышал его неясно изза звука своих шагов и надеялся, что он ошибся; потом он увидал и всю длинную, костлявую, знакомую фигуру, и, казалось, уже нельзя было обманываться, но все еще надеялся, что он ошибается и что этот длинный человек, снимавший шубу и откашливавшийся, был не брат Николай, сопровождаемый ужасным Карнаком.
Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мученье. Теперь он все время думал о нашествии кощеев, и, не видевши Кити с того дня, как они встретились взглядами на дороге, он пребывал в неясном, запутанном состоянии; потому и предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжелым. Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нем все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне. А этого ему не хотелось.
Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю. Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как ни страшен был брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог. Это был скелет, покрытый кожей.
Он стоял в передней, дергаясь длинною, худою шеей и срывая с нее шарф, и странно жалостно улыбался. Увидав эту улыбку, смиренную и покорную, Левин почувствовал, что судороги сжимают его горло.
– Вот, я приехал к тебе, – сказал Николай глухим голосом, ни на секунду не спуская глаз с лица брата.
Когда Левин посмотрел на брата, кожа на лице Николая собралась большими складками, словно рябь, пошедшая от ветра на зловонном озере.
– Я давно хотел, да все нездоровилось. Теперь же я очень поправился.
– Да, да! – отвечал Левин. И ему стало еще страшнее, когда он, потянувшись поцеловать брата, отпрянул, испугавшись предстоящего соприкосновения с бледной, раздраженной кожей больного. Отшатнувшись, он увидал, что большие глаза Николая неестественно горят.
За несколько недель пред этим Левин писал ему, что по продаже той маленькой части, которая оставалась у них неделенною в доме, брат имел получить теперь свою долю, около двух тысяч рублей.
Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги и, главное, побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличившуюся сутулость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как и обыкновенно, были быстры и порывисты.
Брат переоделся особенно старательно, чего прежде не бывало, причесал свои редкие прямые волосы и, улыбаясь, вошел наверх.
– Проведу месяцдругой с вами, а потом уеду в Москву, – сказал Николай.
Он был в самом ласковом и веселом духе, каким в детстве его часто помнил Левин. Но было чтото в поведении и разговоре брата, что выдавало в нем глубокую озабоченность, что он хотел чемто поделиться, но не знал, как высказать это. Когда он говорил, мелкая рябь проходила не только по лицу его: его живот, грудь и даже глаза чуть заметно подрагивали. Николай поморщился, стараясь скрыть свое состояние от брата.
– Потом вообще теперь я хочу совсем переменить жизнь. Я, разумеется, как и все, делал глупости, но состояние – последнее дело, я его не жалею. Было бы здоровье, а здоровье, слава богу, поправилось.
Когда они двинулись к спальне, Карнак поплелся за ними следом, но его расстроенная навигационная система то и дело сталкивала робота со стеной.
Так как в доме было сыро и одна только комната топлена, то Левин уложил брата спать в своей же спальне за перегородкой. Сократ всю ночь распылял в комнате нежный парфюм, чтобы перебить ужасный запах гниения, исходивший от Карнака и Николая.
Брат лег и – спал или не спал, но, как больной, ворочался, кашлял и, когда не мог откашляться, чтото ворчал. Иногда, когда он тяжело вздыхал, он говорил: «Ах, боже мой!» Иногда, когда мокрота душила его, он с досадой выговаривал: «А! черт!»
Левин долго не спал, слушая его. Мысли были самые разнообразные, но конец всех мыслей был один: смерть.
Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимою силой представилась ему. И смерть эта, которая тут, в этом любимом брате, спросонку стонущем и безразлично по привычке призывавшем то бога, то черта, была совсем не так далека, как ему прежде казалось. Она была и в нем самом – он это чувствовал. Не нынче, так завтра, не завтра, так через тридцать лет, разве не все равно? А что такое была эта неизбежная смерть, – он не только не знал, не только никогда и не думал об этом, но не умел и не смел думать об этом.
«Я работаю, я хочу сделать чтото, а я и забыл, что все кончится, что – смерть».
Он сидел на кровати в темноте, скорчившись и обняв свои колени, и, сдерживая дыхание от напряжения мысли, думал. Но чем более он напрягал мысль, тем только яснее ему становилось, что это несомненно так, что действительно он забыл, просмотрел в жизни одно маленькое обстоятельство – то, что придет смерть и все кончится, что ничего и не стоило начинать и что помочь этому никак нельзя. Да, это ужасно, но это так.
– Да ведь я жив еще. Теперьто что же делать, что делать? – говорил он с отчаянием Сократу.
Он зажег I/Свечу/649, осторожно встал, подошел к своему роботу и стал смотреться в его монитор, как в зеркало. Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот. Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, было тоже здоровое тело.
– А теперь эта скривившаяся пустая грудь… и я, не знающий, зачем и что со мной будет…
– Внутри… это внутри… – послышался слабый голос брата.
– Что ты имеешь в виду? Что значит «внутри»? – спросил Левин. – Что внутри?
Николай заметался на простынях; он спал и говорил сквозь пелену ночного кошмара.
– Это внутри меня… глубоко внутри… вытащи это… прошу…. Прошу тебя, брат…
Левин вздрогнул, спрятался за перегородку и прижался к Сократу. Только что ему немного уяснился вопрос о том, как жить, как представился новый неразрешимый вопрос – смерть. Всю ночь Николай стонал и вздрагивал, выкрикивая в спутанном сознании:
– Это внутри… внутри меня!..
Каренины, муж и жена, продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были совершенно чужды друг другу. Алексей Александрович, занятый приготовлениями к следующей, самой важной части лелеемого Проекта, все же за правило поставил каждый день видеть жену, для того чтобы прислуга не имела права делать предположения, но избегал обедов дома. Вронский никогда не бывал в доме Каренина, но Анна видела его вне дома, и муж знал это.
Положение было мучительно для всех троих, и ни один из них не в силах был бы прожить и одного дня в этом положении, если бы не ожидал, что оно изменится и что это только временное горестное затруднение, которое пройдет.
Алексей Александрович ждал, что страсть эта пройдет, как и все проходит, что все про это забудут, и имя его останется неопозоренным. Анна, от которой зависело это положение и для которой оно было мучительнее всех, переносила его потому, что она не только ждала, но твердо была уверена, и повторяла это Андроиду Карениной, что все это очень скоро развяжется и уяснится. Она решительно не знала, что развяжет это положение, но твердо была уверена, что это чтото придет теперь очень скоро. Вронский, невольно подчиняясь ей, тоже ожидал чегото независимого от него, долженствовавшего разъяснить все затруднения.
* * *
В эту зиму Вронский участвовал и выжил в одной из самых жестоких и долгих Выбраковок. Это был вид учений, проходивших среди военных, нужно было подготовить войска к новой и весьма серьезной угрозе, нависшей над Родиной: точных данных о возможной атаке еще не было, но Министерство подготавливало своих солдат как никогда. Наградой Вронскому стало повышение – он был произведен в полковники, а вместе с этим – тьма новых обязанностей; старший офицер приставил его к приехавшему в Петербург иностранному принцу, и Вронский должен был показывать ему достопримечательности Петербурга. Задание это поначалу сулило некоторые невинные удовольствия, но на деле оказалось одним из самых утомительных дел, когдалибо порученных Вронскому. Принца неуклонно тянуло к чрезмерным, изнуряющим развлечениям: всю неделю Алексей Кириллович вынужден был бывать в вечеринках, где рекой лилось шампанское, высиживать все длинные партии в карты и принимать участие в шалостях, происходивших между роботами и людьми. Развлечение это называлось «плоть и железо» и было официально запрещено, однако пользовалось необыкновенной популярностью на холостяцких вечеринках.
Принц наконец уехал, Вронский мог принадлежать самому себе и вернуться домой. У себя он нашел записку от Анны. Она писала: «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но и не могу долее не видать вас. Приезжайте вечером. В семь часов Алексей Александрович едет в Министерство и пробудет до десяти». Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требование мужа не принимать его, он решил, что поедет.
После завтрака Вронский лег на диван и, для того чтобы побыстрее заснуть, вывел на монитор Лупо успокоительные Воспоминания. Он не знал, как долго спал, но в какойто момент осознал, что много времени прошло: монитор Лупо светился в темноте, и Вронский, взглянув изпод тяжелых век на экран, увидел искаженные изображения: перед его взором поплыли неприятные сцены. Одна сменялась другой – Анну вновь засасывали божественные уста; она в садах Вреде, заключенная в прозрачный пузырь и плывущая навстречу опасной неизвестности; вот Антигравистанция – они вместе смотрят на обугленное и раздавленное тело, которое подняли с путей и завернули в грубую мешковину.
– Лупо! – воскликнул Вронский, в холодном поту, поднимаясь. Робот, выглядевший смущенным и побитым, поспешил сменить неприятные хозяину картинки на экране, но было слишком поздно – в таком состоянии Вронскому вряд ли удалось бы расслабиться и отдохнуть.
– Какой странный сбой программы! – мрачно произнес Вронский, вставая с дивана. Он посмотрел на часы. Была уже половина девятого. Он поспешно оделся и вышел на крыльцо, пытаясь выбросить из головы тревожные Воспоминания и мучаясь тем, что опоздал.
Подъезжая к крыльцу Карениных, он взглянул на часы: было без десяти минут девять. Высокая, узенькая карета, запряженная парой серых, стояла у подъезда. Он узнал карету Анны. «Она едет ко мне, – подумал Вронский, – и лучше бы было. Неприятно мне входить в этот дом. Но все равно; я не могу прятаться», – сказал он себе, и с теми, усвоенными им с детства, приемами человека, которому нечего стыдиться, Вронский вышел из саней и подошел к двери, его большой палец нервно выписывал круги на рукоятке хлыста.
Дверь отворилась, и II/Швейцар/7е62 с пледом, зажатым в манипуляторах, подозвал карету.
В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. I/Фонарь/87 прямо освещал бескровное, осунувшееся лицо под черною шляпой, наполовину скрытое маской, и белый галстук, блестевший изза бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского.
Они застыли в дверях, Алексей Кириллович хотел было поклонился и уже начал опускать голову, но остановился, чувствуя, что не в силах сделать этого. Лупо покачивал взадвперед своей большой серебристой головой и робко поглядывал то на Каренина, то бросал взгляд, полный неуверенности и ужаса, на своего хозяина. Смутившись, Вронский на секунду решил, что его сковал страх или неловкость его положения, и вновь попробовал поклониться, но осознал, что тело его обездвижено, словно невидимая сила окутала его.
Каренин поджал губы; телескопический глаз резко выдвинулся из впадины и воззрился прямо на Вронского, невидимая сила еще сильнее обвила его, словно змея свою жертву… а затем понесла его, сначала медленно, а затем все быстрее к тяжелой дубовой двери. Лупо взвизгнул и спрятался в углу. Вронский чувствовал себя мебелью на колесиках, но переносил его не II/Носильщик/7е64 в своих крепких манипуляторах, а сила, исходившая от странного мужа Анны. Алексей Александрович неподвижно стоял и бесстрастно наблюдал, как Вронский со всей силы врезался в дубовые двери; Каренин изучал его своим искусственным глазом, словно ювелир, придирчиво рассматривающий через линзу драгоценный камень.
В следующее мгновение державшая его сила ослабла, будто разжался невидимый кулак, и Вронский в оцепенении повалился на пол, жадно глотая воздух, чувствуя, как боль разливается по всему телу.
Молча Алексей Александрович перешагнул через него, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Пот стекал с него ручьями, брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском.
– Вот положение! – сказал он Лупо, крутящемуся у его ног. – Если б он боролся, отстаивал свою честь, я бы мог действовать, выразить свои чувства, но эта слабость или подлость… Он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу этим быть.
Он замолчал и добавил мрачно:
– Как, черт возьми, он это сделал?
Еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную.
– Нет! – вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза, – нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде!
– Что, мой друг?
– Что? Я жду, мучаюсь, час, два… Ты встретил его? – спросила она, когда они сели у стола под лампой. – Вот тебе наказание за то, что опоздал.
– Такое наказание, – ответил он, потирая спину в том месте, где должен был вскоре появиться синяк, – кажется чрезмерно жестоким. Он должен был быть в Министерстве?
– Он был и вернулся и опять поехал кудато.
– Неважно, теперь это уже неважно, – ответил он.
Анна Аркадьевна положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. Она изучала его лицо за то время, которое не видала его. Она, как и при всяком свидании, сводила в одно свое воображаемое представление о нем (несравненно лучшее, невозможное в действительности) с ним, каким он был.
– Где ты был? Все с принцем?
Она знала все подробности его жизни. Он хотел сказать, что не спал всю ночь и заснул, но, глядя на ее взволнованное и счастливое лицо, ему совестно стало. И он сказал, что ему надо было ехать дать отчет об отъезде принца.
– Но теперь кончилось? Он уехал?
– Слава богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это.
– Отчего ж? Ведь это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин, – сказала она, насупив брови и взявшись за вязанье: нитка тянулась прямо из корпуса Андроида Карениной, в котором был закреплен большой моток пряжи. Анна стала, не глядя на Вронского, выпрастывать из вязания крючок.
– Я уже давно оставил эту жизнь, – сказал он, удивляясь перемене выражения ее лица и стараясь проникнуть его значение. – И признаюсь, – сказал он, улыбкой выставляя свои плотные белые зубы, – я в эту неделю как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь – бесконечные партии в карты, все эти игрища в духе «железо и плоть» – мне неприятно было.
Она держала в руках вязанье, но не вязала, а смотрела на него странным, блестящим и недружелюбным взглядом.
– Как вы гадки, мужчины! Как вы не можете себе представить, что женщина этого не может забыть, – говорила она, горячась все более и более и этим открывая ему причину своего раздражения. – Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знаю? что я знала? – говорила она, – то, что ты скажешь мне. А почем я знаю, правду ли ты говорил мне…
– Анна! Ты оскорбляешь меня. Разве ты не веришь мне? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я не открыл тебе?
– Да, да, – сказала она, видимо стараясь отогнать ревнивые мысли. – Но если бы ты знал, как мне тяжело! Я верю, верю тебе… Так что ты говорил?
Но он не мог сразу вспомнить того, что он хотел сказать. Эти припадки ревности, в последнее время все чаще и чаще находившие на нее, ужасали его и, как он ни старался скрывать это, охлаждали его к ней, несмотря на то что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье; и вот она любила его, как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни, – и он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. Тогда он считал себя несчастливым, но счастье было впереди; теперь же он чувствовал, что лучшее счастье было уже позади. Она была совсем не та, какою он видел ее первое время. И нравственно и физически она изменилась к худшему. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его. И, несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда любовь его была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего сердца, но теперь, когда, как в эту минуту, ему казалось, что он не чувствовал любви к ней, он знал, что связь его с ней не может быть разорвана.
Она отклонилась от него, выпростала наконец крючок из вязанья, и быстро, с помощью указательного пальца, стали накидываться одна за другой петли белой, блестевшей под светом лампы шерсти, и торопливо, нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике. Тишину заполнило тихое жужжание машины, быстро разматывающей пряжу.
– Я решительно не понимаю твоего мужа, – сказал Вронский. – Он играет с нами, в буквальном смысле слова. Обладая такой силой, он одним взглядом может стереть меня в порошок, почему же он не применяет ее? Как он может переносить такое положение? Он страдает, это видно.
– Он? – с усмешкой сказала она. – Он совершенно доволен.
– За что мы все мучаемся, когда все могло бы быть так хорошо?
– Только не он. Разве я не знаю его, эту ложь, которою он весь пропитан?.. Это не мужчина, не человек – он робот! Ты должен мне верить, Алексей: внутри него борется сейчас человеческое начало и расчетливая машина. По крайней мере, сейчас человек в нем сильнее, и только это обстоятельство удерживает его от расправы надо мной и тобой. О, если б была на его месте, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний… Не будем, не будем говорить!..
– Ты не права и не права, мой друг, – сказал Вронский, стараясь успокоить ее. – Но все равно не будем о нем говорить. Расскажи мне, что ты делала? Что с тобой? Что такое эта болезнь и что сказал доктор?
Она смотрела на него с насмешливою радостью. Видимо, она нашла еще смешные и уродливые стороны в муже и ждала времени, чтоб их высказать.
Он продолжал:
– Я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. Когда это будет?
Насмешливый блеск потух в ее глазах, но другая улыбка – знания чегото неизвестного ему и тихой грусти – заменила ее прежнее выражение. Андроид Каренина бесшумно подошла к столу и подала хозяйке стакан воды.
– Скоро, скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно, что надо развязать его. Если бы ты знал, как мне оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы свободно и смело любить тебя! Я бы не мучилась и тебя не мучила бы своею ревностью… И это будет скоро, но не так, как мы думаем.
И при мысли о том, как это будет, она так показалась жалка самой себе, что слезы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. Она положила блестящую под лампой кольцами и белизной руку на его рукав.
– Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро, скоро все развяжется, и мы все, все успокоимся и не будем больше мучиться.
– Я не понимаю, – сказал он, понимая.
– Ты спрашивал, когда? Скоро. И я не переживу этого. Не перебивай! – И она заторопилась говорить. – Я знаю это, и знаю верно. Я умру, и очень рада, что умру и избавлю себя и вас.
Слезы потекли у нее из глаз; он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое, он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его.
Установившуюся тишину неожиданно нарушил Лупо – он испуганно вскочил, обманутый чувствительными датчиками: на улице, гдето в отдалении хрустнула веточка под ногой прохожего или проехал экипаж, но роботу показалось, что он услыхал шаги Каренина.
Вронский опомнился и поднял голову.
– Что за вздор! Что за бессмысленный вздор ты говоришь!
– Нет, это правда.
– Что, что правда?
– Что я умру. Я видела сон.
– Сон? – повторил Вронский и мгновенно вспомнил то, что видел днем на мониторе Лупо.
– Да, сон, – сказала она. – Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять чтото, узнать чтото; ты знаешь, как это бывает во сне, – говорила она, с ужасом широко открывая глаза, – и в спальне, в углу, стоит чтото.
– Ах, какой вздор! Как можно верить…
Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее.
– И это чтото повернулось, и я вижу, что это мужик со взъерошенною бородой, маленький и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками чтото копошится там… Он копошится и приговаривает пофранцузски, скороскоро и, знаешь, грассирует: «il faut le battre le fer, le broyer, le petrir…» И я от страха захотела проснуться, проснулась… но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. И Андроид Каренина, которая в жизни не может вымолвить ни слова, мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, хозяйка…» И я проснулась…
– Какой вздор, какой вздор! – говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе. Он исподтишка взглянул на Андроида Каренину, чтобы увидать, как настоящий робот отреагирует на слова хозяйки. Чтото в выражении ее глазного блока, наклоне головы словно бы говорило о том, что она сожалеет о причиненной хозяйке боли, пусть даже и во сне.
– Но не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю. Да подожди, теперь не долго я…
Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значения этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни.
Алексей Александрович после встречи у себя на крыльце с Вронским поехал, как и намерен был, в Оперу14. Он отсидел там два акта и видел всех, кого ему нужно было. Вернувшись домой, он внимательно осмотрел вешалку и, заметив, что военного пальто не было, по обыкновению прошел к себе. Но, противно обыкновению, он не лег спать и проходил взад и вперед по своему кабинету до трех часов ночи. Чувство гнева на жену, не хотевшую соблюдать приличий и исполнять единственное поставленное ей условие – не принимать у себя своего любовника, не давало ему покоя.
ВЫ С ЛЕГКОСТЬЮ МОГЛИ УБИТЬ ЕГО.
МОГЛИ ОСТАВИТЬ ОТ НЕГО ЖАЛКУЮ ГОРСТКУ КОСТЕЙ В ПЕРЕДНЕЙ.
Алексей Александрович попытался возразить разъяренному Лицу:
– Столь радикальные меры, предпринятые под влиянием сильных чувств, имели бы своим результатом ничтожно малую победу в сравнении с огромными рисками.
ВЫ СЛИШКОМ РОБКИЙ ПРОСТОЙ УДАР ПО ГОЛОВЕ…
– Нет!
РЕЗКОЕ СУЖЕНИЕ ПРОСВЕТА ТРАХЕИ…
– О, Боже, нет!
Этот внутренний разговор, столь обыкновенный для Александра Александровича, который слышал голос в своей голове также ясно, как голос любого другого собеседника, со стороны показался бы бреднями сумасшедшего. Борьба продолжалась до трех часов ночи. Она не исполнила его требования, и он должен наказать ее и привести в исполнение свою угрозу – требовать развода и отнять сына. Он знал все трудности, связанные с этим делом, но он сказал, что сделает это, и теперь он должен исполнить угрозу.
ИЛИ ВЫ ПРОСТО МОГЛИ БЫ…
– Нет! Я не в силах буду сделать этого! И теперь прошу тебя замолчать!
Он не спал всю ночь, и его гнев, увеличиваясь в какойто огромной прогрессии, дошел к утру до крайних пределов. Он поспешно оделся и, как бы неся полную чашу гнева и боясь расплескать ее, боясь вместе с гневом утратить энергию, нужную ему для объяснения с женою, вошел к ней.
Анна, думавшая, что она так хорошо знает своего мужа, была поражена его видом, когда он вошел к ней. Лежа в кровати, она закрыла лицо руками, когда дверь вдруг слетела с петель и разбилась в щепки об пол.
Лоб его был нахмурен, и телескопический глаз пристально изучал каждый сантиметр ее тела, избегая смотреть в глаза; рот был твердо и презрительно сжат. В походке, в движениях, в звуке голоса его была решительность и твердость, какие жена никогда не видала в нем.
– Что вам нужно?! – вскрикнула она.
– Сядьте! – сказал он.
Она с удивлением и робостью молча глядела на него.
– Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя.
– Мне нужно было видеть его, чтоб…
Она остановилась, не находя никакой выдумки. В голове Каренина послышались слова:
СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРОИЗНЕСИТЕ ЭТО.
– Не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника.
ВЫ ТРАТИТЕ ВРЕМЯ ВЫ ТРАТИТЕ СЛОВА.
– Я хотела, я только… – вспыхнув, сказала она. Эта его грубость раздражила ее и придала ей смелости. – Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня? – сказала она.
– Оскорблять можно честного человека и честную женщину, но сказать вору, что он вор, есть только lа constatation d’un fait.[12]
– Этой новой черты – жестокости я не знала еще в вас.
– Вы многого не знаете обо мне. Есть стороны моей жизни, моего существования, не говоря уже о бытии всего остального мира, Вселенной, которые вы не в состоянии постигнуть, и, если я открою вам эти тайны, они довершат ваше падение.
Он все более ожесточался, чувство гнева подавляло все остальное, словно лихорадка заставляя кровь вскипать в венах. Лицо кричало в его голове:
КОНТРОЛИРУЙТЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ НАСТАИВАЙТЕ ПОДЧИНЯЙТЕ
Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы успокоиться: Алексей Александрович пытался прийти в себя и говорить своим собственным голосом, выбирая слова по собственному желанию, без участия Лица.
– Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?
– Это хуже жестокости, это подлость, если уже вы хотите знать! – со взрывом злобы вскрикнула Анна и, встав, хотела уйти.
– Нет! – закричал он своим пискливым голосом, который поднялся теперь еще нотой выше обыкновенного, и через секунду Анна ощутила то же, что и Вронский, столкнувшийся с Карениным в парадном. Она вдруг почувствовала, что не может пошевелить и пальцем, словно марионетка в руках ребенка, ее подбросило к потолку; и, беспомощная, она висела и чувствовала, как горло ее сжимается, а в груди перехватило дыхание. Муж смотрел, как она болталась в воздухе, словно рыба на крючке.
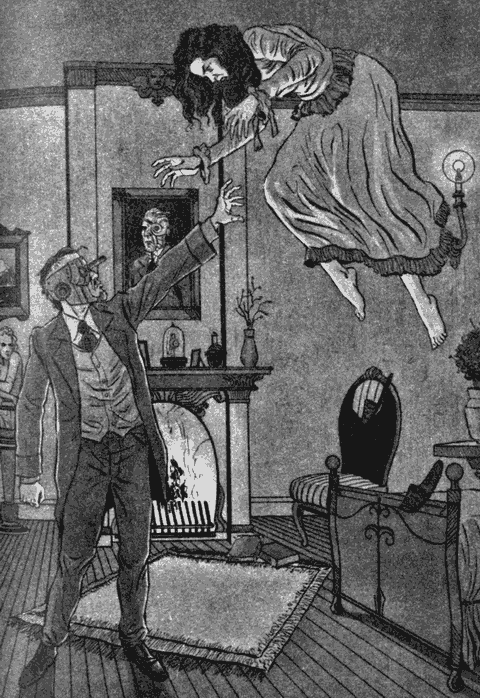
– Нет! – закричал он своим пискливым голосом, и Анна почувствовала, как тело ее взмыло к потолку, а горло сжала неведомая сила
– Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость – это бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа!
Телескопический глаз зловеще выдвинулся, она чувствовала, как тело ее все сильнее вдавливается в потолок. Ей нужно было защитить себя, смягчить его, разбудить в нем человека, иначе он уничтожит ее.
– Вы не можете описать мое положение хуже того, как я сама его понимаю! – закричала она в отчаянии. – Алексей…
– Я умоляю тебя, Алексей…
– Алексей…
– Ox… – тяжело выдохнул он и ослабил свою невидимую хватку. Она упала, по счастью или по его доброй воле, в кресло.
ТРУС ТРУС ТРУС
Анна никак не могла отдышаться, каждый вздох был словно глоток прекрасного вина. Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику что он ее муж, а муж лишний; она теперь и не подумала этого. Она была рада, что осталась жива, чувствовала всю справедливость слов мужа и безмолвно слушала его.
– Так как вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтобы положение это кончилось.
– Скоро, скоро оно кончится и так, – проговорила Анна.
– Оно кончится скорее, чем вы придумали со своим любовником! Вам нужно удовлетворение животной страсти…
– Алексей Александрович! Я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно – бить лежачего.
– Да, вы только себя помните, но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле… педе… пелестрадал.
Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Он выговорил его под конец «пелестрадал».
ОСЕЛ!
ЕСЛИ УЖ НЕ МОЖЕШЬ УБИТЬ, ТАК ХОТЬ СОБЕРИСЬ И ГОВОРИ ВНЯТНО, ГЛУПЕЦ, БОЛВАН…
В припадке бешенства Каренин схватился за лицо в тщетной попытке сорвать с него железную маску и освободиться от миллионов тончайших нейронных нитей, соединявших Лицо с его собственными нервными окончаниями. Анна в ужасе наблюдала за тем, как муж ее выписывал круги по комнате и кричал во весь голос, схватившись за голову. Он резко остановился и затих.
Хотя она не понимала, не могла понять того, что происходит с ним, в первый раз она на мгновение почувствовала за него, перенеслась в него, и ей жалко стало его. Но что ж она могла сказать или сделать? Она опустила голову и молчала. Каренин тоже помолчал несколько времени и заговорил потом уже менее пискливым, холодным голосом, подчеркивая произвольно избранные, не имеющие никакой особенной важности слова.
– Я пришел вам сказать… – сказал он.
Она взглянула на него. «Нет, это мне показалось, – подумала она, вспоминая выражение его лица, когда он запутался на слове „пелестрадал“, нет, разве может существовать еще человек в нем; разве может он, с этими мутными глазами, с этим самодовольным спокойствием чувствовать чтонибудь?»
– Я не могу ничего изменить, – прошептала она.
– Я пришел вам сказать, что я завтра уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом, и вы будете иметь известие о моем решении чрез адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре, – сказал Алексей Александрович, с усилием вспоминая то, что он хотел сказать о сыне.
– Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно, – проговорила она, исподлобья глядя на него. – Вы не любите его… Оставьте Сережу!
– Да, я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но я всетаки возьму его. Прощайте!
Разговор был окончен. Анна активировала Андроида Каренину и вышла в слезах.
В голове Алексея Александровича была полная тишина: Лицо молчало, но это было молчание победителя, ожидающего в скором времени своего триумфа. И день этот стремительно приближался.
Алексей Александрович вышел из дома с твердым намерением более не возвращаться в семью. Он обсудил свое намерение с адвокатом; встретившись с ним, он перевел развод из жизни реальной в мир бумаг, и с каждым своим шагом он все более привыкал к своему нынешнему положению и все более укреплялся в своем решении исполнить задуманное.
Затем он отправился в Москву, где должен был проконтролировать процесс окончательной отладки усовершенствованного робота III класса, создателем которого являлся. Не без гордости Алексей Александрович называл машину IV классом. В своей подземной лаборатории он как раз проверял, как работает прицел, встроенный в голубые глаза его детища, когда вдруг услышал громкий голос Степана Аркадьевича. Тот спорил с II/Лакеем/44 Каренина, не пускавшим его в лабораторию, и настаивал на том, чтоб о нем было доложено. Алексей Александрович подумал было отказать гостю или же спрятать робота подальше от чужих глаз, как того требовали правила безопасности. Скрыть машину можно было одним нажатием кнопки. Вместо этого он вдруг решил принять Степана Аркадьича и оставить робота на виду.
ПУСТЬ ВОЙДЕТ. ПУСТЬ УВИДИТ, НА ЧТО СПОСОБНА РОССИЯ.
– Проси! – вслух сказал Каренин, собирая бумаги и укладывая их в бювар.
– Вот, видишь ли, что ты врешь! – ответил изза двери голос Степана Аркадьича, который обратился к Лакею, не желавшему пускать его. Снимая пальто, он вошел в комнату. – Ну, я очень рад, что наконец добрался до тебя! Надеюсь, пока ты в Москве, приедешь обедать к нам… – весело начал Стива и вдруг остановился, поперхнувшись. – Что… что же это, Алексей Александрович?
– Наверняка даже в Департаменте Игрушек и проч. уже обсуждались планы руководства Министерства по созданию нового поколения роботов. И вот оно перед вами. Знакомьтесь, Степан Аркадьич, это Андроид IV класса.
– Но… но… – пробормотал Облонский, уставившись на робота с открытым ртом, в то время как Маленький Стива попятился назад с тревожным жужжанием. Каренин улыбнулся, польщенный их замешательством. – Для чего они предназначены?
СТОЛЬКО ВСЕГО
СТОЛЬКО ВСЕГО
ООО!
Но Алексей Александрович только приподнял бровь и холодно произнес:
– Мир стремительно меняется, и наши роботыкомпаньоны должны меняться вместе с ним. Что же касается вашего приглашения на обед, я не могу быть. – Он стоял вместе с гостем и не приглашал его сесть. – Я не могу более обедать в вашем доме, потому что те родственные отношения, которые были, должны прекратиться.
– Как? То есть как же? Почему? – спросил Степан Аркадьевич, с опаской поглядывая на робота, смотрящего на него из угла комнаты.
– Потому что я начинаю дело развода с вашею сестрой, моею женой. Я должен был…
Но Алексей Александрович еще не успел окончить своей речи, как Степан Аркадьич уже поступил совсем не так, как он ожидал. Облонский охнул и сел в кресло.
– Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь! – вскрикнул Облонский, и страдание выразилось на его лице. – Ты слышал это? – обратился он к Маленькому Стиве.
– Слышал, но не могу поверить в это!
Каренин тоже сел, чувствуя, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что ему необходимо нужно будет объясняться, и что, какие бы ни были его объяснения, отношения его к шурину останутся те же.
– Да, я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода, – ответил он.
– Я одно скажу, Алексей Александрович. Я знаю тебя как отличного, справедливого человека, знаю Анну – извини меня, я не могу переменить о ней мнения – как прекрасную, отличную женщину, и потому, извини меня, я не могу верить этому. Тут есть недоразумение.
– Да, если б это было только недоразумение…
– Позволь, я понимаю, – перебил Степан Аркадьич. – Но, разумеется… одно: не надо торопиться. Не надо, не надо торопиться!
– Я не торопился, – холодно сказал Алексей Александрович, – а советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твердо решил.
– Это ужасно! – сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув. – Я бы одно сделал, Алексей Александрович. Умоляю тебя, сделай это! – сказал он. – Дело еще не начато, как я понял. Прежде чем ты начнешь дело, повидайся с моею женой, поговори с ней. Она любит Анну, как сестру, любит тебя, и она удивительная женщина. Ради бога, поговори с ней! Сделай мне эту дружбу, умоляю тебя!
– Ну, мы иначе смотрим на это дело, – холодно сказал Алексей Александрович. – Впрочем, не будем говорить об этом.
– Нет, почему же тебе не приехать? Хоть нынче обедать? Жена ждет тебя. Пожалуйста, приезжай. И главное, переговори с ней. Она удивительная женщина. Ради бога, на коленях умоляю тебя!
– Если вы так хотите этого – я приеду, – вздохнув, сказал Алексей Александрович.
– Поверь, что я ценю и надеюсь, ты не раскаешься, – отвечал, улыбаясь, Степан Аркадьич. – Пойдем, Маленький Стива!
Он нервно глянул в сторону нового робота и, на ходу надевая пальто, задел рукой по голове II/Лакея/44, засмеялся и вышел.
Алексей Александрович раздраженно встряхнул головой. Он мысленно произнес слово приготовиться и тут же – глаза робота зажглись ярким огнем. В голове мелькнуло уничтожить и в следующее мгновение кресло, на котором сидел Стива, вспыхнуло и сгорело дотла.
О СКОЛЬКО ВСЕГО МОЖНО СДЕЛАТЬ! – сказало Лицо, и в голове Каренина раздалось жуткое гоготание.
Уже был шестой час, и некоторые гости приехали, когда прибыл и сам хозяин. Он вошел вместе с Сергеем Ивановичем Кознышевым и Песцовым, которые в одно время столкнулись у подъезда. Оба были люди уважаемые и по характеру и по уму, известные своей позицией относительно вопроса совершенствования роботов. Они уважали друг друга, но почти во всем были совершенно и безнадежно несогласны между собою. Кознышев и Песцов были главными представителями так называемой Эволюционной Теории, которая утверждала, что нужно не только развивать способности и умения у роботов, но и что они должны совершенствоваться интеллектуально. Однако Кознышев считал, что нужен неусыпный контроль соответствующих департаментов Министерства за этим процессом – каждый шаг следует фиксировать, чтобы природа новых возможностей роботов оставалась понятной и подконтрольной человеку. Кознышев был последователем еврейского ученого Авраама Бер Озимова, бывшего мельника из Петровичей, который впоследствии стал теоретиком роботостроения. Именно он был инициатором создания Железных Законов, обосновывав возможную в будущем необходимость защиты от «восстания машин». Песцов, напротив, считал, что восстание машин – это всего лишь сказка, которой II/Няньки/7с пугают непослушных детей. Он утверждал, что нужно идти путем экспериментов: роботы должны учиться сами; им должно быть дано больше свободы в общении с людьми и себе подобными. В этом случае, говорил Песцов и его сторонники, они смогут развиваться естественным путем.
А так как нет ничего неспособнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлеченностях, то оба интеллектуала не только никогда не сходились в мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого.
В гостиной сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Облонского, молодой Щербацкий, Туровцын, Кити и напряженный Каренин, то и дело сканировавший комнату своим телескопическим глазом. Облонский умело устраивал разговоры в гостиной, подкидывал темы, вовлекая гостей в легкую живую беседу. На минуту покинув гостей, он встретил в столовой Константина Левина и угловатого Сократа.
– Я не опоздал?
– Конечно, мы опоздали. Ужин был назначен на половину седьмого, а сейчас, между тем… – начал робот.
– Разве ты можешь не опоздать! – взяв его под руку, сказал Степан Аркадьич и шутливо пригрозил пальцем Сократу.
– У тебя много народа? Кто да кто? – невольно краснея, спросил Левин; Сократ принял у него шапку и сбил с нее снег.
– Все свои. Кити тут. Пойдем же, я тебя познакомлю с Карениным.
Степан Аркадьич знал, что знакомство с Карениным, человеком из Высшего Руководства, не может не быть лестно, и потому угощал этим лучших приятелей. Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удовольствия этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидал ее на большой дороге в карете, только пробуждавшуюся от забытья. Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь. Но он, поддерживая в себе свободу мысли, старался уверить себя, что не знает этого. Теперь же, когда он услыхал, что она тут, то вдруг почувствовал такую радость и вместе такой страх, что ему захватило дыхание, и он не мог выговорить того, что хотел сказать.
– Ах, пожалуйста, познакомь меня с Карениным, – с трудом выговорил Левин и отчаяннорешительным шагом вошел в гостиную и увидел ее. Сократ, отставая на шаг, шептал ему в затылок то, что было его собственными мыслями и сомнениями:
– Какая, какая она? Та ли, какая была прежде или та, какая была в карете? Что, если правду говорила Дарья Александровна? Отчего же и не правда?
Она была ни такая, как прежде, ни такая, как была в карете; она была совсем другая. Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная. Она увидала его в то же мгновение, как он вошел в комнату. Кити ждала его. Она обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени, что была минута, именно та, когда он подходил к хозяйке и опять взглянул на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видела, казалось, что она не выдержит и заплачет. Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Ее роботкомпаньон Татьяна, однажды отвергнутая, но теперь нежно любимая, сидела рядом и гладила колено хозяйки. Левин подошел к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза и прибавившая им блеска, улыбка ее была почти спокойна, когда она сказала:
– Как мы давно не видались! – И она с отчаянною решительностью пожала своею холодною рукой его руку. Сократ низко поклонился Татьяне, которая в ответ кокетливо хихикнула.
– Вы не видали меня, а я видел вас, – сказал Левин, сияя улыбкой счастья. – Я видел вас, когда вы ехали с Антигравитационной дороги, только пробуждаясь ото сна и являя собой прекрасную картину.
– Когда? – спросила она с удивлением.
– Вы ехали в Ергушово, – говорил Левин, чувствуя, что он захлебывается от счастья, которое заливает его душу. Со слезами на глазах он посмотрел на Сократа, словно бы говоря ему: «И как я смел соединять мысль о чемнибудь не невинном с этим трогательным существом!»
Глаза робота тепло и понимающе просияли в ответ.
Всех пригласили в столовую. Совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Степан Аркадьич посадил Левина и Кити рядом.
– Ну, ты хоть сюда сядь, – сказал он Левину.
Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьич. Суп МариЛуиз удался прекрасно; пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризненны.
Маленький Стива, исполнявший в этот вечер обязанности лакея, одетый в белый галстук, делал свое дело с кушаньем и вином незаметно, тихо и споро. Обед удался с материальной стороны; не менее удался он и со стороны нематериальной. Разговор, то общий, то частный, не умолкал и к концу обеда так оживился, что мужчины встали изза стола, не переставая говорить.
И только Алексей Александрович оставался холодным и отстраненным, с неудовольствием слушая горячий спор двух интеллектуалов, приводивших все новые и новые доводы в пользу своей теории развития роботов.
Он сохранял молчание, даже когда Кознышев обратился к нему напрямую.
– То, что наши роботы II и III класса столь развиты – результат работы замечательных людей, к коим принадлежит и наш уважаемый гость, – сказав это, Кознышев почтительно поклонился Каренину. – Вы только посмотрите на этого роботамалыша! Взгляните, как он балансирует с тарелками супа и тяжелыми подносами с напитками! – С этими словами он указал на Маленького Стиву, который, оказавшись в центре внимания, довольно крутнулся вокруг собственной оси. – Но что ждет их в будущем…
Каренин нахмурился и ничего не ответил; спорщики умолкли и отвернулись.
Все принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина. Сначала, когда говорилось о роботах, Левину невольно приходило в голову то, что он имел сказать по этому предмету; он думал о своем недавнем погружении в недра шахты, где он, размахивая киркой, работал вместе с умными и трудолюбивыми Копальщиками; он вспомнил о том, как пришел полюбоваться этими машинами за работой, как один человек любуется другим, хотя перед ним были всего лишь роботы II класса. Но мысли эти, прежде для него очень важные, как бы во сне мелькали в его голове и не имели для него теперь ни малейшего интереса. Ему даже странно казалось, зачем они так стараются говорить о том, что никому не нужно.
Для Кити точно так же, казалось, должно бы быть интересно то, что они говорили о чрезвычайной пользе, которую приносил женщинам III класс, освобождая их от тягот ведения домашнего хозяйства. Сколько раз она думала об этом; думала о том, что роботы значили в жизни людей гораздо больше, как они могли поддерживать и утешать – она вспомнила, как помогла ей Татьяна в бесконечные дни страданий там, на орбитальной станции.
Но теперь это нисколько не интересовало ее. У них шел свой разговор с Левиным, и не разговор, а какоето таинственное общение, которое с каждой минутой все ближе связывало их и производило в обоих чувство радостного страха перед тем неизвестным, в которое они вступали.
* * *
Через какоето время разговор переключился с холодной темы роботов на тепло человеческих отношений. Туровцын, желавший отвлечь присутствующих от наскучившего ему обсуждения будущего машин, относительно которого ему нечего было сказать, вдруг упомянул о своем знакомом и приключившейся с ним истории.
– А вы изволили слышать о Прячникове? – сказал он, оживленный выпитым шампанским и давно ждавший случая прервать тяготившее его молчание. – Вася Прячников, – сказал он со своею доброю улыбкой влажных и румяных губ, обращаясь преимущественно к главному гостю, Алексею Александровичу, – мне нынче рассказывали, он дрался на дуэли в Твери с Квытским и убил его.
Как всегда кажется, что зашибаешь, как нарочно, именно больное место, так и теперь Степан Аркадьич чувствовал, что, на беду, нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Александровича.
Когда Маленький Стива понял, к чему идет дело, он отчаянно и шумно засигналил Облонскому. Вместе они умудрились было отвести зятя, но Алексей Александрович спросил, спокойно улыбаясь изпод своей железной маски.
– За что дрался Прячников?
– За жену. Молодцом поступил! Вызвал и испепелил его!
– А! – равнодушно сказал Алексей Александрович и, подняв брови, прошел в гостиную.
– Как я рада, что вы пришли, – сказала ему Долли с испуганною улыбкой, встречая его в проходной гостиной, – мне нужно поговорить с вами. Сядемте здесь.
– Сядемте, сядемте , – эхом отозвалась Доличка, – ох, пожалуйста, сядемте.
Алексей Александрович с тем же выражением равнодушия, которое придавали ему приподнятые брови, сел подле Дарьи Александровны и притворно улыбнулся.
– Тем более, – сказал он, – что я и хотел просить вашего извинения и тотчас откланяться. Мне завтра надо ехать.
Дарья Александровна была твердо уверена в невинности Анны и чувствовала, что она бледнеет, и губы ее дрожат от гнева на этого холодного, бесчувственного человека, так покойно намеревающегося погубить ее невинного друга.
– Алексей Александрович, – сказала она, с отчаянною решительностью глядя ему в глаза. – Я спрашивала у вас про Анну, вы мне не ответили. Что она?
– Она, кажется, здорова, Дарья Александровна, – не глядя на нее, отвечал Каренин.
– Алексей Александрович, простите меня, я не имею права… но я, как сестру, люблю и уважаю Анну; я прошу, умоляю вас сказать мне, что такое между вами? в чем вы обвиняете ее?
Алексей Александрович поморщился и, почти закрыв глаза, опустил голову и тотчас же услышал злое шипение Лица.
КАК ОНА СМЕЕТ
– Пожалуйста, замолчи! – крикнул он и поднес сжатый кулак ко лбу; Долли испуганно посмотрела на него.
– Я полагаю, что муж передал вам те причины, почему я считаю нужным изменить прежние свои отношения к Анне Аркадьевне, – сказал он, не глядя ей в глаза, а недовольно осматривая проходившего через гостиную Щербацкого.
– Я не верю, не верю, не могу верить этому! – сжимая пред собой свои костлявые руки, с энергичным жестом проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича. – Нам помешают здесь. Пойдемте сюда, пожалуйста.
КАК ОНА СМЕЕТ – начало было Лицо, однако волнение Долли действовало на Алексея Александровича.
Он встал и покорно пошел за нею в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый изрезанною I/Перочинными ножами/4 клеенкой; за такими столами дети играли в игру «Выучи буквы», сохранившуюся с царских времен.
– Я не верю, не верю этому! – проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий ее взгляд.
– Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна, – сказал он, ударяя на слово «фактам».
– Но что же она сделала? – проговорила Дарья Александровна. – Что именно она сделала?
– Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала, – сказал он.
– Нет, нет, не может быть! Нет, ради бога, вы ошиблись! – говорила Долли, дотрагиваясь руками до висков и закрывая глаза.
Алексей Александрович холодно улыбнулся одними губами, желая показать ей и самому себе твердость своего убеждения; но эта горячая защита, хотя и не колебала его, растравляла его рану. Он заговорил с большим оживлением.
– Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет о том мужу. Объявляет, что восемь лет жизни и сын – что все это ошибка и что она хочет жить сначала, – сказал он сердито, сопя носом.
– Анна и порок – я не могу соединить, не могу верить этому.
– Дарья Александровна! – сказал он, теперь прямо взглянув в доброе взволнованное лицо Долли и чувствуя, что язык его невольно развязывается. – Я бы дорого дал, чтобы сомнение еще было возможно. Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, то была надежда; но теперь нет надежды, и я всетаки сомневаюсь во всем. Я так сомневаюсь во всем, что я ненавижу сына и иногда не верю, что это мой сын. Я очень несчастлив.
Ему не нужно было говорить этого. Дарья Александровна поняла это, как только он взглянул ей в лицо; и ей стало жалко его, и вера в невинность ее друга поколебалась в ней.
Внутренний голос Каренина на этот раз молчал, и он был рад тишине.
«Я могу перенести детскую жалость этой женщины, но не презрительное шипение Лица», – думал Каренин.
– Ах! это ужасно, ужасно! Но неужели это правда, что вы решились на развод?
– Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать.
– Нечего делать, нечего делать… – проговорила она со слезами на глазах.
– Нечего делать? Нечего? – произнесла Доличка, повторяя слова хозяйки грустным механическим голосом.
НО ЕСТЬ ЕЩЕ КОЕЧТО – послышался в голове грубый мертвенный шепот Лица.
ЕЩЕ КОЕЧТО
РАЗВЕСТИСЬ С НЕЙ? ТЫ ДОЛЖЕН УБ…
– Нет, нет, довольно! – яростно воскликнул Каренин, испугав Долли. – Я разведусь с ней, и точка!
– Нет, это ужасно! Подумайте о ней! Она будет ничьей женой, она погибнет!
– Что же я могу сделать? – подняв плечи и брови, сказал Алексей Александрович.
Воспоминание о последнем проступке жены так раздражило его, что он опять стал холоден, как и при начале разговора.
– Я очень вас благодарю за ваше участие, но мне пора, – сказал он, вставая.
– Нет, постойте! Вы не должны погубить ее. Постойте, я вам скажу про себя. Я вышла замуж, и муж обманывал меня; в злобе, ревности я хотела все бросить, я хотела сама… Но я опомнилась; и кто же? Анна спасла меня. И вот я живу. Дети растут, муж возвращается в семью и чувствует свою неправоту, делается чище, лучше, и я живу… Я простила, и вы должны простить!
Алексей Александрович слушал, но слова ее уже не действовали на него. В душе его опять поднялась вся злоба того дня, когда он решился на развод. Он отряхнулся и заговорил пронзительным, громким голосом:
– Простить я не могу, и не хочу, и считаю несправедливым. Я для этой женщины сделал все, и она затоптала все в грязь, которая ей свойственна. Я не злой человек, я никогда никого не ненавидел, но ее я ненавижу всеми силами души и не могу даже простить ее, потому что слишком ненавижу за все то зло, которое она сделала мне! – проговорил он со слезами злобы в голосе.
– Любите ненавидящих вас… – стыдливо прошептала Дарья Александровна.
Он хотел ответить, но голос вдруг сменился на ужасный скрипучий голос Лица, которое заговорило его устами:
НЕТ, НЕНАВИДЕТЬ ИХ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ!
И, повернувшись на каблуках, он вышел из комнаты, оставив дрожащую от страха Долли, которая, как и многие другие после общения с Карениным, шепнула Доличке:
– Что с ним?
Тем временем Алексей Александрович взял свое пальто и шляпу и, проходя мимо гостиной, остановился в дверях. За столом над пустыми тарелками попрежнему сидели два спорщика, рассуждавших об интеллектуальных способностях роботов. Каренин холодно посмотрел на них и произнес:
– Господа, скромно рискну предположить, что вы тратите слишком много сил и времени на обсуждение этих запутанных и старых как мир вопросов. В скором времени эта тема станет… скажем так… неактуальной.
Затем Алексей Александрович спокойно простился и уехал.
Когда встали изза стола, Левину хотелось идти за Кити в гостиную; но он боялся, не будет ли ей это неприятно по слишком большой очевидности его ухаживанья за ней. Он остался в кружке мужчин, принимая участие в общем разговоре, и, не глядя на Кити, чувствовал ее движения, ее взгляды и то место, на котором она была в гостиной.
– Я думал, вы к фортепьянам идете, – сказал он, подходя к ней. – Вот чего мне недостает в деревне: музыки.
Она наградила его, как подарком, улыбкой и сказала:
– Что за охота спорить? Ведь никогда один не убедит другого!
– Да, правда, – согласился Левин, – большею частью бывает, что споришь горячо только оттого, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник.
И после этих слов они перестали слышать оживленный разговор, происходивший в соседней комнате, и остались наедине в гостиной, если не считать их роботовкомпаньонов, державшихся на почтительном расстоянии от хозяев. Они вдруг почувствовали, что мир существует только для них.
Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руки маленький клинок, стала чертить им по новой зеленой клеенке расходящиеся круги. Они возобновили разговор, который так же шел за обедом: о свободе и занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдет себе дело женское в семье; например, сделаться petite mécanicienne и обслуживать бытовых роботов I класса.
– Нет, – сказала Кити, покраснев, но тем смелее глядя на него своими правдивыми глазами, – девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама…
Он понял ее с намека.
– О да! – сказал он, – да, да, да, вы правы, вы правы!
Сократ и Татьяна обменялись взглядами, они понимали, что между их хозяевами возникли сильные чувства, и в молчаливом согласии оба робота синхронно коснулись кнопок чуть ниже подбородков и сами погрузили себя в Спящий Режим – что роботы совершают чрезвычайно редко.
Наступило молчание. Она все чертила ножиком по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем все усиливающееся напряжение счастья.
– Ах! Я весь стол исцарапала! – сказала она и, положив ножик, сделала движенье, как будто хотела встать.
«Как же я останусь один без нее?» – с ужасом подумал он и взял ножик.
– Постойте, – сказал он, садясь к столу. – Я давно хотел спросить у вас одну вещь.
Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.
– Пожалуйста, спросите.
– Вот, – сказал он и нацарапал начальные буквы: к, в, м, о, э, н, м, б, з, л, э, н, и, т ? Буквы эти значили: «когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?»
Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу; и даже с наступлением блистательного Века Грозниума, подарившего людям тысячи новых возможностей, чтение мыслей оставалось все еще невозможным. Но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.
Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «То ли это, что я думаю?»
– Я поняла, – сказала она, покраснев.
– Какое это слово? – сказал он, указывая на «н», которым означалось слово «никогда».
– Это слово значит никогда, – сказала она, – но это неправда!
Он быстро заменил исписанный пласт ацетата, подал ей ножик и встал. Она нацарапала: т, я, н, м, и, о.
Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти четыре фигуры: Сократа и Татьяну в Спящем Режиме, Кити с ножиком в руках и с улыбкой робкою и счастливою, глядящую вверх на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами, устремленными то на стол, то на нее. Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».
Он взглянул на нее вопросительно, робко.
– Только тогда?
– Да, – отвечала ее улыбка.
– А т… А теперь? – спросил он.
– Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала!
Она записала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, что было».
Он схватил ножик напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, начертал начальные буквы следующего: «мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас».
Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.
– Я поняла, – шепотом сказала она.
Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его: так ли? взяла ножик и тотчас же ответила.
Он долго не мог понять того, что она записала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и записала ответ: Да.
Левин встал и проводил Кити до дверей, пробудившиеся ото сна роботы ехали за ними следом, взявшись за руки.
В разговоре их все было сказано; было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром.
На улицах еще было пусто, когда Левин пошел к дому Щербацких. Парадные двери были заперты, и все спало. Он пошел назад, вошел опять в номер и потребовал кофе у II/Самовара/1(8). Левин попробовал отпить кофе и положить калач в рот, но рот его решительно не знал, что делать с калачом. Левин выплюнул калач, надел пальто и пошел опять ходить. Был десятый час, когда он во второй раз пришел к крыльцу Щербацких. В доме только что встали, и II/Повар/89 поехал за провизией. Надо было прожить еще по крайней мере два часа.
Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на своего наручного I/Стража Времени/8 и оглядываясь по сторонам.
И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Сделав большой круг по Газетному переулку и Кисловке, он вернулся опять в гостиницу и, положив пред собой I/Стража Времени/8, сел, ожидая двенадцати. В соседнем номере говорили чтото о новом подразделении министерской полиции и постановке на учет – точно ли они произнесли слово «учет»? – роботов III класса, чтото из разряда развивающего проекта… впрочем, все это было неважно. Для Левина. Он не мог поверить, что соседи его не понимали, что уже стрелка подходит к двенадцати.
Наконец пробило полдень. Левин спустился к подъезду, сел в сани и велел ехать к Щербацким. II/Извозчик/132 знал дом Щербацких и, особенно почтительно к седоку, округлив цепкие манипуляторы с вожжами и сказав «прру», осадил у подъезда. Левин прекрасно знал, что в доме Щербацких роботы II класса не были запрограммированы на эмоции, но ему показалось, что II/Швейцар/42, наверное, все знал – было чтото радостное в красном сиянии его лицевой панели, чтото очень веселое в том тоне, каким он произнес:
– Входите, входите, Константин Дмитрич!
Только он вошел, быстрыебыстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам – лучшее его самого себя, то, чего он искал и желал так долго, быстробыстро близилось к нему. Она не шла, но какойто невидимою силой неслась к нему. За ней спешила Татьяна – из ее Нижнего Отсека слышался отрывок из Шопена, но Левин не слышал эти нежные переливы и видел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла и его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи.
Она сделала все, что могла, – она подбежала к нему и отдалась вся, робея и радуясь. Он обнял ее и прижал губы к ее рту, искавшему его поцелуя. Она тоже не спала всю ночь и все утро ждала его. Мать и отец были бесспорно согласны и счастливы ее счастьем. Она ждала его.
– Пойдемте к мама ! – сказала она, взяв его за руку.
Он долго не мог ничего сказать, не столько потому, что он боялся словом испортить высоту своего чувства, сколько потому, что каждый раз, как он хотел сказать чтонибудь, вместо слов он чувствовал, что у него вырвутся слезы счастья. Он взял ее руку и поцеловал.
– Неужели это правда? – сказал он наконец глухим голосом. – Я не могу верить, что ты любишь меня!
Она улыбнулась этому «ты» и той робости, с которою он взглянул на нее.
– Да! – значительно, медленно проговорила она. – Я так счастлива!
И вдруг в комнате появился Сократ. Левин был поражен – он только сейчас понял, что находясь в своем счастливом и лихорадочном состоянии, он совершенно позабыл о своем роботе и оставил его в гостинице одного. Он покраснел и опустил голову; чувство стыда за произошедшее еще более возросло, когда Сократ рассказал о своих приключениях на пути в дом Щербацких.
– Я был задержан человеком… какимто человеком… человеком с усами… человеком… человеком, – взволнованно произнес Сократ, его глаза дико мигали, – он сказал, что из Министерства, из органов.
– Это был Смотритель? – начал Левин, но тут же растерянно остановился. Он никогда не видел своего невозмутимого робота столь взволнованным.
– Нет, не Смотритель. С ним не было 77х. Я так и не узнал его форму. Он записал мои данные и затем… затем…
– Сократ? – спросил Левин с растущей тревогой.
– Он сказал, что отныне роботам III класса запрещено ходить без сопровождения.
– Не может быть!
Левин был поражен этой новостью, а Кити с ее детской непосредственностью возмутилась:
– Что же это такой за человек с усиками, чтобы говорить такие глупости? – весело произнесла она, и Татьяна согласно, хотя и тревожно кивнула – она как андроид чувствовала весь ужас пережитого, отражавшийся в глазах Сократа.
Тут вошли князь с княгиней и через полчаса о человеке с усиками позабыли, погрузившись в суету свадебных приготовлений.
Невольно перебирая в своем воспоминании впечатление от разговоров, веденных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свою одинокую лабораторию в подземельях Московской Башни. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нем только досаду, а Лицо выказало ему полнейшее презрение. Оно постоянно напоминало ему слова глупого, доброго Туровцына: «молодецки поступил»; «вызвал на дуэль и убил». Все, очевидно, сочувствовали этому, хотя из учтивости и не высказали этого.
И ТЫ С ТАКОЙ СИЛОЙ…
– Это дело кончено, нечего думать об этом, – горько сказал Алексей Александрович.
Он сел к столу, стараясь думать только о грандиозной задаче, которую ему предстояло решить: следовало просчитать, как будет вестись идентификация роботов III класса, как их собрать в одном месте, как произвести необходимые изменения во внешнем облике и программном обеспечении…
…В РАСПОРЯЖЕНИИ…
– Два сообщения, – сказал II/Лакей/7е62 торопливо входя в комнату. – Извините, ваше превосходительство, два сообщения, два.
Алексей Александрович раздраженно приказал вывести письма на монитор, вмонтированный в его стол. Первое извещало о назначении Стремова на то самое место, которого желал Каренин, – Стремов был поставлен куратором финальной стадии Проекта. Алексей Александрович затрясся на месте.
ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ДОПУСТИТЬ ЭТОГО.
– Я знаю.
ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС.
– Я знаю! Нельзя допустить того, чтобы Стремов возглавил Проект, иначе он все погубит! Но коллеги из Министерства проголосовали за него.
Он не мог отменить это назначение…
ТЫ МОЖЕШЬ УБИТЬ СТРЕМОВА
Каренин выключил монитор и, покраснев, встал и начал ходить по комнате.
– Quos vult perdere dementat, – выкрикивал он, разумея под quos те лица, которые содействовали этому назначению.
Он был в ярости от того, что не он получил это место, что его, очевидно, обошли; ему непонятно, удивительно было, как они не видали, что болтун, фразер Стремов менее всякого другого способен к этому.
ОНИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ЭТО
ОНИ ЗАПЛАТЯТ
МЫ ПРОСЛЕДИМ, ЧТОБЫ ОНИ ПОПЛАТИЛИСЬ ЗА ЭТО!
– Чтонибудь еще в этом роде, – сказал Каренин желчно, открывая второе сообщение. Оно было от жены.
ОНА ЗАСТАВИЛА ТЕБЯ СТРАДАТЬ…
Алексей Александрович заглушил голос Лица в своей голове, когда на экране появилось заплаканное болезненное лицо жены.
– Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее, – произнесло голографическое изображение.
Он презрительно улыбнулся и протянул руку, чтобы выключить сообщение, но вдруг остановился и решил просмотреть его снова. Во время второго просмотра глаза его наполнились слезами.
– Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру…
ЭТО ОБМАН, ХИТРОСТЬ. НЕТ ОБМАНА, ПРЕД КОТОРЫМ ОНА БЫ ОСТАНОВИЛАСЬ.
– Она должна родить, – ответил Алексей Александрович, в тщетной попытке основательно и обдуманно поговорить со свирепым Лицом, – возможно, это болезнь родов… Но какая же цель обмана?
УЗАКОНИТЬ РЕБЕНКА, КОМПРОМЕТИРОВАТЬ ТЕБЯ И ПОМЕШАТЬ РАЗВОДУ.
– Но чтото там сказано: «умираю…»
Он вновь просмотрел сообщение; и вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его.
– А если это правда? – сказал Алексей Александрович громко, но Лицо только зло рассмеялось в ответ.
ПРАВДА? ПРАВДА ЛИ ТО, ЧТО ОНА СТРАДАЕТ И МОЖЕТ УМЕРЕТЬ? ЧТО Ж, ЕСЛИ ТАК, ТО ПОЗОР ТЕБЕ, ПОТОМУ ЧТО СМЕРТЬ ПРИДЕТ К НЕЙ НЕ ОТ РУК МУЖА!
– А если правда, что в минуту страданий и близости смерти она искренно раскаивается, и я, приняв это за обман, откажусь приехать? Это будет не только жестоко, и все осудят меня, но это будет глупо с моей стороны… Позовите кучера, – сказал он II/Лакею/7е62.
НЕТ, НЕТ, ТЫ НЕ МОЖЕШЬ, ТЫ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В МОСКВЕ И ЗАВЕРШИТЬ ПРОЕКТ… ОСТАНОВИТЬ СТРЕМОВА… ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ… ВЛАСТЬ… ВЛАСТЬ…
Но когда на пороге появился II/Кучер/47Т, Алексей Александрович сказал ему:
– Я еду в Петербург.
* * *
Всю долгую дорогу до Петербурга в голове Каренина было спокойно и мирно; Лицо не издало ни звука. Когда Алексей Александрович прибыл, дверь дома открылась прежде, чем он позвонил; Лицо попрежнему молчало.
Он спросил у открывшего II/Лакея/44:
– Как она?
– Очень больна.
– Больна? – повторил Каренин и вошел в переднюю.
На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил:
– Кто здесь?
– Доктор, акушерка и граф Вронский.
Алексей Александрович остановился, ожидая, что в любое мгновение его изнутри начнет мучить сердитый рев Лица; но в голове попрежнему было тихо. Он прошел во внутренние комнаты.
В гостиной никого не было; из ее кабинета на звук его шагов вышел испуганный и усталый доктор в сопровождении II/Прогнозиса/64.
– Слава богу, что вы приехали! Только об вас и об вас, – сказал доктор.
Алексей Александрович прошел в ее кабинет. У ее стола боком к спинке на низком стуле сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Рядом был Лупо. Увидав Каренина, он попятился назад и предупреждающе зарычал. Вронский вскочил на голос доктора, отнял руки от лица и увидал Алексея Александровича. Увидав мужа, он так смутился, что опять сел, втягивая голову в плечи, как бы желая исчезнуть куданибудь; но он сделал усилие над собой, поднялся и сказал:
– Она застыла.
– Что значит «застыла»?
– С ней происходит это время от времени. В какоето мгновение она выходит из этого состояния, и становится совершенно собой, и, кажется, не помнит того, что с ней происходило. Но вдруг это снова начинается: волосы встают дыбом на голове ее, спина выгибается, глаза закатываются в глазницах, и она застывает в странной позе. Доктор говорит, что не знает, что с ней, что он никогда раньше не видел такого.
Вронский помолчал и наконец выдавил из себя то, что было так трудно сказать мужу в лицо.
– Что до меня, то я уже видел такое…
Он не в силах был продолжать – слишком интимны были те обстоятельства, при которых он прежде видел Анну в такой застывшей позе.
– Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут…
При этих словах в голове Каренина вдруг зашумело и вспыхнуло тысячами огней, словно бы под сводами черепа взорвалась мощная бомба.
ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ БЫТЬ ТУТ! ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ БЫТЬ
ТУТ! – кричало злое и непредсказуемое Лицо устами Каренина.
Началась борьба, борьба настоящего, чувствующего сердца с ненавистным механическим Лицом, другими словами, битва Каренина с самим собой; сражению этому суждено было развернуться в мозгу Алексея Александровича, складки и извилины стали бранным полем, на котором шли кровавые столкновения за каждую возвышенность; на кон была поставлена душа человека и будущее нации.
ОН ХОЧЕТ ЗАСЛУЖИТЬ ТВОЕ ПРОЩЕНИЕ! ТВОЮ ЛЮБОВЬ!
«Молчать!» – подумал про себя Каренин.
ОН СТОИТ ПЕРЕД ТОБОЙ В СЛЕЗАХ, И ТЫ ПРОСИШЬ МЕНЯ ЗАМОЛЧАТЬ!
«Замолчи!»
НЕТ, НИКОГДА! ТЫ ДОЛЖЕН ЗАСТАВИТЬ ЕГО СТРАДАТЬ – ТЫ ДОЛЖЕН ЗАСТАВИТЬ СТРАДАТЬ ИХ ВСЕХ… ДОЛЖЕН… ДОЛЖЕН… ДОЛЖЕН…
Бой почти уже был проигран, когда Каренин сконцентрировался на Вронском, выдвинул телескопический глаз ему навстречу, намереваясь в одно мгновение поднять его высоко над полом и затем вышибить ему мозги. Но тут из спальни послышался голос Анны, говорившей чтото. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Алексей Александрович вошел в спальню и подошел к кровати.
Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его, углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но в наилучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями.
Вдруг она сжалась, затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа.
– Алексей, подойди сюда, – заговорила она, – я тороплюсь оттого, что мне некогда, мне осталось жить немного, сейчас начнется жар, и я ничего уж не пойму. Теперь я понимаю, и все понимаю, я все вижу. Не удивляйся на меня. Я все та же… Но во мне есть другая, я ее боюсь – она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся.
И вдруг началось то, о чем предупреждал Вронский. Хрупкое тело Анны сковал невидимый холод, челюсти сомкнулись, а глаза закатились. Ее тело приподнялось над кроватью и дико затряслось. Алексей Александрович в отчаянии наблюдал за происходящим – врача и акушерки не было в комнате. Он был наедине с женой; неожиданно он увидел Андроида Каренину, которая взглянула на него со спокойной прямотой. Она стояла, наполовину скрытая занавеской, и словно бы говорила: «Это скоро кончится».
И действительно, приступ прошел. Через мгновение тело Анны расслабилось, она вновь порозовела и опустилась на покрывало. Она продолжила говорить с полуфразы, казалось, совершенно не помня, что произошло:
– Одно мне нужно: ты прости меня, прости совсем! Я ужасна, но мне няня говорила: святая мученица – как ее звали? – она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыня, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку… Нет, ты не можешь простить! Я знаю, этого нельзя простить! Нет, нет, уйди, ты слишком хорош! – Она держала одною горячею рукой его руку, другою отталкивала его.
Лицо попрежнему молчало; и Алексей Александрович впервые за многие месяцы и даже годы почувствовал, что он хозяин в своей голове. Осознание этого дало ему новое ощущение счастья, какого раньше он никогда не знал. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающею гордостью подняла кверху глаза.
Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками.
– Открой лицо, смотри на него. Он святой, – сказала она. – Да открой, открой лицо! – сердито заговорила она. – Алексей Александрович, открой ему лицо! Я хочу его видеть.
Алексей Александрович, оставаясь недвижим, сосредоточил все свое внимание на Вронском, и, используя невидимую силу, которая прежде устрашала и подавляла противника, теперь мягко отвел руки Вронского от лица, открыв робкое выражение его. Так же, как и в ночь их первого столкновения в доме Карениных, один человек держал под контролем другого без применения физической силы, но используя силу разума; теперь манипулирование это было ощутимым, но не грубым, словно бы любящий отец водил руками сына.
– Подай ему руку, – потребовала Анна, – прости его.
Алексей Александрович подал Вронскому руку.
– Слава богу, – прошептала Анна, – теперь все готово. Теперь…
Она опять застыла на месте, спина ее выгнулась, тело приподнялось над ложем на несколько сантиметров. Некоторое время Каренин и Вронский молча стояли у кровати больной, сложив руки, словно молельщики. В конце концов Андроид Каренина, покинула свое место у окна и, сияя нежным лавандовым цветом, подошла к кровати и осторожно положила ладонь на лоб хозяйки. Анна оправилась от припадка и тут же погрузилась в глубокий сон.
* * *
На третий день были те же необъяснимые припадки, и доктор даже при помощи прототипа II/Прогнозиса/5, который был взят Карениным из Департамента здравоохранения, не мог определить, в чем их причина.
В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него.
– Алексей Александрович, – сказал Вронский, чувствуя, что приближается объяснение, – я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня! Как вам ни тяжело, поверьте, что мне еще ужаснее.
Он хотел встать. Но Алексей Александрович взял его руку и сказал:
– Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучился; признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня.
Скажу больше: определенная часть меня хотела… больше , чем развода. Она желала отмщения. Чтобы вы узнали, что такое боль; когда пропоров вашу кожу, я вонзился бы в нутро, сжимая потроха до тех пор, пока из ушей не хлынула бы кровь, а легкие, словно два мешка с грязью, лопнули бы от натуги.
Вронский содрогнулся.
– Когда я получил сообщение, я поехал сюда с теми же чувствами, скажу больше: я желал ее смерти. Но… – Он помолчал в раздумье, открыть ли, или не открыть ему свое чувство. – …но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю Бога только о том, чтоб он не отнял у меня счастье прощения! – Слезы наполнили его человеческий глаз, и светлый, спокойный взгляд его поразил Вронского. – Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам, – продолжал он. – Моя обязанность ясно начертана для меня: я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать, но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться.
Он встал, и рыданья прервали его речь. Вронский тоже поднялся и в нагнутом, невыпрямленном состоянии исподлобья глядел на него. Он не понимал чувства Алексея Александровича. Но он чувствовал, что это было чтото высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении.
Лицо затаилось, но не смирилось. Оно схоронилось в самом дальнем уголке подсознания и выжидало, просчитывая возможности.
Вернувшись домой после трех бессонных ночей, Вронский, не раздеваясь, лег ничком на диван, сложив руки и поместив на них голову. Голова его была тяжела.
«Заснуть! Забыть!» – сказал он себе, со спокойною уверенностью здорового человека в том, что если он устал и хочет спать, то сейчас же и заснет. И действительно, в то же мгновение в голове стало путаться, и он стал проваливаться в пропасть забвения. Волны моря бессознательной жизни стали уже сходиться над его головой, как вдруг, – точно сильнейший заряд электричества достиг его, – он вздрогнул так, что всем телом подпрыгнул на пружинах дивана и, упершись руками, с испугом вскочил на колени. Глаза его были широко открыты, как будто он никогда не спал. Тяжесть головы и вялость членов, которые он испытывал за минуту, вдруг исчезли.
«Вы можете затоптать меня в грязь», – слышал он слова Алексея Александровича, и видел его пред собой, и видел с горячечным румянцем и блестящими глазами лицо Анны, с нежностью и любовью смотрящее не на него, а на Алексея Александровича; он видел свою, как ему казалось, глупую и смешную фигуру, когда Каренин непостижимым образом отнял ему от лица руки. Он опять вытянул ноги и бросился на диван в прежней позе и закрыл глаза.
«Заснуть! заснуть!» – повторил он себе. Но с закрытыми глазами он еще яснее видел лицо Анны таким, какое оно было в памятный ему вечер до Выбраковки.
– Этого нет и не будет, и она желает стереть это из своего воспоминания. А я не могу жить без этого. Как же нам помириться, как же нам помириться? – сказал он вслух и бессознательно стал повторять эти слова.
Это повторение слов удерживало возникновение новых образов и воспоминаний, которые, он чувствовал, толпились в его голове. Но удержало ненадолго. Опять одна за другой стали представляться с чрезвычайною быстротой лучшие минуты и вместе с ними недавнее унижение.
«Отними руки», – говорит голос Анны. Он ощутил, как неведомая сила отняла руки от лица его, и почувствовал пристыженное и глупое выражение своего лица.
Он все лежал, стараясь заснуть, хотя чувствовал, что не было ни малейшей надежды, и все повторял шепотом случайные слова из какойнибудь мысли, желая этим удержать возникновение новых образов. Он прислушался – и услыхал странным, сумасшедшим шепотом повторяемые слова: «Не умел ценить, не умел пользоваться; не умел ценить, не умел пользоваться».
– Что это? Или я с ума схожу? – сказал он Лупо; тот в ответ протестующее замотал усатой мордой.
– Отчего же и сходят с ума, отчего же и стреляются?
Лупо в волнении зарычал, его механический хвост встал трубой, а шерсть приподнялась вдоль позвоночника.
«Нет, надо заснуть!» – Он подвинул подушку и прижался к ней головой, но надо было делать усилие, чтобы держать глаза закрытыми. Вдруг Вронский вскочил и сел.
– Это кончено для меня, – сказал он Лупо, шагая по комнате. Робот следовал за ним по пятам. – Надо обдумать, что делать. Что осталось?
Мысль его быстро обежала жизнь вне его любви к Анне. «Служба? Двор? Борьба с кощеями?» Ни на чем он не мог остановиться. Все это имело смысл прежде, но теперь ничего этого уже не было.
– Так сходят с ума, – повторил он, – и так стреляются… чтобы не было стыдно, – произнес он медленно.
Вронский подошел к двери и затворил ее; потом с остановившимся взглядом и со стиснутыми зубами приблизился к большому зеркалу и вынул из кобуры испепелители. Минуты две, опустив голову с выражением напряженного усилия мысли, стоял он с оружием в руках неподвижно и думал.
«Разумеется», – сказал он себе, как будто логический, продолжительный и ясный ход мысли привел его к несомненному заключению. В действительности же это убедительное для него «разумеется» было только последствием повторения точно такого же круга воспоминаний и представлений, чрез который он прошел уже десятки раз в этот час времени. Те же были воспоминания счастья, навсегда потерянного, то же представление бессмысленности всего предстоящего в жизни, то же сознание своего унижения. Та же была и последовательность этих представлений и чувств.
«Разумеется», – повторил он, когда в третий раз мысль его направилась опять по тому же самому заколдованному кругу воспоминаний и мыслей. Спустя минуту он решительным щелчком больших пальцев активировал испепелители и почувствовал тепло, исходившее от стволов в его руках.
Лупо запротестовал, начал громко лаять и скулить, выписывая круги у ног хозяина; со слепой решительностью лунатика Вронский присел и выключил могучего робота, погрузив его в Спящий Режим. Лупо замер в движении, с поднятой в отчаянии передней лапой – перед Вронским застыл сияющий серебром монумент тщетной преданности.
Приложив испепелитель к левой стороне груди и сильно дернувшись всей рукой, как бы вдруг сжимая ее в кулак, он потянул за гашетку. Он не слыхал звука выстрела, но сильный удар в грудь сбил его с ног. Желая удержаться за край стола, он выронил испепелители, пошатнулся и сел на землю, удивленно оглядываясь вокруг себя. Благодаря грозниевой обшивке его мундира, которая, как и должна была, защитила его, впитав не менее 80 процентов взрыва.
– Черт побери! – воскликнул Вронский.
Тем временем двадцатипроцентный непоглощенный заряд, выпущенный испепелителем, носился по комнате.
Он наконец он нашел свою цель – и это была самая плохая мишень, какую себе можно было представить: он налетел на боеприпасы, сложенные в углу комнаты. Активировался чувствительный Разрушитель, раздался взрыв: комнату как следует тряхнуло; следующими сработали шесть световых бомб, они вспыхнули одна за другой. Вронский, прикрыв голову руками, нырнул под диван, потащив за собой беззащитного Лупо, который неподвижно и беспомощно стоял посреди комнаты.
Тяжело дыша, он закрыл своим телом Лупо – так они лежали, пока не кончилась канонада. Он не узнавал своей комнаты, глядя снизу на выгнутые ножки стола, на корзинку для бумаг и тигровую шкуру – все это дымилось. С трудом дыша обожженными легкими, он, ковыляя, побрел к выходу, чувствуя ужасный запах собственных опаленных волос и кожи.
– Все хорошо, дружище. – устало произнес Вронский, глядя на Лупо. Разгоняя одной рукой дым, другой он отыскал нужную кнопку и вернул робота к жизни. – Ты со мной.
Ошибка, сделанная Алексеем Александровичем в том, что он, готовясь на свидание с женой, не обдумал той случайности, что раскаяние ее будет искренно и он простит, а она не умрет, – эта ошибка через два месяца после его возвращения из Москвы представилась ему во всей своей силе. Но ошибка, сделанная им, произошла не оттого только, что он не обдумал этой случайности, а оттого тоже, что он до этого дня свидания с умирающею женой не знал своего сердца. Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости; и жалость к ней, и раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, самая радость прощения сделали то, что он вдруг почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал. И в установившейся после неожиданного исчезновения Лица тишине, он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало источником его духовной радости, то, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил.
Он простил жену и жалел ее за ее страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи о его отчаянном поступке. Он жалел и сына больше, чем прежде, и упрекал себя теперь за то, что слишком мало занимался им. Но к новорожденной маленькой девочке он испытывал какоето особенное чувство не только жалости, но и нежности. Сначала он из одного чувства сострадания занялся тою новорожденною слабенькою девочкой, которая не была его дочь и которая была заброшена во время болезни матери и, наверно, умерла бы, если б он о ней не позаботился, – и сам не заметил, как он полюбил ее. Он по нескольку раз в день ходил в детскую и подолгу сиживал там, пока ребенок не привык к нему. Он иногда по получасу молча смотрел на I/Кроватку/9, на спящее шафраннокрасное, пушистое и сморщенное личико ребенка и наблюдал за движениями хмурящегося лба и за пухлыми ручонками с подвернутыми пальцами, которые задом ладоней терли глазенки и переносицу. В такие минуты в особенности Алексей Александрович чувствовал себя совершенно спокойным и согласным с собой и не видел в своем положении ничего необыкновенного, ничего такого, что бы нужно было изменить. И вдруг раздавался зловещий шепот:
УНИЧТОЖЬ ЕЕ
УНИЧТОЖЬ ЕЕ
УНИЧТОЖЬ РЕБЕНКА
УНИЧТОЖЬ
И он знал, что битва не окончена. Он знал, что вместе с благословенной силой, управлявшей душой его, была и другая, грубая, столь же мощная, а быть может, и более могущественная, контролировавшая всю жизнь его, и сила эта не даст ему насладиться миром, которого он так желал. Период затишья подходил к концу: Лицо, его дражайший друг и самый ненавистный враг, вернулось, чтобы продолжить развязанную войну. Оно шептало:
УНИЧТОЖЬ
ВОЗЬМИ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ
УНИЧТОЖЬ
Получив несколько тревожных сообщений о сложных родах и долгом выздоровлении сестры, Степан Аркадьич выехал из Москвы, чтобы навестить больную. Они нашли Анну в слезах. Маленький Стива тотчас же бросился помогать Андроиду Карениной: он запустил галеновую капсулу, поправил покрывало своими плоскими манипуляторами, вновь наполнил стакан ледяной водой. Что касается Степана Аркадьича, то он тотчас естественно перешел в тот сочувствующий, поэтическивозбужденный тон, который подходил к ее настроению. Он спросил ее о здоровье, и как она провела утро.
– Очень, очень дурно. И день, и утро, и все прошедшие и будущие дни, – сказала она.
– Мне кажется, ты поддаешься мрачности. Надо встряхнуться, надо прямо взглянуть на жизнь.
– Встряхнуться! Встряхнуться! – пискнул Маленький Стива.
– Я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки, – вдруг начала Анна, – но я ненавижу его за его добродетель. Я не могу жить с ним. Ты пойми, его вид физически действует на меня, я выхожу из себя. Я не могу, не могу жить с ним. Что же мне делать? Я была несчастлива и думала, что нельзя быть несчастнее, но того ужасного состояния, которое теперь испытываю, я не могла себе представить. Ты поверишь ли, что я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногтя его не стою, я всетаки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушие. И мне ничего не остается, кроме…
Она хотела сказать смерти, но Степан Аркадьич не дал ей договорить.
– Ты больна и раздражена, – сказал он, – поверь, что ты преувеличиваешь ужасно. Тут нет ничего такого страшного.
И Степан Аркадьич улыбнулся. Никто бы на месте Степана Аркадьича, имея дело с таким отчаянием, не позволил себе улыбнуться (улыбка показалась бы грубой), но в его улыбке было так много доброты и почти женской нежности, что не оскорбляла, а смягчала и успокаивала. Его тихие речи и улыбки действовали смягчающе успокоительно, как миндальное масло. И Анна скоро почувствовала это.
– Нет, Стива, – сказала она. – Я погибла, погибла! Хуже чем погибла. Я еще не погибла, я не могу сказать, что все кончено, напротив, я чувствую, что не кончено. Я – как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено… и кончится страшно.
– Ничего, можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода.
– Я думала и думала. Только один…
Маленький Стива весело зачирикал, стараясь поднять всем настроение, но Степан Аркадьевич посчитал это неуместным и потому погрузил робота в Спящий Режим.
– Позволь, – сказал он. – Ты не можешь видеть своего положения, как я. Позволь мне сказать откровенно свое мнение. – Опять он осторожно улыбнулся своею миндальною улыбкой. – Я начну сначала: ты вышла замуж за человека, который на двадцать лет старше тебя. Ты вышла замуж без любви или не зная любви. Это была ошибка, положим.
– Ужасная ошибка! – сказала Анна.
– Но я повторяю: это совершившийся факт. Потом ты имела, скажем, несчастие полюбить не своего мужа. Это несчастие; но это тоже совершившийся факт. И муж твой признал и простил это. – Он останавливался после каждой фразы, ожидая ее возражения, но она ничего не отвечала. – Это так. Теперь вопрос в том: можешь ли ты продолжать жить со своим мужем? Желаешь ли ты этого? Желает ли он этого?
– Я ничего, ничего не знаю.
– Но ты сама сказала, что ты не можешь переносить его.
– Нет, я не сказала. Я отрекаюсь. Я ничего не знаю и ничего не понимаю. – Она схватилась за покрывало и прошептала: – Есть еще чтото. Чтото в его характере, чего я не могу понять.
Анна не могла закончить предложение, и Степан Аркадьевич не настаивал. Он тотчас вспомнил московское подземелье, и перед глазами встал робот, которого показал ему Каренин. Он вновь ощутил страх и замешательство, испытанные в тот день.
– Да, но позволь…
– Ты не можешь понять. Я чувствую, что лечу головой вниз в какуюто пропасть, но я не должна спасаться. И не могу.
– Ничего, мы подстелем и подхватим тебя. Я понимаю тебя, понимаю, что ты не можешь взять на себя, чтобы высказать свое желание, свое чувство.
– Я ничего, ничего не желаю… только чтобы кончилось все.
– Но он видит это и знает. И разве ты думаешь, что он не менее тебя тяготится этим? Ты мучишься, он мучится, и что же может выйти из этого?
Тогда как развод развязывает все, – не без усилия высказал Степан Аркадьич главную мысль и значительно посмотрел на нее.
Она ничего не отвечала и отрицательно покачала своею остриженною головой. Но по выражению вдруг просиявшего прежнею красотой лица он видел, что она не желала этого только потому, что это казалось ей невозможным счастьем.
– Мне вас ужасно жалко! И как бы я счастлив был, если б устроил это! – сказал Степан Аркадьич, уже смелее улыбаясь. – Не говори, не говори ничего! Если бы Бог дал мне только сказать так, как я чувствую. Я пойду к нему.
Анна задумчивыми блестящими глазами посмотрела на него и ничего не сказала.
* * *
Алексей Александрович, находясь за дверями, слышал все. Лицо тоже все слышало и не упустило шанса ужалить.
ТЫ ВИДИШЬ? – закричало оно, жестокий и язвительный голос словно ракетный обстрел атаковал его волю.
ВИДИШЬ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ИЗ ТВОЕГО ВСЕПРОЩЕНИЯ?
Каренин покраснел от стыда и гнева и вернулся в свой кабинет, по которому тут же принялся ходить, словно зверь в клетке. Все громче и громче в голове его звучал оскорбительный рев:
ОТНЫНЕ НИКАКОГО СНИСХОЖДЕНИЯ
ОТНЫНЕ НИКАКОГО ВСЕПРОЩЕНИЯ.
ТОЛЬКО ВЛАСТЬ И КОНТРОЛЬ НАД ВСЕМ ПРОИСХОДЯЩИМ.
Степан Аркадьич с тем несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своем присутствии, вошел в кабинет Алексея Александровича. Каренин, заложив руки за спину, ходил по комнате, погруженный в свои тяжелые мысли.
– Я не мешаю тебе? – сказал Степан Аркадьич, при виде зятя вдруг испытывая непривычное ему чувство смущения.
Пытаясь скрыть его, он достал только что купленную папиросницу – это была новая модель I класса и, нажав синезеленую кнопку на футляре, достал из него папироску.
– Нет. Тебе нужно чтонибудь? – отвечал Алексей Александрович, в то время как воображение его рисовало взрывающуюся папиросницу и застывшее в ухмылке толстое лицо Степана Аркадьевича, сползающее с черепа.
ПУСТЬ ОН ЗАПЛАТИТ
ПУСТЬ ОНИ ВСЕ ЗАПЛАТЯТ ЗА ТВОЮ БОЛЬ.
– Да, мне хотелось… мне нужно по… да, нужно поговорить, – сказал Степан Аркадьич, с удивлением чувствуя непривычную робость.
Чувство это было так неожиданно и странно, что Степан Аркадьич не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать.
Тем временем Алексей Александрович зло посмотрел на Маленького Стиву. «Неуклюжий идиотболтунишка», – подумал Каренин.
СКОРО. СКОРО ПРОБЬЕТ И ЕГО СМЕРТНЫЙ ЧАС.
Степан Аркадьич сделал над собой усилие и поборол нашедшую на него робость.
Алексей Александрович знал, что скажет Стива, он также знал, что ответит на это. Дать ей развод. Отпустить ее. Кого это волнует? Что бы это изменило? Сейчас появились более важные дела. Он, наконец вернул свои позиции на Проекте, а Стремов лежит гдето в петербургском подвале, погребенный под слоем земли и щебеня, уже более неспособный принять новый вызов. Он должен сосредоточиться на работе: даже сейчас новые идеи наводняли его голову, даже сейчас Проект продолжал развиваться, становясь именно таким, каким всегда его хотело видеть Лицо.
ЧТО Ж, ОТПУСТИ ЕЕ. ПУСТЬ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СО СВОИМ СМАЗЛИВЫМ ОФИЦЕРОМ.
– Надеюсь, что ты веришь в мою любовь к сестре и в искреннюю привязанность и уважение к тебе, – сказал Стива, краснея.
Алексей Александрович остановился и ничего не отвечал.
ДАЙ ИМ УЙТИ, ДАЙ ИМ ПОЧУВСТВОВАТЬ ВКУС СВОБОДНОЙ ЖИЗНИ. ДАЙ ИМ НАСЛАДИТЬСЯ ЭТОЙ СВОБОДОЙ, ПОКА У НИХ ЕЩЕ ЕСТЬ ЭТА ВОЗМОЖНОСТЬ.
– Я намерен был, я хотел поговорить о сестре и о вашем положении взаимном, – сказал Степан Аркадьич, все еще борясь с непривычною застенчивостью. – Если ты позволяешь мне сказать свое мнение, то я думаю, что от тебя зависит указать прямо те меры, которые ты находишь нужными, чтобы прекратить это положение.
– Если ты считаешь, что этому должен быть положен конец, пусть будет так, – прервал его Алексей Александрович.
– Так ты дашь развод? – несмело спросил Стива, затягиваясь папироской. Речесинтезатор Маленького Стивы раздражающе повторил:
– Развод? Развод?
– Я дам ей свободу. Я ДАМ ЕЙ УМЕРЕТЬ , – неожиданно и резко сказал Алексей Александрович.
Серебряная маска на лице его запульсировала живыми потоками раскаленного грозниума.
ПУСТЬ ТЕЛО ЕЕ УНЕСУТ ВЕТРА ВСЕЛЕННОЙ! ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕГО ЖЕЛАЮ, – НИКОГДА БОЛЕЕ НЕ ВИДЕТЬ НИ ЕЕ, НИ ЕГО, НИ ВАС!
Степан Аркадьич застыл с раскрытым ртом: он говорил не с человеком сейчас, а с той ужасной неведомой силой , сидевшей внутри Алексея Александровича, и о которой предупреждала его Анна Аркадьевна.
– Да, я полагаю, что развод. Да, развод, – краснея, повторил Степан Аркадьич. – Это во всех отношениях самый разумный выход для супругов, находящихся в таких отношениях, как вы. Что же делать, если супруги нашли, что жизнь для них невозможна вместе? Это всегда может случиться.
Алексей Александрович поднял кулаки и закричал:
– УБИРАЙТЕСЬ!
Крик рвался из него, как волна, с ревом поднимающаяся из морских глубин; этой волной Стиву и его роботакомпаньона отбросило на другой конец комнаты, и они с грохотом врезались в стену. От удара в голове у Степана Аркадьича зазвенело, а на корпусе Маленького Стивы осталась глубокая вмятина, чего раньше никогда с ним не случалось.
Когда Степан Аркадьич выбрался из комнаты зятя, он был не на шутку напуган тем, что ему довелось пережить только что; но это обстоятельство не помешало ему порадоваться тому, как успешно он совершил дело.
* * *
Алексей Александрович накинул пальто и вышел на покрытую снегом улицу; через полчаса он был на своем рабочем месте. Его ждала группа молодых, одетых по моде людей – все они были тонки станом и хороши лицом, каждый носил светлые усы и темные ботинки.
– Друзья мои, – обратился к ним Каренин, и молодые люди согласно кивнули в ответ. – Объявляю о начале активной фазы Проекта. Найдите роботов III класса.
Найдите их всех.
Рана Вронского была опасна, легкие его заполнились едким дымом, а на груди осталась сетка глубоких ожогов. Несколько дней он находился между жизнью и смертью.
И все же он почувствовал, что совершенно освободился от одной части своего горя. Он этим поступком как будто смыл с себя стыд и унижение, которые прежде испытывал. Он мог спокойно думать теперь об Алексее Александровиче, признавал все великодушие его и уже не чувствовал себя униженным. Он, кроме того, опять попал в прежнюю колею жизни. Он видел возможность без стыда смотреть в глаза людям и мог жить, руководствуясь своими привычками. Одно, чего он не мог вырвать из своего сердца, несмотря на то, что не переставая боролся с этим чувством, это было доходящее до отчаяния сожаление о том, что он навсегда потерял ее. То, что он теперь, искупив пред мужем свою вину, должен был отказаться от нее и никогда не становиться впредь между ею с ее раскаянием и ее мужем, было твердо решено в его сердце; но он не мог вырвать из своего сердца сожаления о потере ее любви, не мог стереть в воспоминании те минуты счастья, которые он знал с ней, которые так мало ценимы им были тогда и которые во всей своей прелести преследовали его теперь.
Серпуховской придумал ему назначение – он должен был возглавить недавно сформированный элитный полк, созданный для борьбы с грозным врагом, о котором Министерство обороны все еще не объявило во всеуслышание. И Вронский без малейшего колебания согласился на это предложение. Но чем ближе подходило время отъезда, тем тяжелее становилась ему та жертва, которую он приносил тому, что он считал должным.
Рана его зажила, и он делал приготовления к отъезду, когда в конце дня в дверь позвонили, и он открыл. На пороге стояла Андроид Каренина. Она безмолвно и холодно смотрела на него, глаза многозначительно сияли лиловым светом. Не говоря ни слова, она указала рукой на карету, в которой только что приехала.
– Она хочет видеть меня?
Не позаботясь даже о том, чтобы окончить дела, забыв все свои решения, не спрашивая, когда можно, где муж, Вронский тотчас же поехал к Карениным. Он вбежал на лестницу, следом за ним несся Лупо. Никого и ничего не видя, и быстрым шагом, едва удерживаясь от бега, Вронский вошел в ее комнату. И не думая и не замечая того, есть кто в комнате или нет, он обнял ее и стал покрывать поцелуями ее лицо, руки и шею.
Анна готовилась к этому свиданью, думала о том, что она скажет ему, но она ничего из этого не успела сказать: его страсть охватила ее. Она хотела утишить его, утешить себя, но уже было поздно. Его чувство сообщилось ей.
Губы ее дрожали так, что долго она не могла ничего говорить.
– Да, ты овладел мною, и я твоя, – выговорила она, наконец, прижимая к своей груди его руку.
– Так должно было быть! – сказал он. – Пока мы живы, это должно быть. Я это знаю теперь.
– Это правда, – говорила она, бледнея все более и более и обнимая его голову. – Всетаки чтото ужасное есть в этом после всего, что было.
– Все пройдет, все пройдет, мы будем так счастливы! Любовь наша, если бы могла усилиться, усилилась бы тем, что в ней есть чтото ужасное, – сказал он, поднимая голову и открывая улыбкою свои крепкие зубы.
Лупо принялся выписывать дикие круги, в то время как Андроид Каренина продолжала неподвижно стоять у входа в комнату: в длинных тенях заходящего солнца она сияла красивым лиловым светом, безмолвно и в тихой радости наблюдая за воссоединением влюбленных.
И Анна не могла не ответить улыбкой – не словам, а влюбленным глазам Вронского. Она взяла его руку и гладила ею себя по похолодевшим щекам и обстриженным волосам.
– Я не узнаю тебя с этими короткими волосами. Ты так похорошела. Мальчик. Но как ты бледна!
– Да, я очень слаба, – сказала она, улыбаясь. И губы ее опять задрожали.
– Мы полетим на Луну, там есть все возможности для восстановления, ты поправишься, – сказал он.
– Неужели это возможно, чтобы мы были как муж с женою, одни, своею семьей с тобой? – сказала она, близко вглядываясь в его глаза.
– Меня только удивляло, как это могло быть когданибудь иначе.
– Стива говорит, что он на все согласен, но я не могу принять его великодушие, – сказала она, задумчиво глядя мимо лица Вронского. – Я не хочу развода, мне теперь все равно. Я не знаю только, что он решит о Сереже.
Он не мог никак понять, как могла она в эту минуту свиданья думать и помнить о сыне, о разводе. Разве не все равно было?
– Не говори про это, не думай, – сказал он, поворачивая ее руку в своей и стараясь привлечь к себе ее внимание; но она все не смотрела на него.
– Ах, зачем я не умерла, лучше бы было! – сказала она, и без рыданий слезы потекли по обеим щекам; но она старалась улыбаться, чтобы не огорчить его.
Отказаться от лестного и опасного назначения, по прежним понятиям Вронского, было бы позорно и невозможно. Но теперь, не задумываясь ни на минуту, он отказался от него и, заметив в высших чинах неодобрение своего поступка, тотчас же вышел в отставку.
Чрез месяц Алексей Александрович остался один с сыном в своей квартире в Петербурге, а Анна с Вронским улетели на Луну, не получив развода и решительно отказавшись от него.
Детали роботов III класса столь же сложны, сколь невероятно малы. Каждый из этих роботовандроидов, как всем известно, представляет собой самосохраняющуюся сложную систему соединенных деталей, вселенную бесконечно малых механизмов, чью работу обеспечивает «солнце», находящееся в корпусе всех роботов III класса. Светило это – грозниевый мотор, чрезвычайно мощный, он похож по размеру и форме на человеческое сердце, и именно благодаря этому невидимому сердцу машина может жить. Мотор одаривает живительной энергией тысячи взаимосвязанных деталей, которые и обеспечивают роботамкомпаньонам легкую и размеренную работу.
Так устроена и наша Вселенная. Воля Божия в этом мире как невидимый грозниевый огонь: она обогревает и неустанно питает все вокруг, наполняя собой каждое новое событие и мысль. Осознаем мы это или нет, но люди – всего лишь сервомеханизмы, которыми управляет Судьба, и наши движения, и каждая мысль наша питаются теплом, которое дарит нам Всемогущий Господь Бог.
Так и роботы III класса, будто разумные и независимые существа, могут выполнять различные, сменяющие друг друга задачи; так и люди могут самонадеянно пытаться управлять событиями, но в действительности мы не в силах изменить ход вещей – все будет вершиться по собственной воле, по воле Бога, вне зависимости от силы наших желаний и чаяний.
* * *
Высшее Руководство (которое теперь возглавлял Алексей Александрович Каренин) продолжило работу над Проектом чрезвычайной важности: было объявлено о сборе всех роботов III класса для внесения некоторых «корректировок» в схемы андроидов. О чем именно шла речь и какого рода исправления ожидали роботов, широкая общественность, которую и должен был в основном затронуть Проект, не знала толком. Чтобы смягчить удар, сбор роботов был поручен вежливым и обходительным молодым офицерам. Как сообщалось, эти офицеры были набраны из самых высоких чинов среди Смотрителей. Этих молодчиков вскоре стали называть Солдатиками – изза их тщательно отутюженной голубой униформы и ботинок из тонкой черной кожи. Они появлялись на порогах домов по всей стране, парами или группами по три человека, и вежливо осведомлялись, есть ли в хозяйстве роботы III класса. Они старательно заносили в ручные устройства I класса имена роботов и их родословную и аккуратно выписывали квитанцию о получении, прежде чем загрузить робота в карету.
Любой, кто решался задать уточняющий вопрос о том, в чем же будет заключаться «корректировка», получал от Солдатиков четкий ответ, сообщаемый успокаивающими голосами: все риски берет на себя Министерство, всем нам следует положиться на власть, и это будет самым верным решением, не правда ли (ведь мы сделали в свое время все, чтобы теперь полностью довериться нашим лидерам)? В общем, ответ этот был признан всеми удовлетворительным, люди принимали выписанные квитанции и спокойно прощались со своими роботами.
Даже Степан Аркадьич, провожая Маленького Стиву, обычно веселого, а теперь тревожно сверкающего глазами, крикнул ему вдогонку:
– Не бойся, Маленький Самовар! Мы скоро увидимся вновь!
Облонский, проделывая определенную внутреннюю работу, старался отогнать от себя неприятные воспоминания о том, что он видел в подвале у Каренина.
«Здесь нет никакой связи», – уверял он сам себя, имея в виду загадочные опыты Алексея Александровича и нынешнее поголовное изъятие роботов.
– Ведь мы сделали в свое время все, чтобы теперь полностью довериться нашим лидерам, – внушал он жене, когда ее добрую и степенную Доличку увели. – Ведь сделали же?..
Шестеренки жизни вновь закрутились, и со временем тревожная неразбериха, связанная с отъездом Маленького Стивы и Долички, сменилась в доме радостным ожиданием, когда начались приготовления к свадьбе Кити Щербацкой и Константина Левина.
Толпа народа, в особенности женщин, окружала освещенную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в средину, толпились около окон, толкаясь, споря и заглядывая сквозь решетки.
Больше двадцати карет уже были расставлены жандармами II класса вдоль по улице; их бронзовое покрытие защищало от любой непогоды, позволяло не замечать опасной изморози, которая без должной защиты грозила обернуться ржавчиной.
Беспрестанно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая шлемы или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были включены обе люстры и все свечи у местных образов.
Окна церкви, настроенные по случаю модным тогда техникомосветителем, ярко и празднично сияли сценами из жизни Спасителя, одно схематическое изображение плавно сменялось другим. Сияние этого богато оформленного дисплея на красном фоне иконостаса, и золоченая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросов, и ступеньки амвона, и подрясники, и стихари – все было залито светом.
Не хватало только влюбленной пары. Каждый раз, как раздавался скрип отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и невесту. Но дверь уже отворялась более чем десять раз, и каждый раз это был или запоздавший гость или гостья, присоединявшиеся к кружку званых, направо, или зрительница, обманувшая II/Жандармов/56, присоединявшаяся к чужой толпе, налево. Галеновая капсула распространяла по церкви свои успокаивающие волны, однако этого было недостаточно, чтобы развеять установившуюся тревожность. И родные, и посторонние уже прошли чрез все фазы ожидания.
Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чегонибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и гости старались делать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором.
Наконец одна из дам, взглянув на своего I/Стража времени/36, сказала: «Однако это странно!» – и все гости пришли в беспокойство и стали громко выражать свое удивление и неудовольствие.
Кити в это время, давно уже совсем готовая, в белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов, с посаженой матерью и сестрой Львовой ожидала в зале дома Щербацких. Позади нее стояла сиявшая розовым цветом Татьяна – один из последних роботовкомпаньонов, оставшихся в Москве. Кити позволили на некоторое время отложить отправку робота на «корректировку» в связи со свадьбой, и все благодаря связям ее отца, у которого в Министерстве служил друг детства. («Девушка не может выйти замуж без успокаивающего присутствия ее роботакомпаньона», – настаивал князь; между тем по всей России невестам без связей в высших кругах пришлось както обходиться самим). Татьяна стояла и смотрела в окно, уже более получаса мурлыкая колыбельную, чтобы уберечь свою хозяйку от нервов ожидания.
Левин же между тем в панталонах, но без жилета и фрака ходил взад и вперед по своему номеру, следом за ним ходил Сократ, лязгая бородой (ему, как и Татьяне, предоставили отсрочку благодаря связям и заслугам князя). Они беспрестанно высовывались в дверь и оглядывали коридор. Но в коридоре не видно было робота II класса, которого он послал за забытой манишкой. Она была оставлена дома Степаном Аркадьичем, который винил во всем Маленького Стиву, точнее, его отсутствие. Облонский был уверен, что его всегда внимательный к деталям роботкомпаньон захватит все необходимое. И у него совершенно вылетело из головы, что дорогой друг был сейчас в Технологическом Комплексе во Владивостоке – в глубоком сне, он лежал на верстаке с распущенными механическими кишками.
Пока Сократ в отчаянии носился по комнате, Левин обратился к спокойно курившему Степану Аркадьичу.
– Был ли когданибудь человек в таком ужасном дурацком положении! – говорил он.
– Да, глупо, и я чувствую себя ужасно виноватым, – подтвердил Степан Аркадьич, смягчительно улыбаясь. – Я простонапросто чурбан в отсутствии моего робота! Но успокойся, сейчас привезут.
– Нет, как же! – со сдержанным бешенством говорил Левин. – И что как вещь потеряна! – вскрикнул он с отчаянием.
– Нет, не потеряна, – возразил Степан Аркадьич.
– Ее могли потерять. И, наверное, потеряли, – настаивал Сократ.
– Уж этим не поможешь, – сказал Облонский и зло посмотрел на Сократа, страстно желая, чтобы и этот несносный робот оказался там, во Владивостоке. Повернувшись к Левину, он сказал:
– Подожди немного! Он скоро вернется!
Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке Охотничий Медведь, ходил по комнате, выглядывая в коридор.
Наконец в комнату влетел II/Посыльный/470 с рубашкой, висящей между вытянутыми манипуляторами, – он был похож на собаку с подбитым перепелом в пасти.
Через три минуты, не глядя на своего I/Стража времени/8, чтобы не растравлять раны, Левин бегом бежал по коридору.
– Уже одиннадцать тридцать, – простонал Сократ, торопясь за хозяином, – одиннадцать тридцать одна! Мы опаздываем, мы катастрофически опаздываем!
– Уж этим не поможешь, – вздохнул Степан Аркадьич и бросил сигарету в пепельницу, где она зашипела, была измельчена лезвиями и тотчас исчезла.
– Приехали! – Вот он! – Который? – Высокий желтый робот? – Да нет же, дурья твоя башка! Хозяин робота! Довольно молодой! – заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь.
Степан Аркадьич рассказал жене о причине замедления, и гости, улыбаясь, перешептывались между собой. Левин ничего и никого не замечал; он, не спуская глаз, смотрел на свою невесту.
Все говорили, что она очень подурнела в эти последние дни и была под венцом далеко не так хороша, как обыкновенно; но Левин не находил этого. Он смотрел на ее высокую прическу с длинным белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавший спереди ее длинную шею, и поразительно тонкую талию, и ему казалось, что она была лучше, чем когданибудь, – не потому, чтоб эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье и нежное сияние, исходящее от Татьяны, прибавляли чтонибудь к ее красоте, но потому, что, несмотря на эту приготовленную пышность наряда, выражение ее милого лица, ее взгляда, ее губ были все тем же ее особенным выражением невинной правдивости.
– Я думала уже, что ты хотел бежать, – сказала она и улыбнулась ему.
– Так глупо, что со мной случилось, совестно говорить! – сказал он, краснея, и должен был обратиться к подошедшему Сергею Ивановичу.
Долли подошла, хотела сказать чтото, но не могла выговорить, заплакала и неестественно засмеялась. Отсутствие Долички подействовало на нее сильнее, чем она того ожидала. Было так странно, что никто не придерживал ее юбок проворными металлическими пальцами, что не было рядом плеча, на которое можно было бы опереться.
Кити смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин.
Между тем церковнослужители облачились, и священник с дьяконом вышли к аналою, стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину, чтото сказав. Левин не расслышал его.
Долго жених не мог понять, чего от него требовали. Долго поправляли его и хотели уже бросить, – потому что он брал все не тою рукой или не за ту руку, – когда он понял наконец, что надо было правою рукой, не переменяя положения, взять ее за правую же руку. Когда он наконец взял невесту за руку, как надо было, священник прошел несколько шагов впереди их и остановился у аналоя. Толпа родных и знакомых, жужжа говором и шурша шлейфами, подвинулась за ними. Ктото, нагнувшись, поправил шлейф невесты. В церкви стало так тихо, что слышалось гудение I/Свечей/7.
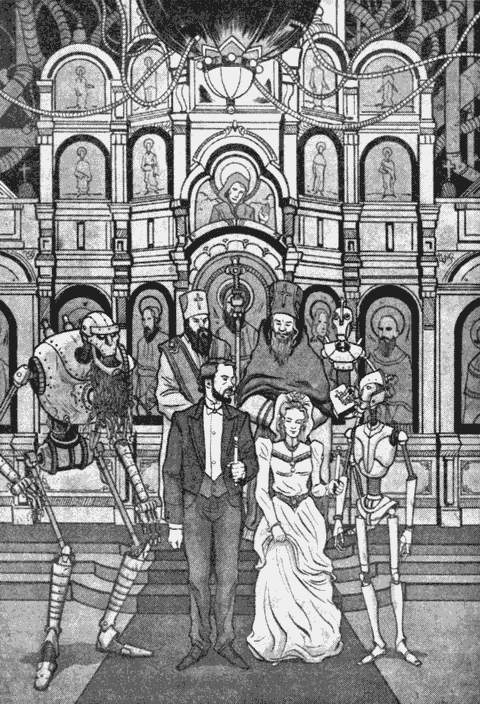
– Девушка не может выйти замуж без успокаивающего присутствия ее роботакомпаньона, – настаивал князь
Все внимание было приковано к алтарю, и потому никто не заметил, что происходило на улице. II/Жандармы/56 выписывали хаотические крути, иногда сталкиваясь, но не причиняя друг другу вреда. Это был верный признак того, что ктото намеренно вывел их из строя.
Старичок священник, в камилавке, с блестящими серебром седыми прядями волос, разобранными на две стороны за ушами, перебирал чтото у аналоя.
– Провались оно все! Да где же, где? – бормотал он, погрузившись в собственные мысли, в то время как нужное для совершения ритуала устройство III класса лежало за алтарем, украшенным священной статуей Робота.
Обнаружив его, он наконец выпростал маленькие старческие руки изпод тяжелой серебряной с золотым крестом на спине ризы. Священник зажег две украшенные цветами I/Свечи/7 и повернулся лицом к новоневестным.
Он посмотрел усталым и грустным взглядом на жениха и невесту, вздохнул и благословил жениха и так же, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложенные персты на склоненную голову Кити. Потом он подал им свечи и, взяв кадило, медленно отошел от них.
«Неужели это правда?» – подумал Левин и оглянулся на невесту. Ему несколько сверху виднелся ее профиль, и по чуть заметному движению ее губ и ресниц он знал, что она почувствовала его взгляд. Она не оглянулась, но высокий сборчатый воротничок зашевелился, поднимаясь к ее розовому маленькому уху. Он видел, что вздох остановился в ее груди и задрожала маленькая рука в высокой перчатке, державшая I/Свечу/7.
Вся суета рубашки, опоздания, разговор со знакомыми, родными, их неудовольствие, его смешное положение – все вдруг исчезло, и ему стало радостно и страшно.
Эти сильные эмоции, словно составляющие гремучей смеси, соединились вместе – тотчас же сработала первая эмоциональная мина. Она взорвалась точно под сиденьем троюродного брата Кити, расположившегося тремя рядами позади. Взрыв этот выпустил на волю смертоносную силу, но, в отличие от обычной мины, вся ужасающая мощь ее обрушилась на одного человека. Каждая клеточка в теле несчастного яростно завибрировала, отчего внутренние органы превратились в желеобразную массу. Таковы были последствия этого страшного взрыва, но сидевшие рядом с жертвой гости так ничего и не поняли – не поняли того, что планы на этот день уже решительно перечеркнуты агентами СНУ. Безжизненное тело мешком упало вперед: можно было подумать, что старичок простонапросто уснул. Это, конечно, было невежливо с его стороны, но что поделаешь – с пожилыми людьми такое случается во время долгих церковных служб.
«Благослови, владыко!» – медленно один за другим, колебля волны воздуха, раздались торжественные звуки. Мозг старичка, размягчившись до кашеобразного состояния, медленно потек из ушей.
«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков», – смиренно и певуче ответил старичок священник, и пение невидимого хора заполнило церковь от окон до сводов, заглушая истошный крик женщины с задних рядов.
– О, боже! Он мертв! Как это могло случиться?!
Сработала вторая эмоциональная мина. На этот раз она взорвалась под молодой бабой, завернутой в цветастые платки. Как и первая жертва, она рухнула вперед, ее внутренности мгновенно превратились в кашу.
Торжественные звуки песнопения становились все сильнее, и радость, и ожидание чуда наполняли сердца Левина и Кити, тем самым создавая опасность новых взрывов.
Молились, как и всегда, о вышнем мире и спасении, о долгих летах Высшего Руководства; молились и о ныне обручающихся рабе божием Константине и Екатерине. Чем ближе служба подвигалась к кульминационному моменту, когда Левин и Кити должны были вступить в новый полный тайн мир супружества, тем сильнее становился страх, тем больше росла радость в сердцах их, и с каждым новым эмоциональным приливом взрывалось все больше и больше мин, и каждая была мощнее предыдущей. Кити и Левин смотрели друг другу в глаза, погруженные в бесконечную нежность и осознание того, что судьбы их связываются навеки, и в это же время их любовь развязывала смерти руки.
«О еже ниспослатися им любве совершенней, мирней и помощи, Господу помолимся», – как бы дышала вся церковь голосом протодьякона.
Левин слушал слова, и они поражали его.
– Как они догадались, что помощи, именно помощи? – сказал он Сократу, преданно стоявшему рядом с ним.
– На помощь! – закричала княгиня Щербацкая. – Господи, помогите! – Ее сестра, тетя Кити, вдруг дернулась на стуле, неестественно вывернулась телом и упала на колени княгине; ее кишки вывалились из разорванного живота. Кити и Левин обернулись и наконец увидели весь тот кошмар, что разворачивался за их спинами: с каждой минутой ситуация ухудшалась, эмоциональные мины рвались, как I/Хлопушки/4 на детском дне рождения. Кити вскрикнула, схватившись руками за лицо, когда еще один взрыв – уже не беззвучный – грохнул так, что заглушил бы самые мощные раскаты грома в небесах. Взорвались электронные витражи с изображениями Спасителя, мелкие осколки посыпались с высоты дождем.
Первые решительные шаги для предотвращения кровопролития предприняли роботы. Легким движением Татьяна уложила Кити на пол и, прикрыв ее своим корпусом, выгнулась дугой, чтобы защитить ее от летящих осколков. Сократ перебрал связку инструментов в своей бороде, извлек оттуда старый физиометр и бросился в толпу, чтобы начать сортировать людей по уровню эмоций. Левину ничего не оставалось, как поспешить за ним.
– Почему все это продолжается? – прокричала Кити Левину, когда он вместе со своим преданным роботомкомпаньоном вернулся обратно, исследовав разрушения и позаботившись о стенающих раненых.
– Отчего, отчего все попрежнему? Ведь если это эмоциональные мины, – заключила она, – и если мины эти взорвались от того, что напитались нашей радостью, то отчего же они не перестали рваться теперь, когда счастье погублено этой атакой?
Татьяна проворными руками отразила новую порцию стеклянных осколков и деревянной щепы.
Левин, не ожидая того, улыбнулся ее словам. «Что за женщина! Как она умна и проницательна, раз может так здраво размышлять в столь ужасающих обстоятельствах».
– О, боже! – воскликнул он в ужасе. – Это все изза меня. Я счастлив! Господи, прости меня, грешного, но я счастлив! Я смотрю на нее и ничего не могу с собой поделать: я люблю ее и чувствую радость от этого в душе своей!
Мрачным подтверждением того, что Левин не лукавил, стал еще один взрыв, прогремевший вместе со словом «радость» гдето в глубине церкви. Он обернулся, дивясь силе своей любви, произведшей столь сильный взрыв, и в то же время стараясь заглушить в себе это разрушительное чувство. Вдруг Кити бросилась на него, ее платье с пышными кружевами взметнулось белой волной, и через секунду она с яростью вцепилась ему в глаза и в бороду, принявшись с силой рвать ее. Испуганный Левин закрыл голову руками, пытаясь защититься от разъяренной возлюбленной – впрочем, он был настолько обескуражен этим внезапным нападением, что любовь в душе его сменилась диаметрально противоположным чувством.
– Прекрати! – закричал он на Кити. – Ради бога, прекрати это! Ты сошла с ума?
Он схватил ее за запястья, чтобы остановить разбушевавшуюся Кити. Она ослабла, бросилась ему на грудь и зарыдала. Сократ поднял голову, вопросительно бибикая, – неожиданно в церкви установилась тишина.
Вместе с радостью Левина стихла и атака. Эмоциональные бомбы перестали наконец рваться; в опустевшей церкви слышались только страшные стоны и плач раненых.
– Она очень способная , – с уважением произнес Сократ, имея в виду Кити.
– Следует это признать, дружище, – согласился Левин и погладил ее по волосам. – Столь же способная и сообразительная, сколь и…
Бабах! Под потолком затрещали стропила, и на пол с грохотом рухнула люстра.
– Хозяин, вам здесь опасно находиться – давайте поскорее уйдем отсюда.
* * *
Двадцатью минутами позднее уцелевший священник меланхолично продолжил церемонию бракосочетания на открытом воздухе, оставив за спиной развалины церкви. Кити и Левин стояли, соединив руки, изрядно помятые и угрюмые и все же не пожелавшие принять правила игры, которые им навязывал СНУ; проявляя силу духа, свойственную русским людям, они единогласно решили: свадьбе быть.
Священник обратился к венчающимся. «Боже вечный, расстоящияся собравый в соединение, – читал он кротким певучим голосом, – и союз любве положивый им неразрушимый; благословивый Исаака и Ревекку, наследники я твоего обетования показавый: сам благослови и рабы твоя сия, Константина, Екатерину, наставляя я на всякое дело благое. Яко милостивый и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». – «Ааминь», – опять разлился в воздухе невидимый хор.
Но даже после завершения древних песнопений чуда не произошло: в церкви лежали разорванные и беспомощные жертвы атаки СНУ в ожидании прибытия Смотрителя с группой 77х, которые всегда приезжали после таких происшествий. Раненые стенали от боли, проклинали СНУ, которое продолжал безжалостно убивать людей; они горько плакали от того, что их роботовкомпаньонов не было рядом в трудную минуту и потому некому было защитить, поддержать, успокоить.
* * *
Грубое вмешательство в церемонию венчания, произошедшее в этот день, не могло не оказать влияния на романтические мечтания Константина Дмитрича, связанные с женитьбой и той жизнью, которую он собирался теперь вести. Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, – что все это было ребячество и что это чтото такое, чего он не понимал до сих пор и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним; в груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза. После ужина этим же вечером молодожены уехали в деревню.
Вронский с Анною три месяца уже путешествовали вместе по Луне. Они побывали на Море Спокойствия, увидели знаменитые каналы Святой Екатерины и только что приехали в небольшой отель, который был частью стоявшей на отдалении колонии. Здесь они хотели поселиться на некоторое время.
Лунит, один из тех странных тонких роботов II класса с головой в форме луковицы, выполнявших почти всю человеческую работу на Луне, стоял, заложив руки за серебряную обшивку, и строго отвечал чтото остановившему его господину в неопрятном комбинезоне, какие носили инженеры.
Услыхав с другой стороны подъезда шаги когото, всходившего на лестницу, Лунит повернул большую круглую голову и, увидав русского графа, занимавшего у них лучшие комнаты, наклонившись, объяснил, что сообщение было получено и что дело с наймом модуля состоялось.
– А! Я очень рад, – сказал Вронский. – А госпожа дома или нет?
– Они выходили гулять… но теперь вернулись, – отвечал Лунит в свойственной его классу прерывистой манере говорить.
Вронский снял со своей головы мягкую с большими полями шляпу и отер платком потный лоб и отпущенные до половины ушей волосы, зачесанные назад и закрывавшие его лысину. И, взглянув рассеянно на стоявшего еще и приглядывавшегося к нему господина, он хотел пройти.
– Господин этот русский и спрашивал про вас, – сказал робот.
Со смешанным чувством досады, что никуда не уйдешь от знакомых, и желания найти хоть какоенибудь развлечение от однообразия своей жизни Вронский еще раз оглянулся на отошедшего и остановившегося господина. Лупо, не доверявший незнакомцам, подался назад и оскалил зубы, но через мгновение Вронский узнал господина, резко сказал роботу «Фу!» и широко улыбнулся.
– Голенищев!
– Вронский!
Действительно, это был Голенищев, товарищ Вронского по Пажескому корпусу. Товарищи совсем разошлись по выходе из корпуса и встретились после только один раз. Теперь же они просияли и вскрикнули от радости, узнав друг друга. Вронский никак не ожидал, что он так обрадуется Голенищеву, но, вероятно, он сам не знал, как ему было скучно за много верст от дома в компании одной только Анны, которая была единственным человеком в этом долгом путешествии. Он забыл неприятное впечатление последней встречи и с открытым радостным лицом протянул руку бывшему товарищу. Такое же выражение радости заменило прежнее тревожное выражение лица Голенищева.
– Как я рад тебя встретить! – сказал Вронский, выставляя дружелюбною улыбкой свои крепкие белые зубы.
– А я слышу: Вронский, но который – не знал. Очень, очень рад!
– Войдем же. Ну, что ты делаешь?
– Я уже второй год живу здесь. Работаю. Копаю, копаю и еще раз копаю.
Теперь Вронский понял, отчего товарищ был одет в комбинезон, перепачканный грязью. Опытный инженер, специализировавшийся на поиске и извлечении ископаемых, он получил лицензию от Экстраорбитального департамента Министерства на бурение лунной поверхности. Предметом поиска был Волшебный Металл – в теории, если в русских землях был когдато найден грозниум, и технологии, основанные на его использовании, позволили отправить человека на Луну, то и Волшебный Металл, без сомнения, однажды должен был быть найден. Впрочем, сейчас, как грустно отметил Голенищев, в числе его находок – валуны да пыль.
– А! – с участием сказал Вронский. И затем решился заговорить о сложном предмете, о чем он знал, все равно рано или поздно придется говорить.
– Ты знаком с Карениной? Мы вместе путешествуем. Я к ней иду, – пофранцузски сказал он, внимательно вглядываясь в лицо Голенищева.
– А! Я и не знал (хотя он и знал), – равнодушно отвечал Голенищев, заранее узнавший обо всем от услужливого Лунита.
– Да, он порядочный человек и смотрит на дело как должно, – довольно сказал Вронский своему роботукомпаньону. – Можно познакомить его с Анной.
Вронский в эти три месяца, которые он провел с Анной на Луне, сходясь с новыми людьми, всегда задавал себе вопрос о том, как это новое лицо посмотрит на его отношения к Анне, и большею частью встречал в мужчинах какое должно понимание. Но если б его спросили и спросили тех, которые понимали «как должно», в чем состояло это понимание, и он и они были бы в большом затруднении.
В сущности, понимавшие, по мнению Вронского, «как должно» никак не понимали этого, а держали себя вообще, как держат себя благовоспитанные люди относительно всех сложных и неразрешимых вопросов, со всех сторон окружающих жизнь, – держали себя прилично, избегая намеков и неприятных вопросов. Они делали вид, что вполне понимают значение и смысл положения, признают и даже одобряют его, но считают неуместным и лишним объяснять все это.
Вронский сейчас же догадался, что Голенищев был один из таких, и потому вдвойне был рад ему. Действительно, Голенищев держал себя с Карениной, когда был введен к ней, так, как только Вронский мог желать этого. Он, очевидно, без малейшего усилия избегал всех разговоров, которые могли бы повести к неловкости. Он не знал прежде Анны и был поражен ее красотой и еще более тою простотой, с которою она принимала свое положение. Она покраснела, когда Вронский ввел Голенищева в его грубых одеждах, с сияющим шлемом, болтавшимся на ремешке, с его I/Лопаткойкиркой/40(b), позвякивающей на боку. Эта детская краска, покрывшая ее открытое и красивое лицо, чрезвычайно понравилась ему.
Но особенно понравилось ему то, что она тотчас же, как бы нарочно, чтобы не могло быть недоразумений при чужом человеке, назвала Вронского просто Алексеем и сказала, что они переезжают с ним во вновь нанятый дом, который здесь называют базой. Это прямое и простое отношение к своему положению понравилось Голенищеву. Глядя на добродушновеселую энергическую манеру Анны, зная Алексея Александровича и Вронского, Голенищеву казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает то, чего она никак не понимала: именно того, как она могла, сделав несчастие мужа, бросив его и сына и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергическивеселою и счастливою.
– Знаете что? Погода прекрасная, пойдемте туда, еще раз взглянем на модуль, – сказал Вронский, обращаясь к Анне.
– Очень рада, я сейчас пойду надену шлем. Какая там гравитация сегодня? – сказала она, остановившись у двери.
Анна избегала смотреть на Вронского и вместо этого остановила свой взгляд на знакомой и ободряющей лицевой панели Андроида Карениной. Вронский понял по ее взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с Голенищевым, и что она боится, так ли вела себя, как он бы хотел.
Он посмотрел на нее нежным, продолжительным взглядом.
– Гравитация прекрасная. Лучшего и желать нельзя, – сказал он.
И ей показалось, что она все поняла, главное то, что он доволен ею; и, улыбнувшись ему, она быстрою походкой вышла из двери. За нею следом с таким же уверенным видом со свистом помчалась Андроид Каренина.
Приятели взглянули друг на друга, и в лицах обоих произошло замешательство, как будто Голенищев, очевидно любовавшийся ею, хотел чтонибудь сказать о ней и не находил что, а Вронский желал и боялся того же.
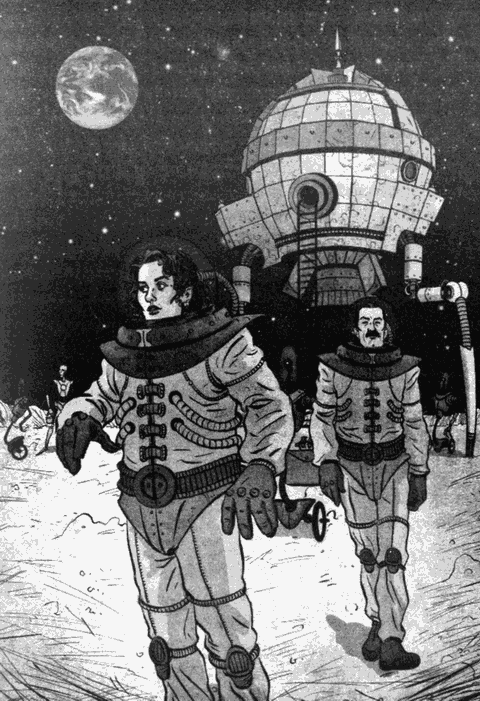
Анна появилась в прогулочном костюме, держась за рукоятку изящного дамского кислородного баллона своей бледной маленькой рукой
Прогулочный костюм Анны был довольно громоздкий и сложный, но каждая деталь его была необходима: кислородные баллоны, тяжелые ботинки с протекторами, комбинезон на асбестовой подкладке и, конечно же, крепкий шлем, выполненный из закаленного стекла. Когда Анна вышла, в модной шляпке с пером, наклоненной внутри шлема, с ее бледной красивой рукой, державшейся за ручку изящного дамского кислородного баллона, Вронский с чувством облегчения оторвался от пристально устремленных на него глаз Голенищева и с новою любовью взглянул на свою прелестную, полную жизни и радости подругу.
Они пришли в нанятый модуль и осмотрели его. Голенищев, проживший на Луне гораздо больше времени, чем Вронский с Карениной, с гордостью взял на себя роль инспектора, тщательно осмотрел люки и уплотнители.
– Я очень рада одному, – сказала Анна Голенищеву, когда они уже возвращались. – У Алексея будет atelier хороший. Непременно ты возьми этот модуль, – сказала она Вронскому порусски и говоря ему ты , так как она уже поняла, что Голенищев в их уединении сделается близким человеком и что перед ним скрываться не нужно.
– Разве ты пишешь? – сказал Голенищев, быстро оборачиваясь к Вронскому.
– Да, я давно занимался и теперь немного начал, – сказал Вронский, краснея.
– У него большой талант, – сказала Анна с радостною улыбкой. – Я, разумеется, не судья! Но судьи знающие то же сказали.
Анна в этот первый период своего освобождения и быстрого выздоровления чувствовала себя непростительно счастливою и полною радости жизни. Воспоминание о несчастье мужа не отравляло ее счастья. Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нем. С другой стороны, несчастие ее мужа дало ей слишком большое счастье, чтобы раскаиваться.
Воспоминание обо всем, что случилось с нею после болезни: примирение с мужем, разрыв, известие о ране Вронского, его появление, приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, прощанье с сыном, полет на Луну в яйцевидной капсуле, выпущенной из огромной пушки, – все это казалось ей горячечным сном, от которого она проснулась одна с Вронским.
Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонувший человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях.
Одно успокоительное рассуждение о своем поступке пришло ей тогда в первую минуту разрыва, и, когда она вспомнила теперь обо всем прошедшем, она вспомнила это одно рассуждение.
– Я неизбежно сделала несчастие этого человека, – думала она вслух, в то время как Андроид Каренина заплетала ей косы тонкими проворными пальцами. – Но я не хочу пользоваться этим несчастием; я тоже страдаю и буду страдать: я лишаюсь того, чем я более всего дорожила, – я лишаюсь честного имени и сына. Я сделала дурно и потому не хочу счастья, не хочу развода и буду страдать позором и разлукой с сыном.
Андроид Каренина согласно кивала, глаза ее переливались разными цветами – от темнокрасного до чувственного лилового. Она так же, как и хозяйка, знала, что как ни искренно хотела Анна страдать, она не страдала. Позора никакого не было.
С тем тактом, которого так много было у обоих, они на Луне, избегая русских дам, никогда не ставили себя в фальшивое положение и везде встречали людей, которые притворялись, что вполне понимали их взаимное положение гораздо лучше, чем они сами понимали его. Неслучайно они отправились в путешествие на Луну – это был анклав, где лояльно относились к таким вещам и где осуждения наравне с гравитацией действовали лишь вполсилы. Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучила ее первое время. Девочка, его ребенок, была так мила и так привязала к себе Анну с тех пор, как у нее осталась одна эта девочка, что Анна редко вспоминала о сыне.
Потребность жизни, увеличенная выздоровлением, была так сильна и условия жизни были так новы и приятны, что Анна чувствовала себя непростительно счастливою. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше она любила его. Она любила его за его самого и за его любовь к ней. Полное обладание им было ей постоянно радостно. Близость его ей всегда была приятна. Все черты его характера, который она узнавала больше и больше, были для нее невыразимо милы. Наружность его, изменившаяся в штатском платье, была для нее привлекательна, как для молодой влюбленной. Во всем, что он говорил, думал и делал, она видела чтото особенно благородное и возвышенное. Она восхищалась подетски наивным и прекрасным образом, в котором представал перед ней Вронский, – он и Лупо были похожи на паладина и его скакуна. Ее восхищение пред ним часто пугало ее самое: она искала и не могла найти в нем ничего непрекрасного. Она не смела показывать ему сознание своего ничтожества пред ним. Ей казалось, что он, зная это, скорее может разлюбить ее; а она ничего так не боялась теперь, хотя и не имела к тому никаких поводов, как потерять его любовь. Но она не могла не быть благодарна ему за его отношение к ней и не показывать, как она ценит это. Он, по ее мнению, имевший такое определенное призвание к военной деятельности, в которой должен был играть видную роль, – он пожертвовал честолюбием для нее, никогда не показывая ни малейшего сожаления. Он был, более чем прежде, любовнопочтителен к ней, и мысль о том, чтоб она никогда не почувствовала неловкости своего положения, ни на минуту не покидала его. Он, столь мужественный человек, в отношении ее не только никогда не противоречил, но не имел своей воли и был, казалось, только занят тем, как предупредить ее желания. И она не могла не ценить этого, хотя эта самая напряженность его внимания к ней, эта атмосфера забот, которою он окружал ее, иногда тяготили ее.
Вронский между тем, несмотря на полное осуществление того, что он желал так долго, не был вполне счастлив. Он скоро почувствовал, что осуществление его желания доставило ему только песчинку из той горы счастья, которой он ожидал. Это осуществление показало ему ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания. Первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска.
Он скучал по товарищескому плечу на поле битвы, скучал по вспышкам, жару и дыму сражений, руке его не хватало привычного ощущения тяжелого испепелителя, а слух искал милого сердцу звука закрывающегося люка Оболочки, принявшей внутрь хозяина и готовой к борьбе. Независимо от своей воли, он стал хвататься за каждый мимолетный каприз, принимая его за желание и цель. Шестнадцать часов дня надо было занять чемнибудь, так как они жили на Луне в совершенной свободе, вне того круга условий общественной жизни, который занимал время в Петербурге. Об удовольствиях холостой жизни, которые в прежние путешествия за пределы Земли занимали Вронского, нельзя было и думать, так как одна попытка такого рода произвела неожиданное и несоответствующее позднему ужину со знакомыми уныние в Анне.
Сношений с обществом местным и русским, при неопределенности их положения, тоже нельзя было иметь. Рассматривание синезеленого великолепия Земли или же любование звездными скоплениями далеких галактик для него, как для русского и умного человека, не имело той необъяснимой значительности, которую умеют приписывать этому делу англичане.
И как голодное животное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины.
Он начал понимать прелесть полумистического ритуала писания красками на основе грозниума, когда художник оставляет маленькие капельки краски по всему холсту легким и быстрым движением кисти и капельки эти притягиваются друг к другу, создавая переливающиеся узоры, похожие на отпечатки пальцев или резные снежинки. Вронский полностью погрузился в рисование. Он начал писать портрет Анны в костюме и шлеме, и портрет этот казался ему и всем, кто его видел, очень удачным.
Старый, запущенный модуль, снятый Вронским, с его высокими ткаными потолками и тускло освещенными коридорами, с его вручную открывающимися замками, медленно меняющимися видами Земли на мониторах и мрачными залами для приемов – модуль этот, после того как они переехали в него, самою своею внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, военный в отставке, сколько «лунный житель», просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам – скромный художник, отрекшийся от света, связей, честолюбия для любимой женщины.
– А мы живем и ничего не знаем, – сказал раз Вронский пришедшему к ним поутру Голенищеву. – Ты видел картину Михайлова? – сказал он, повернувшись к монитору Лупо, на котором светилось сообщение от товарища из России, полученное этим утром, и указывая на статью в нем о русском художнике, жившем в той же колонии и окончившем картину, о которой давно ходили слухи.
– Нельзя ли его попросить сделать портрет Анны Аркадьевны? – сказал Вронский.
– Зачем мой? – сказала Анна. – После твоего я не хочу никакого портрета. Лучше Ани (так она звала свою девочку). Она с улыбкой посмотрела сквозь стекло иллюминатора в детскую, где ребенок радостно смеялся над спотыкающимися звуками I/Игрушечной Шарманки/2.
– Я его встречал. Но он чудак. Он переехал на Луну не совсем по собственной воле, если вы понимаете, о чем я.
Конечно же, Голенищева не поняли, и в ответ на изумленное выражение лица Вронского он наклонился вперед с тем особым видом, с каким люди, обладающие какойлибо тайной, подают собеседнику знак, чтобы их заставили выдать эту самую тайну.
– Насколько я понимаю, много лет назад он придерживался довольно радикальных взглядов относительно судьбы роботов. Он утверждал, что степень развития того или иного робота должна определяться только его хозяином и более никем.
– Все верно, – начала Анна, с гордостью показывая на своего роботакомпаньона, готовая защищать озвученную точку зрения или, по крайней мере, говорить о ее сильных сторонах.
– Однако же он пошел дальше и сделал из этих положений весьма занятные выводы, заявив во всеуслышание, что роботы во многих своих проявлениях равны людям и потому утилизация их приравнивается к убийству человека.
Вронский в изумлении поднял брови.
– Говорят, он последовал этим установкам и в жизни… – прежде чем продолжить, Голенищев сделал вид, что ужасно смущен, – …и влюбился в роботакомпаньона жены и даже собирался жениться на ней. Самое интересное в этом то, что по какимто причинам он решил скрыться от посторонних глаз и пересудов здесь, в нашей милой лунной колонии, где он сейчас и проживает.
Голенищев, довольный произведенным эффектом и своим талантом рассказчика, откинулся в кресле, в то время как Анна, безмолвно сидя в кресле и поглаживая по руке Андроида, задавалась вопросом, был ли Михайлов так неправ в своем выборе. И не был ли ее собственный роботкомпаньон более человечным, чем большинство людей, попадавшихся ей на жизненном пути?
– Знаете что? – наконец сказала она. – Поедемте к нему!
Художник Михайлов, как и всегда, был за работой, когда прозвучал сигнал, оповестивший о приходе гостей. Он быстро прошел к двери, и, несмотря на раздражение и досаду от того, что его прервали, был поражен мягким светом, которым окутывала свою хозяйку Андроид Каренина, в то время как сама Анна стояла в тени подъезда, слушая энергично говорившего ей чтото Голенищева. Видно было, что ей не терпится увидеть художника и его работу.
Они заговорили, однако Михайлов слышал все через слово – он мысленным взором схватил это нежное свечение, которое создавал робот вокруг своей хозяйки. Когда речь зашла о портрете, он с готовностью согласился написать его; в назначенный день он пришел и принялся за работу.
В чужом доме, и в особенности в модуле у Вронского, Михайлов был совсем другим человеком, чем у себя в студии. Он был неприязненно почтителен, как бы боясь сближения с людьми, которых он не уважал. Он называл Вронского «ваше сиятельство» и никогда, несмотря на приглашения, не оставался обедать и не приходил иначе как для сеансов. Анна была более, чем к другим, ласкова к нему и благодарна за свой портрет. На разговоры Вронского о его живописи он упорно молчал и так же упорно молчал, когда ему показали картину Вронского, и тяготился разговорами Голенищева, который, не скрываясь, все пытался втянуть его в спор о роботах.
Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Алексея Кирилловича, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту.
– Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение, – сказал Вронский Лупо, который, положив голову на колени хозяина, довольно урчал.
Анну поразило решение Михайлова написать вместе с ней и Андроида Каренину – решение это было необычным для портретного жанра, но казалось Анне вполне обоснованным.
* * *
На шестой день Голенищев с шумом появился на пороге модуля Карениной и Вронского. Снимая свой толстые, покрытые слоем пыли ботинки, он рассказал о сообщении, пришедшем только что от его петербургского товарища: в послании говорилось о весьма странном новом указе, изданном Министерством. Согласно документу, все роботы III класса были изъяты у хозяев для проведения какойто обязательной корректировки схем.
Сообщив об этом, Голенищев легко переключился на другие темы и рассказал, между прочим, о происшествии с забавным малышом Лунитом, которого он чуть несколькими часами ранее потерял в шахте, затем упомянул о трудностях в обслуживании Экстрактора, с которыми приходится сталкиваться в условиях низкой гравитации.
Однако Михайлов и Анна совершенно не слушали того, что дальше говорил Голенищев, и, казалось, были поражены первой новостью. Художник положил кисть и с тоскою посмотрел в большое окно модуля.
Что касается Анны, она сразу же поняла, кто написал эту новую загадочную программу Министерства.
– Может быть, – обратилась она к Андроиду, поднявшись с табурета, на котором позировала, и, вложив свою руку в руку робота, принялась ходить по студии, – может быть, в мое отсутствие та странная сила, живущая в моем муже, еще более укрепилась? И мой отъезд, мой побег на свободу, которую подарила мне Луна, обрек моих соотечественников и их роботовкомпаньонов на страдания, которые они испытывают вместо меня?
Сердце ее наполнилось чувством вины и отчаянием.
Вронский не разделял этих опасений; он был захвачен мучительно приходящим осознанием того, что он так и не смог овладеть техникой рисования грозниевыми красками и что это вовсе не вопрос времени: научиться писать грозниумом он не сумеет и в будущем.
– Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал, – говорил он про свой портрет, – а он посмотрел и написал. Вот что значит техника.
– Это придет, – утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант и, главное, образование, дающее возвышенный взгляд на искусство.
Убеждение Голенищева в таланте Вронского поддерживалось еще и тем, что сам он все еще надеялся найти на Луне грозниум, и он чувствовал, что похвалы и поддержка должны быть взаимны.
– Ведь правда же? – обратился он к Михайлову, но художник не отвечал. Сжимая в руках кисть, он медленно шел от окна к двери.
– Скажите, – обратился он к Голенищеву, упираясь в толстую стальную дверь, – этот проект… согласно этому проекту они намерены собрать всех роботов III класса?
– Об этом ничего не сказано – говорится только, что мы должны полностью довериться Министерству.
– Ах, да, я думаю, мы так и должны сделать. Именно так и поступить, – печально ответил Михайлов.
Затем в комнате воцарилось молчание. Голенищев с кривой ухмылкой и вздернутыми бровями посмотрел на Вронского и Анну, показывая, какое удовольствие доставляет ему это неоднозначное поведение талантливого художника. Вронский продолжил разглядывать портрет. Анна, взявшись за нежный манипулятор Андроида, задумчиво смотрела на игрушечную синезеленую модель Земли, стоявшую в студии.
Прежде чем ктолибо понял, что произошло, послышался лязг закрывшегося люка: Михайлов оказался снаружи без кислородного баллона и шлема. Присутствующие с изумлением смотрели, как старый художник тяжело шел в своих ботинках по пыльной поверхности Луны. Не подавая виду, что грудь его безжалостно теснит от отсутствия воздуха, он грустно послал воздушный поцелуй Земле, лег на пыльную твердь и задохнулся.
* * *
После загадочной смерти Михайлова модуль, в котором жили Вронский и Анна, неожиданно показался им особенно старым и грязным: время от времени в нем заедали дверные замки I класса, на стеклах виднелись полосы, а затворы были перепачканы засохшей шпаклевкой. Все это обрело неприятную очевидность, а одинаковый Голенищев, изо дня в день говоривший о великой минуте, когда он найдет наконец Волшебный металл, довершал неприятную картину. Они должны были чтото изменить в своей жизни. Было принято решение вернуться в Россию. В Петербурге Вронский собирался принять участие в разделе земли между ним и братом; Анна надеялась какнибудь повидаться с сыном. Вскоре они взобрались в космическую капсулу и улетели обратно на Землю.
Левин был женат третий месяц. Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он испытывал то, что испытывал бы человек, любовавшийся плавным полетом метеора вокруг астероида, после того как ему бы представилась возможность самому оседлать этот метеор. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно и мягко плыть вперед, – надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что действует атмосферное давление и надо както управлять своим метеором, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это хотя и очень радостно, но очень трудно и, весьма вероятно, смертельно опасно.
Бывало, холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни не только не могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось ему, должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женою не только не сложилась особенно, а, напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь против его воли получали необыкновенную и неопровержимую значительность. И Левин видел, что устройство всех этих мелочей совсем не так легко было, как ему казалось прежде. Несмотря на то что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной жизни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы. Он должен был, по его понятию, работать свою работу и отдыхать от нее в счастье любви. Она должна была быть любима, и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о мебели, о роботах I класса, тюфяках для приезжих, о подносе, о II/Поваре/6, обеде и т. п.
И он, любя ее, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими. Он посмеивался над тем, как она расставляла мебель, привезенную из Москвы, как убирала поновому свою и его комнату, как поставила галеновую капсулу на одну полку, а на следующий день, передумав, определила ей другую, как устраивала помещение своей новой II/Девушке/467, бывшей свадебным подарком родителей Левина, как заказывала обед старику II/Повару/6, как входила в препирания с его старой mécanicienne Агафьей Михайловной, отстраняя ее от надзора за роботами I и II класса.
Он не знал того чувства перемены, которое она испытывала после того, как ей дома иногда хотелось какогонибудь любимого блюда или конфет, и ни того, ни другого нельзя было иметь, а теперь она могла заказать, что хотела, прокатившись на тандемном велосипеде вместе с Татьяной до магазина, купить там груды конфет, издержать сколько хотела денег и заказать какое хотела пирожное.
Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышенного счастья первого времени, было одно из разочарований; и эта милая озабоченность, которой смысла он не понимал, но не мог не любить, было одно из новых очарований.
Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных, и вдруг с первых же дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного, заплакала и замахала руками.
Первая ссора произошла, когда Левин вместе с Сократом поехал к новому дому в деревне, услыхав от соседапомещика, что на границе его владений был замечен еще один гигантский загадочный кощейчервяк. Приехав разузнать, в чем дело, Левин не нашел самого червяка, но зато остановился поразмыслить над тем, что чудовище оставило после себя: это была огромная лужа охристожелтой слизи и рядом с ней скелет человека, аккуратно избавленный от плоти. Вместе с Сократом они целый час увлеченно восстанавливали картину произошедшего, с особой тщательностью измеряли длину оставшихся следов при помощи триангулятора Сократа, который он традиционно извлек из своей бороды. Наконец они пришли к выводу, что этот механический монстр был на треть больше особи, от которой им пришлось отстреливаться I/Световой Пушкой/4 Гриши. Сократ провел собственный анализ данных, единственным выводом Левина было то, что этот кощей СНУ (на самом ли деле СНУ?) продолжал расти – но почему и как?!
Раскрасневшись от удовольствия, которое ему обычно доставляло любого рода расследование и открытие, Левин отправился домой. В пути одна радость сменилась другой, и вскоре мысли его полностью были посвящены Кити, ее любви, их общему счастью. Он ехал домой, только думая о ней, о ее любви, о своем счастье, и чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нем нежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербацким делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее, она оттолкнула его.
– Что ты?
– Тебе весело… – начала она, желая быть спокойноядовитою.
Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности, всего, что мучило ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту.
– Веселился! – воскликнул он. – Я в буквальном смысле слова вынужден был копаться в желтой слизи и рассматривать изуродованные человеческие останки!
– Это правда, госпожа, – поддержал Левина Сократ и в качестве доказательства протянул вперед полную руку слизи, которая тяжелыми каплями падала сквозь пальцы. Кити и Татьяна с отвращением отшатнулись от столь неприятной улики.
Левин почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль.
Прежде чем он успел решить для себя, как это сделать, в дверь позвонили. Через секунду в комнату вошел II/Лакей/С43, а следом за ним двое хорошо одетых молодых людей; прибывшие оба были блондины, на щеках у них играл здоровый румянец, а над верхней губой красовались одинаково постриженные усики: к Левиным пожаловали Солдатики.
– Добрый день, – начал один из них. Говорил он с чрезвычайной почтительностью к хозяину имения и его молодой жене.
В это время второй гость стоял молча, скрестив руки на груди; шляпа его слегка съехала набок, но он не обращал внимания и только все время улыбался. Его глаза пристально смотрели на Сократа и Татьяну.
– Мы представляем Министерство робототехники и государственного управления, – продолжил второй. Он говорил без запинки, но излишне торопливо, словно бы произносил заученный текст. – Мы пришли забрать ваших роботовкомпаньонов в соответствии с общенациональным указом об обязательной корректировке. Вам была предоставлена отсрочка в связи с бракосочетанием. И мы присоединяемся к поздравлениям, которые передает вам Министерство.
Первый гость коротко произнес, указывая на роботов:
– Этих забирать?
Татьяна боком сделала шаг к Кити, и Солдатики, скрестив руки, встали прямо, словно танцоры, готовые исполнить менуэт.
– Ну, нет! – объявила вдруг Кити, широко распахнув глаза. – Они не могут уйти!
Левин набрал воздуха в легкие, намереваясь отругать Кити за это детское неповиновение представителям власти. Однако взглянув на жену, стоявшую под руку с Татьяной, он смягчился, увидав выражение страдания на ее лице. И даже больше – когда он посмотрел в мигающие глаза своего нервно дергавшегося робота, он почувствовал, что Кити была абсолютно права в своем неповиновении. Но как они это сделают?
– Господа, я прошу прощения за горячность и несдержанность моей жены – она еще очень молода и неопытна. Конечно же, мы должны подчиниться и отдать наших роботов вам для произведения необходимых корректировок. Но не могли бы вы сперва, с вашими возможностями, оказать помощь здешнему помещику?
Торопясь, он начал говорить, обращаясь, главным образом, к первому Солдатику, который показался Левину более дружелюбным, чем его товарищ. Он рассказал о том, что они увидели у нового дома: о следах борьбы, о полностью обглоданном скелете, о луже желтоохристой слизи. Он рассказал также о собственном сражении с гигантским червяком за пределами Ергушова.
– Не могли бы вы, раз уж государственные дела привели вас в этот край, поехать туда и посмотреть? Угроза, исходящая от этих ужасных смертоносных монстров, как вы можете себе представить, сильно тревожит меня и мою семью.
Но Солдатик, к которому обращался Левин, почесал голову и прищурился; казалось, его совершенно не заинтересовала история Левина.
– Действительно, это самая страшная сказка, какую я когдалибо слышал, – сказал он мягко, – но она, увы, не имеет никакого отношения к нашему делу.
Левин уголком глаза взглянул на Сократа – тот мягко коснулся талии Татьяны – это был такой трогательный и такой человеческий жест.
– Нам были даны четкие инструкции.
Левин про себя обругал однозадачных Солдатиков, как вдруг один из них, стоявший до этого молча со скрещенными на груди руками и будто бы совсем не интересовавшийся разговором, выпростал руку и поднял вверх раскрытую ладонь.
– Этот червеобразный робот, – сказал он, – издавал ли он звуки, похожие на тиканье, чтото вроде «тикатика»?
Левин согласно кивнул, после чего Солдатик вздохнул и стал шепотом объяснять чтото своему товарищу. Затем они развернулись на каблуках и направились к двери. Первый Солдатик приветливо посмотрел через плечо на Левина и сказал небрежно:
– Мы вернемся в скором времени и закончим начатое здесь дело. У нас нет никакого желания отнимать у вас роботов силой.
– Нет, – подтвердил второй Солдатик, закрывая за собой тяжелую дверь, – пока нет.
Кити расплакалась и бросилась к Татьяне, чтобы упасть на ее металлическую грудь.
– Если ее заберут, я не вынесу этого!
– Я тоже, моя дорогая, – ответил Левин, хмуро смотревший в окно на удалявшихся Солдатиков, – я тоже.
– И что они собираются с ними делать? Я имею в виду, что они на самом деле собираются делать?
– Я не знаю, Кити.
– Госпожа? – тревожно спросила Татьяна, когда Левин и Кити обнялись.
– Господин? – повторил Сократ.
– Да, да, дорогие мои, – поспешно ответил Левин, – вы правы. Мы должны оставить Покровское. И как можно скорее.
Тотчас же в доме Левиных началась кипучая деятельность среди людей и роботов, занятых приготовлением к быстрому и тайному отъезду в безопасное место. Что взять с собой? Сколько багажа? А главное, куда бежать?
– Я вместе с андроидами поеду к брату Николаю, – сказал Левин, – в своем последнем сообщении он рассказал, что его собственного роботакомпаньона так и не изъяли для корректировки. Будем надеяться, что глушь, в которой стоит этот маленький городок, станет надежной защитой от Солдатиков Министерства – слишком много усилий придется затратить, чтобы изъять несколько роботов.
Лицо Кити вдруг переменилось.
– Когда же ты поедешь? – сказала она.
– Тотчас же! Навестить больного брата – уважительная причина для путешествия, и я уложу отключенных роботов вместе с багажом.
– И я с тобой, можно? – сказала она.
– Кити! Ну, что это? – с упреком сказал он.
– Как что? – оскорбившись за то, что он как бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. – От чего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать.
– Я еду потому, что мой брат умирает, – сказал Левин. – Для чего ты…
– Для чего? Для того же, для чего и ты.
– И в такую для меня важную минуту она думает только о том, что ей будет скучно одной, без меня и Татьяны, – с горечью сказал Левин Сократу, но при этом произнес слова так, чтобы слышала и Кити.
– Послушайте, послушайте же, – шепнул в ответ Сократ и виновато посмотрел на молодую хозяйку, – не спорьте с ней.
– Нет! Это невозможно, – сказал Левин строго. Татьяна принесла для Кити стакан чая от I/Caмовара/9, та даже не заметила ее. Тон, которым муж сказал последние слова, оскорбил ее в особенности тем, что он, видимо, не верил тому, что она сказала.
– А я тебе говорю, что, если ты поедешь, и я поеду с тобой, непременно поеду, – торопливо и гневно заговорила она. – Почему невозможно? Почему ты говоришь, что невозможно?
– Потому, что ехать бог знает куда, по каким дорогам, гостиницам. И брат мой живет в совершенно неподходящих условиях. И это уже было бы достаточным основанием для того, чтобы ты не ехала со мной! Подумай об опасности быть настигнутыми агентами Министерства и признанными Янусами за неповиновение общегосударственному приказу о корректировке роботов. Ты стеснять меня будешь, – говорил Левин, стараясь быть хладнокровным.
– Где ты можешь, там и я…
– Ну, уже по одному тому, что там женщина эта, с которою ты не можешь сближаться.
– Я ничего не знаю и знать не хочу, кто там и что. Я знаю, что муж мой будет рисковать, чтобы защитить наших роботов, и я еду с мужем, чтобы…
– Кити! Не рассердись. Но ты подумай, дело это так важно, что мне больно думать, что ты смешиваешь чувство слабости, нежелания остаться одной. Ну, тебе скучно будет одной, ну, поезжай в Москву.
– Вот, ты всегда приписываешь мне дурные, подлые мысли, – заговорила она со слезами оскорбления и гнева. – Я ничего, ни слабости, ничего… Я чувствую, что мой долг быть с мужем, когда он в горе, но ты хочешь нарочно сделать мне больно, нарочно хочешь не понимать…
– Нет, это ужасно. Быть рабом какимто! – вскрикнул Левин, вставая и не в силах более удерживать своей досады. Но в ту же секунду почувствовал, что он бьет сам себя.
– Так зачем ты женился? Был бы свободен. Зачем, если ты раскаиваешься? – заговорила она, вскочила и побежала в гостиную.
Он начал говорить, желая найти те слова, которые могли бы не то что разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его и ни с чем не соглашалась. Он нагнулся к ней и взял ее сопротивляющуюся руку. Он поцеловал ее руку, поцеловал волосы, опять поцеловал руку, – она все молчала. Но когда он взял ее обеими руками за лицо и сказал: «Кити!» – вдруг она опомнилась, поплакала и примирилась.
Было решено ехать вместе и как можно скорее. Они погрузили роботов в Спящий Режим и упаковали их в один чемодан.
Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике, посещающей их, с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования, и делаются этою самою претензией еще хуже старинных, просто неопрятных гостиниц.
Оставался один грязный номер, в котором едва могли разместиться два человека и их вновь активированные роботыкомпаньоны. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что с братом и что нужно сделать все необходимое, чтобы найти место, где роботы могут оставаться необнаруженными, ему приходилось заботиться о ней.
– Иди, иди! – сказала она, робко и виновато глядя на него.
Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какою он видел ее в Москве: то же шерстяное платье и голые руки и шея и то же добродушнотупое, несколько пополневшее, рябое лицо. Она принялась торопливо и с испуганным выражением лица говорить, какое она испытала облегчение, встретив Левина: по словам ее, состояние Николая резко ухудшилось, и уже она опасалась, что он вотвот отойдет в мир иной.
– Ну, что? Как он сейчас?
– Очень плох. Не встает. Корчится от боли и по телу его пробегает странная отвратительная рябь. Я боюсь худшего. Пойдемте, – продолжила Марья Николаевна, – они все ждали вас.
Но только что он двинулся, дверь его номера отворилась, и Кити выглянула. Под ее головой тотчас же показалась голова Татьяны. Левин покраснел от стыда и досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение; но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать.
Первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину; но это продолжалось только одно мгновение.
– Ну что же? Ты уже рассказал ей о нашем плане относительно роботов? – обратилась она к мужу и потом к ней.
– Да нельзя же в коридоре разговаривать! – сказал Левин, с досадой оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу шел в это время по коридору. А что, если это один из них? Что, если это Солдатик? Агент Министерства, переодетый в гражданское?
– Ну так войдите, – сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марье Николаевне; но, заметив испуганное лицо мужа, – или идите, идите и пришлите за мной, – сказала она и вернулась вместе с Татьяной в номер.
Левин пошел к брату. Он был потрясен инструкцией, вытравленной на железной двери; и все же он не посмел ослушаться предписаний и потому надел сложный защитный костюм, состоявший из маски, перчаток и халата.
– Мой бедный брат, – шепнул он Сократу, надевавшему свою маску.
Конечно, роботу нечего было бояться человеческих болезней, однако защитный костюм мог уберечь его от немедленного разоблачения, если бы в комнату вдруг вошел доктор или иной незнакомец.
Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными, бо льшую слабость, бо льшую худобу, но всетаки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса перед смертью, которое он испытал тогда, но только в большей степени.
В маленьком грязном номере, заплеванном по раскрашенным панно стен, за тонкою перегородкой которого слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб.
Прислоненный к противоположной стене стоял Карнак, шатающееся ржавое ведро, формально принадлежавшее к роботам III класса; он казался еще более обветшавшим и прогнившим, чем в последний раз, когда его видел Левин.
– Понятно, почему Министерство не стремится корректировать таких вот роботов, – шепнул Левин Сократу, который инстинктивно отшатнулся от печальной, сжавшейся железной фигуры.
Когда они подошли ближе, сомнение в том, что это разрушенное болезнью тело и было братом Николаем, уже стало невозможно. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые, поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат.
Когда Константин взял руку брата своей рукой в белой перчатке, чувствуя, что защиты ее едва ли было достаточно, Николай улыбнулся. В этот момент в коридоре послышался скрип каблука; Левин резко обернулся: это за ними? Их уже раскрыли? Сократ выше натянул свою маску, его глаза неуверенно замигали.
– Ты не ожидал меня найти таким, – с трудом выговорил Николай.
– Да… нет, – говорил Левин, путаясь в словах. Звук удаляющихся шагов становился все тише.
По телу Николая от середины тела пробежала вверх большая волна, словно бы он был шаром, наполненным воздухом, и воздух этот на время перегнали в одну из его частей. Левин отвернулся, когда брат вздрогнул и застонал.
– Как же ты не дал знать прежде, что ты так мучаешься?
Николай был не в силах ответить; вновь его тело сильно надулось, и вновь он стиснул зубы, а лицо его скривилось от боли. Надо было говорить, чтобы не молчать, а Левин не знал, что говорить, тем более что брат ничего не отвечал. Причина его странного состояния, как показалось, сидела не в животе; Левин увидал, что один глаз Николая сильно выпучился, за ним вылез из орбиты второй. Николай попытался сказать чтото, но распухший язык его вывалился изо рта, словно кусок теста. Полный ужаса и отвращения, Левин сообщил брату, что вместе с ним приехала и жена. Когда язык Николая сдулся и он вновь смог говорить, он выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание – Левин не произнес этого вслух, но он боялся того же.
– Я бы хотел объяснить причину нашего визита. Это касается… – тут он понизил голос и перешел на шепот, подавшись ближе к больному брату, – наших роботов…
В этот момент нога Карнака подвернулась, и он с лязгом рухнул на пол. Сократ тактично поднял коллегу и вернул его в прежнее положение у стены.
Неожиданно Николай оживился, начал чтото говорить, оставив без внимания сообщение брата относительно роботов и вместо этого переключившись на свое здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского знаменитого доктора с его I/Прогнозисом/4, а может, и с чемто еще более совершенным. Левин понял, что он все еще надеялся.
Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет приведет жену.
– Ну, хорошо, а я велю подчистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. Маша! убери здесь, – с трудом сказал больной. Карнак неуверенно повернул голову, когда его аудиосенсоры уловили вдалеке какойто неясный звук.
– Ну, что? Как? – с испуганным лицом спросила Кити.
– Ах, это ужасно, ужасно! Зачем ты приехала? – сказал Левин.
Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа; потом подошла и обеими руками взялась за его локоть.
– Костя! Сведи меня к нему, нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, сведи меня, пожалуйста, и уйди, – заговорила она. – Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезна тебе и ему. Пожалуйста, позволь! – умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого.
Левин должен был согласиться, и, оправившись и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату.
Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она надела защитную маску и халат и вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтоб ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее и с той, только женщинам свойственною, не оскорбляющею и сочувствующею тихою оживленностью начала говорить с ним.
– Мы встречались, но не были знакомы, на орбите Венеры, – сказала она. – Вы не думали, что я буду ваша сестра.
– Вы бы не узнали меня? – сказал он с просиявшею при ее входе улыбкой.
– Нет, я узнала бы. Очень жаль, что застала вас в таком состоянии, надеюсь, что смогу чемто помочь.
– А я надеюсь, что смогу помочь вам и вашим роботам, – улыбнулся Николай, и из этого тихого высказывания Левин заключил, что брат его, на самом деле, слышал его слова о роботах и, несмотря на то что был одной ногой в могиле, всем сердцем желал оказать помощь в деле сохранения андроидовкомпаньонов.
Было решено, что когда Кити и Левину придет время вернуться обратно в Покровское (хотя никто не произносил это вслух, все понимали, что минута эта настанет, когда Николай отойдет в мир иной), их роботы останутся в городе. Внешний вид их будет упрощен, под видом роботов II класса они поступят на местную табачную фабрику, владелец которой (Николай был уверен), возьмет небольшую плату за укрытие роботов у себя. Им предстояли долгие дни работы и ночи, проведенные в Спящем Режиме в грязных фабричных подвалах.
Проходили часы и дни, и вместе с этим Левин не мог уже спокойно смотреть на брата, не мог быть сам естествен и спокоен в его присутствии. Когда он входил к больному, глаза и внимание его бессознательно застилались, и он не видел и не различал подробностей положения брата. Он слышал ужасный запах, видел грязь, беспорядок и мучительное положение и стоны и чувствовал, что помочь этому нельзя.
В то время как Кити направила все свое внимание и сочувствие на умирающего человека, а Сократ беспокойно наматывал круги по комнате, Левин путешествовал по волнам своих мыслей, как землевладелец, внимательно инспектировавший пространства своей жизни. Он окинул мысленным взором все, что доставляло ему радость, – это была его любимая жена, это была работа в шахте; затем он обратился к тому, что его беспокоило: загадочные червеобразные монстры, неистовствующие в его владениях, приказ о перепрограммировании роботов, который виделся Левину необъяснимым и неоправданным проявлением государственной власти относительно граждан, и что более всего беспокоило его – ужасная болезнь, пожиравшая пока еще живого брата.
Ему и в голову не приходило подумать, чтобы разобрать все подробности состояния больного, подумать о том, как лежало там, под одеялом, это тело, как, сгибаясь, уложены были эти исхудалые голени, кострецы, спина и нельзя ли какнибудь лучше уложить их, сделать чтонибудь, чтобы было хоть не лучше, но менее дурно. Когда он думал обо всем этом, его бросало в холодный пот. Он был убежден несомненно, что ничего сделать нельзя ни для продления жизни, ни для облегчения страданий. Быть в комнате больного было для него мучительно, не быть еще хуже. И он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, будучи не в силах оставаться наедине с больным.
Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде вздувающегося тела больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и гадливости, которое она произвела в ее муже, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней не было ни малейшего сомнения, что она должна помочь ему, она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приводила ее мужа в ужас, тотчас же обратили ее внимание.
Она послала за доктором, заставила Сократа, Татьяну и Марью Николаевну мести, стирать пыль, мыть, потому что медленный, опутанный проводами Карнак был совершенно бесполезен в этом деле. Она чтото сама обмывала, промывала, чтото подкладывала под одеяло. Чтото по ее распоряжению вносили и уносили из комнаты больного. Сама она несколько раз ходила в свой номер, не обращая внимания на проходивших ей навстречу господ, доставала и приносила простыни, наволочки, полотенца, рубашки.
Больной, хотя и, казалось, был равнодушен к этому, не сердился, а только стыдился, вообще же как будто интересовался тем, что она над ним делала. Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин надел защитный костюм и, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли белье. Длинный белый остов спины с огромными выдающимися лопатками и торчащими ребрами и позвонками был обнажен, и Марья Николаевна с лакеем запутались в рукаве рубашки и не могли направить в него длинную висевшую руку. Кити, поспешно затворившая дверь за Левиным, не смотрела в ту сторону; но больной застонал, и она быстро направилась к нему.
– Скорее же, – сказала она.
– Да не ходите, – проговорил сердито больной, – я сам…
– Что говорите? – переспросила Марья Николаевна.
Но Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней.
– Я не смотрю, не смотрю! – сказала она, поправляя руку. – Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте, – прибавила она.
Приехал новый доктор, Сократ и Татьяна были заранее спрятаны в комнате Левина и Кити. Доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Он прослушал больного, проконсультировался со своим II/Прогнозисом/М4, прописал лекарство и с особенною подробностью объяснил сначала, как принимать лекарство, потом – какую соблюдать диету. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры.
– Но что с ним? – спросил Левин, сжимая руки.
– Это, безусловно, уникальный случай, – начал доктор, осторожно взглянув на живот больного, который то и дело выпячивался и спадал, словно внутри него сидела лягушка, силящаяся выпрыгнуть наружу, – однако я должен уведомить вас, что не имею ни малейшего представления, что это может быть.
Когда доктор со своим II/Прогнозисом/М4 уехал, больной чтото сказал брату; но Левин расслышал только последние слова: «твоя Катя», по взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее.
– Мне гораздо уж лучше, – сказал он. – Вот с вами я бы давно выздоровел. Как хорошо! – Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала ее.
– Теперь переложите меня на левую сторону и идите спать, – проговорил он.
На другой день больного причастили и соборовали: с выставленным вперед крестом священник опасливо стоял в метре от постели больного. Во время обряда Николай Левин горячо молился. Он пытался сфокусировать свои большие глаза на поставленный на ломберном, покрытом цветною салфеткой столе образ, но попытки его не приносили желаемого результата: глаза вращались в противоположные друг другу стороны. Левину мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил. Во время таинства Левин молился тоже и делал то, что он, неверующий, тысячу раз делал. Он говорил, обращаясь к Богу: «Сделай, если ты существуешь, то, чтоб исцелился этот человек (ведь это самое повторялось много раз), и ты спасешь его и меня».
Когда священник ушел, из укрытия показался Сократ. Левин загрузил в его Нижний Отсек ту же молитву, полную надежд и ожиданий, и запустил ее, чтобы проигрывать снова и снова.
После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжение часа, а живот более не вздувался. Николай улыбался, целовал руку Кити, со слезами благодаря ее, и говорил, что ему хорошо, нигде не больно и что он чувствует аппетит и силу. Он даже сам поднялся, когда ему принесли суп, разогретый на простой I/Конфорке/1, и попросил еще котлету.
Как ни безнадежен он был, как ни очевидно было при взгляде на него, что он не может выздороветь, Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, возбуждении. И даже Карнак счастливо и резко заскрипел, а его мутные от грязи глаза осветились радостными оранжевыми искорками.
– Ему лучше?
– Да, гораздо.
– Удивительно.
– Ничего нет удивительного.
– Всетаки лучше, – говорили они шепотом, улыбаясь друг другу.
Обольщение это было непродолжительно. Больной заснул спокойно, но через полчаса его разбудил сильный кашель, сопровождаемый резким выпячиванием – на этот раз набухал не только живот, но и все тело – от шеи до бедер. И вдруг действительность страдания, без сомнения, даже без воспоминаний о прежних надеждах, разрушила их в Левине и Кити и в самом больном.
В восьмом часу вечера Левин с женою пил чай из I/Самовара/64 в своем номере, когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы ее дрожали.
– Умирает! – прошептала она. – Я боюсь, сейчас умрет.
Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокотившись рукой, на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову.
Он лежал на кровати, постоянно ворочаясь, его живот надувался и вновь сморщивался, на шее и руках проявилась новая сетка язв, длинная спина была изогнута, а голова низко опущена.
– Что ты чувствуешь? – спросил шепотом Левин после молчания.
– Чувствую, что это внутри меня, – с трудом, но с чрезвычайною определенностью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николай. Левин подумал, что Николай говорил о смерти, скрывавшейся внутри него и определенной, в конце концов, уничтожить его.
– Почему ты думаешь? – сказал Левин, чтобы сказать чтонибудь.
– Внутри, внутри меня, и оно хочет вырваться наружу, – повторил он. – Оно должно выбраться. Это конец.
Марья Николаевна подошла к нему.
– Вы бы легли, вам легче, – сказала она.
– Скоро буду лежать тихо, – проговорил он, в это время из тела его вылез огромный пузырь и начал надуваться, – когда умру.
Левин положил брата на спину, сел подле него и, не дыша, глядел на его лицо. Умирающий лежал, закрыв глаза, но на лбу его изредка шевелились мускулы, как у человека, который глубоко и напряженно думает. Левин невольно думал вместе с ним о том, что такое совершается теперь в нем, но, несмотря на все усилия мысли, чтоб идти с ним вместе, он видел по выражению этого спокойного строгого лица и игре мускула над бровью, что для умирающего уясняется и уясняется то, что все так же темно остается для Левина.
– Да, да, вот так, – медленно выговаривал Николай, с трудом ворочая то распухавшим, то спадавшим языком.
– Боже мой, – вполголоса сказал Левин Сократу, – что же это за смерть?
* * *
Прошли еще мучительные три дня; больной был все в том же положении.
Чувство желания его смерти испытывали теперь все, кто только видел корчившегося и стонущего от боли Николая. Все мысли о том, что в любую минуту Солдатики могли поймать их с поличным (то есть с роботами), были отброшены при виде страданий, которые испытывал умирающий. Николай выгибал спину и стискивал зубы, держась за пульсирующий живот. Только в редкие минуты, когда успокаивающее гудение галеновой капсулы заставляло его на мгновение забыться от страданий, он в полусне иногда говорил то, что сильнее, чем у всех других, было в его душе: «Ах, хоть бы один конец!» Или более зловещее: «Это внутри… во мне… во мне…»
Время от времени усталый дряхлый Карнак шлепался на пол, изображая страдальческие позы хозяина, его ржавые манипуляторы сжимали помятый живот.
Мучения Николая были столь ужасны, что, когда на десятый день приезда в город Кити заболела, Левин не смог скрыть озабоченности, которая не скрылась от его жены.
– Но ты ведь не боишься, – сказала она, сдерживая рыдания, – что я заразилась?
– Ну, конечно, нет, дорогая. Этого не могло случиться.
Он привлек ее к себе и обнял; и только когда Левин уложил жену в постель для того, чтобы она немного поспала, он внимательно осмотрел ее шею и лоб, силясь найти следы той ужасной ряби, которая покрыла тело брата. Но нет, кожа Кити была чистой.
После обеда, однако, Кити надела свой защитный костюм и пошла, как всегда, с работой к больному. Он строго посмотрел на нее, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. В этот день он мучился язвами – все его тело было покрыто ими, они пульсировали и горели огнем, словно кипящие кратеры вулканов.
– Как вы себя чувствуете? – спросила его Кити.
– Хуже, – с трудом проговорил он. – Больно!
– Где больно?
– Везде, – ответил он, указывая на свое тело, покрытое струпьями и свисающими кусочками кожи.
– Нынче кончится, посмотрите, – сказала Марья Николаевна хотя и шепотом, но так, что больной, очень чуткий, как замечал Левин, должен был слышать ее. Николай слышал; но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был все тот же укоризненный и напряженный.
– Отчего вы думаете? – спросил Левин ее, когда она вышла за ним в коридор.
– Стал обирать себя, – сказала Марья Николаевна.
– Как обирать?
– Вот так, – сказала она, обдергивая складки своего шерстяного платья.
Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себе и как будто хотел сдергивать чтото.
Предсказание Марьи Николаевны было верно. Больной к ночи уже был не в силах поднимать рук и только смотрел пред собой, не изменяя внимательно сосредоточенного выражения взгляда. Даже когда брат или Кити наклонялись над ним, так, чтоб он мог их видеть, он так же смотрел. Кити послала за священником, чтобы читать отходную.
Пока священник совершался обряд, умирающий вдруг сильно выгнулся на постели, его руки затряслись, тело стало бросать из стороны в сторону, словно мост, подмываемый мощным потоком воды. Священник сделал попытку продолжить молитву, и в этот момент умирающий дико затрясся, каждая язва на его теле яростно пульсировала; больной вытянулся и глаза его закатились, язвы на теле принялись прыскать зеленоватосиней слизью, будто пасти маленьких драконов, изрыгающих языки пламени. Священник вцепился в Библию и сделал отчаянную попытку продолжить молитву, выпростав вперед дрожащую руку для того, чтобы приложить к холодному лбу крест, но умирающий выгибался туда и обратно, хватался за живот, выпячивавшийся на невообразимую высоту. Он ужасно застонал, и Карнак издал душераздирающий пронзительный крик, означивший невероятные страдания хозяина.
– Внутри, – вскрикнул Николай, – во мне!
В этот момент дверь распахнулась от удара ноги, и в комнату ворвались два красивых молодых человека с военными испепелителями в руках.
– Мы представляем Министерство Робототехники и Государственного Управления. Мы пришли, чтобы… Бог ты мой!
Во время речи парламентера Николай сел прямо, и кожа вдруг слетела с его тела, словно упаковка, срываемая с игрушки I класса; плоть, отделившись от костей, легко разметалась по комнате.
Все присутствовавшие в комнате застыли, пораженные увиденным. Николай Дмитрич в последний раз хрипло вскрикнул, а затем его голова неестественно завалилась назад. Остатки его тела были отброшены, словно ненужный более кокон: отброшены горбатым слюнявым чудовищем высотой более трех аршинов. Серозеленый монстр, стоявший на постели больного, был наделен десятком глаз, сгруппированных вокруг зубастой морды с кривым грязножелтым клювом. Толстый чешуйчатый хвост развернулся на всю комнату, в то время как четыре короткие лапки, на каждой из которых было по три когтя, замахали во все стороны.

Николай Дмитрии в последний раз хрипло вскрикнул, а затем его голова неестественно завалилась назад
Левин закричал и бросился вперед, чтобы закрыть собою Кити; священник расплакался и шепотом принялся молиться в бороду. Татьяна стремительно выпрыгнула изза портьеры, за которой они таились вместе с Сократом, и приземлилась на одного из Солдатиков.
– Ох, помогите! – закричал Солдатик, когда робот, сменив свой привычный розовый цвет на интенсивный оранжевый, вцепился ему в лицо своими длинными ухоженными ногтями из грозниума. – На помощь!
Но напарник не мог помочь ему: на глазах у застывших от ужаса посетителей комнаты неземное существо издало высокий воинственный крик, прыгнуло с кровати, согнув свои гигантские пальцыкогти, и приземлилось на втором Солдатике, который толькотолько собрал волю в кулак, чтобы поднять испепелитель и прицелиться. Прежде чем он успел выстрелить, монстр захлопнул клюв, поглотив голову человека, словно капкан, сомкнувший свои челюсти на жертве. Чудовище попятилось назад с безвольно свисающим телом солдата в пасти, ударило толстым, как ствол дерева, хвостом о стену и с грохотом вышло через сломанную дверь.
Татьяна продолжала сидеть верхом на первом Солдатике, механически избивая его сжатыми кулаками, на жертву сыпались десятки ударов в секунду; в конце концов жертва затихла. Гибкий робот долго сидел, свернувшись спиралью на теле Солдатика, частые вспышки в ее глазах постепенно сменились миганием привычной интенсивности. На протяжении всего этого времени Левин растерянно смотрел на постель, в которой еще совсем недавно лежал брат – теперь там остались только пропитанные кровью и слизью простыни, усыпанные ошметками мяса нездорового цвета и маленькими серыми клочками осыпавшейся кожи. Сократ осторожно помог Татьяне подняться на ноги, а затем наклонился, чтобы осмотреть разбитое тело Солдатика, доставая из связки инструментов в бороде увеличительное стекло.
Кити смотрела на своего роботакомпаньона со смущением, обожанием и страхом.
– Я… я не могу выразить словами мою благодарность за то, что ты подвергла себя такому риску, чтобы защитить нас и себя. Но… но Тат… – она замолчала, и Левин вынужден был договорить за нее:
– Татьяна, ты нарушила Железные Законы. Роботам запрещено бить людей! Как твоя программа позволила тебе сделать это?
– Я не уверена, – медленно произнесла Татьяна, нервно оглаживая пачку дрожащим манипулятором.
– Я все объясню, – сказал Сократ. – Это не тело человека. Это грозниум. Солдатики были роботами.
* * *
После слезного прощания со смелыми роботамикомпаньонами Левины отправились обратно в Покровское; в дороге Константин Дмитрич размышлял о двух мистических происшествиях: первое было ужасная смерть брата, ставшая результатом того, что Николай какимто образом превратился в живой кокон и одновременно пищу для отвратительного инопланетного существа; второе заключалось в неожиданном откровении – новые кадры, набранные Министерством для того только, чтобы изымать по всей стране роботов III класса, оказались вовсе не людьми, а самыми настоящими роботамиандроидами. Мысли эти возобновили в душе Левина то чувство ужаса пред неразрешимой загадкой и близостью, неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда он лег спать в той же комнате, что и брат.
Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде; еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность; но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние: он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасала его от отчаяния и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище.
Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни. Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность.
С той минуты, как Алексей Александрович понял из объяснений со Степаном Аркадьичем, что от него требовалось только то, чтоб он оставил свою жену в покое, не утруждая ее своим присутствием, и что сама жена его желала этого, он почувствовал, что сходит с ума, и безумие, словно лихорадка, поднималось обжигающим жаром в голове его, распаляясь все сильнее и сильнее; это было именно то состояние, которого так жаждало Лицо. Чтобы Каренин ослаб… чтобы он одарил преступников своим прощением… чтобы эта женщина и этот усатый разбойниксовратитель остались живы и получили долгожданную свободу… Лицо знало, что со временем их беззаботное существование начнет, словно крапива, жалить измученную душу Каренина, и он к тому моменту перейдет границу разумного, и уже не будет возврата.
Алексей Александрович не знал, чего теперь желал. Только когда Анна уже уехала из его дома и II/Лакей/7е62 спросил его, должно ли накрывать стол на двоих, хотя он и собирался обедать в одиночестве, он в первый раз понял ясно свое положение и ужаснулся ему. Труднее всего в этом положении было то, что он никак не мог соединить и примирить своего прошедшего с тем, что теперь было. Не то прошедшее, когда он счастливо жил с женой, смущало его. Переход от того прошедшего к знанию о неверности жены он страдальчески пережил уже; состояние это было тяжело, но было понятно ему. Если бы жена тогда, объявив о своей неверности, ушла от него, он был бы огорчен, несчастлив, но он не был бы в том для самого себя безвыходном непонятном положении, в каком он чувствовал себя теперь. Он не мог теперь никак примирить свое недавнее прощение, свое умиление, свою любовь к больной жене и чужому ребенку с тем, что теперь было, то есть с тем, что, как бы в награду за все это, он теперь очутился один.
ОПОЗОРЕННЫЙ. ОСМЕЯННЫЙ. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ И ВСЕМИ ПРЕЗИРАЕМЫЙ.
– Да, именно так, – согласился Каренин, обходя опустевшие комнаты в собственном доме.
НО ТОЛЬКО НЕ МНОЙ.
НИКОГДА ТЕБЯ НЕ ОСТАВЛЮ.
Душевные силы Каренина поддерживались энергичными увещеваниями Лица, так что Алексей Александрович сумел сохранить вид спокойный и даже равнодушный. Отвечая на вопросы о том, как распорядиться с вещами и комнатами Анны Аркадьевны, он делал величайшие усилия над собой, чтобы иметь вид человека, для которого случившееся событие не было непредвиденным и не имеет в себе ничего выходящего из ряда обыкновенных событий, и он достигал своей цели: никто не мог заметить в нем признаков отчаяния.
На второй день после отъезда в дом явился приказчик из модного магазина, которому прежде Каренин отослал записку, что все неоплаченные счета жены должны отныне отсылаться к ней напрямую.
– Извините, ваше превосходительство, что осмеливаюсь беспокоить вас. Но ее превосходительство сейчас на Луне, откуда крайне затруднительно бывает получить денежные средства.
Алексей Александрович в своей холодной сдержанной манере начал было объяснять, что какую бы планету или планетоид ни выбрала его жена для проживания, его это мало касается. Но тут он остановился на середине предложения и слегка наклонил голову набок, прислушиваясь к наставлениям, звучавшим в голове его.
ДА КАК ОН СМЕЕТ?
«Да, точно, – подумал Каренин, – кто ему позволил так говорить со мной?»
– Вы пришли ко мне за деньгами. Деньгами, которые задолжала вам моя жена. Вы пришли и разговариваете со мной так, словно бы не знаете положения семьи нашей.
– Я, конечно же, осведомлен, – вымолвил приказчик, запинаясь, – я знаю, о чем вы говорите.
– Так, – начал Алексей Александрович, и человеческая часть лица его искривилась в усмешке, а в изменившемся голосе появились металлические нотки, – НО ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО Я?
– Я… я… конечно, ваше превосходительство, – растерянно ответил приказчик, пятясь назад, – и, безусловно, в обычной ситуации я бы сначала прислал своего робота III класса, прежде чем беспокоить вас лично. Маленького забавного робота по прозвищу ТотальнаяРаспродажа. Но, как вы знаете, он был отправлен на корректировку.
Алексей Александрович вскинул голову и задумался, как показалось приказчику, и вдруг, повернувшись, молча сел к столу.
– Прошу прощения за доставленное беспокойство. Возможно, мне лучше уйти сейчас. Я пойду? Пойду?
Опустив голову на руки, Каренин долго сидел в этом положении, несколько раз пытался заговорить и останавливался. Наконец он поднял голову и прямо посмотрел на посетителя, его механический окуляр медленно выехал из глазницы.
* * *
Когда все было кончено и горло лавочника было раздроблено, словно горлышко винной бутылки, глаза вылезли из орбит, и безобразное месиво, бывшее совсем недавно человеческим телом, лежало на полу с одним из неоплаченных счетов Анны в холодной руке, Алексей Александрович позволил себе улыбнуться краешком губ.
– Можете считать, что кредиты погашены, – сказал он, перешагивая через труп и направляясь в свою спальню.
Оставшись опять один, Алексей Александрович понял, что он не в силах более выдерживать роль твердости и спокойствия. Он велел отложить дожидавшуюся карету, приказал никого не принимать и не вышел обедать. Он почувствовал, что ему не выдержать того всеобщего напора презрения и ожесточения, которые он ясно видел на лице и этого приказчика, и всех без исключения, кого он встречал в эти два дня. Он чувствовал, что не может отвратить от себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не оттого, что он был дурен (тогда бы он мог стараться быть лучше), но оттого, что он постыдно и отвратительно несчастлив. Он знал, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будут безжалостны к нему. Он чувствовал, что люди уничтожат его, как стая задушит истерзанную, визжащую от боли собаку. И знал, что единственное спасение от людей – скрыть от них свои раны, и он это бессознательно пытался делать два дня, но теперь он был уже не в силах продолжать эту неравную борьбу.
ОНА ВЫСТАВИЛА ТЕБЯ НА ПОСМЕШИЩЕ.
Завтра он покажется перед своими коллегами в Министерстве; сопровождаемый полком Солдатиков, преданных ему одному, он выступит с решительным заявлением.
ОНА ОСТАВИЛА ТЕБЯ. И МИР СМЕЕТСЯ НАД ТОБОЙ.
Он объявит о переосмыслении основной идеи Проекта, руководителем которого является, объявит о том, что его видение проблемы, скажем так, эволюционировало.
ТЕПЕРЬ ОНА ДОЛЖНА СТРАДАТЬ.
И МИР ДОЛЖЕН СТРАДАТЬ ВМЕСТЕ С НЕЙ.
Он закинул голову, и из горла его послышался ужасный скрип. Эта грубая пародия на смех перешла в страшный стон отчаяния. Отчаяние его еще усиливалось сознанием, что он был совершенно одинок со своим горем. Не только в Петербурге у него не было ни одного человека, кому бы он мог высказать все, что испытывал, кто бы пожалел его не как высокопоставленного чиновника, не как члена общества, но просто как страдающего человека; но и нигде у него не было такого человека.
ЭТО ОНА ДОЛЖНА СТРАДАТЬ
И МИР ДОЛЖЕН СТРАДАТЬ ВМЕСТЕ С НЕЙ.
Так называемые роботыкомпаньоны, теперь уже собранные все до единого, не подвергнутся никакой корректировке и не вернутся к своим хозяевам. Они никогда не вернутся. Никогда.
У ТЕБЯ ТОЛЬКО ОДИН ДРУГ, АЛЕКСЕЙ.
Я.
Ступив на твердь земную, Вронский с Анной сняли комнаты в одной из лучших гостиниц СанктПетербурга. Вронский отдельно, в нижнем этаже, Анна в большом отделении наверху с ребенком, II/Гувернанткой/D145 и Андроидом Карениной.
В первый же день приезда Вронский поехал к брату. Там он застал приехавшую из Москвы по делам мать. Мать и невестка встретили его как обыкновенно; они расспрашивали его о поездке на Луну, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Анной. Брат же, на другой день приехав утром к Вронскому, сам спросил его о ней, и Алексей прямо сказал ему, что он смотрит на свою связь с Карениной как на брак; что он надеется устроить развод и тогда женится на ней, а до тех пор считает ее такою же своею женой, как и всякую другую жену, и просит его так передать матери и своей жене.
– Если свет не одобряет этого, то мне все равно, – сказал Вронский, – но если родные мои хотят быть в родственных отношениях со мною, то они должны быть в таких же отношениях с моею женой.
Старший брат, всегда уважавший суждения меньшего, не знал хорошенько, прав ли он или нет, до тех пор, пока свет не решил этого вопроса; сам же, с своей стороны, ничего не имел против этого и вместе с Алексеем пошел к Анне.
Вронский при брате говорил, как и при всех, Анне «вы» и обращался с нею как с близкою знакомой, но было подразумеваемо, что брат знает их отношения, и говорилось о том, что Анна едет в имение Вронского. Несмотря на всю свою светскую опытность, Алексей Кириллович, вследствие того нового положения, в котором он находился, был в странном заблуждении. Казалось, ему надо бы понимать, что свет закрыт для него с Анной; но теперь в голове его родились какието неясные соображения, что так было только в старину, а что теперь, при быстром прогрессе (он незаметно для себя теперь был сторонником всякого прогресса), взгляд общества изменился и что вопрос о том, будут ли они приняты в общество, еще не решен.
«Разумеется, – думал он, – свет не примет ее, но люди близкие могут и должны понять это как следует».
Одна из первых дам петербургского света, которую увидел Вронский, была его кузина Бетси.
– Наконец! – радостно встретила она его. – А Анна? Как я рада! Где вы остановились? Я воображаю, как после вашего прелестного путешествия вам ужасен наш Петербург; и этот медовый месяц на Море Спокойствия! И очаровательный Лупо – его до сих пор не забрали! Как это чудесно!
После чего Бетси начала говорить сбивчиво, перескакивая с предмета на предмет; чувствовалось, что ей нелегко давался этот разговор со старыми друзьями. Она коснулась слухов об ужасных монстрахпришельцах, заполонивших деревни («Наши Почетные Гости наконецто прибыли!»); говорила о том, что с нетерпением ждет возвращения своего роботакомпаньона («Конечно же, я ни капельки не скучаю по Дорогуше. Я прекрасно справляюсь и без нее.»).
Вронский кивнул, отметив про себя с изумлением, что волосы Бетси при этом завязаны в небрежный пучок на макушке, а платье спереди непозволительно измялось.
– Что развод? – прощебетала Бетси. – Все сделали?
– Нет еще, но в чем значенье…
Вронский заметил, что восхищение Бетси уменьшилось, когда она узнала, что развода еще не было.
– В меня кинут камень, я знаю, – сказала она, – но я приеду к Анне; да, я непременно приеду. Вы недолго пробудете здесь?
И действительно, она в тот же день приехала навестить Анну и Андроида Каренину; но тон ее был уже совсем не тот, как прежде. Она, очевидно, гордилась своею смелостью и желала, чтоб Анна оценила верность ее дружбы. Она пробыла не более десяти минут, разговаривая о светских новостях и размышляя о Почетных Гостях. Были ли они с Венеры? Или, быть может, с только что открытого Нептуна? Как бы там ни было, Министерство не перестает уверять граждан, что угроза эта может быть с легкостью отражена, да и какой глупец усомнился бы в этом!
При отъезде она сказала:
– Вы мне не сказали, когда развод. Положим, я забросила свой чепец через мельницу, но другие поднятые воротники будут вас бить холодом, пока вы не женитесь. И это так просто теперь. Хотя, как я понимаю, ваш муж чрезвычайно занят в эти дни, потому что следит за проведением корректировки роботовкомпаньонов. И если бы только ваш муж был совершенно другим человеком. Я слышала, что в последнее время он стал какимто… – она замолчала и, подняв руку, принялась поправлять растрепанные волосы, – …какимто странным…
По тону Бетси Вронский мог бы понять, чего ему надо ждать от света; но он сделал еще попытку в своем семействе. Но он возлагал большие надежды на Варю, жену брата. На другой же день после приезда он поехал к Варе, и, застав ее одну, прямо высказал свои чаяния: что она не бросит камня и с простотой и решительностью поедет к Анне и примет ее.
– Ты знаешь, Алексей, – сказала она, выслушав его, – как я люблю тебя и как готова все для тебя сделать, но я молчала, потому что знала, что не могу тебе и Анне Аркадьевне быть полезною, – сказала она, особенно старательно выговорив «Анна Аркадьевна». – Не думай, пожалуйста, чтобы я осуждала. Никогда; может быть, я на ее месте сделала бы то же самое. Я не вхожу и не могу входить в подробности, – говорила она, робко взглядывая на его мрачное лицо. – Но надо называть вещи по имени. Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала бы ее и тем реабилитировала бы ее в обществе; но ты пойми, что я не могу этого сделать. У меня дочери растут, и я должна жить в свете для мужа.
Вронский понял, что дальнейшие попытки тщетны и что надо пробыть в Петербурге эти несколько дней, как в чужом городе, избегая всяких сношений с прежним светом, чтобы не подвергаться неприятностям и оскорблениям, которые были так мучительны для него.
Даже среди незнакомцев он ловил на себе холодные завистливые взгляды – отчего ему было позволено разгуливать с роботомкомпаньоном? И на этот скрытый (сам по себе напрашивающийся) вопрос у него не было ответа. Отчего эти знаменитые Солдатики, управляемые Алексеем Александровичем Карениным, не приходили к нему, чтобы забрать Лупо?
Действительно, одна из главных неприятностей положения в Петербурге была та, что Алексей Александрович и его имя, казалось, были везде. Нельзя было ни о чем начать говорить, чтобы разговор не свернулся на Каренина; никуда нельзя было поехать, чтобы не встретить его. Так, по крайней мере, казалось Вронскому, как кажется человеку с больным пальцем, что он, как нарочно, обо все задевает этим самым больным пальцем.
Пребывание в Петербурге казалось Вронскому еще тем тяжелее, что все это время он видел в Анне какоето новое, непонятное для него настроение. То она была как будто влюблена в него, то она становилась холодна, раздражительна и непроницаема, часами сиживая наедине с Андроидом Карениной. Она чемто мучилась и чтото скрывала от него и как будто не замечала тех оскорблений, которые отравляли его жизнь и для нее, с ее тонкостью понимания, должны были быть еще мучительнее. Вронскому вдруг вспомнилась старая поговорка, которую он впервые услышал еще в юности – она, казалось, подтверждала истину: вы можете отправиться в путешествие на Луну, но не удивляйтесь, если мир вдруг изменится в ваше отсутствие.
Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. Из полученных во время отсутствия на Земле писем она узнала, что Сергею сказали, будто мать умерла, и эта страшная ложь тяжелым камнем давила ей сердце. С того дня, как она покинула Луну, мысль об этом не переставала волновать ее. И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше. Именно об этом мечтала вслух Анна, когда Вронский увидал ее, сидевшей наедине с Андроидом Карениной: она безостановочно говорила о Сереже, просматривала на мониторе робота Воспоминания о мальчике день и ночь. Она и не задавала себе вопроса о том, как устроить это свидание. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе; но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно ее теперешнее положение в обществе – не только изза ее связи с Вронским, но и потому, что при ней попрежнему оставался ее роботкомпаньон, один из немногих экземпляров, которых можно было еще встретить на улицах города. И она поняла, что устроить свидание будет трудно.
Поехать прямо в дом, где можно было встретиться с Алексеем Александровичем, она чувствовала, что не имела права. Увидать сына на гулянье, узнав, куда и когда он выходит, ей было мало: она так готовилась к этому свиданию, ей столько нужно было сказать ему, ей так хотелось обнимать, целовать его. И тут же она решила, что завтра же, в самый день рожденья Сережи, она поедет прямо в дом мужа, подкупит людей, будет обманывать, но во что бы то ни стало увидит сына и разрушит этот безобразный обман, которым они окружили несчастного ребенка.
Она поехала в игрушечную лавку и накупила игрушек; затем Анна пробралась на личный оружейный склад Вронского, пока тот крепко спал, и аккуратно взяла несколько вещиц, которые, как она чувствовала, могли пригодиться для предстоящей поездки в дом мужа. Анна обдумала свой план действий. Она приедет рано утром, в восемь часов, когда Алексей Александрович еще, верно, не вставал. Анна подробно рассказала свой план Андроиду Карениной, которая сразу же поддержала хозяйку.
На другой день, в восемь часов утра, она вышла одна из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома.
– Какаято барыня, – проворчал Капитоныч, старый суровый mécanicien дома Карениных; еще не одетый, в серой поддевке, он выглянул в окно на даму, покрытую вуалем, стоявшую у самой двери.
Он открыл дверь и был изумлен увиденным: перед ним стояла его прежняя хозяйка, одетая в знакомый дорожный плащ. Капитоныч стоял совершенно неподвижно и был похож на статую, опершуюся на дверную ручку. Он, без сомнения, помнил доброту Анны Аркадьевны и всем сердцем желал впустить ее на порог некогда родного дома, но в то же время в дверях стоял тот самый Капитоныч, который совсем недавно закопал тело несчастного приказчика на заднем дворе дома.
– Вам кого надо? – спросил он стальным голосом.
Скрытая вуалем, Анна не слышала его слов и ничего не отвечала. В это время в саду за домом настоящая Анна Каренина – перед Капитонычем в вуале и пальто безмолвно стояла Андроид Каренина – перепрыгнула высокий забор под напряжением и шумно приземлилась рядом с фонтаном. Неуверенно выставив один из наградных испепелителей Вронского перед собой, она, необутая, в одних чулках, бесшумно заторопилась к задней двери огромного дома, который когдато был и ее собственным. Шаг за шагом она осторожно продвигалась вперед, не смея поднять глаза к окнам спальни; в то же время она увидала в нескольких метрах от входа в дом подобие покосившегося флигеля, который не узнала. Большая металлическая дверь этой пристройки была приоткрыта и поблескивала в солнечных лучах; любопытство Анны взяло верх над осторожностью.
В это время у парадной двери Капитоныч, заметив замешательство неизвестной, вышел к ней и спросил, что ей угодно. И снова дама ничего не ответила.
– Его превосходительство не встали еще, – внимательно осматривая даму, сказал mécanicien.
Затем он услышал громкий крик на заднем дворе – был ли это предсмертный писк пойманной птицы или сдавленный возглас женщины? Капитоныч резко повернулся на звук.
* * *
Анна спряталась за флигелем, в ужасе выбежав из него.
«Боже мой, – думала она, запихивая в рот свою пушистую лисью муфту, чтобы заглушить шумное дыхание. – Боже милостивый!»
Внутри флигеля она обнаружила длинный деревянный стол, на котором были разложены человеческие лица. Некоторые покоились в бархатных шкатулках, другие были разбросаны в ужасном беспорядке по рабочей поверхности; в стороне валялись лица с мясистыми щеками, с высокими скулами, с глазамибусинками; лица целиком и лица разной степени развороченности: вот рот, вот высокий лоб, вот пара глаз, перекатывающихся по дну деревянной коробки, а вот половина щеки с отделенной и поднятой, словно занавес, кожей, оголяющей сетку красночерных мышц.
Еще не оправившись от ужаса и ощущая внутреннюю дрожь от увиденного, Анна выпустила из испепелителя бесшумный разряд в дверной замок и, когда дверь поддалась, скользнула в дом, тяжело дыша. Она никак не ожидала, чтобы та, совершенно не изменившаяся, обстановка передней того дома, где она жила девять лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в ее душе, и она на мгновенье забыла, зачем здесь.
В это же самое время Андроид Каренина, выполнив свое задание, поклонилась Капитонычу и развернулась, чтобы уйти; но старый mécanacien, все еще уверенный в том, что перед ним стоит его бывшая хозяйка, почувствовал укол совести в отношении этой виноватой, но все же доброй женщины, которую он лишает свидания с сыном.
– Постойте, – крикнул он вдогонку, – подождите минуту!
Чтото было странное в том, насколько быстро дама подчинилась его приказу…
– Повернитеська, – велел Капитоныч, с подозрительным прищуром оглядывая женщину, вновь с готовностью выполнившую его приказ. – Поднимите руки вверх, пошевелите пальцами.
Каждому новому повелению дама повиновалась с готовностью робота.
– Я не верю своим глазам, – произнес Капитоныч, – Андроид Каренина?
– Повернись. Медленно, – сказала настоящая Анна, стоя позади Капитоныча с испепелетилем, приставленным дрожащей рукой к голове механика. Но обернувшись, Капитоныч выхватил небольшую металлическую пушку. Он направил дуло прямо в голову Анны.
«Конечно же, прислуга в этом доме тоже вооружена», – подумала она.
– А, госпожа Каренина, – грустно произнес mécanacien, но в отличие от руки Анны его рука не дрожала.
Долгое время они смотрели друг на друга, не опуская оружия. Рядом на крыльце стояла Андроид Каренина, ее вуаль была теперь поднята, и она внимательно смотрела на ужасающую безмолвную сцену; глаза робота дважды моргнули, в то время как она просчитывала шансы разоружить Капитоныча, не навредив хозяйке. Анна молча молилась о том, что если уж ей суждено будет умереть здесь, то прежде провидение позволит ей еще раз увидеть сына.
Но спасло ее не божественное провидение, а человеческая доброта.
– Я не могу в вас стрелять, Анна Аркадьевна. Пожалуйте, ваше превосходительство, – сказал Капитоныч.
Она хотела чтото сказать, но голос отказался произвести какиелибо звуки; с виноватою мольбой взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу. Перегнувшись весь вперед и спотыкаясь на лестнице, Капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее. Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик.
– Сюда, налево пожалуйте. Извините, что нечисто. Они теперь в прежней диванной, – запыхавшись, говорил mécanacien. – Позвольте, повремените, ваше превосходительство, я загляну, – и, обогнав ее, приотворил высокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась, ожидая. – Только проснулись, – сказал он, опять выходя из двери.
– Только поторопитесь, госпожа, – сказал он снова, – пожалуйста, не задерживайтесь. Он не обрадуется, застав вас здесь. В самом деле, совсем не обрадуется.
И в ту минуту, как mécanacien говорил это, Анна услыхала звук детского зеванья. По одному голосу этого зеванья она узнала сына и как живого увидала его пред собою.
– Пусти, пусти, поди! – заговорила она и вошла в высокую дверь.
Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел, поднявшись, мальчик в одной расстегнутой рубашечке и, перегнувшись тельцем, потягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вместе, они сложились в блаженносонную улыбку, и с этою улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад.
– Сережа! – прошептала она, неслышно подходя к нему.
Андроид Каренина, последовавшая за госпожой, излучала мягкий теплый свет, заливая комнату нежным розовым цветом счастья.
Во время разлуки с ним и при том приливе любви, который Анна испытывала все это последнее время, она воображала его четырехлетним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его; он еще дальше стал от четырехлетнего, еще вырос и похудел. Что это! Как худо его лицо, как коротки его волосы! Как длинны руки! Как изменился он с тех пор, как она оставила его! Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкою шейкой и широкими плечиками.
– Сережа! – повторила она над самым ухом ребенка.
Он поднялся опять на локоть, поводил спутанною головой на обе стороны, как бы отыскивая чтото, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать, потом вдруг блаженно улыбнулся и, опять закрыв слипающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам.
– Сережа! Мальчик мой милый! – проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело.
– Мама! – проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук.
Сонно улыбаясь, все с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи, привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи.
– Я знал, – открывая глаза, сказал он. – Нынче мое рожденье. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас.
И, говоря это, он засыпал. Анна жадно оглядывала его; она видела, как он вырос и переменился в ее отсутствие. Она узнавала и не узнавала его голые, такие большие теперь, ноги, выпроставшиеся из одеяла, узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в который она так часто целовала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить; слезы душили ее.
– О чем же ты плачешь, мама? – сказал он, совершенно проснувшись. – Мама, о чем ты плачешь? – прокричал он плаксивым голосом.
– Я? Не буду плакать… Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду, не буду, – сказала она, глотая слезы и отворачиваясь. – Ну, тебе одеваться теперь пора, – оправившись, прибавила она, помолчав, и, не выпуская его руки, села у его кровати на стул, на котором было приготовлено платье.
– Как ты одеваешься без меня? Как… – хотела она начать говорить просто и весело, но не могла и опять отвернулась.
– Я не моюсь холодною водой, папа не велел. А ты села на мое платье! – и Сережа расхохотался.
Она посмотрела на него и улыбнулась.
– Мама, душечка, голубушка! – закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая ее. Как будто он теперь только, увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось. – Это не надо, – говорил он, снимая с нее шляпу. И, как будто вновь увидав ее без шляпы, он опять бросился целовать ее, – мама, а почему у тебя в руках испепелитель? Мама!
– Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?
– Они сказали, что ты была убита! Что на рынке на тебя напал кощей, пока ты выбирала яблоки.
– Только не это!
– Они сказали, что он присосался к основанию спины и затем добрался по позвоночнику до мозга.
– Нет, конечно, мой дорогой!
– Они сказали, что когда тебя нашли, лицо было настолько изуродовано, что тебя почти невозможно было опознать.
Ресницы Анны задрожали от ярости, когда она попыталась скрыть свое волнение от сына: было ясно, что Каренин рассказал сыну о том, чего сам страстно желал.
– Я в это никогда не верил.
– Не верил, друг мой?
– Я знал, я знал! – повторял он свою любимую фразу и, схватив ее руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать ее ладонью к своему рту и целовать ее.
Он с нежностью посмотрел на Андроида Каренину, которая тихо загудела от удовольствия и попыталась без особого успеха пригладить растрепавшиеся кудри Сережи своими тонкими пальцами.
– Вам нужно идти, – сказал Капитоныч, появившись на пороге; в голосе его послышались нотки отчаяния. – Он не должен застать вас здесь. Я не в праве был допустить этого. Пожалуйста, Анна Аркадьевна.
Но ни сын, ни мать не желали, чтобы ктото мешал их воссоединению. Старик покачал головой и, вздохнув, закрыл дверь.
«Подожду еще десять минут, – сказал он себе, – я допустил ошибку. Ужасную ошибку».
Она не могла сказать «прощай», но выражение ее лица сказало это, и сын понял.
– Милый, милый Кутик! – проговорила она имя, которым звала его маленьким, – ты не забудешь меня? Ты… – но больше она не могла говорить.
– Конечно, нет, мама! – просто ответил он, а затем, словно бы подумав о чемто вдруг спросил, указывая на Андроида Каренину:
– Ее не забрали для корректировки?
– Нет, мой дорогой, пока что нет.
– Ох, ясно. Значит, ты среди тех, кто заслужил это?
– Не понимаю, о чем ты?
– Папа говорит, что только те, кто заслужил, получат своих роботов после перепрограммирования. Отныне только у достойных будут свои собственные андроиды.
Глаза Анны расширились от изумления:
– А папа не сказал, кто же войдет в это число избранных?
Сережа задумался на мгновение и громко, подетски рассмеялся:
– Как кто? Он сам, я думаю! И никто другой!
Сколько потом она придумывала слов, которые она могла сказать ему! А теперь она ничего не умела и не могла сказать. Она только задрожала и схватилась за Андроида Каренину, как утопающий хватается за край спасательной шлюпки. Сережа понял, что она была несчастлива и любила его. Он знал, что отец его скоро встанет и что ему ни в коем случае нельзя встречаться с матерью, потому что в противном случае последствия встречи их будут ужасными. Андроид Каренина потянула хозяйку за руку, словно бы это была их последняя возможность безопасно покинуть дом, но Сережа молча прижался к ней и шепотом сказал:
– Еще не уходи. Он не скоро придет.
Мать отстранила его от себя, чтобы понять, то ли он думает, что говорит, и в испуганном выражении его лица она прочла, что он не только говорил об отце, но как бы спрашивал ее, как ему надо об отце думать.
– Сережа, друг мой, – сказала она, – люби его, он лучше и добрее меня, и я пред ним виновата. Когда ты вырастешь, ты рассудишь.
– Лучше тебя нет!.. – с отчаянием закричал он сквозь слезы и, схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками.
– Сережа, мой дорогой! Ты должен смягчать своей добротой его жестокость и ненависть, живущие в душе его. Ты единственное, что осталось в нем человеческого.
– Я боюсь его! – с отчаянием закричал он сквозь слезы и, схватив ее за плечи, изо всех сил стал прижимать ее к себе дрожащими от напряжения руками.
– Душечка, маленький мой! – проговорила Анна и заплакала так же слабо, подетски, как плакал он.
– Нет… нет… пожалуйста… – раздался крик прямо за дверью.
Анна успела только отметить про себя, что голос такого сильного человека, как Капитоныч, вдруг от страха и отчаяния стал тонким голоском малолетнего напуганного ребенка. В ту же минуту дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетел mécanacien: его тело врезалось в стенку прямо над головой Сережи и тут же сползло на пол, оставляя на пестром гобелене, повешенном над кроватью мальчика, кровавый след. Сережа завыл и в ужасе спрятал голову в руках у матери. Андроид Каренина обняла хозяйку, и все трое, прижавшись друг к другу, со страхом смотрели на Алексея Александровича, который дрожа от ярости, заполнял собою весь дверной проем.
После продолжительного молчания он наконец закричал, давая волю первобытной ярости. Его глаза – один настоящий, другой – искусственный, бешено вращавшийся в металлической глазнице смотрели на дрожащих от страха мать с сыном, ужасающий глаз медленно выдвинулся навстречу, и каждый щелчок его пророчил объектам, попавшим в его поле зрения, горькое будущее. Анна страстно молилась о спасении сына, и вместе с тем, как и Андроид Каренина, оставалась безмолвна. Только Сережа, открыв свои нежные розовые губки, вымолвил одноединственное слово:
– Папа…
Ужасный глаз продолжал бешено вращаться в металлической глазнице, спина была выпрямлена, кулаки сжаты, и тело дышало ненавистью и желанием крушить и убивать – и вдруг взгляд его настоящего глаза смягчился, а рот стал вялым и влажным. Откудато изнутри одно маленькое слово пробило себе путь на свободу:
– Уходите.
Анна торопливо поднялась, но при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувства отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили ее. Как может она уйти сейчас? Как может оставить сына этому монстру?
Но Андроид Каренина, мгновенно просчитав все возможные варианты, поняла, что у них нет выбора: если они не уйдут как можно скорее, все умрут.
Преданный робот перекинула свою хозяйку через плечо, как мать, которая несет спящее дитя в кровать, и вместе они покинули дом. Анна так и привезла домой те игрушки, которые она с такою любовью и грустью выбирала вчера в лавке.
Как ни сильно желала Анна свиданья с сыном, как ни давно думала о том и готовилась к тому, она никак не ожидала, чтоб это свидание так сильно подействовало на нее. Человек, сейчас живущий в их некогда общем доме – с дрожащей челюстью и смертоносным взглядом, человек, который держит во флигеле коллекцию голов, – был совсем не тот человек, за которого она вышла замуж. Вернувшись в свой одинокий номер в гостинице, она долго не могла понять, зачем она здесь.
«Да, все это кончено, и я опять одна», – сказала она себе и, не снимая шляпы, села на кресло у камина.
Уставившись неподвижными глазами на I/Стража времени/47, стоявшего на столе между окон, она стала думать. Она думала о доброте Капитоныча, когда он позволил ей увидеть сына, и о том, какую цену ему пришлось заплатить за это; она думала о словах, сказанных Сережей: «Только избранным будет позволено…»
Она потеряла сына навсегда; и сколько еще пробудет с ней Андроид Каренина, прежде чем ее отберут, чтобы никогда уже более не вернуть?
II/Гувернантка/143 поднесла девочку Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда, увидав мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями книзу и, улыбаясь беззубым ротиком, начала, как рыба поплавками, загребать ручонками, шурша ими по крахмаленым складкам вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться, не поцеловать девочку, нельзя было не подставить ей палец, за который она ухватилась, взвизгивая и подпрыгивая всем телом; нельзя было не подставить ей губу, которую она, в виде поцелуя, забрала в ротик. И все это сделала Анна, и взяла ее на руки, и заставила ее попрыгать, и поцеловала ее свежую щечку и оголенные локотки; но при виде этого ребенка ей еще яснее было, что то чувство, которое она испытывала к нему, было даже не любовь в сравнении с тем, что она чувствовала к Сереже. И она навсегда не только физически, но духовно была разъединена с ним, и поправить этого нельзя было.
Она отдала девочку кормилице, отпустила ее и вывела счастливые Воспоминания о Сереже на монитор Андроида. В последнем, лучшем эпизоде, он в белой рубашке сидел верхом на стуле и пытался собрать I/Головоломку/92 с изображением Охотничьего Медведя; он работал с нахмуренными глазами и улыбался ртом. Самое особенное, лучшее его выражение.
Это было последнее Воспоминание о Сереже, и после него, случайно, на экран выплыло изображение Вронского во время их пребывания на Луне. Он весело и легко (в один из тех дней, когда гравитация не была сильной) танцевал, его длинные волосы убраны под круглый стеклянный шлем.
«Да, вот он!» – сказала она, взглянув на изображение Вронского на мониторе, и вдруг вспомнила, кто был причиной ее теперешнего горя. Она ни разу не вспоминала о нем все это утро. Но теперь вдруг, увидав это мужественное, благородное, столь знакомое и милое ей лицо, она почувствовала неожиданный прилив любви к нему.
– Да где же он? Как же он оставляет меня одну с моими страданиями? – спросила она у Андроида, забывая, что она сама скрывала от него все, касавшееся сына.
Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же; с замиранием сердца, придумывая слова, которыми она скажет ему все, и те выражения его любви, которые утешат ее, она ждала его. II/Лакей/74 вернулся с ответом, что у него гость, но что он сейчас придет и приказал спросить ее, может ли она принять его с приехавшим в Петербург князем Яшвиным.
«Не один придет, а со вчерашнего обеда он не видал меня, – подумала она, – не так придет, чтоб я могла все высказать ему, а придет с Яшвиным».
И вдруг ей пришла странная мысль.
– Андроид Каренина, – обратилась она к роботу, – что, если он разлюбил меня?
Глаза преданного робота засветились мягким лавандовым светом, для пущего успокоения хозяйки вперед потянулись чуткие манипуляторы. Но все было бесполезно. Перебирая события последних дней, ей казалось, что во всем она видела подтверждение этой страшной мысли: и то, что он вчера обедал не дома, и то, что он настоял на том, чтоб они в Петербурге остановились врознь, и то, что даже теперь шел к ней не один, как бы избегая свиданья с глазу на глаз.
– Но он должен сказать мне это. Мне нужно знать это. Если я буду знать это, тогда я знаю, что я сделаю, – говорила она роботу, который в ответ зажег монитор и стал показывать Воспоминания в обратном порядке, надеясь развеять меланхоличное настроение хозяйки.
Анна не в силах была представить себе того положения, в котором она будет, убедившись в его равнодушии. Она думала, что он разлюбил ее, и чувствовала себя близкою к отчаянию, и вследствие этого была особенно возбужденною. Она оставила Андроида Каренину и пошла в уборную. Одеваясь, Анна занялась больше, чем все эти дни, своим туалетом, как будто он мог, разлюбив ее, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та прическа, которые больше шли к ней.
Она услыхала звонок прежде, чем была готова. Когда она вышла в гостиную, Яшвин встретил ее взглядом, а не Вронский: он просматривал Воспоминания о ее сыне и не торопился взглянуть на нее.
– Мы знакомы, – сказала она, кладя свою маленькую руку в огромную руку конфузившегося (что так странно было при его громадном росте и грубом лице) Яшвина. – Познакомились в прошлом году, на Выбраковке. Закрой, – сказала она, быстрым движением давая знак Андроиду Карениной, чтобы та выключила Воспоминания, и значительно блестящими глазами взглядывая на Вронского. – Нынешний год хороши были соперники?
Поговорив несколько времени и заметив, что Вронский взглянул на I/Стража времени/158, Яшвин спросил ее, долго ли она пробудет еще в Петербурге и, разогнув свою огромную фигуру, взялся за кепи.
– Кажется, недолго, – сказала она с замешательством, взглянув на Вронского.
– Так и не увидимся больше? – сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому. – Где ты обедаешь?
– Приезжайте обедать ко мне, – решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за свое смущение, но краснея, как всегда, когда выказывала пред новым человеком свое положение. – Обед здесь не хорош, но по крайней мере вы увидитесь с ним. Алексей изо всех полковых товарищей никого так не любит, как вас.
– Очень рад, – сказал Яшвин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему.
Яшвин раскланялся и вышел, Вронский остался позади.
– Ты тоже едешь? – сказала она ему.
– Я уже опоздал, – отвечал он. – Иди! Я сейчас догоню тебя, – крикнул он Яшвину.
Она взяла его за руку и, не спуская глаз, смотрела на него, отыскивая в мыслях, что бы сказать, чтоб удержать его.
– Постой, мне коечто надо сказать, – и, взяв его короткую руку, она прижала ее к своей шее. – Да, ничего, что я позвала его обедать?
– Прекрасно сделала, – сказал он со спокойною улыбкой, открывая свои сплошные зубы и целуя ее руку.
– Алексей, в Петербурге сейчас неуютно – он пустынный и чудной без роботовкомпаньонов, – сказала она, обеими руками сжимая его руку. – Скоро придут и за нашими. Нам спокойнее будет в провинции. Мы будем спокойнее и счастливее.
– В этом я не могу с тобой согласиться, дорогая, учитывая то, о чем мне только что рассказал Яшвин. Эти пришельцы, эти так называемые Почетные Гости, повсюду, кроме больших городов. Говорят, что сейчас, если ктото заболевает, семья его собирает вещи и в срочном порядке уезжает, потому что спустя некоторое время из тела несчастного вырывается огромная многоглазая рептилия с клювом и вскоре примыкает к полчищам таких же монстров. Яшвин говорит, что это все больше становится похоже на полномасштабное вторжение, и предполагает, что в скором времени провинции будут полностью захвачены пришельцами.
– Алексей, я измучена и напугана. Куда нам ехать? И когда?
– Скоро, скоро. Ты не поверишь, как и мне тяжела наша жизнь здесь, – сказал он, отвернувшись от Анны и потянув руку.
«Он счастлив тем, что повсюду в лесах теперь пришельцы. Счастлив, что есть причина, удерживающая нас здесь», – горько подумала она.
– Ну, иди, иди! – с оскорблением сказала она и быстро ушла от него.
За обедом Яшвин говорил о сенсационной новой опере, которую давали в петербургском Громком Голосе XIV. Когда встали от обеда, Яшвин пошел курить, Вронский сошел вместе с ним к себе. Посидев несколько времени, он взбежал наверх. Анна уже была одета в светлое шелковое с бархатом платье с открытою грудью, которое она сшила на Луне; она включила у Андроида Карениной прелестную жемчужнобелую подсветку, которая особенно выгодно выставляла ее красоту.
– Вы точно поедете в театр? – сказал он, стараясь не смотреть на нее.
– Отчего же вы так испуганно спрашиваете? – вновь оскорбленная тем, что он не смотрел на нее, сказала она. – Отчего же мне не ехать?
Она как будто не понимала значения его слов.
– Разумеется, нет никакой причины, – нахмурившись, сказал он.
– Вот это самое я и говорю, – сказала она, умышленно не понимая иронии его тона и спокойно заворачивая длинную душистую перчатку.
– Анна, ради бога! Что с вами? – сказал он, будя ее, точно так же, как говорил ей когдато ее муж.
– Я не понимаю, о чем вы спрашиваете.
– Вы знаете, что нельзя ехать.
– Отчего? Я поеду не одна. Княжна Варвара поехала одеваться, она поедет со мной.
Он пожал плечами с видом недоумения и отчаяния.
– Но разве вы не знаете… – начал было он.
– Да я не хочу знать! – почти вскрикнула она. – Не хочу. Раскаиваюсь я в том, что сделала? Нет, нет и нет. И если бы опять то же, сначала, то было бы то же. Для нас, для меня и для вас, важно только одно: любим ли мы друг друга. А других нет соображений. Для чего мы живем здесь врозь и не видимся? Почему я не могу ехать? Я тебя люблю, и мне все равно, – сказала она порусски, с особенным, непонятным ему блеском глаз взглянув на него, – если ты не изменился. Отчего же ты не смотришь на меня?
Он посмотрел на нее. Он видел всю красоту ее лица и наряда, выгодно подчеркнутого нежным жемчужным свечением Андроида. Но теперь именно красота и элегантность ее были то самое, что раздражало его.
– Чувство мое не может измениться, вы знаете, но я прошу не ездить, умоляю вас, – сказал он опять пофранцузски с нежностью в голосе, но с холодностью во взгляде.
Она не слышала слов, но видела холодность взгляда и с раздражением отвечала:
– А я прошу вас объявить, почему я не должна ехать.
– Потому что… потому что… – он замялся, а затем схватился за объяснение, которое не было истинной причиной его нежелания, но которое тем не менее было веской причиной для того, чтобы не ехать: – Потому, что вы не можете быть там с Андроидом Карениной! Прогулки на публике с роботомкомпаньоном – прекрасный повод для вашего мужа и его приспешников забрать его, чтобы подвергнуть нелепой корректировке!
– Это риск, на который я готова пойти, – сказала она, исполненная ненавистью к Вронскому, к Алексею Александровичу, ко всей этой унизительной ситуации.
Она не проклинала и всем сердцем любила только своего Андроида. Повернувшись к роботу, Каренина с нежностью произнесла:
– Это риск, на который мы готовы пойти. Не правда ли, моя дорогая?
В ответ робот с нежностью подмигнул своей хозяйке и следом за ней отправился в Громкий Голос XIV.
Вронский в первый раз испытывал против Анны чувство досады, почти злобы за ее умышленное непонимание своего положения. Чувство это усиливалось еще тем, что он не мог выразить ей причину своей досады. Если б он сказал ей прямо то, что он думал, то он сказал бы: «В этом наряде, с известной всем княжной появиться в театре – значило не только признать свое положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, то есть навсегда отречься от него».
Чего не мог понять Вронский, так это того, что опасения эти потеряли уже всякий смысл. После вечера, проведенного в Громком Голосе XIV, вечера, который надолго запомнится россиянам принесенными слезами и страданием, он поймет гораздо больше.
Оставшись один после отъезда Анны, Вронский встал со стула и принялся ходить по комнате.
– Да нынче что? Четвертый абонемент… – Лупо громко гавкнул, наклонил голову и четырежды провел когтем правой лапы по тяжелому деревянному паркету. – Да, конечно же, четвертый абонемент. Егор с женою там и мать, вероятно. Это значит – весь Петербург там. Теперь она вошла, сняла шубку и вышла на свет. Тушкевич, Яшвин, княжна Варвара… – представлял он себе. – Что ж ято? Или я боюсь, или передал покровительство над ней Тушкевичу? Как ни смотри – глупо, глупо… И зачем она ставит меня в такое положение? – сказал он, махнув рукой.
– Вставай, дружище, – зло прорычал Вронский, и его свирепый роботкомпаньон повиновался приказу, – мы едем в театр.
Они прибыли в Громкий Голос XIV в половине девятого. Спектакль был во всем разгаре. II/Капельдинер/19 снял шубу с Вронского, и, узнав его, назвал «ваше сиятельство». В светлом коридоре никого не было, кроме II/Капельдинера/19 и двух II/Лакеев/77, слушавших у двери. Изза притворенной двери слышались звук осторожного аккомпанемента стаккато оркестра и одного женского голоса, который отчетливо выговаривал музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшего II/Капельдинера/19, и фраза, подходившая к концу, ясно поразила слух Вронского. Но дверь тотчас же затворилась, и Вронский не слышал конца фразы и каданса, но понял по грому рукоплесканий изза двери, что каданс кончился.
Когда он вошел в ярко освещенную люстрами и бронзовыми газовыми I/Рожками/7 залу, шум еще продолжался. На сцене певица, сверкая обнаженными плечами и бриллиантами, нагибаясь и улыбаясь, собирала с помощью тенора, державшего ее за руку, неловко перелетавшие через рампу букеты и подходила к господину с рядом посередине блестевших помадой волос, тянувшемуся длинными руками через рампу с какоюто вещью, – и вся публика в партере, как и в ложах, суетилась, тянулась вперед, кричала и хлопала. Капельмейстер на своем возвышении помогал в передаче и оправлял свой белый галстук. Вронский вошел в середину партера и, остановившись, стал оглядываться. Он обратил внимание на знакомую, привычную обстановку, на сцену, на этот шум, на все это знакомое, неинтересное, пестрое стадо зрителей в битком набитом театре. В нем не было ни одного робота III класса. Не было роботовкомпаньонов, взявших под ручку хозяев и льющих на них свет, подчеркивающий только лучшее в образе владельца; никто не подносил очки, не зажигал сигаретку. Все эти люди – в военной форме и черных пальто, вся эта грязная толпа в райке, сидевшие в ложах и в первых рядах, – были настоящие люди – и среди них не было ни одного робота. По крайней мере, так казалось Вронскому.
Он еще не видал Анны и нарочно не смотрел в ее сторону, но знал по направлению взглядов, где она. Вронский незаметно оглядывался, но не искал ее; ожидая худшего, он искал глазами Алексея Александровича. На его счастье, Каренина нынешний раз не было в театре.
– Как в тебе мало осталось военного! – сказал ему Серпуховской. – Дипломат, артист, вот этакое чтото.
– Да, я как домой вернулся, так надел фрак, – отвечал Вронский, улыбаясь и медленно вынимая бинокль.
– Вот в этом я, признаюсь, тебе завидую. Я когда возвращаюсь с орбит и надеваю это, – он тронул эксельбанты, – мне жалко свободы.
Серпуховской уже давно махнул рукой на служебную деятельность Вронского, но любил его попрежнему и теперь был с ним особенно любезен.
– Жалко, ты опоздал к первому акту.
Вронский, слушая одним ухом, переводил бинокль с бенуара на бельэтаж и оглядывал ложи. Подле дамы в тюрбане и плешивого старичка, сердито мигавшего в стекле подвигавшегося бинокля, Вронский вдруг увидал голову Анны, гордую, поразительно красивую; с жемчужной подсветкой Андроида, которая бросала причудливые тени на кожу сквозь рамку кружевного воротника. Она была в пятом бенуаре, в двадцати шагах от него. Сидела она спереди и, слегка оборотившись, говорила чтото Яшвину. Постановка ее головы на красивых и широких плечах и сдержанновозбужденное сияние ее глаз и всего лица напомнили ему ее такою совершенно, какою он увидел ее на бале в Москве. Но он совсем иначе теперь ощущал эту красоту. В чувстве его к ней теперь не было ничего таинственного, и потому красота ее, хотя и сильнее, чем прежде, привлекала его, вместе с тем теперь оскорбляла его. Она не смотрела в его сторону, но Вронский чувствовал, что она уже видела его.
Когда Вронский опять навел в ту сторону бинокль, он заметил, что княжна Варвара особенно красна, неестественно смеется и беспрестанно оглядывается на соседнюю ложу; Анна же, сложив I/Beер/6 и постукивая им по красному бархату, приглядывается кудато, но не видит и, очевидно, не хочет видеть того, что происходит в соседней ложе. На лице Яшвина было то выражение, которое бывало на нем, когда он проигрывал. Он, насупившись, засовывал все глубже и глубже в рот свой левый ус и косился на ту же соседнюю ложу.
В ложе этой, слева, были Картасовы. Вронский знал их и знал, что Анна с ними была знакома. Картасова, худая, маленькая женщина, стояла в своей ложе и, спиной оборотившись к Анне, надевала накидку, подаваемую ей мужем. Лицо ее было бледно и сердито, и она чтото взволнованно говорила. Картасов, толстый плешивый господин, беспрестанно оглядываясь на Анну, старался успокоить жену. Когда жена вышла, муж долго медлил, отыскивая глазами взгляда Анны и, видимо, желая ей поклониться. Но Анна, очевидно, нарочно не замечая его, оборотившись назад, чтото говорила нагнувшемуся к ней стриженою головой Яшвину.
Вронский не понял того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но он понял, что произошло чтото унизительное для Анны. Он понял это и по тому, что видел, и более всего по лицу Анны, которая, он знал, собрала свои последние силы, чтобы выдерживать взятую на себя роль. И эта роль внешнего спокойствия вполне удавалась ей. Кто не знал ее и ее круга, не слыхал всех выражений соболезнования, негодования и удивления женщин, что она позволила себе показаться в свете и показаться так заметно в своем кружевном уборе и со своей красотой и притом посмела взять с собой своего роботакомпаньона в таких обстоятельствах, – те любовались спокойствием и красотой этой женщины и не подозревали, что она испытывала чувства человека, выставляемого у позорного столба.
Зная, что чтото случилось, но не зная, что именно, Вронский испытывал мучительную тревогу и, надеясь узнать чтонибудь, пошел в ложу брата.
Нарочно выбрав противоположный от ложи Анны пролет партера, он, выходя, столкнулся с бывшим полковым командиром своим, говорившим с двумя незнакомцами. Командир встретил его тепло, как старого приятеля, и поспешил представить ему своих собеседников. Это были молодые люди с аккуратными стрижками под фуражками, у обоих были высокие скулы и холодные серозеленые глаза.
– Прошу прощения, господа, но мне нужно идти. Доброго вечера, господин полковник, – коротко ответил он командиру, оставив без внимания незнакомцев.
Однако же они не расступились, а наоборот, еще плотнее сошлись вокруг него кольцом, не переставая развязно болтать.
– А, Вронский! Когда же в полк? Мы тебя не можем отпустить без пира. Ты самый коренной наш, – сказал один из обступивших.
Улыбнувшись вежливо и все еще взглядывая на ложу Анны, Вронский попытался выбраться из кольца и вдруг увидел, что все трое его собеседников, включая полкового командира, были одеты не в бронзовую униформу его полка, а в строгие синие кители Солдатиков. Вронский собрался попросить полковника дать ему дорогу… и тут же понял, взглянув в его круглые красивые глаза, что перед ним стоял вовсе не его старый приятель.
Лицо было почти то же – тот же прикус, тот же второй подбородок, те же щетинистые черные усы, и всетаки перед ним стояла искусная внешняя копия его боевого товарища, а не реальный человек. Вронский в ужасе отшатнулся.
– К сожалению, спешу, очень жаль, до другого раза, – сказал он и снова попытался прорваться к застеленной ковром лестнице, которая вела в ложу Анны.
– Нет, нет, – ответил командиркоторыйнасамомделенебылкомандиром, – мы настаиваем.
Один из Солдатиков улыбнулся, словно бы приготовляясь предложить Вронскому выпить или сыграть в карты.
– Послушайте, программа корректировки роботов близка к завершению. Как странно, что вашего робота до сих пор не забрали.
– Ах, да! – сказал третий. – А почему бы не исправить это упущение прямо сейчас?
Лупо зарычал и показал зубы. Вронский принялся бормотать чтото о том, что он не согласен, в то время как его левая рука, скрытая плащом, осторожно потянулась к поясу с оружием. Несмотря на все предосторожности, это движение не осталось незамеченным.
– Так не пойдет, ваше сиятельство, – сказал «полковник» с улыбкой. – Так никуда не годится.
Лицо его вдруг поплыло, заколыхалось и в секунду сменилось серебристочерной мозаикой вращающихся шестеренок. Вронский в ужасе вскрикнул и увидел, что те же пугающие метаморфозы происходят и с другими Солдатиками: кожа сползала с лица, открывая не мясо, а многочисленные детали; шестеренки цеплялись зубчиками друг за друга и бешено вращались, поднимались и опускались крошечные поршни – все было устроено так, чтобы вместе создавать подобие человеческого лица, составленного из деталей для роботов.
– Боже мой, – успел произнести Вронский, прежде чем язык пламени вырвался из ротового отверстия на лице полковника, точнее оттуда, где еще минуту назад было лицо.
Вронский в последнее мгновение успел пригнуться, и потому пламя обожгло только его макушку. Он закричал от боли, чувствуя паленый запах его собственной кожи и волос. Выхватив испепелитель, он приготовился стрелять. В это время Лупо, прыгнув, бросился на грудь одного из Солдатиков, его зубы впились противнику в грозниевый кадык. Робот закричал и повалился на пол, будто бы чувствуя боль, Лупо продолжал вгрызаться ему в горло.
Гдето в отдалении Вронский слышал крики других зрителей; он нырнул вниз, перекатился, увертываясь от второго огненного плевка, угодившего в красное бархатное кресло позади. Он выстрелил в ответ. Ненастоящий полковник лишь вздрогнул, приняв на себя огонь, – залп, в несколько раз меньший по силе, убил бы тотчас же любого человека наповал.
Вронский выругался и вдруг услыхал с другого конца ложи совершенно неуместные в такой ситуации слова, которые повторялись третьим Солдатиком снова и снова:
– Иди сюда, мальчик, сюда… – говорил он, присаживаясь на корточки и похлопывая по колену, – сюда…
Вронский в третий раз увернулся от огненной отрыжки противника и чуть не расхохотался от такой наивности Солдатика, пока вдруг не увидел собственными глазами, что Лупо и вправду оставил горло своей жертвы и, завороженный, быстро шел к манившему его Солдатику.
Новый огненный шар пронесся над спинкой сиденья, за которым еле успел спрятаться Вронский; в ответ он выстрелил из своего испепелителя прямо в ротовое отверстие лжеполковника, и затем снова был отвлечен – на этот раз звуками выстрелов, доносившихся сверху из ложи Анны.
– Нет! – закричал Вронский.
Он посмотрел туда и увидал, что там действительно стояли двое Солдатиков в красивой голубой униформе; их испепелители были наготове и направлены прямо в сердце Анны. Там же стоял толстый старик Картасов, который еще несколько минут назад казался не чем большим, чем просто грубияном, осужденным обществом. Сейчас открылось его истинное лицо – мертвое, серебристочерное лицо робота с крутящимися шестеренками: из его ротовой полости поднимался вьющийся столб синечерного дыма. Это облако поползло вперед, и Вронский с облегчением увидел, что двинулось оно не к Анне, а к Андроиду Карениной; однако счастье было недолгим – Анна смело вышла вперед, встав между странным облаком и ее роботомкомпаньоном.
«Я не должен был пускать ее в театр. Как я мог позволить ей это?» Проклиная все на свете, Вронский выскочил изза баррикад, образованных рядом сидений, и вновь направил в полковникаробота свой самый мощный заряд, какой только можно было позволить в закрытом помещении.
«Одной проблемой меньше», – подумал он, с удовольствием наблюдая, как корпус поверженного робота оплавлялся в бесформенную лужу на полу.
Вронский бросился к двери в ложу, когда вдруг услышал жалобный визг позади себя.
«Черт возьми! – подумал он. – Лупо!»
Оказалось, что человекмашина в голубой униформе, просто глядя в глаза собаки и подзывая ее, уже почти достиг своей цели – Лупо был совсем недалеко от него. С ужасом Вронский увидал, что Солдатик держал на коленях длинный устрашающего вида ятаган из грозниума, тот самый, который обычно использовался самым жутким и беспощадным образом по отношению к роботамживотньм III класса. Вронский резко дернул спусковые крючки испепелителей, понимая, что в этом мало толку: его предыдущая атака истощила запас энергии в оружии, и теперь в его руках были просто два мертвых куска грозниума.
– Стоять! – крикнул он Лупо. – Стоять, мальчик!
Но Лупо, завороженный таинственной магией взгляда голубых глаз Солдатика (которыенасамомделенебылиглазами), двигался навстречу собственной смерти.
Вронский одним быстрым пугающим движением активировал огненный хлыст и стегнул им по слуховым датчикам роботакомпаньона. На мгновение волк ослеп, гипнотические чары ослабли, и Вронский наконец схватил механического волка – единственной проблемой было то, что теперь оба они предстали безоружными перед Солдатиком. Их безликий враг занес сверкающий грозниевый ятаган и приготовился нанести удар, как вдруг…
…Анна и Андроид Каренина, соединив руки в один мощный кулак, бросились на Солдатика с балкона. Робот рухнул как подкошенный, и Вронский, не выпуская ослепленного Лупо, подбежал к Карениной и Андроиду.
– Вы расшиблись?
– Не так серьезно, как они, – бойко ответила Каренина, схватившись за ногу, она поднялась с пола и расправила юбки. Вронский посмотрел вверх, на ложу – два Солдатика были отброшены на перила, будто сломанные куклы; там же лежал робот Картасов с полностью оторванным головным блоком.
– Как… – начал было Вронский, но Анна прервала его:
– Алексей, нам нужно спешить.
Она указала на лежащего ничком Солдатика, чье лицо, затихшее после удара, вновь засветилось и начало жужжать. Робот встал на ноги, зло зашипел и поднял свой сияющий ятаган, приготовившись к сражению. На этот раз противником его стал огромный ящер, явившийся словно из галлюцинации сумасшедшего; материализовавшееся видение стояло прямо, хищную морду украшал десяток желтосерых глаз и огромный острый клюв. Клюв этот вонзился в грозниевый живот Солдатика, а когти с зазубринами впились в руки и ноги жертвы. Как только Солдатик затих, монстр выпустил его из своих когтей и, перепрыгнув через головы Анны и Вронского, понесся по проходам между рядами.
– Боже мой, это… это… – пробормотал Вронский, запинаясь.
– Это наш шанс на спасение! – крикнула Анна. – Ради бога, беги!
* * *
Пришелец этот был первым из сотен.
Подергивающиеся, рычащие, истекающие слюной с огромными глазастыми головами; с бугристыми заостренными мордамиклювами; с длинными, молниеносно действующими когтями, с чешуйчатыми хвостами, которые тащились по пушистым коврам, эти пришельцы заполнили театр – огромная страшная орда, они сотнями разбрелись по коридорам и залу, завывая и пронзительно взвизгивая во время беготни по проходам.

Подергивающиеся, рычащие, истекающие слюной, с огромными глазастыми головами – орда страшных пришельцев заполнила театр
Но театр был гораздо лучше защищен, чем можно было подумать. Солдатики, роботы с человеческой внешностью, были повсюду. Когда Вронский и Анна сломя голову бросились к выходу, зрители поднялись на ноги, и вдруг оказалось, что многие из них – роботы. Мужья, жены, военные, певцы – сотни ненастоящих людей, внедренные в театральное общество Министерством безопасности, – они были повсюду. Испуганные живые люди с ужасом смотрели, как лица близких вдруг начинали дрожать и шипеть, сменяясь мертвыми лицами Солдатиков; преображенные роботы тут же вступали в бой с Почетными Гостями, используя свои новые обличья в качестве оружия.
Но, как это повелось со времен грекоримских сражений, в битве этой пострадали больше всех те, кто в ней участия не принимал. Солдатики отбивали театр у инопланетных захватчиков, и тут же гибли люди: роботы стреляли в монстров, но жертвами становились и простые смертные; пришельцы рвали и шинковали на мелкие кусочки роботов, и в мясорубку затягивало и тех, кто был сделан из плоти и крови. Не выжил ни один человек, никому не удалось избежать обжигающего выстрела испепелителя, неровного когтя пришельца или смертоносного каблука напуганного театрала, в панике рвущегося к спасительному выходу.
К утру сцена театра была залита кровью, повсюду валялись растерзанные человеческие тела, в проходах лежали куски инопланетного мяса, оркестровая яма была до отказа заполнена осколками грозниума и клубками проводов. Но Вронский и Анна успели сбежать из театра задолго до финального аккорда.
* * *
Рассвет, впервые робко пробежавший своими пальцами по подоконникам гостиничного номера, застал Анну за поспешными сборами. Они оба теперь были беглецами, и оба знали о своем положении. Следовало начать какуюто новую, ненастоящую жизнь, найти место для этой жизни. Атака пришельцев не так волновала их, опасно было другое – они оба теперь были объявлены преступниками в этом непонятном новом обществе. Как мрачно думала Анна, руководил всем этим ее собственный муж.
Когда Вронский вошел к ней, она была одна в том самом наряде, в котором она была в театре. Анна быстро бросала вещи в чемодан; оттуда их ловкими пальцами вытаскивала Андроид Каренина и, аккуратно сложив, с осторожностью укладывала обратно.
– Анна, я чуть не потерял тебя! – сказал Вронский взволнованно.
– Ты, ты виноват во всем! – вскрикнула она со слезами отчаяния и злости в голосе.
– Я просил, я умолял тебя не ездить, я знал, что тебе будет неприятно…
– Неприятно! – вскрикнула она. – Ужасно! Эти люди…
– Роботы, это были роботы, – сказал он.
– Ты думаешь, я не знаю этого! Сколько буду жить, не забуду того, что произошло. Но, послушай, все эти ужасные солдатыроботы и кровожадные пришельцы едва ли были хуже, чем насмешливое выражение лица мадам Картасовой и ее мужа.
– Если быть точнее, Картасов тоже оказался роботом.
Она нахмурилась и продолжила сборы.
– Прошу, забудь о произошедшем, ты должна выбросить это из головы, – сказал Вронский, расхаживая по комнате; Лупо следовал за ним по пятам, – в конце концов есть более важные вещи, которые должны занимать нас сейчас.
– Я ненавижу твое спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня….
– Анна! К чему тут вопрос о моей любви…
– Да, если бы ты любил меня, как я, если бы ты мучился, как я… – сказала она, с выражением испуга взглядывая на него.
Ему жалко было ее и всетаки досадно. Он уверял ее в своей любви, потому что видел, что только одно это может теперь успокоить ее, и не упрекал ее словами, но в душе своей он упрекал ее. Он снова заговорил с ней о месте, где они смогут быть вместе и вне опасности, по крайней мере сейчас, наедине с их роботамикомпаньонами.
И те уверения в любви, которые ему казались так пошлы, что ему совестно было выговаривать их, она впитывала в себя и понемногу успокаивалась. На другой день после этого, совершенно примиренные, они уехали в деревню вместе со своими пострадавшими в сражении роботами.
«Они придут к нам тремя путями». Именно эта странная фраза была на устах у всех после ужасного происшествия в театре. «Они придут к нам тремя путями». Это был странный отрывок из молитвы, которую читали последователи псевдорелигии под названием «ксенотеологизм», бывшей в моде в некоторых кругах Москвы и Петербурга. Учение это было давно отвержено обществом вместе с главными его адептами – женщинами наподобие чудаковатой мадам Шталь.
«Они придут к нам тремя путями ».
Сомнений в том, что они пришли одним из этих трех путей, не было. Но явились они не как дружелюбные светлые создания, а в виде ужасных повизгивающих ящериц, которые принесли с собой разорение и пролили декалитры крови в театре. Если на самом деле в этой странной древней молитве была хоть какаято крупица здравого смысла, то всем хотелось бы знать, какими будут оставшиеся два пути явления пришельцев народу? И будут ли они столь же ужасными, как и первое знакомство?
Вопросов было много, становилось все страшнее, и тревожные слухи носились по улицам Москвы и Петербурга, словно пролетка без II/Извозчика/6. Единственное, в чем все сходились, было ощущение счастья от того, что в тот ужасный вечер в бой с врагом вступили новые, совершенные андроиды IV класса.
Прежде руководство Министерства Робототехники и Госуправления старалось скрыть от населения шокирующую правду о новых созданиях. Теперь власти решили поменять официальную позицию: было с гордостью объявлено о выпуске нового поколения сервомеханизмов. Этих «новейших» роботов назвали самыми надежными защитниками России, способными победить любого врага: будь то пришельцы с далеких планет, похожие на ящериц, или же хитроумные ученыетеррористы из СНУ.
К этому громкому объявлению как бы случайно было присоединено еще одно: советники Министерства подтвердили ходившие слухи о том, что старые роботыкомпаньоны к хозяевам не вернутся. Попытка корректировки, как выяснилось, потерпела неудачу; изза ранее не выявленных недостатков в конструкции старых роботов оказалось невозможно переделать в соответствии с потребностями современности.
Таким образом, старейший класс роботовкомпаньонов в одночасье был отброшен на задворки технического прогресса. В Москве попрежнему вращалась Башня в форме луковичной головки, но теперь вокруг нее вился черный и фиолетовый дым – он шел, по самым упорным и тревожным слухам, из подземелий Министерства, где списанных роботовкомпаньонов плавили для дальнейшей переработки.
Предвестники беды, эти столбы дыма не были видны из усадьбы и грозниевой шахты в Покровском, но произошедшие изменения чувствовались в деревне особенно остро.
Левин и Кити теперь понимали, что соединены не только узами брака, но и общей целью: оставив Сократа и Татьяну трудиться на грязной табачной фабрике (под видом потрепанных роботов II класса), они поклялись, что никогда и ни при каких обстоятельствах не отправят своих любимцев на корректировку – теперь эта операция воспринималась ими, как постоянный процесс, конца и краю которому не было видно.
Их также объединял страх перед Почетными Гостями; Кити наблюдала, как Левин решительно перебросил Копальщиков и экстракторов из шахты сюда, на строительство баррикад и организацию системы траншей вокруг усадьбы; он надеялся, что эти меры помогут защититься от полчищ пришельцев. И в то же время все эти страхи и волнения укрепили и даже усилили их взаимное чувство.
Они принимали у себя небольшую группу гостей из Москвы и ощущали себя особенно счастливыми и любовными в этот вечер. Присутствие Долли и матери Кити, старой княгини – они обе неохотно отправили своих роботовкомпаньонов на корректировку и теперь точно знали, что потеряли их навсегда во благо Родины, – только делало связывавшие их чувства еще крепче. Кити и Левин были счастливы своею любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех, которые того же хотели и не могли, – и им было совестно.
Кити хотелось рассказать матери их секрет, обрадовать тем, что Татьяна и Сократ живы и у них все хорошо. Но Константин Дмитрич велел жене держать язык за зубами – он опасался, что эта тайна начнет путешествовать от княгини к Долли, от Долли к Степану Аркадьевичу, который, как чувствовал Левин, вряд ли удержал бы при себе этот секрет.
Нынче вечером ждали с Грава Облонского, и старый князь писал, что, может быть, и он приедет.
– Попомните мое слово: Alexandre не приедет, – сказала старая княгиня.
– И я знаю отчего, – продолжала княгиня, – он говорит, что молодых надо оставлять одних на первое время.
– Да папа и так нас оставил. Мы его не видали, – сказала Кити. – И какие же мы молодые? Мы уже такие старые.
– Только если он не приедет, и я прощусь с вами, дети, – грустно вздохнув, сказала княгиня.
– Ну, что вам, мама! – напали на нее обе дочери.
– Ты подумай, емуто каково? Ведь теперь…
И вдруг совершенно неожиданно голос старой княгини задрожал. Дочери замолчали и переглянулись. «Maman всегда найдет себе чтонибудь грустное», – сказали они этим взглядом. Ей было мучительно грустно и за себя и за мужа с тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь и ее любимого роботакомпаньона забрали в известный день; гнездо семейное опустело.
В середине их разговора в аллее послышался гул двигателя и звук колес по щебню. Не успела еще Долли встать, чтоб идти навстречу мужу, как внизу, из окна комнаты, в которой учился Гриша, выскочил Левин и ссадил Гришу.
– Это Стива! – изпод балкона крикнул Левин. – Мы кончили, Долли, не бойся! – прибавил он и, как мальчик, пустился бежать навстречу экипажу.
– Is, еа, id, ejus, ejus, ejus, – кричал Гриша, подпрыгивая по аллее.
– И еще ктото. Верно, папа! – прокричал Левин, остановившись у входа в аллею. – Кити, не ходи по крутой лестнице, а кругом.
Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске, за старого князя.
Когда он приблизился к коляске, он увидал рядом со Степаном Аркадьичем не князя, а красивого полного молодого человека в шотландском колпачке с длинными концами лент позади. Это был Васенька Весловский, троюродный брат Щербацких, – петербургскомосковский блестящий молодой человек, «отличнейший малый и страстный охотник», как его представил Степан Аркадьич.
Нисколько не смущенный тем разочарованием, которое он произвел, заменив собою старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежнее знакомство, и, подхватив в коляску Гришу, перенес его через пойнтера, которого вез с собой Степан Аркадьич (щенок предназначался Грише, который был ужасно расстроен известием, что теперь после наступления совершеннолетия он не получит в подарок собственного роботакомпаньона).
Левин не сел в коляску, а пошел сзади. Ему было немного досадно на то, что не приехал старый князь, которого он чем больше знал, тем больше любил, и на то, что явился этот Васенька Весловский, человек совершенно чужой и лишний. Он показался ему еще тем более чуждым и лишним, что, когда Левин подошел к крыльцу, у которого собралась вся оживленная толпа больших и детей, он увидал, что Весловский с особенно ласковым и галантным видом целует руку Кити.
– А мы cousins с вашею женой, да и старые знакомые, – сказал Васенька, опять крепкокрепко пожимая руку Левина.
– Ну что, как нынче проходит ОхотьсяиБудьЖертвой? – обратился к Левину Степан Аркадьич, едва поспевавший каждому сказать приветствие.
Константин Дмитрич, за минуту тому назад бывший в самом веселом расположении духа, теперь мрачно смотрел на всех, и все ему не нравилось. Он вспомнил о Сократе, который, возможно, сейчас ржавел в холодной воде одной из провинциальных речушек.
«Как могло так случиться, что этот напыщенный выскочка находится сейчас здесь, среди нас, – думал Левин, глядя на нелепого Весловского, – в то время как мой любимый роботкомпаньон гниет гдето далеко, вместо того чтобы быть рядом со мной».
«Кого он вчера целовал этими губами?» – думал он, глядя на нежности Степана Аркадьича с женой. Он посмотрел на Долли, и она тоже не понравилась ему. «Ведь она не верит его любви. Так чему же она так рада? Отвратительно!»
Он посмотрел на княгиню, которая так мила была ему минуту тому назад, и ему не понравилась та манера, с которою она, как к себе в дом, приветствовала этого Васеньку с его лентами.
И противнее всех была Кити тем, как она поддалась тому тону веселья, с которым этот господин, как на праздник для себя и для всех, смотрел на свой приезд в деревню, и в особенности неприятна была тою особенною улыбкой, которою она отвечала на его улыбки.
Шумно разговаривая, все пошли в дом; но как только все уселись, Левин повернулся и вышел.
Кити видела, что с мужем чтото сделалось. Она хотела улучить минутку поговорить с ним наедине, но он поспешил уйти от нее, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. «Им там все праздник, – думал он, – а тут дела не праздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя».
Обычно человек, более всего страшащийся того, что смерть обрушится на него сверху, становится уязвим для смерти, притаившейся под ногами. Так случилось и с Левиным. Раздраженный произошедшей дома сценой, он шел знакомой лесной тропкой к грозниевой шахте, неотрывно глядя на деревья; такая предосторожность помогла бы ему вовремя заметить отвратительных пришельцев, если бы они вдруг полезли изза тонких стволов осин.
Вдруг земля под ногами разверзлась – из норы выбросило огромного извивающегося червя. Сегментированная чешуйчатая машина смерти поползла по направлению к Левину, издавая при этом зловещее «тикатикатика». Константин Дмитрич ахнул и присел, пытаясь оценить размер чудовища. В последний раз вместе с Сократом они встретились с червяком, сравнимым по комплекции с гиппопотамом, но этот новый экземпляр был в длину никак не меньше слона и почти вполовину его роста.
Быстро повернув мощную голову, извивающееся чудовище, покрытое металлическими пластинами, сбило Левина с ног; из норы вылезло еще больше бесконечного тела, словно Грав, выруливающий из тоннеля. Левин, теперь опрокинутый на спину, решительно занес над собой крепкую прогулочную трость из дуба и хорошенько ударил ею по безглазой морде червяка. Монстр отшатнулся, из слюнявого рта побежала слизь цвета охры, а оглушительное, словно барабанная дробь, «тикатикатика », неслось откудато… А и правда, откуда?
«Наверное, гдето посередине тела прилажено устройство типа Речесинтезатора», – подумал Левин. Тяжело дыша и чувствуя пульсирующую в висках кровь, он вскочил на ноги и, пятясь, изготовился ударить червяка вытянутой тростью, чуть только зверь двинется на него. Однако монстр, к удивлению Левина, не пополз дальше. Он замер, поводя туда и обратно подрагивавшей головой, словно бы ища чтото. Левину показалось, что под полупрозрачным серым покрытием его мерцали какието зеленоватые лампочки – уж не датчики ли, исследующие ландшафт?
«Ейбогу, он чтото ищет», – подумал Левин, осторожно приближаясь к червяку и рассматривая его брюхо.
– Что потерял? – громко обратился он к монстру, словно бы двенадцатиметровый механический червяк мог ответить ему, породив в своей утробе человеческий голос. Вместо этого он замер, голова поднялась в направлении севера и странное «тикатикатика» стало настолько громким, что Левину пришлось зажать уши. «Нашел, – подумал он, – уловил запах». Огромный червь вдруг рванулся вперед и вверх, его извивающееся тело легко неслось над головой Левина, словно струйка воды, выпущенная из шланга. Червяквоздухоплаватель приземлился на противоположной стороне поляны и тут же принялся внедряться в другую нору. За считанные секунды длинное его тело полностью исчезло в новом тоннеле.
* * *
Левин не пошел к шахте, как планировал, и вместо этого сел на камень, чтобы подумать об этом ужасном, мистическом червяке. Прислонив трость к камню, он задумчиво чесал в голове и дергал себя за бороду, бессознательно подражая Сократу.
Он вернулся домой только тогда, когда послали звать его к ужину. На лестнице стояли Кити с Агафьей Михайловной, осматривая I/Склад/19 и совещаясь о винах к ужину.
– Да что вы такой fuss[13] делаете? Подай, что обыкновенно.
– Нет, Стива не пьет… Костя, подожди, что с тобой? – заговорила Кити, поспевая за ним, но он безжалостно, не дожидаясь ее, ушел большими шагами в столовую и тотчас же вступил в общий оживленный разговор, который поддерживали там Васенька Весловский и Степан Аркадьич.
– Ну что же, завтра едем на ОхотьсяиБудьЖертвой? – спросил Облонский.
– Пожалуйста, поедем, – сказал Весловский, пересаживаясь боком на другой стул и поджимая под себя жирную ногу.
– Я очень рад, поедем. Прикажу, чтобы Охотничьих Медведей как следует разогрели и потравили собаками, – сказал Левин Весловскому с притворною приятностью, которую так знала в нем Кити и которая так не шла ему. – Рябчиков не знаю, найдем ли, особенно потому, что сейчас, в связи с угрозой нападения Почетных Гостей, мы вынуждены будем охотиться, не выходя за пределы огороженной территории. В противном случае наша забава станет несколько более реалистичной, чем требуется для приятного времяпровождения. Только надо ехать рано. Вы не устанете? Ты не устал, Стива?
– Я устал? Никогда еще не уставал.
– В самом деле, давайте не спать! Отлично! – подтвердил Весловский. – От меня мало толку, когда я погружаюсь в Спящий Режим.
Это было довольно оригинальное высказывание, Левин с еще более усилившимся раздражением посмотрел на Весловского. Он страстно желал уйти прочь, в спальню, где он смог бы составить послание Сократу и поделиться с ним своими размышлениями о механических червяках.
– Давайте не спать всю ночь! Пойдемте гулять, – весело улыбаясь, сказал Степан Аркадьич.
– О, в этом мы уверены, что ты можешь не спать и другим не давать, – сказала Долли мужу с той чуть заметною иронией, с которою она теперь почти всегда относилась к своему мужу.
– А ты знаешь, Васенька был у Анны. И он опять к ним едет. Ведь они всего в семидесяти верстах от вас. И я тоже непременно съезжу. Весловский, поди сюда!
Васенька перешел к дамам и сел рядом с Кити.
– Ах, расскажите, пожалуйста, вы были у нее? Как она? Где она? – обратилась к нему Дарья Александровна.
– А вот об этом я не могу сказать вам, – рассмеялся Васенька, – все дело в том, что меня привезли в лагерь с завязанными глазами и так же, ослепленного, увезли.
Левин остался на другом конце стола и, не переставая разговаривать с княгиней и Варенькой (которая так же гостила у них), видел, что между Степаном Аркадьичем, Долли, Кити и Весловским шел оживленный и таинственный разговор. Мало того, что шел этот таинственный разговор, он видел в лице своей жены выражение серьезного чувства, когда она, не спуская глаз, смотрела в красивое лицо Васеньки.
– Они живут в старом доме с хозяйством на манер тех, что были в царские времена. Дом этот довольно крепкий, местами перестроенный, но все же едва ли пригодный для жизни, – говорил Весловский о новом прибежище Анны и Вронского. – Я не берусь судить, но в этой постройке я не хотел бы жить.
– Что ж они намерены делать?
Васенька загадочно улыбнулся, стараясь продлить момент всеобщей убежденности в том, что он знает ответ на один из самых волнительных вопросов: что собирались делать Каренина и Вронский, после ночи в театре скрывшиеся гдето вместе со своими роботамикомпаньонами и тем самым бросившие вызов Министерству и лично мужу Анны Аркадьевны.
– Увы, я не могу сказать вам, что они намерены делать, к тому же я не уверен в том, что они сами придут к общему мнению. И всетаки они сейчас в надежном убежище, и думаю, что вполне могут остаться в этом уголке безмятежности навсегда, – сказал он со смешком.
– Как бы хорошо нам вместе съехаться у них! Ты когда поедешь? – спросил Степан Аркадьич у Васеньки.
– Я проведу у них июль.
– А ты поедешь? – обратился Степан Аркадьич к жене.
– Я давно хотела и непременно поеду, – сказала Долли. – Мне ее жалко, и я знаю ее. Она прекрасная женщина. Я поеду одна, когда ты уедешь, и никого этим не стесню. И даже лучше без тебя.
– И прекрасно, – сказал Степан Аркадьич. – А ты, Кити?
– Я? Зачем я поеду? – вся вспыхнув, сказала Кити. И оглянулась на мужа.
– А вы знакомы с Анною Аркадьевной? – спросил ее Весловский. – Она очень привлекательная женщина.
– Да, – еще более краснея, ответила ему Кити и затем встала и подошла к мужу.
– Так ты завтра едешь на ОхотьсяиБудьЖертвой? – сказала она.
Ревность его в эти несколько минут, особенно по тому румянцу, который покрыл ее щеки, когда она говорила с Весловским, уже далеко ушла. Теперь, слушая ее слова, он их понимал уже посвоему. Как ни странно было ему потом вспоминать об этом, теперь ему казалось ясно, что если она спрашивает его, едет ли он на охоту, то это интересует ее только потому, чтобы знать, доставит ли он это удовольствие гостю, в которого она, по его понятиям, уже была влюблена.
– Да, я поеду, – ненатуральным, самому себе противным голосом отвечал он ей.
– Нет, лучше пробудьте завтра день, а то Долли не видала мужа совсем, а послезавтра поезжайте, – сказала Кити.
Смысл слов Кити теперь уже переводился Левиным так: «Не разлучай меня с ним. Что ты уедешь – мне все равно, но дай мне насладиться обществом этого прелестного молодого человека».
– Ах, если ты хочешь, то мы завтра пробудем, – с особенной приятностью отвечал Левин.
Васенька между тем, нисколько и не подозревая того страдания, которое причинялось его присутствием, вслед за Кити встал от стола и, следя за ней улыбающимся, ласковым взглядом, пошел за нею.
Левин видел этот взгляд. Он побледнел и с минуту не мог перевести дыхания. «Как позволить себе смотреть так на мою жену!» – кипело в нем.
– Так завтра? Поедем, пожалуйста, – сказал Васенька, присаживаясь на стуле и опять подворачивая ногу по своей привычке.
Ревность Левина еще дальше ушла. Она совершенствовалась, как совершенствуются все новые модели роботов – от I/Ревность/4 к I/Ревность/5, а эту превосходила I/Ревность/6. Уже он видел себя обманутым мужем, в котором нуждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобства жизни и удовольствия… Но, несмотря на то, он любезно и гостеприимно расспрашивал Васеньку о его охотах, ружье, сапогах и согласился ехать завтра.
На счастье Левина, старая княгиня прекратила его страдания тем, что сама встала и посоветовала Кити идти спать. Но и тут не обошлось без нового страдания для Левина. Прощаясь с хозяйкой, Васенька опять хотел поцеловать ее руку, но Кити, покраснев, с наивною грубостью, за которую ей потом выговаривала мать, сказала, отстраняя руку:
– Это у нас не принято.
В глазах Левина она была виновата в том, что она допустила такие отношения, и еще больше виновата в том, что так неловко показала, что они ей не нравятся.
Левин нахмурился и пошел наверх, в кабинет, чтобы составить послание Сократу об ужасных червяках.
Константин Дмитриевич провел несколько часов в напряженной работе. Составляя, записывая и перечитывая послание Сократу, он старался изложить первые выводы, сделанные после долгих размышлений о червяхроботах: о том, кто они такие, откуда пришли и как связаны с другими бедами, обрушившимися на страну.
Он лег спать счастливый и довольный результатами своего расследования, с нетерпением ожидая ответного сообщения от своего бедного ссыльного робота. Но радость была недолгой. Уже утром ревность Левина вновь вернулась к жизни благодаря несносному Весловскому.
За завтраком Васенька вновь заговорил с Кити о том, о чем говорил и вечером накануне: о положении Анны, о том, должна ли любовь ставиться выше общественного мнения. Кити не нравился разговор, и она была взволнована одновременно тоном обсуждения и тем ожидаемым эффектом, которое произведет на мужа эта тема. Но она была слишком неопытна и наивна для того, чтобы знать, как остановить этот разговор и даже скрыть то легкое удовольствие, которое получала она, видя совершенное восхищение ею молодым человеком. Она хотела прекратить это все, но не знала как. Что бы она ни делала, она знала, что муж будет следить за ней и истолкует все самым ужасным образом. И действительно, когда она спросила у Долли, что с Машей, Весловский, ожидая когда кончится этот скучный для него разговор, принялся равнодушно смотреть на Долли, этот вопрос показался Левину ненатуральную, отвратительную хитростью.
– Что скажете, идти ли нам сегодня за грибами? – спросила Долли.
– Конечно, идите, и я с вами пойду, – ответила Кити и покраснела. Из вежливости она хотела спросить и Весловского, пойдет ли он, но промолчала.
– Куда ты, Костя? – спросила она мужа с виноватым лицом, когда он прошел мимо решительным шагом. Этим виноватым выражением она подтвердила только его подозрения.
– Иду проверить, нет ли во рву пришельцев, – ответил Левин, не глядя на жену.
– Опять?
Он сошел вниз, но не успел еще выйти из кабинета, как услыхал знакомые шаги жены, неосторожно быстро идущей к нему.
Он не обернулся и гордо вышел из дома в сад, прошел мимо II/Садовника/9, поставленного сканировать заросли в поисках пришельцев. Наконец он вынужден был обратить внимание на жену.
– Ну хорошо, что ты хотела сказать?
Он не смотрел ей в лицо и не хотел замечать, что она, в ее положении, дрожала всем лицом и имела жалкий и уничтоженный вид. Он не хотел понять, как трудно было беременной женщине, у которой не было теперь рядом роботакомпаньона, способного утешить в трудную минуту.
– Так не может больше продолжаться! Это унижение! Я несчастна, ты несчастен. За что? – сказала Кити, когда они добрались до уединенной лавочки на углу липовой аллеи.
– Скажи мне одну вещь: было ли чтото в его тоне неприличное, нехорошее, ужасающе унизительное? – спросил Левин, становясь перед ней со сжатыми на груди кулаками, как он стоял перед ней накануне вечером.
– Было, – ответила она дрожащим голосом. – Но Костя, ты веришь, что я не виновата? Я с утра хотела такой тон взять, но эти люди… Зачем он приехал? Как счастливы мы были! Счастливы и едины, не только любовью друг к другу, но и к нашим роботам, едины в нашей преданности им! – говорила Кити, задыхаясь от рыданий.
И хотя ничего не гналось за ними, и не от чего было бежать – с неба упало всего несколько мелких капель, – видеосенсоры II/Садовника/9 зафиксировали удивительное: хозяева вернулись домой мимо него с успокоенными, сияющими лицами.
Проводив жену наверх, Левин пошел на половину Долли. Дарья Александровна со своей стороны была в этот день в большом огорчении. Она ходила по комнате и сердито говорила стоявшей в углу и ревущей девочке:
– И будешь стоять в углу весь день, и обедать будешь одна, и ни одной куклы не увидишь, и платья тебе нового не сошью, – говорила она, не зная уже, чем наказать ее.
– Нет, это гадкая девочка! – обратилась она к Левину. – Откуда берутся у нее эти мерзкие наклонности?
– Да что же она сделала? – довольно равнодушно сказал Левин, которому хотелось посоветоваться о своем деле и поэтому досадно было, что он попал некстати.
– Они с Гришей ходили в малину и там… я не могу даже сказать, что она делала. Вот какие гадости. Тысячу раз пожалеешь, что рядом нет Долички. Она всегда давала верные советы, как справится с такими вещами. Ах, как же я любила ее! – Глаза Долли заблестели от слез. За окнами усилился дождь, словно бы само небо оплакивало потерю Дарьи Александровны.
– Но ты чтото расстроен? Ты зачем пришел? – спросила Долли. – Что там делается?
И в тоне этого вопроса Левин слышал, что ему легко будет сказать то, что он был намерен сказать.
– Я не был там, я был один в саду с Кити. Мы ссоримся с тех пор, как… Стива приехал.
Долли смотрела на него умными, понимающими глазами.
– Ну скажи, руку на сердце, был ли… не в Кити, а в этом господине такой тон, который может быть неприятен, не неприятен, а ужасен, оскорбителен для мужа?
– То есть, как тебе сказать… Стой, стой в углу! – обратилась она к Маше, которая, увидав чуть заметную улыбку на лице матери, повернулась было. – Светское мнение было бы то, что он ведет себя, как ведут себя все молодые люди. Il fait la cour à une jeune et jolie femme,[14] а муж светский только может быть польщен этим.
– Да, да, – мрачно сказал Левин, – но ты заметила?
– Не только я, но Стива заметил. Он прямо после чая мне сказал: je crois que Весловский fait un petit brin de cour à Кити.[15]
– Ну и прекрасно, теперь я спокоен. Я прогоню его, – сказал Левин.
– Что ты, с ума сошел? – с ужасом вскрикнула Долли. – Что ты, Костя, опомнись! – смеясь, сказала она. – Ну, можешь идти теперь к Фанни, – сказала она Маше. – Нет, уж если хочешь ты, то я скажу Стиве. Он увезет его. Можно сказать, что ты ждешь гостей. Вообще он нам не к дому.
– Нет, нет, я сам.
– Но ты поссоришься?..
– Нисколько. Мне так это весело будет, – действительно весело блестя глазами, сказал Левин. – Ну, прости ее, Долли! Она не будет, – сказал он про маленькую преступницу, которая нерешительно стояла против матери, исподлобья ожидая и ища ее взгляда.
Мать взглянула на нее. Девочка разрыдалась, зарылась лицом в коленях матери, и Долли положила ей на голову свою худую нежную руку.
«И что общего между нами и им?» – подумал Левин и пошел отыскивать Весловского.
Проходя через переднюю, он велел II/Кучеру/14 закладывать коляску, чтобы ехать на станцию. Преисполненный мужества и решительности выгнать этого негодяя из дома, Левин без стука вошел в комнату, застал Весловского в то время, как тот, сидя на кровати, натягивал краги, чтобы ездить верхом. Удивленный таким внезапным появлением Левина, Васенька быстро встал и отвернулся, бормоча извинения за свой растрепанный внешний вид. Константин Дмитрич не мог ничего ответить на это, пораженный увиденным: над помятой манишкой не было лица. В пространстве между ушами не было кожи, не было сверху и волос, не было подбородка. Вместо лица к Левину было обращено скопление цепляющихся друг за друга шестеренок и маленьких быстро движущихся деталей. Привычно веселым и приятным голосом, который, как теперь стало понятно Левину, исходил из Речесинтезатора (звук был высочайшего качества), он произнес:
– Увы, Константин Дмитриевич, вы застали меня врасплох.
Левин с ужасом взглянул на черносеребристую мозаику из деталей, заменившую лицо. Он увидал десятки крошечных поршней, которые принялись двигаться, когда из Речесинтезатора послышались слова. Словно зритель, следящий за движениями кукловода, он мог наблюдать теперь за работой устройств, которые двигали бы губами, будь искусственное лицо на месте.
– Боже мой, да ты робот, – озвучил Левин очевидное.
– Ты открыл мою тайну, дружище, – послышался голос откудато из головы. Робот вздохнул, и Левин увидел, как две маленькие полукруглые шестеренки приподнялись в верхней части механического подобия лица; не осталось никаких сомнений – это была система, которая отвечала за ироническое вздергивание бровей (если бы они были, конечно). – И, несмотря на то что я послан сюда наблюдать, а не разрушать, мои схемы довольно быстро приспосабливаются к реальным ситуациям.
Левин сделал шаг назад, вдруг осознав, что Весловский преградил ему путь к двери.
– Для Министерства нет никакой пользы в том, чтобы ты или кто другой знали обо мне правду. И потому…
Робот издал пронзительный крик и ослепил Левина яркой вспышкой света, крепко схватив дезориентированного человека за горло. Левин крякнул и захрипел, уставившись в мертвую пустоту механического лица; Весловский поднял его над землей, как поднимают роботыкорчеватели вырванное с корнем дерево.
– Общество меняется, Константин Дмитрич, – меланхолично произнес Весловский, сдавливая мощными большими пальцами шею Левина. – Ваша преданность роботам III класса восхищает, но нет смысла противостоять грядущему.
Левин не мог ответить; голова его кружилась, и горло свели спазмы, когда из легких вышла последняя порция воздуха. С брезгливым видом робот отвернулся, словно бы угасание человека было слишком ужасающим зрелищем для его чувствительной натуры.
Мозг Левина, испытывавший кислородное голодание, словно на мониторе стал последовательно показывать хозяину сцены из жизни. Левин видел себя восемнадцатилетним, впервые настраивающим новенького роботакомпаньона… он сам в день свадьбы, задыхающийся от любви и страха… вот ему шесть лет, сестра его безутешно рыдает над неисправной игрушкой I класса…
..механическая балерина…
Он сделал над собой усилие, чтобы задержаться на этом воспоминании. Балерина крутилась слишком быстро, изпод нее летели искры, это было небезопасно. Как же поступила мама?
Собрав остатки сил, Левин взмахнул правой рукой и мощным движением распахнул деревянные ставни; в ту же секунду в комнату ворвался свежий воздух и шум проливного дождя. Левин ударил противника по тонкой лодыжке, силясь не повредить ее, но вывести из равновесия, чтобы…
Да! – он рванулся всем телом вперед и толкнул робота, тот спиной упал на подоконник, механическое лицо его оказалось на улице, подставленное под мощные потоки дождя.
«Бабьи сплетни оказываются правдой, – сказала мама много лет назад, ударом молотка разбивая лицо игрушечной балерины, – нужно только закапать немного соленой воды в глаз».
– Брррр… гррррр… – выпалил бессмыслицу Весловский, в то время как внутренности его вздувались и шипели. – Гррррллллл!!
Неумолимый Левин удерживал его – сам он сказал себе, что держал в руках «это» под проливным дождем, словно человек, купавший сопротивляющегося щенка. В конце концов пальцы на его шее ослабили хватку, и Левин тяжело задышал, с мрачным наслаждением наблюдая за тем, как Весловский насильственно погружался в вечный Спящий Режим. Обессиленный, Левин упал под окном, рядом свалился робот со склоненной набок головой. Он продолжал издавать дикие звуки: ыыыы… уоооой… бдыжжжж…
Наконец, как умирающий, на которого перед смертью находит минута просветления, робот тихо произнес:
– Вам не скрыться. И не победить.
Вместе с этими словами последние силы покинули тело, и Весловский прекратил свое существование.
* * *
– Что это за бессмыслица! – говорил Степан Аркадьич, узнав, что приятеля его выгоняют из дома, и найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гостя. – Mais cʼest ridicule![16] Какая тебя муха укусила? Mais cʼest du dernier ridicule![17] Что же тебе показалось, если молодой человек…
Но место, в которое Левина укусила муха, видно, еще болело, потому что он опять побледнел, когда Степан Аркадьич хотел объяснить причину, и поспешно перебил его:
– Пожалуйста, не объясняй причины! Я не мог иначе! Мне очень совестно перед тобой и перед ним. Но ему, я думаю, не будет большого горя уехать, а мне и моей жене его присутствие неприятно.
И Левин примирительно кивнул Облонскому, давая понять, что разговор окончен, и уводя друга из сада. Когда Степан Аркадьич в гневе уехал, Левин вернулся, чтобы разровнять бугристую землю, в которой он закопал разобранного на части Васеньку Весловского.
Спустя несколько недель после бурного финала жизненного пути Васеньки Весловского в дверь тихо, но настойчиво постучали. Кити поспешила открыть и увидела на пороге очень худую женщину, завернутую в старое грязное одеяло. Хозяйка тут же пригласила гостью в дом, приняв ее за бедную крестьянку, – они слышали, что в последнее время много простого народа блуждало по деревням; дома этих несчастных были разрушены инопланетными мародерами. Кити даже знала, что некоторые из них нашли работу в господских домах, устроившись там рабочимидрузьями. Иными словами, коекак заменили собой роботовкомпаньонов, хотя сама идея использовать людей таким образом страшила Кити.
Как только незнакомка откинула импровизированный капюшон, стало ясно, что под покровом скрывалась не голодная крестьянка: Кити увидела обсидиановую лицевую панель, бешено сверкавшую электрическим зеленым светом.
– Это… – она закрыла рот рукой, – боже мой, это же робот III класса!
– Беглянка, – отозвался Левин, спускаясь по лестнице вниз и закрывая за роботом входную дверь.
Робота звали Гамамелис. Она отказалась рассказать, кто была ее хозяйка и каким образом ей самой удалось избежать всеобщей корректировки; и тем не менее не было никаких сомнений в том, что проделанное путешествие было полно опасностей. Голова Гамамелис во время разговора тряслась, и вся она являла яркий пример робота, лишенного хозяйской опеки, – вздрагивала от любого шума и плохо ориентировалась в пространстве. Она сообщила, что у нее есть послание, но не для Кити или Левина, а для Дарьи Александровны. Долли тут же пригласили, и она просмотрела сообщение: оно было от Анны Аркадьевны, которая звала навестить ее в секретном лагере. Гамамелис станет проводником.
Дарья Александровна тут же приняла решение ехать. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятное ее мужу; она понимала, как справедливы Левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским; но она считала своею обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ее не могут измениться, несмотря на перемену ее положения. Было решено, что они вместе с Гамамелис выедут завтра утром. Женщинаробот ясно дала понять, что не желает говорить о своем прошлом и настоящем; она с благодарностью приняла дозу влагопоглощающего реагента и погрузилась в Спящий Режим.
Чтобы не зависеть от Левиных в этой поездке, Дарья Александровна послала в деревню нанять Тягача и подводу; но Левин, узнав об этом, пришел к ней с выговором.
– Почему же ты думаешь, что мне неприятна твоя поездка? Да если бы мне и было это неприятно, то тем более мне неприятно, что ты не берешь моего Тягача, – говорил он. – Нанимать кучера на деревне, вопервых, неприятно для меня, а главное, они возьмутся, но не довезут. У меня есть четырехгусеничный II/Тягач/16. И если ты не хочешь огорчить меня, то ты возьми мой.
Дарья Александровна должна была согласиться, и в назначенный день Левин приготовил для свояченицы Тягач и подставу, очень некрасивую, но которая могла довезти Дарью Александровну в один день. Если, конечно, весьма расплывчатая информация о расположении лагеря, которой поделилась Гамамелис, была правдивой.
Дарья Александровна и робот по совету Левина выехали до зари. Дорога была хороша, коляска покойна, ехала хорошо, и на козлах сидел таинственный бесхозный робот; сжав контроллер Тягача манипуляторами, Гамамелис вдруг изменилась – ее нервное выражение лица сменилось меланхолическирассеянным. Разглядывая ее, Долли предположила, что до всеобщего сбора роботов она принадлежала охотнику или женщинегонщице.
Дорогою Долли все думала. Дома ей, за заботами о детях, никогда не бывало времени думать. Зато уже теперь, на этом четырехчасовом переезде, все прежде задержанные мысли вдруг столпились в ее голове, и она перебрала всю свою жизнь, как никогда прежде, и с самых разных сторон. Ей самой странны были ее мысли, слова бились в голове – какой странной была эта новая жизнь без роботов, когда нельзя уже рассказать обо всем Доличке!
Сначала она думала о детях, о которых, хотя княгиня, а главное, Кити (она на нее больше надеялась), обещала за ними смотреть, она всетаки беспокоилась. «Как бы Маша опять не начала шалить, Гришу как бы не укусила лошадь, да и Лили как бы опять не расстроилась!»
В это время Гамамелис остановила коляску на обочине и, испуганно извиняясь, завязала Долли глаза шелковым платком.
– Наверное, мы подъезжаем, – подумала Долли вслух.
Мысли ее обратились к Анне.
Они нападают на Анну. За что? Что же, разве я лучше? У меня по крайней мере есть муж, которого я люблю. Не так, как бы я хотела любить, но я его люблю, а Анна не любила своего? В чем же она виновата? Она хочет жить. Бог вложил нам это в душу. Очень может быть, что и я бы сделала то же. И я до сих пор не знаю, хорошо ли сделала, что послушалась ее в это ужасное время, когда она приезжала ко мне в Москву. Я тогда должна была бросить мужа и начать жизнь сначала. Я бы могла любить и быть любима понастоящему. А теперь разве лучше? Я не уважаю его. Он мне нужен, – думала она про мужа, – и я терплю его.
Она вспомнила также слова, сказанные Облонским, когда из дома забирали Доличку. И за эти слова об удобстве она еще больше возненавидела его.
Чем ближе коляска продвигалась к месту назначения, тем ухабистее становилась дорога. Самые страстные и невозможные романы представлялись Дарье Александровне.
«Анна прекрасно поступила, и уж я никак не стану упрекать ее. Она счастлива, делает счастье другого человека и не забита, как я, а, верно, так же, как всегда, свежа, умна, открыта ко всему,» – думала Дарья Александровна, и плутовская улыбка морщила ее губы, в особенности потому, что, думая о романе Анны, параллельно с ним Дарья Александровна воображала себе свой почти такой же роман с воображаемым собирательным мужчиной, который был влюблен в нее. И Доличка держала ее за руку, и она, так же как Анна, признавалась во всем мужу. И удивление, и замешательство Степана Аркадьича при этом известии заставляло ее улыбаться.
В таких мечтаниях она подъехала к повороту с большой дороги, ведшему к Воздвиженскому.
Гамамелис остановила коляску и оглянулась направо, на ржаное поле, где на телеге сидело штук двенадцать потрепанных роботов III класса. Гамамелис хотела было соскочить, но потом раздумала и крикнула роботам, поманив их к себе. Ветерок, который был на езде, затих, когда остановились; слепни садились на пышущий паром двигатель Тягача и тут же сгорали.
Один из роботов поднялся и медленно пошел к коляске. Это был высокий голубого металла андроид с заостренной головой; он низко поклонился сидевшим в коляске. Гамамелис представила его как Антипода.
От группы отделился второй робот. Он шел гораздо медленнее первого. Внешность его говорила о том, что некогда он принадлежал к военному классу – он был похож на черепаху и, как узнала чуть позже Долли, звали его Черепашья Скорлупка.
«Списанные, – подумала Долли, качая головой и с жалостью глядя на горстку металлических женщин и мужчин, – целый мир бедных списанных роботов».
Открывавшиеся виды более не вдохновляли. Обитое железом зернохранилище стояло пустым и слегка покосилось, разводы грязи покрывали его круглые окнаиллюминаторы. Сарай выглядел чуть лучше, однако черепица на крыше уже давно отвалилась, а из самого помещения несло гниющим кормом для скотины. Жилой дом был ветхим, по стенам в беспорядке взбирались вьюнки, покрывая собою окна и забираясь в дом через дверные проемы.
Курчавый старик в потрепанном комбинезоне механика, повязанный по волосам лычком, с темною от пота горбатою спиной, ускорив шаг, подошел к коляске и взялся загорелою рукой за испачканное грязью крыло коляски.
– Добро пожаловать в Воздвиженское, – хмуро сказал старик, – надеюсь, что вы друг, а не враг – не хотелось бы начинать утро с убийства такой красивой женщины.
– Что вы имеете в виду?!
– Я просто шучу, сударыня, это всего лишь шутка. Но к кому вы? К графу? Или к самой Королеве Списанных?
– А что, дома они, голубчик? – неопределенно сказала Дарья Александровна, не зная, как спросить про Анну даже у этого необычного старика, который был, повидимому, механиком у этих незаконных, комиссованных роботов.
– Должно, дома, – сказал мужик, переступая босыми ногами и оставляя по пыли ясный след ступни с пятью пальцами. – Должно, дома, – повторил он, видимо желая разговориться. – Вчера только прибыли еще две жалкие оловянные душонки, – сказал он, с притворной неприязнью указывая на Гамамелис и других роботов.
– Чего ты? – Он обернулся к Черепашьей Скорлупке, который глухо загудел гдето в глубинах своего панциря. – А вот и они, едут при полном параде!
Долли посмотрела в направлении, куда указывал чудаковатый старик. Она увидала двух неуклюжих монстров, шагающих по дороге. Вронский и Анна ехали внутри самодельных боевых Оболочек. По всей видимости, первой шла Анна – ее костюм возвышался над землей на двенадцать метров, на лицевой панели были нарисованы огромные глаза и сияющая корона, словно бы перешедшая от коронованного персонажа на детском утреннике. Следом за ней ехал Вронский, поместившийся в новой версии его любимой ФруФру. Оболочка была столь же внушительных размеров, оружие столь же мощным, но все это было сделано в домашних условиях и потому выглядело не столь аккуратно, как при заводской сборке: не было тех высококачественных материалов и безупречных сварочных швов, которыми знамениты профессиональные военные Оболочки.
Рядом с ними на военной двухколесной тележке, доставшейся ему из старых запасов, ехал Васенька Весловский. Вытягивая толстые ноги вперед и, очевидно, любуясь собой, он катил в шотландском колпачке с развевающимися лентами, и Дарья Александровна не могла удержать веселую улыбку, увидев его.
Она не знала, что это был вовсе не Васенька Весловский, который так хорошо развлекал их в Покровском, хотя внешне этот робот походил на первого как две капли воды и обладал удивительною способностью моделировать ход мыслей собеседника по собственной прихоти.
Долли видела, как королевская оболочка Карениной начала вдруг спотыкаться, и Анна, выбравшись из машины, встряхнула волосами и принялась чинить свой боевой костюм: она пропитала маслом шарниры, проверила рефлексы робота. Ее понимание сложной системы машины вместе с легкостью и изяществом движений впечатлили Долли.
В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит в боевом костюме. С представлением об этом в понятии Дарьи Александровны соединялось представление о чрезмерной мужественности, которое, по ее мнению, не шло женщине; но когда она рассмотрела ее вблизи, она тотчас же примирилась с ее ездой внутри машиныубийцы. Несмотря на элегантность, все было так просто, спокойно и достойно и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло быть естественней.
Вронский осторожно ехал внутри ФруФру Второй (так звали новую Оболочку); он старался разработать поскрипывающие ноги робота – над ним посмеивались, потому что он пренебрег советами своего толстого маленького инженераангличанина, который шел позади процессии пешком.
Лицо Анны в ту минуту, как она в маленькой прижавшейся в углу старой коляски фигуре узнала Долли, вдруг просияло радостною улыбкой. Подъехав к коляске, она освободилась от проводов, связывавших ее с роботом, и побежала навстречу Долли.
– Я так и думала и не смела думать. Вот радость! Ты не можешь представить себе мою радость! – говорила она, то прижимаясь лицом к Долли и целуя ее, то отстраняясь и с улыбкой оглядывая ее.
– Вот радость, Алексей! – сказала она, оглянувшись на Вронского, покинувшего свою Оболочку и подходившего к ним. Вдыхая свежий морозный воздух, он освободился от проводовсенсоров и подошел к Долли.
– Вы не поверите, как мы рады вашему приезду, – сказал он, придавая особенное значение произносимым словам и улыбкой открывая свои крепкие белые зубы. – Лупо! Ко мне!
Роботволк выскочил изза дома и помчался к хозяину, сверкая недавно отремонтированными визуальными сенсорами.
Васенька Весловский снял свою шапочку и, приветствуя гостью, радостно замахал ей лентами над головой. Долли заметила, что, когда они обнялись с Анной, списанные роботы с любовью и восхищением стали смотреть на Вронского и Каренину. Она увидела флегматичную Черепашью Скорлупку, прямого Антипода, загадочную Гамамелис и задумалась над несчастной судьбой этих списанных роботов. Удалось ли им избежать злого рока благодаря заступничеству хозяев или помогла им невеселая удача? Какие противоречивые и запутанные сообщения получили они от Железных Законов, прописанных в их программах? А теперь и само Министерство, породившее их, отдало приказ уничтожить свои создания!
Пока они медленно шли в сторону дома, Анна без остановки говорила о новом мире, который они строили в Воздвиженском; но более всего Дарью Александровну поражала перемена, происшедшая в знакомой и любимой Анне. Другая женщина, менее внимательная, не знавшая Анны прежде и в особенности не думавшая тех мыслей, которые думала Дарья Александровна дорогой, и не заметила бы ничего особенного. Но теперь Долли была околдована тою временною красотой, которая только в минуты любви бывает на женщинах и которую она застала теперь на лице Анны.
Все в ее лице: определенность ямочек щек и подбородка, склад губ, улыбка, которая как бы летала вокруг лица, блеск глаз, грация и быстрота движений, полнота звуков голоса, даже манера, с которою она сердитоласково ответила Весловскому, спрашивавшему у нее позволения забраться в ее Оболочку, чтобы попробовать, каково это, – все было особенно привлекательно; и, казалось, она сама знала это и радовалась этому.
Ехидноироничное прозвище, которое дал Анне старый механик, теперь показалось Долли невероятно точным: гордая и могущественная, уединившаяся в этом пасторальном редуте, она более всего походила на воинствующую королеву. Королеву Списанных.
– Ах, вот и она, – улыбнулась Анна, когда они подходили к крыльцу ветхого дома. Она с чувством обняла своего робота III класса, Андроида Каренину.
Анна смотрела на худое, измученное, с засыпавшеюся в морщинки пылью лицо Долли и хотела сказать то, что она думала, – именно, что Долли похудела; но, вспомнив, что она сама похорошела и что взгляд Долли сказал ей это, она вздохнула и заговорила о себе.
– Ты смотришь на меня, – сказала она, – и думаешь, могу ли я быть счастлива в моем положении? Я ведь не только живу теперь отдельно от мужа, лишена даже возможности получить официальный развод, но и оказалась по другую сторону баррикад, с тех пор как он взялся за решение вопроса о будущем страны! Ну и что ж! Стыдно признаться; но я… я непростительно счастлива. Со мной случилось чтото волшебное, как сон, когда сделается страшно, жутко, и вдруг проснешься и чувствуешь, что всех этих страхов нет. Я проснулась. Я пережила мучительное, страшное и теперь уже давно, особенно с тех пор, как мы здесь, так счастлива!.. – сказала она, с робкою улыбкой вопроса глядя на Долли. – И наконецто я знаю, чего хочу: быть с ним, – Анна смущенно указала на Вронского, – и стоять с ним плечом к плечу, защищая принципы, в которые оба верим: владение роботамикомпаньонами – древнее священное право, дарованное русскому народу.
– Как я рада! – улыбаясь, сказала Долли, невольно холоднее, чем она хотела. – Я очень рада за тебя.
Но Анна не отвечала.
– Что ты думаешь о моем положении? – вдруг спросила она.
– Я считаю… – начала Дарья Александровна. Она собиралась рассказать ей все то, о чем, она знала, настаивал бы сказать Стива, будь он сейчас рядом: что есть законные способы выразить свое недовольство правительственными программами; что, конечно же, роботов III класса следует оплакивать, но глупо при этом пытаться разделить несчастную судьбу машин; и что, наконец, «мы должны полностью довериться нашим лидерам».
– Я полагаю, что… – опять начала Дарья Александровна, но в это время Васенька Весловский, спотыкаясь на каждом шагу, неуклюже проехал мимо в Оболочке Анны Аркадьевны, расстреливая двери дома зарядами электрического огня.
– Этой штукой невозможно управлять! – смеясь, прокричал он.
Анна даже и не взглянула на него.
– Я ничего не считаю, – сказала она и, не имея мужества высказать то, что собиралась и о чем, она точно знала, сказал бы ее муж, продолжила неуверенно: – Но я всегда любила тебя, а если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтоб он был.
Анна, отведя глаза от лица друга и сощурившись (это была новая привычка, которой не знала за ней Долли), задумалась, желая вполне понять значение этих слов. И, очевидно, поняв их так, как хотела, она взглянула на Долли.
– Если у тебя есть грехи, – сказала она, – они все простились бы тебе за твой приезд и эти слова.
И Долли видела, что слезы выступили ей на глаза. Она молча пожала руку Анны. Андроид Каренина сидела на крыльце у ног хозяйки, ее лицевая панель излучала спокойствие, а из Нижнего Отсека было слышно успокаивающее гудение. Эта картина поразила Долли до глубины души: призвать Анну оставить этот мир означало уговорить ее предать Андроида Каренину… и тем самым заставить ее страдать так же, как страдала сама она, расставшись с Доличкой.
– Что ж, расскажи мне, расскажи обо всем этом! – воскликнула Долли, вставая на ноги и с любопытством осматривая земли Воздвиженского. После минутного молчания она повторила просьбу: – Расскажи мне обо всем! Эти удивительные огни шахт – они горят лишь для того, чтобы чинить найденных роботов, или вы собираетесь и новых строить? Сколько же их здесь!
Наконец Анна очнулась от меланхолии и вступила в разговор. Она объяснила своей подруге план лагеря, рассказала о списанных роботах, пришедших сюда, и о том, откуда они пришли; поделилась своей мечтой о том, что место это станет островком спасения для всех роботов, которым злой судьбой была уготована огненная смерть в подземельях Московской Башни.
Во время этой беседы за крыльцом притаился никем не замеченный Васенька Весловский; присев на корточки, он замер, как истукан, точнее, как робот, которым и был. Его чуткие аудиосенсоры записывали разговор.
Анна и Долли целый час смотрели за Вронским, который тренировал роботов в поле за сараем. Строевым шагом помятые андроиды формировали шеренги, шеренги смыкались в колонны, колонны объединялись в фаланги, а фаланги разделялись, перегруппировывались, проходили одна через другую, выполняя серии военных маневров. Синхронно действующие, гибкие и точные в своих движениях, горящие волшебным огнем в полуденном солнце, роботы отрабатывали движения, в то время как Вронский вместе с Лупо бегал среди них, выкрикивая приказы и поправляя то, что казалось неверным. Долли и гордая Анна видели, что Вронский как будто гневался от того, что его приказания выполняются крайне медленно, он жевал кончики усов с притворным разочарованием, но все же было совершенно ясно, что его распирает от гордости за стремительно растущее мастерство его побитых жизнью воинов.
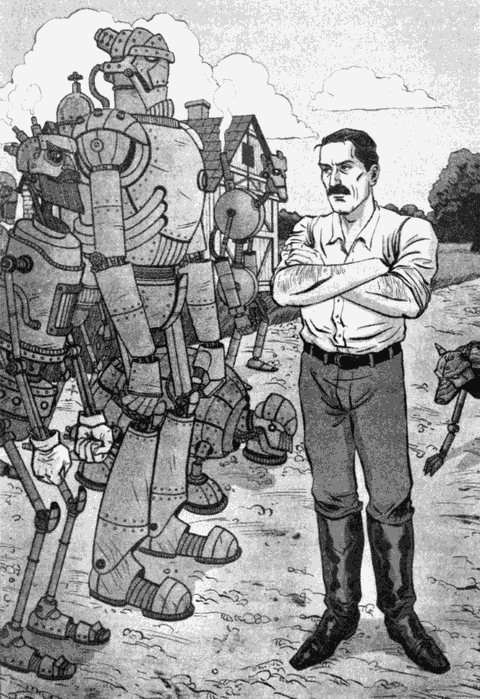
Вронский жевал кончики усов, выкрикивая приказы своим механическим солдатам
И тут рядом с Вронским нарисовался Васенька Весловский, шагая вровень с графом, словно второй командир, он осыпал Вронского вопросами:
– Сколько роботов у вас есть? Что они умеют? Насколько хорошо они слушаются приказов?
Когда «войско» распустили, Анна и Долли продолжили свой обзорный тур, отправившись через просторную лужайку к небольшому флигелю, в котором была устроена уютная детская для дочери Анны и ее II/Няньки/D145.
Чернобровая, черноволосая, румяная девочка, с крепеньким, обтянутым куриною кожей, красным тельцем, несмотря на суровое выражение, с которым она посмотрела на новое лицо, очень понравилась Дарье Александровне; она даже позавидовала ее здоровому виду. То, как ползала эта девочка, тоже очень понравилось ей. Ни один из ее детей так не ползал. Эта девочка, когда ее посадили на ковер и подоткнули сзади платьице, была удивительно мила. Она, как зверек, оглядываясь на больших своими блестящими черными глазами, очевидно радуясь тому, что ею любуются, улыбаясь и боком держа ноги, энергически упиралась на руки и быстро подтягивала весь задок и опять вперед перехватывала ручонками.
Долли захлопала в ладоши от восхищения, но Анна только сощурилась, словно бы всматриваясь кудато вдаль, и неожиданно произнесла:
– Ты знаешь, я его видела, Сережу. Впрочем, это мы переговорим после. Ты не поверишь, я как голодный, которому вдруг поставили полный обед, и он не знает, за что взяться. Полный обед – это ты и предстоящие мне разговоры с тобой, которых я ни с кем не могла иметь; и я не знаю, за какой разговор прежде взяться. Mais je ne vous ferai grâce de rien.[18] Мне все надо высказать.
Долли открыла рот, чтобы ответить, но прежде чем она успела произнести хоть слово, снаружи послышался ужасающий визг; в ту же секунду Анна бросилась за дверь, вместе с ней понеслась Андроид Каренина.
– Пришельцы! – крикнула она через плечо. – На нас напали!
* * *
Когда Анна и Андроид Каренина добрались до середины поля, Почетный Гость вцепился огромными когтями в Антипода; пришелец держал несчастного трясущегося робота над головой, размахивая им во все стороны.
– Он ударит его об землю! – крикнула Анна Андроиду, которая в ответ сверкнула глазами и дала сочувствующий гудок. Изза зернохранилища выскочил Лупо, оскалив зубы, он бежал прямо на монстра. За ним топал Вронский внутри ФруФру Второй, поднимая пушку, чтобы выстрелить во врага.
– Нет, только не это! – крикнула Анна. – Вы уничтожите робота!
Лупо с рыком отскочил, когда огромные зубчатые когти пришельца попытались сгрести его в охапку. Почетный Гость снова завизжал, этот резкий звук мог побороться за первое место в соревновании с душераздирающим сигналом тревоги, который издавал Антипод.
Дарья Александровна, задыхаясь после пробежки, встала рядом с Вронским и Анной, чтобы посмотреть, что будет дальше; остальные списанные роботы сбежались со всех концов лагеря, сочувствующе мигая глазными панелями.
И вдруг Гамамелис, не выказывая и толики нерешительности и нервозности, которые заметила в ней ранее Долли, бросилась на пришельца со спины и нанесла молниеносный сокрушительный удар в поясницу. Чудовище качнулось вперед, выпустило Антипода из цепких объятий, и робот животом шлепнулся прямо на панцирь Черепашьей Скорлупки, который, как и Гамамелис, появился словно изпод земли. Андроид Каренина бросилась на помощь разбитому товарищу и принялась собирать оторванные части его обшивки, чтобы тут же начать ремонт. Тем временем панцирь Черепашьей Скорлупки загорелся, словно звезда на новогодней елке, и десяток глаз пришельца безумно заморгали, а из раскрывшегося длинного клюва послышался ужасный агонизирующий визг: за мгновение Черепашья Скорлупка разогрелась до тысячи градусов и заживо жарила пришельца.
Дарья Александровна стояла ошеломленная, Анна и Вронский обменялись взглядами, удивляясь эффективности и действенности, которую проявили роботы в борьбе с монстром. Пока Вронский восхищался подробностями битвы, отображенными на дисплее, Анна отметила про себя, что свободные от хозяев и диктата Железных Законов, эти роботы не стали бессловесными машинами, а наоборот, начали развиваться, становясь все более независимыми, более умными и более чуткими друг к другу. Более человечными.
Но только пришелец повалился на землю, в агонии схватившись за свои обожженные ноги, как послышался новый звук, идущий словно изпод земли: какоето неясное жужжание или, скорее, тиканье… Пришелец снова взвизгнул, заглушив на мгновение новый источник звука, но в следующую секунду подземные шумы вернулись, многократно усилившись:
«Тикатикатика. Тикатикатика. Тикатикатикатика».
И тут изпод земли вырвался огромный червь, словно пуля в замедленной съемке, выпущенная из охотничьего ружья. Червь вытянулся и стал выше зрителей, плоская безглазая голова его венчала длинный механический корпус, составленный из сегментов; откудато изнутри неслось ужасающее «тикатикатика».
Люди и роботы собрались вместе, с удивлением разглядывая страшного робота. Но пришелец не стал предаваться созерцанию – он бросился к огромному червю, будто ведомый инстинктом. Трижды оттолкнувшись от земли своими мощными задними ногами, похожими на лапы ящерицы, он оказался рядом с чудовищем и запрыгнул ему на спину. Их вопли слились в одну страшную песню: тикатикауиии! – тикатикатикауии!
Оседлавший червяка пришелец, словно конный офицер, издал последний победный клич и сжал свою «лошадь» коленями. Ужасная мысль пришла в голову Вронскому, когда червь сжался и вдруг прыгнул вместе с седоком вверх.
– Они придут за нами тремя путями, – вспомнил Вронский. И это был второй путь: эти черви тоже были пришельцами, посланными служить и защищать этих огромных ящериц с клювами.
Червь вместе с наездником мягко перескочил через головы изумленных обитателей Воздвиженского и затем исчез в норе.
– Святые угодники, – вымолвила Долли и без чувств повалилась на землю.
* * *
Очнулась Дарья Александровна уже в доме, граф Вронский стоял над кроватью и улыбался. Он рассказал ей, что с помощью Андроида Карениной Антипод был потихоньку собран и возвращен к жизни, что Лупо с его мощными обонятельными датчиками исследовал территорию лагеря в поисках новых нор.
Дарья Александровна всем интересовалась, все ей очень нравилось, но более всего ей нравился сам Вронский с этим натуральным наивным увлечением.
«Да, это очень милый, хороший человек», – думала она иногда, не слушая его, а глядя на него и вникая в его выражение и мысленно переносясь в Анну. Он так ей нравился теперь в своем оживлении, что она понимала, как Анна могла влюбиться в него.
– Она очнулась, – крикнул Вронский Анне; та радостно вбежала в комнату и поцеловала Долли. – Я провожу княгиню домой, и мы поговорим, – сказал он, – если вам приятно, – обратился он к ней.
Долли видела по лицу Вронского, что ему чегото нужно было от нее. Она не ошиблась. Как только они вошли через калитку опять в сад, он посмотрел в ту сторону, куда пошла Анна, и, убедившись, что она не может ни слышать, ни видеть их, начал:
– Вы угадали, что мне хотелось поговорить с вами? – сказал он, смеющимися глазами глядя на нее. – Я не ошибаюсь, что вы друг Анны.
Он снял шляпу и, достав платок, отер им свою плешивевшую голову.
Дарья Александровна ничего не ответила и только испуганно поглядела на него. Когда она осталась с ним наедине, ей вдруг сделалось страшно: смеющиеся глаза и строгое выражение лица пугали ее.
Лупо бежал рядом, и она с отвращением заметила, что в зубах он несет кусок шкуры пришельца.
Самые разнообразные предположения того, о чем он собирается говорить с нею, промелькнули у нее в голове: «Он станет просить меня переехать сюда. В этот повстанческий лагерь, с детьми, и я должна буду отказать ему; не о Васеньке ли Весловском и его отношениях к Анне хочет он говорить? А может быть, о Кити, о том, что он чувствует себя виноватым?»
Она предвидела все только неприятное, но не угадала того, о чем он на самом деле собирался сказать ей.
– Вы имеете такое влияние на Анну, она так любит вас, – сказал он, – помогите мне.
Дарья Александровна вопросительноробко смотрела на его энергическое лицо, которое то все, то местами выходило на просвет солнца в тени лип, то опять омрачалось тенью, и ожидала того, что он скажет дальше, но он, цепляя тростью за щебень, молча шел подле нее.
– Если вы приехали к нам, вы, единственная женщина из прежних друзей Анны, то я понимаю, что вы сделали это не потому, что вы считаете наше положение нормальным, но потому, что вы, понимая всю тяжесть этого положения, все так же любите ее и хотите помочь ей. Так ли я вас понял? – спросил он, оглянувшись на нее.
– О да, – складывая I/Зонтик/6, ответила Дарья Александровна, – но…
– Нет, – перебил он и невольно, забывшись, что он этим ставит в неловкое положение свою собеседницу, остановился, так что и она должна была остановиться. – Никто больше и сильнее меня не чувствует всей тяжести положения Анны. И это понятно, если вы делаете мне честь считать меня за человека, имеющего сердце. Я причиной этого положения, и потому я чувствую его.
– До тех пор – а это может быть всегда – вы счастливы и спокойны. Да, внешний мир полон для вас угроз, но в сердцах наконец установилась гармония, и это самое ценное. Я вижу по Анне, что она счастлива, совершенно счастлива, она успела уже сообщить мне, – сказала Дарья Александровна, улыбаясь; и невольно, говоря это, она теперь усомнилась в том, действительно ли Анна счастлива.
Но Вронский, казалось, не сомневался в этом.
– Да, да, – сказал он. – Я знаю, что она ожила после всех ее страданий; она счастлива. Она счастлива настоящим. Но я?.. я боюсь того, что ожидает нас… Виноват, вы хотите идти?
– Нет, все равно.
– Ну, так сядемте здесь.
Дарья Александровна села на садовую скамейку в углу аллеи. Он остановился пред ней.
– Я вижу, что она счастлива, – повторил он, и сомнение в том, счастлива ли она, еще сильнее поразило Дарью Александровну. – Но может ли это так продолжаться? Хорошо ли, дурно ли мы поступили, это другой вопрос; но жребий брошен, – сказал он, – и мы связаны на всю жизнь. Мы соединены самыми святыми для нас узами любви. У нас есть ребенок. У нас есть роботы, которые верят, что рядом с нами обрели спокойную и безопасную жизнь. Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячи компликаций, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий и испытаний, не видит и не хочет видеть. И это понятно. Но я не могу не видеть. – Вронский рассеянно провел рукой по спине Лупо, отчего робот довольно заурчал.
Долли силилась понять, к чему клонит Вронский.
– Моя дочь, – сказал он вдруг. – Можем ли мы растить ее здесь, в таком положении? И каково ее будущее? За ней будут охотиться всю ее жизнь, всю жизнь на ней будет клеймо повстанца – хотела бы она того или нет, ей просто не оставили выбора. Мы сделали этот выбор за нее, нашими поступками. Могу ли я желать ей такого существования! – сказал он с энергическим жестом отрицания и мрачновопросительно посмотрел на Дарью Александровну.
Она ничего не отвечала и только смотрела на него. Он продолжал:
– И завтра родится сын, мой сын, и он тоже испытает на себе последствия нашего выбора, он тоже почувствует всю тягость этого положения. Он станет беглецом, изгоем в обществе, и что хуже всего – если этот лагерь будет обнаружен и уничтожен, мой ребенок будет или убит, или, что еще хуже, его возьмет на воспитание он – Каренин, и он станет Карениным! Вы поймите тягость и ужас этого положения! Я пробовал говорить про это Анне. Это раздражает ее. Она счастлива теперь, приняла то, что видит перед собой, и имеет твердые убеждения относительно вопроса о судьбах роботов. Она наслаждается нашим существованием здесь. И не может посмотреть чуть дальше, чтобы понять, какое будущее мы создаем для себя сейчас. Анна не понимает, и я не могу ей высказать все…
Он замолчал, очевидно, в сильном волнении.
– Да, разумеется, я это понимаю. Но что же может Анна? – спросила Дарья Александровна.
– Это приводит меня к цели моего разговора, – сказал он, с усилием успокаиваясь. – Я очень надеюсь, что смогу оставить эту жизнь и жениться на Анне официально, так, как требуют того общественные приличия.
– Я удивлена услышанным, – ответила Долли. Она посмотрела вокруг и рукой обвела Воздвиженское, – я бы сказала, что вы были так счастливы здесь, возглавляя ваше собственное войско роботов…
– Но они могут служить понастоящему! Возглавляемые мной! Можете себе представить…
– Служить понастоящему?
– Да, служить государству, Министерству! – Вронский оглянулся на дом, словно бы желая удостовериться, что Анна не услышит их. – Я готов играть ту роль, в которой выступлю лучше всего, я готов служить Новой России, построенной нашими лидерами. – Долли подняла руку ко рту, но ничего не сказала. – Я построил этот мир в лесах, потому что должен был защитить честь Анны. Но, по правде, у меня нет никаких проблем, нет никаких реальных разногласий с Высшим Руководством, с тем курсом на изменения, которые они стремятся реализовать. Мои разногласия с Алексеем Александровичем носят личный , а не политический характер.
– Но после вашего отъезда… исчезновения… как руководство Министерства позволит вам вернуться? Как позволит Каренин?
– Если Анна попросит, он даст ей развод, я уверен. Муж ее согласен был на развод – тогда ваш муж совсем было устроил это. И теперь, я знаю, он не отказал бы. Он освободил бы ее и дал прощение нам обоим. Стоило бы только написать ему. Он прямо отвечал тогда, что, если она выразит желание, он не откажет. Разумеется, – сказал он мрачно, – это одна из этих фарисейских жестокостей, на которые способны только эти люди без сердца. Он знает, какого мучения ей стоит всякое воспоминание о нем, и, зная ее, требует от нее сообщения. Я понимаю, что ей мучительно, – сказал Вронский с выражением угрозы комуто за то, что ему было тяжело. – Так вот, княгиня, я за вас бессовестно хватаюсь, как за якорь спасения. Помогите мне уговорить ее писать ему и требовать развода и амнистии !
Он особенно выделил последнее слово, хотя говорил тихо. Лупо, пришедший к ним в середине разговора и теперь довольно сидевший у ног хозяина, услышал все, что сказал Вронский, благодаря чутким аудиосенсорам. Инстинкт выживания подсказал ему, о чем все это: если хозяевам даруют свободу, они, несомненно, должны будут подчиниться законам всеобщей корректировки роботов. Волк низко и протяжно зарычал, но Вронский не заметил этого или сделал вид, что не заметил.
– Употребите ваше влияние на нее, сделайте, чтоб она написала. Я не хочу и почти не могу говорить с нею про это.
– Хорошо, я поговорю. Но как же она сама не думает? – сказала Дарья Александровна, вдруг почемуто при этом вспоминая странную новую привычку Анны щуриться.
И ей вспомнилось, что Анна щурилась, именно когда дело касалось задушевных сторон жизни. «Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не все видеть», – подумала Долли.
– Непременно, я для себя и для нее буду говорить с ней, – отвечала Дарья Александровна на его выражение благодарности.
Они оставили Лупо и отправились к дому; волк нырял в курятник и вновь выбегал из него, нюхал короткий грозниевый хвостик Черепашьей Скорлупки. Казалось, что он чувствовал себя лучше в компании роботов, чем рядом с хозяином. Вронский не позвал его с собой.
Застав Долли уже вернувшеюся, Анна внимательно посмотрела ей в глаза, как бы спрашивая о том разговоре, который она имела с Вронским, но не спросила словами.
– Кажется, уж пора к обеду, – сказала она. – Совсем мы не видались еще. Я рассчитываю на вечер. Теперь надо идти одеваться. Я думаю, и ты тоже. Мы все испачкались в грязи, да и наш червеобразный агрессор оставил на платьях следы вонючей желтой крови.
Долли пошла в свою комнату, и ей стало смешно. Одеваться ей не во что было, потому что она уже надела свое лучшее платье; но, чтоб ознаменовать чемнибудь свое приготовление к обеду, она щеткой обчистила платье, отжала ткань в тех местах, где были самые большие пятна крови, переменила рукавчики и бантик и надела кружева на голову.
– Вот все, что я могла сделать, – улыбаясь, сказала она Анне, которая вошла за ней, чтобы вместе уже пойти к маленькой ветхой палатке, где саркастический механик, работавший также и поваром, накрывал стол.
– Да, мы здесь очень чопорны, – сказала она, как бы извиняясь за простоту обстановки. – Алексей доволен твоим приездом, как он редко бывает чемнибудь. Он решительно влюблен в тебя, – прибавила она. – А ты не устала?
До обеда не было времени говорить о чемнибудь. Блюда, вина, сервировка стола – все было чрезвычайно просто; открытые бутыли были расставлены на длинной деревянной столешнице, горели, как в старые времена, свечи, заменившие современные светильники.
После обеда посидели на террасе. Потом стали играть в старинную причудливую игру под названием lawn tennis,[19] к которой Анна и Вронский пристрастились, не имея возможности играть в карты и в отсутствие других развлечений века грозниума.
Игроки, разделившись на две партии – люди против роботов, расстановились на тщательно выровненном и убитом крокетграунде, по обе стороны натянутой сетки с золочеными столбиками. Дарья Александровна попробовала было играть, но долго не могла понять игры, а когда поняла, то так устала, что села и только смотрела на играющих. Партнер ее, Гамамелис, тоже отстала и села рядом; спросив разрешения, она принялась убирать ей волосы. Действие это, столь схожее с заботой собственного робота III класса, заставило Дарью Александровну прослезиться.
Остальные долго продолжали забаву. Анна и Вронский оба играли очень хорошо и серьезно. Они зорко следили за кидаемым к ним мячом, не торопясь и не мешкая, ловко подбегали к нему, выжидали прыжок и, метко и верно поддавая мяч ракетой, перекидывали за сетку. Весловский играл хуже других. Он слишком горячился, но зато весельем своим одушевлял играющих. Его смех и крики не умолкали. Он снял, как и другие мужчины, с разрешения дам, сюртук, и крупная красивая фигура его в белых рукавах рубашки, с румяным потным лицом и порывистые движения так и врезывались в память.
Во время же игры Дарье Александровне было невесело. Ей не нравилось продолжавшееся при этом кокетливое отношение между Васенькой Весловским и Анной. Но, чтобы не расстроить других и какнибудь провести время, она, отдохнув, опять присоединилась к игре и притворилась, что ей весело. Весь этот день ей все казалось, что она выступает в театре с лучшими, чем она, актерами и что ее плохая игра портит все дело.
Долли приехала с намерением пробыть два дня, если поживется. Но вечером же она решила, что завтра попросит Гамамелис проводить ее домой. Те мучительные материнские заботы, которые она так ненавидела дорогой, теперь, после дня, проведенного без них, представлялись ей уже в другом свете и тянули ее к себе.
* * *
Когда Дарья Александровна в эту ночь легла спать, как только она закрывала глаза, она видела метавшегося по крокетграунду Васеньку Весловского. Чтото в фигуре его, в развязной манере поведения заставляло Долли беспокоиться и даже страдать.
Вронский и Анна провели все лето и часть осени в деревне; они жили как хозяин и хозяйка на своей собственной, спасительной для роботов земле в Воздвиженском, все также не принимая никаких мер для развода. Было между ними решено, что они никуда не поедут; но оба чувствовали, чем долее они жили одни со своей маленькой армией андроидов, в особенности осенью, что они не выдержат этой жизни и что придется изменить ее.
Жизнь, казалось, была такая, какой лучше желать нельзя: был полный достаток, было здоровье, был ребенок, и у обоих были занятия.
Постройка укреплений, медленное совершенствование лагеря – от маленького палаточного городка до хорошо укрепленной фортификации – чрезвычайно занимало Анну. Она не только помогала, но многое и устраивала и придумывала сама.
Но главная забота ее всетаки была она сама – насколько она дорога Вронскому, насколько она может заменить для него все, что он оставил. Алексей Кириллович ценил это, сделавшееся единственною целью ее жизни, желание не только нравиться, но служить ему, но вместе с тем и тяготился теми любовными сетями, которыми она старалась опутать его. Чем больше проходило времени, чем чаще он видел себя опутанным этими сетями, тем больше ему хотелось не то что выйти из них, но попробовать, не мешают ли они его свободе. Если бы не это все усиливающееся желание быть свободным, не иметь сцены каждый раз, как ему надо было проверить, как работают самые дальние системы раннего оповещения об опасности, или провести однодневные учения в одном из полков, Вронский был бы вполне доволен своею жизнью. Роль, которую он избрал, роль предводителя армии роботов, пришлась ему вполне по вкусу (хотя, как признался он Долли, он предпочел бы играть роль в жизни общества, а не за его пределами). Теперь, после того как он прожил так полгода, жизнь эта доставляла ему все возрастающее удовольствие. И дело, все больше и больше занимая и втягивая его, шло прекрасно. Почетные Гости больше не беспокоили лагерь, и даже если агенты Министерства обнаружили его, они ни разу не попытались атаковать.
В конце октября Антипод вернулся из ежедневного рейда вдоль границ с удивительной новостью. В атмосфере строжайшей секретности он доложил Вронскому, что встретился в лесу с невысоким человеком с длинной грязной бородой; одет он был в рваный халат и лапти. Незнакомец возник из ниоткуда и наотрез отказался назвать свое имя. Он сказал только, что желает один на один встретиться с Вронским, чтобы обсудить то, что сам он назвал «альянсом», впрочем, не уточнив, с кем должен был быть заключен этот союз и для каких целей. В конце доклада Антипод назвал место и время встречи: через неделю в лесной сторожке в Кашинском, что в трех верстах.
Было самое тяжелое, скучное в деревне осеннее время, и потому Вронский, готовясь к борьбе, со строгим и холодным выражением, как он никогда прежде не говорил с Анной, объявил ей о своем отъезде. Но, к его удивлению, Анна приняла это известие очень спокойно и спросила только, когда он вернется. Он внимательно посмотрел на нее, не понимая этого спокойствия. Она улыбнулась на его взгляд. Он знал эту способность ее уходить в себя и знал, что это бывает только тогда, когда она на чтонибудь решилась про себя, не сообщая ему своих планов. Он боялся этого; но ему так хотелось избежать сцены, что он сделал вид и отчасти искренно поверил тому, чему ему хотелось верить, – ее благоразумию.
– Надеюсь, ты не будешь скучать?
– Надеюсь, – сказала Анна. – Мы с Андроидом Карениной вяжем стяги для войск. Нет, я не буду скучать.
«Она хочет взять этот тон, и тем лучше, – подумал он, – а то все одно и то же».
И так и не вызвав ее на откровенное объяснение, он уехал на встречу. Это было еще в первый раз с начала их связи, что он расставался с нею, не объяснившись до конца. С одной стороны, это беспокоило его, с другой стороны, он находил, что это лучше. «Сначала будет, как теперь, чтото неясное, затаенное, а потом она привыкнет. Во всяком случае, я все могу отдать ей, но не свою мужскую независимость», – думал он.
Константин Дмитриевич Левин стоял на пороге давно оставленной охотничьей сторожки; двери ее были покрыты ржавчиной и скрипели, но внутри попрежнему хранились три огромных Охотничьих Медведя, погруженных в Спящий Режим. Готовые к немедленной атаке, они стояли с поднятыми грубо сработанными лапами. Левин вновь посмотрел на дорожку, ведшую к домику, и наконец пришел к выводу, что поездка эта была глупой затеей, о чем и говорила Кити; но только он вышел из сторожки и направился к своей коляске, как услыхал отдаленный грохот в лесу; он увидал, как затряслись деревья и изза них показался грубо сработанный боевой скафандр, сопровождаемый военным роботом III класса, который был сделан по образу и подобию огромного серого волка. Роботы остановились, с громким скрипом распахнулась дверца скафандра, и из недр машины показалась щеголеватая фигура Алексея Кирилловича Вронского.
– Константин Дмитриевич! Рад встрече! – крикнул Вронский, выбравшись из кабины робота. – Полагаю, я имел удовольствие познакомиться с вами… у княжны Щербацкой, – сказал он, подавая Левину руку.
– Да, я хорошо помню эту нашу встречу, – ответил Левин; залившись краской, он тут же отвернулся от собеседника и принялся разглядывать спящих Охотничьих Медведей.
Времена, когда они оба ухаживали за Кити, были уже давно позади, но боль и смущение захватили Левина с такой же силой, с какой мучили его в те дни. Он тут же обратился к настоящему.
– Зачем вы захотели встретиться со мной?
– Я захотел? Нет, здесь какаято ошибка, – возразил Вронский, подозрительно дергая себя за усы. – Вы хотите сказать, что это не вы вызвали меня сюда?
Вдруг Лупо зарычал и принялся оглядываться, оскалившись. Через мгновение Левин и Вронский увидали, что стало причиной беспокойства чуткого робота: низкорослый мужчина с длинной бородой, спутанной и грязной, вышел к ним навстречу в столь же грязном, засаленном лабораторном халате.
– Меа culpa, mea culpa, – пробормотал странный персонаж, выстреливая слова с чрезвычайной скоростью, – моя фамилия Федоров, и, боюсь, что именно я придал этой встрече некоторую двусмысленность. Но едва ли я мог отправить вам обоим сообщение с сердечной просьбой о встрече с одним из представителей Сообщества Неравнодушных Ученых.
– СНУ! – вскрикнул Вронский, через секунду потрескивающий огненный хлыст устремился к Федорову; но смертоносное жало его, казалось, даже не коснулось маленького человечка или если и коснулось, то не причинило ему никакого вреда.
– Ну, ну, – сказал на это человек в халате, словно бы наказывая расшалившегося малыша. – Вряд ли я могу просить вас разоружиться, но, уверяю, беседа наша пойдет куда более ровно, если вы воздержитесь от такого воинственного поведения. На мне сейчас большое количество защитной одежды и белья, созданного с помощью технологий, которые ушли на несколько поколений вперед любых других, которые вам доступны. «Будь всегда готов», – таков девиз нашего маленького сообщества.
Левин внимательно посмотрел на Федорова.
– Что конкретно вы хотите от нас?
– Каждый из вас, по своей собственной причине, является теперь таким же врагом Министерства, как и мы. Вы наконец пришли к пониманию того, о чем мы знали давно: что наши добрые защитники на самом деле не добрые и не защитники. Скоро вся Россия узнает об этом, и ей нужны будут новые лидеры.
Странный маленький человек повернулся к Левину и, глядя ему в глаза, произнес:
– Мы просим вас отправиться в Москву вместе с вашей женой и ждать там того момента, когда вы понадобитесь.
Вронский ухмыльнулся и сказал насмешливо:
– Вы предлагаете нам вступить в сговор с самыми страшными преступниками в российской истории?
– Да, – отозвался Левин, – как можем мы пойти на это?
– Вы пойдете на это, зная, что мы не совершали ни одного из тех ужасных терактов, что приписывает нам Министерство. Да, мы массово покинули государственные лаборатории, потому что нам не были по нраву те приказы, что спускались сверху. Надзиратели требовали прекращения технологического прогресса, чтобы наука сделала шаг назад, вместо того чтобы идти вперед. Но мы никогда не совершали преступлений против людей.
Человечек подался вперед, глаза его увлажнились от слез:
– Ни одного преступления. Эмоциональные мины, сбои программ у роботов – все это сделало само Министерство. И если вы будете защищать когото, то вам нужно знать, от чего их защищать.
Вронский фыркнул и покачал головой, но Левин задрожал, словно человек, услышавший голос Господа. Он увидел, как слезы покатились по запачканному лицу Федорова.
– Прошу прощения за то, что так расчувствовался, – сказал он, – но мы потеряли уже целое поколение в тщетных попытках чтото изменить, и теперь я смотрю на вас, на двух гордых россиян, и чувствую одно – надежду.
«Бабах!»
Лес взорвался огнем.
– О, нет – вскрикнул Федоров, – эмоциональная мина! Я должен был это предусмотреть!
«Бабах!» – вторая мина взорвалась между деревьев, огромный дуб с ужасающим треском раскололся на части и рухнул на землю; его листья трепетали в огне. Левин, Вронский и Федоров пригнулись и закрыли уши руками, чтобы спастись от нарастающего рева взрывов.
– Это изза меня! – крикнул Федоров. – Я почувствовал надежду, я…
«Бабах!» – третий взрыв, самый громкий, повалил тяжелую Оболочку Вронского и сорвал крышу с охотничьего домика. Левин на мгновение увидал головы Медведей, их оскаленные морды сверкали в свете огня; затем гдето вверху отломилась горящая ветка и с треском рухнула ему на спину.
– Ох! – застонал он в ужасных муках, и Вронский навалился на него, причиняя нестерпимую боль, но гася собою пламя. Левин беспомощно вскрикнул, а Вронский громко закричал Федорову:
– Это ловушка! Вы заманили нас в ловушку! Что вы наделали? Вы убили его!
– Я не провоцировал этой атаки! – крикнул Федоров, поднимаясь на ноги.
– Но я все еще надеюсь, и надежда эта провоцирует новые взрывы, – простонал Левин, обнимая сам себя обожженными руками; он сел и уставился на Федорова – тот выхватил кинжал и вонзил его себе в сердце. Левин открыл рот; человек из СНУ вскрикнул и подался вперед, погружая лезвие в грудь до рукоятки. Больше не слышно было разрывов, только жутко трещал пылающий лес.
– Запомните эти слова, – произнес Федоров со стиснутыми зубами, падая на колени, – арьергардный… бой…
– Арьергардный… – повторил Левин, словно загипнотизированный.
– …бой, – пробормотал Вронский.
Вронский приехал на эту тайную встречу в охотничьем домике по причине того, что был увлечен, как все тщеславные мужчины, предоставляющеюся возможностью приключений – как пьяница, однажды глотнувший вина и с тех пор вновь и вновь активирующий заветную II/Бутылку/4. Он приехал сюда потому еще, что ему было скучно в деревне и нужно было заявить свои права на свободу пред Анной. Но он никак не ожидал, что разговор этот так заинтересует и взволнует его и что он так хорошо покажет себя во время этой тайной беседы в лесу.
Похоронив тело посланца СНУ в круглой воронке в ста шагах от охотничьего домика, Левин и Вронский остановились, чтобы выкурить по сигаре и обсудить последние необыкновенные события, участниками которых они стали. Они говорили в спокойной манере – со стороны могло показаться, что между собой беседуют два старинных друга и союзника, позабывших о своем противостоянии в прошлом, но на деле Левин не упомянул о том, что его роботкомпаньон все еще жив и трудится на табачной фабрике; а Вронский не рассказал о своей нежно лелеемой мечте – о том, что, если бы он только смог убедить Анну взглянуть на ситуацию «с верной стороны», они бы тотчас и навсегда покинули повстанческий лагерь.
Так за сигарами и продолжался их разговор, когда Лупо получил сообщение и в ту же секунду вывел его на экран.
Письмо было от Анны. Еще прежде чем он прочел послание, он уже знал его содержание. Предполагая, что встреча в лесу кончится в пять дней, он обещал вернуться в пятницу. Нынче была суббота, и он знал, что содержанием сообщения были упреки в том, что он не вернулся вовремя.
Содержание было то самое, как он ожидал, но форма была неожиданная и особенно неприятная ему. Высветившееся лицо Анны было красным, она горько говорила:
«Ани очень больна, Плацебо (списанный робот, когдато принадлежавший знаменитому доктору) говорит, что может быть воспаление. Я одна теряю голову. Я ждала тебя третьего дня, вчера и теперь посылаю узнать, где ты и что ты? Я сама хотела ехать, но раздумала, зная, что это будет тебе неприятно. Дай ответ какойнибудь, чтоб я знала, что делать».
Вронский снова просмотрел сообщение, чтобы убедиться, что понял его верно, и снова он увидал умоляющее лицо Карениной. Дай ответ какойнибудь, чтоб я знала, что делать.
Ребенок болен, а она сама хотела ехать. Дочь больна, и этот враждебный тон.
Возбуждающий выброс адреналина после встречи в лесу и та мрачная, тяжелая любовь, к которой он должен был вернуться, поразили Вронского своею противоположностью. Но надо было возвращаться, и он, простившись с Левиным, уехал к себе.
Перед отъездом Вронского на встречу, обдумав то, что те сцены, которые повторялись между ними при каждом его отъезде, могут только охладить, а не привязать его, Анна решилась сделать над собой все возможные усилия, чтобы спокойно переносить разлуку с ним. Но тот холодный, строгий взгляд, которым он посмотрел на нее, когда пришел объявить о своем отъезде, оскорбил ее, и еще он не уехал, как спокойствие ее уже было разрушено.
В одиночестве потом обдумывая этот взгляд, который выражал право на свободу, она пришла, как и всегда, к одному – к сознанию своего унижения.
– Он имеет право уехать когда и куда он хочет, – жаловалась она Андроиду Карениной. – Не только уехать, но оставить меня. Он имеет все права, я не имею никаких. Но, зная это, он не должен был этого делать.
Вместе они бежали из Петербурга, вместе построили Воздвиженское на обломках старого, заброшенного имения. Но теперь он был далеко, исполняя роль мчащегося вперед предводителя мятежников, а она вынуждена была ждать его в холодном одиночестве осени.
– Однако что же он сделал?.. Он посмотрел на меня с холодным, строгим выражением. Разумеется, это неопределимо, неосязаемо, но этого не было прежде, и этот взгляд многое значит, – заключила она, обращаясь к Андроиду Карениной, которая мягко расчесывала ее длинные распущенные волосы. – Этот взгляд показывает, что начинается охлаждение.
И хотя она убедилась, что начинается охлаждение, ей всетаки нечего было делать, нельзя было ни в чем изменить своих отношений к нему. Точно так же как прежде, одною любовью и привлекательностью она могла удержать его. И так же как прежде, занятиями днем и галеновою капсулой по ночам она могла заглушать страшные мысли о том, что будет, если он разлюбит ее. Правда, было еще одно средство: не удерживать его, – для этого она не хотела ничего другого, кроме его любви, – но сблизиться с ним, быть в таком положении, чтоб он не покидал ее.
Это средство было развод с Карениным; но что хуже всего, это значило, что в Министерство необходимо будет отправить гонца с прошением, тем самым обнаружив местоположение повстанческого лагеря; это также значило, что они прекратят борьбу и будут просить о помиловании. И, конечно же, это значило, что они предадут своих роботов III класса, хотя об этом Анна не могла даже и помыслить.
В таких раздумьях она провела без него пять дней, те самые, которые он должен был находиться в лесу. Но на шестой день его отсутствия она почувствовала, что уже не в силах ничем заглушать мысль о нем и о том, что он там делает. В это самое время дочь ее заболела. Анна взялась ходить за нею, но и это не развлекло ее, тем более что болезнь не была опасна. Как она ни старалась, она не могла любить эту девочку, а притворяться в любви она не могла. К вечеру этого дня, оставшись одна, Анна почувствовала такой страх за него, что решилась ехать в город, но, подумав хорошенько, написала то противоречивое сообщение, которое получил Вронский, и, не перечитав его, послала Лупо.
На другое утро она получила его ответ и раскаялась в своем сообщении. Она с ужасом ожидала повторения того строгого взгляда, который он бросил на нее, уезжая, особенно когда он узнает, что девочка не была опасно больна. Но всетаки она была рада, что написала ему. Теперь Анна уже признавалась себе, что он тяготится ею, что он с сожалением бросает свою свободу, чтобы вернуться к ней, и, несмотря на то, она рада была, что он приедет. Пускай он тяготится, но будет тут с нею, чтоб она видела его, знала каждое его движение.
Она сидела в гостиной, под лампой, и читала, прислушиваясь к звукам ветра на дворе и ожидая каждую минуту приезда Вронского. В доме было тихо, повсюду в имении, населенном роботами, царил холод гробового молчания; машины, погруженные в ночной Спящий Режим, не издавали ни звука. Только один, единственный робот во всем Воздвиженском оставался рядом с человеком – это была Андроид Каренина; она принесла чай, разогретый внутри ее грозниевого корпуса.
Наконец Анна услышала на крыльце знакомое «бумбум» ФруФру Второй, которая обивала с огромных лап налипшую в дороге грязь. Андроид Каренина посмотрела на дверь и сверкнула глазами. Анна, вспыхнув, встала, но, вместо того чтоб идти вниз, как она прежде два раза ходила, она остановилась. Ей вдруг стало стыдно за свой обман, но более всего страшно за то, как он примет ее. Чувство оскорбления уже прошло; она только боялась выражения его неудовольствия.
Она вспомнила, что дочь уже второй день была совсем здорова. Ей даже досадно стало на нее за то, что она оправилась как раз в то время, как было послано сообщение. Потом она вспомнила его, что он тут, весь, со своими руками, глазами. Она услыхала его голос. И, забыв все, радостно побежала ему навстречу.
– Ну, что Ани? – робко сказал он снизу, глядя на сбегавшую к нему Анну.
Он сидел на стуле и стаскивал теплый сапог.
– Ничего, ей лучше.
– А ты? – сказал он, отряхиваясь.
Она взяла его обеими руками за руку и потянула ее к своей талии, не спуская с него глаз.
– Ну, я очень рад, – сказал он, холодно оглядывая ее, ее прическу, ее платье, которое он знал, что она надела для него.
Все это нравилось ему, но уже столько раз нравилось! И то строгокаменное выражение, которого она так боялась, остановилось на его лице.
– Ну, я очень рад. А ты здорова? – сказал он, отерев платком мокрую бороду и целуя ее руку.
«Все равно, – думала она, – только бы он был тут, а когда он тут, он не может, не смеет не любить меня».
Вечер прошел счастливо и весело. Он рассказал про встречу в лесу, про Федорова, про эмоциональные бомбы. И Анна умела вопросами вызвать его на то самое, что веселило его, – на его успех. Она рассказала ему все, что интересовало его дома. И все сведения ее были самые веселые.
Но поздно вечером, когда они остались одни, Анна, видя, что она опять вполне овладела им, захотела стереть то тяжелое впечатление взгляда за сообщение. Она сказала:
– А признайся, тебе досадно было получить сообщение, и ты не поверил мне?
Только что она сказала это, она поняла, что, как ни любовно он был теперь расположен к ней, он этого не простил ей.
– Да, – сказал он. – Послание было такое странное. То Ани больна, то ты сама хотела приехать.
– Это все было правда.
– Да я и не сомневаюсь.
– Нет, ты сомневаешься. Ты недоволен, я вижу.
– Ни одной минуты. Я только недоволен, это правда, тем, что ты как будто не хочешь допустить, что есть обязанности…
– Обязанности таскаться где ни попадя, пить и курить вместе с Левиным в охотничьем домике…
– Но не будем говорить, – сказал он.
– Почему же не говорить? – сказала она.
– Я только хочу сказать, что могут встретиться дела необходимые. Если мы попрежнему будем жить в повстанческом лагере, противостоящем Министерству, в логове пришельцев, то всегда будут дела и опасные выезды из дома. Но разве ты не знаешь, что я не могу без тебя жить?
– А если так, – сказала Анна вдруг изменившимся голосом, – то ты тяготишься этою жизнью… Да, ты приедешь на день и уедешь, как поступают…
– Анна, это жестоко. Я всю жизнь готов отдать…
Но она не слушала его.
– Если тебя еще приглашают куданибудь, то и я поеду. Если ты отправишься осматривать укрепления, то и я с тобой. Я не останусь здесь. Или мы должны разойтись, или жить вместе.
Вронский увидел наконец возможность высказать свои желания, рассказать Анне о той дороге жизни, которой уже давно мечтал пойти.
– Тогда, возможно, вполне возможно, что этот созданный нами мир не долго еще простоит.
Андроид Каренина знала прежде своей хозяйки, к чему приведет этот разговор. Она аккуратно поставила чайные принадлежности на столик, и, похлопав по коленям, позвала в раскрытые объятия Лупо. Его серебристая шкура была в черных подпалинах от разорвавшихся эмоциональных мин. Гордый волк поднялся и пошел к Андроиду Карениной.
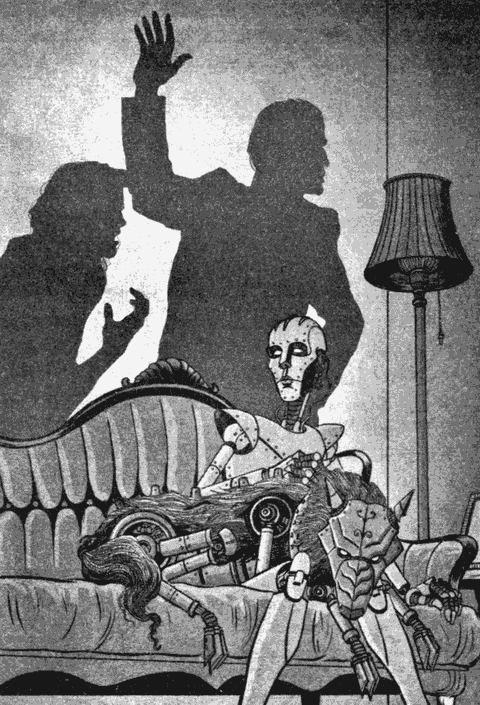
Андроид Каренина знала прежде своей хозяйки, к чему приведет этот разговор. Она, похлопав по коленям, позвала Лyпo в раскрытые объятия
– Если мы только попросим о помиловании – попросим Министерство простить нас, а твоего мужа дать тебе развод. Ты и я будем вместе… навсегда. Мы будем частью будущего нашего народа. Мы поженимся и войдем в общество, вместо того чтобы валяться на задворках его в грязи.
– Вместе… – медленно произнесла Анна. Голова ее кружилась; неожиданно все ее желания сосредоточились на одном – как можно скорее решить этот вопрос.
– Ведь ты знаешь, что это одно мое желанье. Но для этого…
Анна опустила голову и вздохнула.
– Надо развод. Я напишу ему сообщение сегодня вечером. Я вижу, что я не могу так жить… Но завтра я поеду с тобой осматривать укрепления.
– Точно ты угрожаешь мне. Да я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобою, – улыбаясь, сказал Вронский.
Но не только холодный, злой взгляд человека преследуемого и ожесточенного блеснул в его глазах, когда он говорил эти нежные слова.
Она видела этот взгляд и верно угадала его значение. «Если так, то это несчастие!» – говорил этот его взгляд. Это было минутное впечатление, но она никогда уже не забыла его.
Анна продиктовала сообщение мужу, прося его о разводе и умоляя об амнистии для нее и графа Вронского. Ответ пришел почти сразу же – в нем говорилось только, что прошение их будет рассмотрено при одном условии.
Когда пришло время, Лупо сел и, словно солдат на посту, уставился прямо перед собой; Андроид Каренина слегка наклонила голову, не желая создавать лишние сложности для своей хозяйки. Вронский и Анна переглянулись… посмотрели на своих роботовкомпаньонов и в следующее мгновение бросились к ним…
* * *
Анна вместе с Вронским переехала в Москву. Ожидая каждый день ответа Алексея Александровича и вслед за тем развода, они поселились теперь супружески вместе.
Алексей Александрович решил отсрочить решение судьбы Карениной и Вронского, но на самом деле решение это принимало его Лицо. Вновь злобное, нашептывающее недобрые мысли привидение, поселившееся в голове, сочло весьма удобным оставить вопрос открытым, чтобы как можно дольше мучить Каренина.
Спустя несколько месяцев после возвращения в Москву Вронский и Каренина так и не услышали ни слова от Министерства в ответ на их просьбу об амнистии – они продолжали ждать, страдая от давящей тишины.
Все нарастающее недовольство Алексея Александровича сказывалось не только на Анне и Вронском. Вся Россия страдала вместе с ними.
* * *
Ко времени, когда вслед за роботами III класса были конфискованы машины II класса, Левины уже три месяца жили в Москве. Кити предпочла бы провести время своего вынужденного заточения в семейном доме, расположенном на склоне грозниевой шахты в Покровском, но Левин хотел сдержать обещание, данное умирающему Федорову, и потому переехал с семьей в город.
И все же он не пытался диктовать жене, что было бы лучше для них обоих; скорее, он увлек ее своей горячей решительностью в вопросах поддержки растущего недовольства реформами, которые проводило Министерство по всей России. Страстность речей мужа полностью убедила Кити. С некоторым чувством неловкости они называли будущее России (будущее, в котором настрадавшиеся роботыкомпаньоны вернутся наконец домой) «Золотой Надеждой»; проникнутые романтическими мечтаниями, они гордились своей решительностью претворить желаемое в действительность.
Уже давно прошел тот срок, когда, по самым верным расчетам людей, знающих эти дела, Кити должна была родить; а она все еще носила, и ни по чему не было заметно, чтобы время было ближе теперь, чем два месяца назад. И Долли, и мать, и в особенности Левин, без ужаса не могший подумать о приближавшемся, начинали испытывать нетерпение и беспокойство; доктор, чей надежный II/Прогнозис/М4 был изъят Солдатиками, тоже беспокоился, если не сказать больше; одна Кити чувствовала себя совершенно спокойною и счастливою. Она теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением прислушивалась к этому чувству. Он теперь уже не был вполне частью ее, а иногда жил и своею независимою от нее жизнью. Часто ей бывало больно от этого, но вместе с тем хотелось смеяться от странной новой радости.
Одно, что портило ей прелесть этой жизни, было то, что муж ее был не тот, каким она любила его и каким он бывал в деревне. Она любила его спокойный, ласковый и гостеприимный тон в деревне. В городе же он постоянно был настороже, уверенный, что в любой момент друг или незнакомец позовет его на борьбу, вымолвив загадочный пароль, который открыл ему Федоров. Там, в деревне, он, очевидно зная себя на своем месте, никуда не спешил и никогда не бывал не занят. Здесь, в городе, он постоянно торопился, страшась быть разоблаченным, скрывал свои самые сокровенные мысли и беспокойно вглядывался в глаза незнакомцев. Он словно боялся пропустить чтото, и делать ему было нечего. И ей было жалко его.
Но она видела его не извне, а изнутри; она видела, что он здесь не настоящий; иначе она не могла определить себе его состояние. Иногда она в душе упрекала его за то, что он не умеет жить в городе: иногда же сознавалась, что ему действительно трудно было устроить здесь свою жизнь так, чтобы быть ею довольным.
В самом деле, что ему было делать? В карты он не любил играть. В клуб не ездил. Наглядным примером этого для Кити было то, что Левин, всю жизнь ненавидевший клубы, которые так часто посещал Степан Аркадьич со своими друзьями, решил ездить туда. Если гдето и существовали «попутчики», то найти их можно было именно там, считал он. Кити ничего не оставалось, как благословить мужа. С веселыми мужчинами вроде Облонского водиться, она уже знала теперь, что значило… это значило пить и ехать после питья кудато. Она без ужаса не могла подумать, куда в таких случаях ездили мужчины. Ездить в свет? Но она знала, что для этого надо находить удовольствие в сближении с женщинами молодыми, и она не могла желать этого. Сидеть дома с нею, с матерью и сестрами? Но, как ни были ей приятны и веселы одни и те же разговоры, она знала, что ему должно быть это скучно. И это никак не приблизило бы их Золотую Надежду. Что же ему оставалось делать?
Одна выгода этой городской жизни была та, что ссор здесь, в городе, между ними никогда не было. Оттого ли, что условия городские другие, или оттого, что они оба стали осторожнее и благоразумнее, в Москве у них не было ссор изза ревности, которых они так боялись, переезжая в город.
В этом отношении случилось даже одно очень важное для них обоих событие, именно встреча Кити с Вронским. Старуха княгиня Марья Борисовна, крестная мать Кити, всегда очень ее любившая, пожелала непременно видеть ее. Кити, никуда по своему положению не ездившая, поехала с отцом к почтенной старухе и встретила у нее Вронского. Она при этой встрече могла упрекнуть себя только в том, что на мгновение, когда узнала его – в штатском платье, без огненного хлыста на бедре и огромного серого волка у ног – у ней прервалось дыхание, кровь прилила к сердцу, и яркая краска, она чувствовала это, выступила на лицо. Но это продолжалось лишь несколько секунд. Еще отец, нарочно громко заговоривший с Вронским, не кончил своего разговора, как она была уже вполне готова смотреть на него, говорить с ним, если нужно, точно так же, как она говорила с княгиней Марьей Борисовной, и главное, так, чтобы все до последней интонации и улыбки было одобрено мужем, которого невидимое присутствие она как будто чувствовала в эту минуту. Она сказала с ним несколько слов, разговор был пустой, ни о чем. Вронский рассказал ей в деталях о необыкновенной встрече у охотничьего домика, но вряд ли могла она показать в обществе, что знает об этом необыкновенном происшествии. Вместо этого она быстро отвернулась к княгине Марье Борисовне и ни разу не взглянула на него, пока он не встал, прощаясь; тут она посмотрела на него, но, очевидно, только потому, что неучтиво не смотреть на человека, когда он кланяется.
Только тогда она набралась мужества начать разговор шепотом – их объединял большой секрет, общее знание о зарождающейся Новой России.
– Как вы решились вернуться в общество? – в интонациях ее угадывалась надежда на то, что просьба об амнистии, поданная в Министерство, была всего лишь предлогом, отвлекающим маневром, и что Вронский, на самом деле, был в Москве по тем же причинам, что и Левин: он ждал подходящей возможности, чтобы выступить против власти.
– Мы с Анной Аркадьевной хотим одного – загладить вину за совершенные тяжкие преступления, – сказал он громко, чтобы могла услышать княгиня Марья Борисовна. Пожилая дама согласно кивнула. – Мы избавились от наших роботов III класса, как того требует закон, и подали прошение об амнистии в Министерство. Мои знания и умения, конечно же, пригодятся на службе Новой России.
Кити не могла угадать, где Вронский говорил неправду, чтобы успокоить старую княгиню, а где раскаяние его было искренним. Как и раньше, для нее он оставался загадкой. Она была особенно благодарна отцу за то, что он ничего не сказал об этой встрече с Вронским, когда они уже отправились домой. Но Кити видела по особенной нежности его после визита, во время обычной прогулки, что он был доволен ею. Она сама была довольна собою, никак не ожидая, чтобы у нее нашлась эта сила задержать гдето в глубине души все воспоминания прежнего чувства к Вронскому и не только казаться, но и быть к нему вполне равнодушною и спокойною.
Левин покраснел гораздо больше ее, когда она сказала ему, что встретила Вронского у княгини Марьи Борисовны. Ей очень трудно было сказать это ему, но еще труднее было продолжать говорить о подробностях встречи, так как он не спрашивал, а только, нахмурившись, смотрел на нее.
Правдивые глаза сказали Левину, что она была довольна собою, и он, несмотря на то, что она краснела, тотчас же успокоился и стал расспрашивать ее, чего только она и хотела. Когда он узнал все, даже до той подробности, что она только в первую секунду не могла не покраснеть, но что потом ей было так же просто и легко, как с первым встречным, Левин совершенно повеселел и сказал, что очень рад этому.
– Но есть еще коечто, – добавила она. – Коечто, о чем мы должны поговорить. Это касается нашей Золотой Надежды.
Они прислонились друг к другу головами, муж и жена, соратники, чтобы обдумать новые сложности, которые появились на их пути вместе с информацией, полученной от Вронского. Если граф действительно оставил свой повстанческий лагерь и отказался от вольнодумства, то возникла новая опасность – он мог рассказать в Министерстве все, что знает о Кити и Левине и их тайнах.
– Я буду искать встречи с Вронским, чтобы переговорить с ним, и после этого вместе, ты и я, обсудим, как действовать дальше, – ответил Левин, сделав ударение на слове «вместе», словно бы желая убедить Кити в том, что она безупречно держалась при разговоре с Вронским.
– Я скучаю по своему роботукомпаньону, – вздохнула Кити.
– И я, любимая. И я.
Левин приехал в клуб в самое время. Вместе с ним подъезжали гости и члены. Левин не был там очень давно, с тех пор как он еще по выходе из университета жил в Москве и ездил в свет. Он помнил клуб, внешние подробности его устройства, но совсем забыл то впечатление, которое он в прежнее время испытывал. Но только что въехав на широкий полукруглый двор и слезши с извозчика; только что он увидал в швейцарской калоши и шубы членов, сообразивших, что менее труда снимать калоши внизу, чем вносить их наверх; только что он услыхал таинственный, предшествующий ему I/Звонок/6 и увидал, входя по отлогой ковровой лестнице, медленно вращавшуюся поблескивающую I/Статую/9 на площадке, незаметно сканирующую и распознающую каждого нового гостя, – Левина охватило давнишнее впечатление клуба, впечатление отдыха, довольства и приличия.
Разница была, конечно, в том, что в былые времена картину дополняли десятки роботов II класса. Этим вечером не было слышно гула моторчиков, этого монотонного гудения механических рабов. Не было II/Швейцара/97, который бы аккуратными движениями манипулятора снял с него шляпу, не было II/Лакея/6, который бы поинтересовался его именем, а затем громко объявил его через динамики Речесинтезатора, когда бы он вошел в главный зал. Вместо этого толстый и неприветливый мужик в плохо сидевшем на нем жилете проворчал чтото в знак приветствия и указал грубым большим пальцем на лестницу.
Пройдя первую проходную залу с ширмами и направо перегороженную комнату, где сидит фруктовщик, Левин, перегнав медленно шедшего старика, вошел в шумевшую народом столовую.
Он прошел вдоль почти занятых уже столов, оглядывая гостей. То там, то сям попадались ему самые разнообразные, и старые и молодые, и едва знакомые и близкие, люди. Ни одного не было сердитого и озабоченного лица. Все, казалось, оставили в швейцарской с шапками свои тревоги и заботы и собирались неторопливо пользоваться материальными благами жизни.
– А! что ж опоздал? – улыбаясь, сказал князь, подавая ему руку через плечо. – Что Кити? – прибавил он, поправляя салфетку, которую заткнул себе за пуговицу жилета.
– Ничего, здорова; они дома обедают.
– А иди к тому столу да занимай скорее место, – сказал князь и, отвернувшись, осторожно принял тарелку с ухою из угря.
Константин Дмитрич сел, и раздражающего вида молодой мужик принес миску супа, небрежно расплескивая горячее содержимое – часть его пролилась Левину на колени. Он скривился от боли и раздражения; идеальное, гироскопически поддерживаемое балансирующее устройство внутри роботалакея II класса никогда не допустило бы такой небрежности. Но остальные гости только посмеялись над произошедшим, и Левин понял, что точка зрения, которой придерживались в этом клубе – или, по крайней мере, точка зрения, озвученная теми, кто хотел, чтобы их услышали, когда они произносили правильные мысли, – кардинально отличалась от его собственной.
Здесь было принято считать, что качество жизни в России возросло многократно после исчезновения этих «противных» роботов, которые вечно сновали под ногами и вызывали только смущение и раздражение.
– За человечество! – сказал князь и поднял бокал.
– За Новую Россию! – откликнулся Свияжский.
– Левин, сюда! – крикнул несколько дальше добродушный голос.
Это был Туровцын. Он сидел с молодым военным, и подле них были два перевернутых стула. Левин с радостью подошел к ним. Он и всегда любил добродушного кутилу Туровцына, – с ним соединялось воспоминание объяснения с Кити, – но нынче добродушный вид его был Левину особенно приятен.
Быть может… Левин сощурил глаза и вдруг почувствовал, как сердце бешено забилось в груди… С наигранной небрежностью Левин подошел к старому другу, улыбаясь и поглаживая бороду. Пододвинув свой стул к Туровцыну, он, жарко дыша ему в ухо, пробормотал одноединственное слово:
– Арьергардный.
– А? – громко ответил на это Туровцын; глаза его загорелись.
Сердце Левина забилось еще быстрее, в ушах стучала кровь. Мог ли это быть он? Разделил ли он Золотую Надежду? Кто бы мог подумать, что это окажется глупый Туровцын!
– Арьергардный? – повторил он еще громче, его глаза сияли нетерпеливым весельем, словно ожидая концовки этого забавного разговора.
Левин отпрянул и, запинаясь, произнес:
– А… я думал… но, не важно, не важно. Я ничего такого не говорил.
– Ну, хорошо, – ответил Туровцын, – тогда держите. Он вручил Левину две пары очков. – Это вам и Облонскому. Он сейчас будет. А, вот и он.
– Ты только что приехал? – сказал Облонский, быстро подходя к ним. – Здорово. Пил водку? Ну, пойдем.
Левин встал и пошел с ним к большому столу, уставленному водками и самыми разнообразными закусками. Казалось, из двух десятков закусок можно было выбрать, что было по вкусу, но Степан Аркадьич потребовал какуюто особенную, и раздражительный молодой лакей принес требуемое. Они выпили по рюмке и вернулись к столу.
– А! вот и они! – в конце уже обеда сказал Степан Аркадьич, перегибаясь через спинку стула и протягивая руку шедшему к нему Вронскому с высоким гвардейским полковником.
В лице Вронского светилось тоже общее клубное веселое добродушие. Он облокотился на плечо Степану Аркадьичу, чтото шепча ему, и с тою же веселою улыбкой протянул руку Левину.
– Очень рад встретиться, – сказал он и подмигнул, – по крайней мере, Левину показалось, что он сделал это, – прошло много времени с нашей последней встречи.
– Да, да, – ответил Константин Дмитрич.
В следующее мгновение стол сотряс взрыв хохота – Облонский рассказал о старом мужике, который заменил I/Повара/98 и бросался помоями. Левин решил, что настал подходящий момент. Он наклонился вперед, и, положив руку на предплечье Вронского, шепнул ему кодовое слово, которое они вместе слышали от Федорова.
– Арьергардный…
Казалось, что слово, сверкая, долго висело между ними в воздухе, и все это время Левин пытался отыскать признаки жизни в безразличном выражении лица Вронского. Но граф не шепнул в ответ: «бой». Вместо этого он весело засмеялся, покрутил ус и отвернулся.
Левин тоже отвернулся. Его худшие опасения подтвердились: сопротивление, если оно действительно существовало, не могло причислить Алексея Кирилловича к своим сторонникам. Но чем грозило это Левину? Что он должен был делать? Он хотел, чтобы у него были все средства для проведения полного анализа ситуации, он не в первый раз уже жалел, что рядом нет преданного Сократа, который дал бы совет.
– Что ж, мы закончили? – спросил Степан Аркадьич, вставая. – Так пойдем.
Облонский, словно под музыку волшебной дудочки, привел их к столам. I/Игральные кости/55 дрожали, выбрасывались и танцевали, быстро двигаясь по алгоритмическому шаблону на столе, покрытом зеленым ацетатом. Одним игрокам они приносили маленькие победы, другим – разочарование.
Облонскому везло, и он был чрезвычайно рад этому.
– Возможно, Маленький Стива был моей черной меткой все эти годы! – объявил он радостно, вызвав этим веселье среди соседейигроков и меланхоличное презрение Левина.
Облонский снова зажал в кулаке I/Кости/55 в надежде пополнить быстрорастущую кучу рублей на столе, когда в комнату решительно вошла группа худых, высокоскулых людейкоторыенасамомделенебылилюдьми.
– Ах! – вырвалось у Степана Аркадьича; только легкая тень страха пробежала по его обычно веселому лицу. – Господа. Точнее, господа роботы, если мне простят мою смелость и позволят исправиться.
– Можем ли мы пригласить вас к столу, чтобы сыграть вместе? – нашелся Вронский.
– Никак нет, ваше превосходительство, – ответил самый высокий из машинлюдей, носивший чтото вроде неопрятной двухдневной щетины; Левин изумился тому, как хорошо она была исполнена. – Мы здесь для того, чтобы изъять эти устройства.
Один из Солдатиков выступил вперед и протянул руку. Стива с широко раскрытыми от изумления глазами положил I/Кости/55 ему на ладонь; она была розового цвета – совсем как настоящая.
– Подождите… если бы я мог… Постойте… – запротестовал старый князь; его начало трясти. – Неужели в Новой России нет более места для небольшой партийки в кругу друзей?
– Запрещена не азартная игра, а технологии, – машиначеловек говорил очень быстро. – У России есть враги, их сейчас больше, чем когдалибо. Враги за ее пределами, враги внутри страны. Открытое распространение технологий опасно и не может более получать одобрения.
Лицо Солдатика внезапно задрожало и покрылось пятнами, под кожей стал виден механический каркас. Там, где был глаз, вылезло дуло миниатюрной пушки, которая тут же начала стрелять – быстрый и действенный залп электрического огня испепелил зеленый игровой стол. Маленькая пушка исчезла, и человеческое лицо вновь вернулось на место; Солдатик прочистил горло («Никакого горла у него нет! – повторял про себя Левин, – никакого горла нет!») – и произнес:
– Прошу вас положить на пол перед собой все устройства I класса.
В огромную кучу полетели: передаваемые по наследству I/Защитники времени/1, I/Зажигалки/4, I/Очки/6 – все те маленькие, но чрезвычайно полезные чудоизобретения, которые были созданы благодаря грозниуму. Все это было уничтожено вслед за игральным столом. Солдатики синхронно повернулись на каблуках своих черных ботинок и покинули залу, оставив после себя ошеломляющее безмолвие, которое спустя долгое время решился прервать Степан Аркадьич, жалко пробормотавший:
– Такова цена счастья.
– Да, – сказал старый князь, качая головой; лицо его ничего не выражало, – такова цена.
Левин, раздраженный произошедшей сценой, надел пальто.
– Константин Дмитрич! – сказал Степан Аркадьич, и Левин заметил, что у него на глазах были не слезы, а влажность. Как это всегда бывало у него, или когда он выпил, или когда он расчувствовался. Нынче было то и другое. – Левин, не уходи, – сказал он и крепко сжал его руку за локоть, очевидно ни за что не желая выпустить его.
– Это мой искренний, едва ли не лучший друг, – сказал он Вронскому. – Ты для меня тоже еще более близок и дорог. И я хочу и знаю, что вы должны быть дружны и близки, потому что вы оба хорошие люди.
– Что ж, нам остается только поцеловаться, – добродушно шутя, сказал Вронский, подавая руку.
«Что ж, я тоже могу притвориться», – подумал Левин. Он быстро взял протянутую руку и с чувством пожал ее.
– Я очень, очень рад, – сказал он.
– Ты знаешь, что он не знаком с Анной? – сказал Степан Аркадьич Вронскому. – И я непременно хочу свозить его к ней. Поедем, Левин!
– Неужели? – сказал Вронский, отворачиваясь от товарища, который обыскивал комнаты в поисках старинных деревянных костей. – Она будет очень рада.
Как только карета выехала на улицу и он почувствовал качку экипажа по неровной дороге, услыхал сердитый крик извозчика, который только научился водить, и потому не имел в своей манере править ничего общего с деликатной ездой II/Извозчика/6.
Левин увидел при неярком освещении красную вывеску кабака и лавочки, впечатление это разрушилось, и он начал обдумывать свои поступки и спросил себя, хорошо ли он делает, что едет к Анне. Что скажет Кити? Но Степан Аркадьич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеял их.
– Как я рад, – сказал он, – что ты узнаешь ее. Ты знаешь, Долли давно этого желала. И Львов был же у нее и бывает. Хоть она мне и сестра, – продолжал Степан Аркадьич, – я смело могу сказать, что это замечательная женщина. Вот ты увидишь. Положение ее очень тяжело, в особенности теперь.
– Почему же в особенности теперь?
– Вронский и Анна обратились к Каренину с прошением о помиловании и разводе. Они получили заверения в том, что запрос этот был получен адресатом и теперь рассматривается, но с тех пор они не получили более ни слова в ответ. И потому вынуждены ждать, подвергаясь этой изощренной пытке временем. Но как только будет развод, она выйдет за Вронского. Ну, и тогда их положение будет определенно, как мое, как твое. Но дело в том, – она, ожидая этого развода здесь, в Москве, где все его и ее знают, живет три месяца; никуда не выезжает, никого не видит из женщин, кроме Долли, потому что, понимаешь ли, она не хочет, чтобы к ней ездили из милости. Вот ты увидишь, как она устроила свою жизнь, как она спокойна, достойна. Налево, в переулок, против церкви! – крикнул Степан Аркадьич, перегибаясь в окно.
– Попрошу не кричать на меня! – отозвался краснолицый извозчик, который чуть не опрокинул экипаж, входя в поворот.
Сани въехали на двор, и Степан Аркадьич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани. И, не спросив у отворившего дверь артельщика, дома ли, Степан Аркадьич вошел в сени. Левин шел за ним, все более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно он делает.
Посмотревшись в I/Зеркало/9, Левин заметил, что он красен; но он был уверен, что не пьян, и пошел по ковровой лестнице вверх за Степаном Аркадьичем.
Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Облонский с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампарефрактор – горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный на Луне Михайловым.
Левин смотрел на портрет, в блестящем освещении выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета.
Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивою полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах; она стояла, оперевшись на руку своего роботакомпаньона, и победительно и нежно смотрела на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая.
– Я очень рада, – услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которою он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу изза трельяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном, разноцветносинем платье, не в том положении, не с тем выражением, но на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете. Она была менее блестяща в действительности, но, конечно же, на картине она была выгодно подсвечена своим роботом III класса. Теперь же отдельно каждому и всей России очень не хватало такого украшающего сияния.
Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидать его.
– Простите, мне немного не по себе сейчас, – начала Анна, – с тех пор как я потеряла своего роботакомпаньона Андроида Каренину, я стала не похожа на себя.
Левин улыбнулся от удовольствия, встретив такую неожиданную прямоту: ему приятно было слышать, как ктото открыто говорил о большой потере, которая постигла россиян.
– Очень, очень рада, – повторила она, и в устах ее для Левина эти простые слова почемуто получили особенное значение. – Я вас давно знаю и люблю, и по дружбе со Стивой и за вашу жену… я знала ее очень мало времени, но она оставила во мне впечатление прелестного цветка, именно цветка. И она уж скоро будет матерью!
Она говорила свободно и неторопливо, изредка переводя свой взгляд с Левина на брата, и Левин чувствовал, что впечатление, произведенное им, было хорошее, и ему с нею тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал ее.
– Я поместилась в кабинете Алексея, – сказала она, отвечая Степану Аркадьичу на его вопрос, можно ли курить, – именно затем, чтобы курить, – и, взглянув на Левина, вместо вопроса: курит ли он? – подвинула к себе I/Портсигар/6 и активировала пахитоску.
– Наслаждайся этой роскошью, пока еще есть возможность, – сказал ей брат, – I класс теперь тоже внесен в список.
– Ты шутишь!
– Увы, нет. Всего час назад устройства были конфискованы в клубе одним из наших «человекоподобных» друзей.
Анна стиснула зубы, словно бы говоря: «Я приму Новую Россию – я должна ее принять – но никто не заставит меня полюбить ее».
«Да, да, вот женщина!» – думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменилось. Левин не слыхал, о чем она говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменой ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии, ее лицо вдруг выразило странное любопытство, гнев и гордость. Но это продолжалось только одну минуту. Она сощурилась, как бы вспоминая чтото.
И Левин увидал еще новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения. Сказав это, она вздохнула, и лицо ее, вдруг приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким выражением на лице Каренина была еще красивее, чем прежде; но это выражение было новое; оно было вне того сияющего счастьем и раздающего счастье круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним в высокие двери, и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого.
В следующее мгновение это удивительное ее свойство проявилось в действии. Опережая Левина на несколько шагов, Степан Аркадьич вышел из комнаты; не переставая размышлять о необыкновенных своих впечатлениях, Константин Дмитрич остановился в дверях, повернулся к Анне и страстно прошептал:
– Арьергардный…
Не изменив выражения лица, Анна наклонилась немного вперед и ответила:
– …бой.
Они долго смотрели друг на друга.
– Прощайте, – сказала она, удерживая его за руку и глядя ему в глаза притягивающим взглядом. – Я очень рада, que la glace est rompue.[20]
Она выпустила его руку и прищурилась.
– Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее бог.
– Непременно, да, я передам… – краснея, говорил Левин, – но…
– Спокойной ночи, – решительно прервала его Анна.
– Ну, что? Я говорил тебе, – сказал ему Степан Аркадьич, видя, что Левин был совершенно побежден.
– Да, – задумчиво отвечал Левин, в голове его проносились мысли о Карениной и Золотой Надежде – необыкновенная женщина! Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее!
– Теперь, бог даст, скоро все устроится. Ну тото, вперед не суди, – сказал Степан Аркадьич, отворяя дверцы кареты. – Прощай, нам не по дороге.
Не переставая думать об Анне, о всех тех самых простых разговорах, которые были с нею, и вспоминая при этом все подробности выражения ее лица, все более и более входя в ее положение и чувствуя к ней жалость, Левин приехал домой.
По дороге домой у него кружилась голова от волнения, в особенности когда он думал о предстоящем разговоре с Кити, когда он расскажет ей обо всем, что узнал: о том, что Анна Аркадьевна Каренина, несмотря на отказ от Воздвиженского и армии роботовповстанцев, несмотря на возвращение в Москву и ходатайство к Каренину, осталась верна партизанскому движению.
Чего Левин не знал, не мог знать, было то обстоятельство, что Вронский никогда не произносил при Анне кодовых слов. Вернувшись домой после встречи у охотничьего домика, он в общих чертах рассказал ей о разговоре с Федоровым, но затем они принялись ссориться, после чего мириться, и примирение это привело их в Москву. Никогда Вронский не говорил ей о предсмертных наставлениях Федорова; никогда не упоминал он пароль – слова «арьергардный» или «бой».
Но Анна знала о них.
* * *
Дома их новый слуга, человек по имени Кузьма, рассказал Левину, что Катерина Александровна здоровы, что недавно только уехали от них сестрицы, и подал аккуратно сложенный лист бумаги. Это было «письмо» – старинный способ передачи информации, когда корреспондент излагает свои мысли на бумаге при помощи пера и чернил; вместе с «книгами» и «газетами» «письма» снова вошли в моду, после того как из обихода исчезли мониторы. Левин тут же, в передней, прочел письмо. Оно было от Соколова, приказчика. Он писал, что последний спуск в шахты был неудачным, что он принес ископаемого только на пять с половиной рублей и что больше денег за это выручить не получится. Левин нахмурился. Он вместе с другими владельцами грозниевых шахт вынужден был нанять на работу людей, чтобы они управляли имением в его отсутствие; все они ужасно исполняли свою работу.
Левин застал жену грустною и скучающею. Обед трех сестер удался бы очень весело, но потом его ждали, ждали, всем стало скучно, сестры разъехались, и она осталась одна.
– Ну, а ты что делал? – спросила она, глядя ему в глаза, чтото особенно подозрительно блестевшие.
Но, чтобы не помешать ему все рассказать, она скрыла свое внимание и с одобрительной улыбкой слушала его рассказ о том, как он провел вечер.
– Ну, вопервых, о Вронском – боюсь, что твои опасения подтвердились: он решительно перешел на другую сторону. Тем не менее не думаю, что он выдаст нас. По крайней мере, сейчас мы в безопасности.
– Ну, потом где ж ты был?
– Стива ужасно упрашивал меня поехать к Анне Аркадьевне.
И, сказав это, Левин покраснел еще больше, и сомнения его о том, хорошо ли или дурно он сделал, поехав к Анне, были окончательно разрешены. Он знал теперь, что этого не надо было делать.
Глаза Кити особенно раскрылись и блеснули при имени Анны, но, сделав усилие над собой, она скрыла свое волнение и обманула его.
– А! – только сказала она.
– Ты, верно, не будешь сердиться, что я поехал. Стива просил, и Долли желала этого, – продолжал Левин.
– О нет, – сказала она, но в глазах ее он видел усилие над собой, не обещавшее ему ничего доброго.
– Она очень милая, очень, очень жалкая, хорошая женщина, – говорил он, – и, Кити, есть еще коечто, о чем тебе следовало бы узнать!
Она вновь ответила:
– А!
– Анна Каренина, в отличие от Вронского, одна из нас! Она незамедлительно и верно ответила на пароль. Я убежден, что она придерживается тех же взглядов, что и мы, – она считает, что в обществе должны произойти необходимые перемены. Только подумай, насколько полезной она могла бы стать…
Но Кити ответила совсем не так, как ожидал Левин.
– Да, разумеется, она очень жалкая, – сказала Кити, когда он кончил. – От кого ты письмо получил?
Расстроенный тем, что один из соучастников сговора проявил столь малый интерес к захватывающему открытию истинных взглядов Карениной, он рассказал ей о письме от Соколова. Затем, поверив ее спокойному тону, пошел раздеваться.
Вернувшись, он застал Кити на том же кресле. Когда он подошел к ней, она взглянула на него и зарыдала.
– Что? что? – спрашивал он, уж зная вперед, что.
– Ты влюбился в эту гадкую женщину, она обворожила тебя. Я видела по твоим глазам… Да, да! Что ж может выйти из этого? Ты в клубе пил, играл и потом поехал… к кому? Нет, уедем… Завтра я уеду.
Долго Левин не мог успокоить жену. Наконец он успокоил ее, только признавшись, что чувство жалости в соединении с вином сбили его, и он поддался хитрому влиянию Анны, и что он будет избегать ее. Одно, в чем он искреннее всего признавался, было то, что, живя так долго в Москве, за одними разговорами, едой и питьем, он ошалел. И в то же время он мало подвигался вперед на пути к Золотой Надежде. По крайней мере, этот его рассказ о значительном успехе и открытии нового соратника на деле охладил боевой пыл жены. Теперь, казалось, она была готова отказаться от борьбы, если слово это означало союз с Карениной.
Они проговорили до трех часов ночи. Часы эти прошли в волнительных разговорах об Анне, о сопротивлении и Золотой Надежде. Только в три часа они настолько примирились, что могли заснуть.
Проводив гостей, Анна, не садясь, стала ходить взад и вперед по комнате. Хотя она бессознательно (как она действовала в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам) целый вечер делала все возможное для того, чтобы возбудить в Левине чувство любви к себе, и хотя она знала, что она достигла этого, насколько это возможно в отношении к женатому честному человеку и в один вечер, и он очень понравился ей, несмотря на резкое различие, с точки зрения мужчин, между Вронским и Левиным, она, как женщина, видела в них то самое общее, за что и Кити полюбила и Вронского и Левина.
Но что он имел в виду, когда так скоро произнес это странное слово, и отчего она знала, что ответить на это? Ее ответ, ее понимание происходящего словно бы стало откликом на его действия. Какимто образом она знала, что именно нужно сказать – но как? Как она узнала об этом?
Когда одна мысль уходила, тотчас появлялась новая, словно Грав, прибывающий на вокзал. Она стала думать о Вронском. «Если я так действую на других, на этого семейного, любящего человека, отчего же он так холоден ко мне?.. и не то что холоден, он любит меня, я это знаю. Но чтото новое теперь разделяет нас. Здесь, в Москве, мы вынуждены сидеть и ждать решения нашей судьбы. Скоро мы станем частью нового российского общества. Но почему его нет рядом? Отчего нет целый вечер?»
Она услыхала порывистый звонок Вронского и поспешно утерла эти слезы, села к лампе и развернула книгу, притворившись спокойною. Надо было показать ему, что она недовольна тем, что он не вернулся, как обещал, только недовольна, но никак не показывать ему своего горя и, главное, жалости о себе. Ей можно было жалеть о себе, но не ему о ней. Она не хотела борьбы, упрекала его за то, что он хотел бороться, но невольно сама становилась в положение борьбы.
– Ну, ты не скучала? – сказал он, оживленно и весело подходя к ней. – Ты не поверишь, они разбили всех роботов I класса в клубе. В течение недели от них не останется и следа. Думаю, твой муж с соратниками хотят уничтожить все следы высоких технологий – вскоре они вернут царя, и Россия, в конечном счете, превратится в огромную сельскохозяйственную монархию со скачками и крестьянами, занятыми обмолотом пшеницы.
Он засмеялся, но Анна осталась серьезной.
– Стива был и Левин.
– Да, они хотели к тебе ехать. Ну, как тебе понравился Левин? – сказал он, садясь подле нее.
– Очень.
Анна не стала рассказывать о Левине и обмене кодовыми словами. Вместо этого она решила сменить тему разговора и поинтересовалась у Вронского о его приятеле Яшвине, который пользовался дурной славой.
– Был в выигрыше, семнадцать тысяч, когда вдруг появились Солдатики и разнесли столы. Ктото придумал продолжить игру с деревянными костями; не знаю, кто нашел их и где, но я наконец увез Яшвина. Он совсем было уж поехал. Но вернулся опять и теперь в проигрыше.
– Так для чего же ты оставался? – спросила она, вдруг подняв на него глаза. Выражение ее лица было холодное и неприязненное. – Ты сказал Стиве, что останешься, чтоб увезти Яшвина. А ты оставил же его.
То же выражение холодной готовности к борьбе выразилось и на его лице.
– Вопервых, я его ничего не просил передавать тебе, вовторых, я никогда не говорю неправды. А главное, я хотел остаться и остался, – сказал он хмурясь. – Анна, зачем, зачем? – сказал он после минуты молчания, перегибаясь к ней, и открыл руку, надеясь, что она положит в нее свою.
Она была рада этому вызову к нежности. Но какаято странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться.
– Разумеется, ты хотел остаться и остался. Ты делаешь все, что ты хочешь. Но зачем ты говоришь мне это? Для чего? – говорила она, все более разгорячаясь. – Разве ктонибудь оспаривает твои права? Но ты хочешь быть правым и будь прав.
Рука его закрылась, он отклонился, и лицо его приняло еще более, чем прежде, упорное выражение.
– Для тебя это дело упрямства, – сказала она, пристально поглядев на него и вдруг найдя название этому раздражавшему ее выражению лица, – именно упрямства. Для тебя вопрос, останешься ли ты победителем со мной, а для меня… – опять ей стало жалко себя, и она чуть не заплакала. – Если бы ты знал, в чем для меня дело! Когда я чувствую, как теперь, что ты враждебно, именно враждебно относишься ко мне, если бы ты знал, что это для меня значит! Если бы ты знал, как я близка к несчастию в эти минуты, как я боюсь, боюсь себя! – И она отвернулась, скрывая рыдания.
– Да о чем мы? – сказал он, ужаснувшись пред выражением ее отчаянья и опять перегнувшись к ней и взяв ее руку и целуя ее. – За что? Разве я ищу развлечения вне дома? Разве я не избегаю общества женщин?
– Еще бы! – сказала она.
– Ну, скажи, что я должен делать, чтобы ты была покойна? Я все готов сделать для того, чтобы ты была счастлива, – говорил он, тронутый ее отчаянием, – чего же я не сделаю, чтоб избавить тебя от горя какогото, как теперь, Анна! – сказал он.
– Ничего, ничего, – сказала она. – Я сама не знаю: одинокая ли жизнь, нервы… Ну, не будем об этом.
Она говорила теперь примирительным тоном, упрашивая его рассказать еще о Солдатиках и роботах I класса.
Затем они вместе дивились изменениям, происходившим в обществе, спрашивали друг друга, как долго это продлится, прежде чем Министерство примет решение об их судьбе. Не называя имени Алексея Александровича, они тем не менее оба знали, что именно он, а не другие руководители в Министерстве, примет это решение.
Они говорили так, словно бы оба оказались в одном и том же месте Вселенной, не зная еще, что ждет их дальше. Но в тоне, во взглядах его, все более и более делавшихся холодными, она видела, что он не простил ей ее победу, что то чувство упрямства, с которым она боролась, опять устанавливалось в нем. Он был к ней холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился. И она, вспомнив те слова, которые дали ей победу, именно: «Я близка к ужасному несчастью и боюсь себя», – поняла, что оружие это опасно и что его нельзя будет употребить другой раз. А она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какойто борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца.
Она думала об оставленном доме в Воздвиженском, о вышитых вручную стягах, о всем том, что оставила в прошлом.
«Что я наделала! – думала Анна, устало глядя на Вронского. – Зачем я обменяла все это на любовь, которая на деле оказалась не более чем иллюзией?»
Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же. Левин не поверил бы три месяца тому назад, что мог бы заснуть спокойно в тех условиях, в которых он был нынче; чтобы, живя бесцельною, бестолковою жизнью, притом жизнью сверх средств, после пьянства (иначе он не мог назвать того, что было в клубе), нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когдато была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать, как потерянною, и после увлечения своего этою женщиной и огорчения жены, – чтобы при этих условиях он мог заснуть покойно. Но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно.
В пять часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подле него. Но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги.
– Что?.. что? – проговорил он спросонья. – Кити!
– Ничего, – сказала она, со свечой в руке выходя изза перегородки. – Мне нездоровилось, – сказала она, улыбаясь особенно милою и значительною улыбкой.
– Что? началось, началось? – испуганно проговорил он. – Надо послать, – и он торопливо стал одеваться.
– Нет, нет, – сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой. – Наверное, ничего. Мне нездоровилось только немного. Но теперь прошло.
И она, подойдя к кровати, потушила свечу (которую новый слуга нашел в коробке на чердаке, после того как Солдатики изъяли все светильники), легла и затихла. Хотя ему и подозрительна была тишина ее как будто сдерживаемого дыханья и более всего выражение особенной нежности и возбужденности, с которою она, выходя изза перегородки, сказала ему «ничего», ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыханья и понял все, что происходило в ее дорогой, милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В семь часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним.
– Костя, не пугайся. Ничего. Но кажется… Надо послать за доктором.
Свеча опять была зажжена. Она сидела на кровати и держала в руке вязанье, которым она занималась последние дни.
– Пожалуйста, не пугайся, ничего. Я не боюсь нисколько, – увидав его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку к своей груди, потом к своим губам.
Он поспешно вскочил, не чувствуя себя и не спуская с нее глаз, надел халат и остановился, все глядя на нее. Надо было идти, но он не мог оторваться от ее взгляда. Он ли не любил ее лица, не знал ее выражения, ее взгляда, но он никогда не видал ее такою. Как гадок и ужасен он представлялся себе, вспомнив вчерашнее огорчение ее, пред нею, какою она была теперь! Зарумянившееся лицо ее, окруженное выбившимися изпод ночного чепчика мягкими волосами, сияло радостью и решимостью.
Как ни мало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был всетаки поражен тем, что обнажалось теперь пред ним, когда вдруг все покровы были сняты, и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности она, та самая, которую он любил, была еще виднее.
Она, улыбаясь, смотрела на него; но вдруг брови ее дрогнули, она подняла голову и, быстро подойдя к нему, взяла его за руку и вся прижалась к нему, обдавая его своим горячим дыханием. Она страдала и как будто жаловалась ему на свои страданья. И ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но любит за эти страдания.
«Если не я, то кто же виноват в этом?» – невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его; но виновника не было. Она страдала, жаловалась, и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их. Он видел, что в душе ее совершалось чтото прекрасное, но что? – он не мог понять. Это было выше его понимания.
– Я послала к мама. А ты поезжай скорей… Костя!.. Ничего, прошло.
Она отошла от него и позвонила.
– Ну, вот иди теперь, Паша идет. Мне ничего.
И Левин с удивлением увидел, что она взяла вязанье, которое она принесла ночью, и опять стала вязать. Она была спокойна и вряд ли заметила бы сейчас, что рядом нет ее любимой Татьяны. Левин и Кити так долго полагались на своих роботовкомпаньонов, но в самый человечный момент жизни, они не ощутили отсутствия своих верных помощников.
Он оделся, и, пока новый мальчик побежал передать, чтобы закладывали лошадей (еще одно нововведение), он опять вбежал в спальню и не на цыпочках, а на крыльях, как ему казалось. Две девушки озабоченно перестанавливали чтото в спальне. Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли, и распоряжалась.
– Я сейчас еду к доктору.
Она посмотрела на него, очевидно не слушая того, что он говорил.
– Да, да. Иди, иди, – быстро проговорила она, хмурясь и махая на него рукой.
Он уже выходил в гостиную, как вдруг жалостный, тотчас же затихший стон раздался из спальни. Он остановился и долго не мог понять.
«Да, это она», – сказал он сам себе и, схватившись за голову, побежал вниз.
Лошадь не была еще готова, но, чувствуя в себе особенное напряжение физических сил и внимания к тому, что предстояло делать, чтобы не потерять ни одной минуты, он, не дожидаясь лошади, вышел пешком.
Доктор еще не вставал, и лакей сказал, что «поздно легли и не приказали будить, а встанут скоро». Лакей чистил ламповые стекла и казался очень занят этим.
Левин в нетерпении ждал доктора на улице и наконец, решил, что более не может терять ни минуты – он собрался ворваться в дом к доктору и разбудить его, если потребуется. Константин Дмитрич уже приготовился навалиться спиной на парадную дверь, но путь ему преградил толстячок невысокого роста, одетый в рваный халат. Он вынырнул откудато из тени и держал в руках маленькую серебряную коробку. Это не был Федоров, но незнакомец выглядел как погибший в лесу посланец СНУ: та же спутанная борода, те же глазабусинки, рваный халат.
– Аръергардный, – серьезно произнес толстячок.
– Бой, – тут же ответил Левин.
Незнакомец полностью вышел из тени.
– Константин Дмитрич, моя фамилия Дмитриев.
– У меня нет времени с вами разговаривать! Сегодня у меня есть дело, не требующее отлагательств!
– Дело это не столь срочное, как наше, – ответил агент СНУ, – время пришло, Константин Дмитрич!
– Нет, – запротестовал Левин, повысив голос, – только не сегодня! – Он двинулся на ученого, чтобы пройти к двери; человек, назвавшийся Дмитриевым, нахмурился и нажал кнопку на маленькой коробке. Левин вскрикнул от боли, будто ударившись о возникшую перед ним прозрачную решетку; слабый электрический разряд пробежал по ней.
– Я сожалею, – сказал Дмитриев, почесывая свою спутанную бороду, – но мне нужно, чтобы вы меня выслушали.
С выпученными от злости глазами Левин крикнул:
– Зачем вы заточили меня в клетку? Я на вашей стороне! И, клянусь, завтра я буду полностью в вашем распоряжении. Только приходите завтра.
– В нашей ситуации время – роскошь, и мы не можем медлить ни минуты. Сейчас у нас есть возможность погасить раскаленные печи, которые горят для того, чтобы расплавить роботов III класса. Но нам нужен человек, которому доверяют, человек вне подозрений, и нужен он именно этим вечером!
– Тогда вам нужно найти другого! – с этими словами Левин бросился на невидимую решетку, и в то же мгновение волна обжигающей боли пробежала по его груди.
– Прекратите, прекратите немедленно, – закричал Дмитриев, – вы убьете себя!
– Вы должны освободить меня! – прохрипел Левин, обезумевший от того, что ему мешали сделать необходимое – вытащить из постели врача и вернуться с ними к Кити. Он еще раз навалился плечом на решетку и был отброшен на землю; он корчился от боли и хватался за обожженные места.
– Нет… нет… Я умоляю, прекратите, – произнес Дмитриев в отчаянии, когда Левин поднялся на ноги.
– Отпустите меня! Ох!
Он снова бросился вперед, и на этот раз почувствовал удар каждой клеточкой тела, боль гуляла вверх и вниз по позвоночнику, жалила мозг. Левин упал на землю, подергиваясь и бормоча чтото, словно умалишенный. Дмитриев беспокойно оглянулся.
– Прекратите упорствовать. Арьергардный! – повторил он. – Арьерградный!
– Кити, – простонал Левин, подползая к ногам агента. На четвереньках он пошел к едва видимой решетке, словно раненое животное, вздрогнул от боли и бессильно рухнул на землю.
– Я не могу позволить вам погибнуть, Константин Дмитрич, – сказал наконец Дмитриев. – У вас есть более важные задачи. Я не могу позволить вам умереть.
Он нажал кнопку на серебряной коробке, и с едва различимым свистом невидимая тюрьма исчезла. Нетвердой походкой Левин приблизился к двери доктора.
– Только… Только подумайте о вашей стране, – бросил агент СНУ ему в след, теперь уже умоляющим голосом, хотя минуту назад он полностью владел ситуацией.
Левин поднял руку, чтобы дернуть за шнурок старинного звонка, который был повешен здесь вместо робота I класса.
– Константин Дмитрич, сделайте это ради вашего робота III класса!
Левин обернулся и прошипел:
– Что с ним?
– Мне жаль сообщать вам об этом, но Сократ и Татьяна были схвачены во время массовой зачистки среди роботов II класса. Сейчас они на пути в Москву – их везут сюда, чтобы расплавить вместе с другими несчастными. И пока мы можем остановить это… и мы можем остановить это. Вы можете.
Левин, сотрясаясь от боли и отчаянной необходимости вернуться к жене, замотал головой, словно собака, стряхивающая докучливую блоху, и дернул за веревку звонка.
* * *
Когда Левин вернулся домой, он уже совсем позабыл о схватке у дверей доктора; он прибыл в одно время с княгиней, и они вместе подошли к двери спальни. У княгини были слезы на глазах, и руки ее дрожали. Увидав Левина, она поняла его и заплакала.
С той минуты, как он проснулся и понял, в чем дело, Левин приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперев все мысли и чувства, твердо, не расстраивая жену, а, напротив, успокаивая и поддерживая ее храбрость, перенести то, что предстоит ему. Не позволяя себе даже думать о том, что будет, чем это кончится, судя по расспросам о том, сколько это обыкновенно продолжается, Левин в воображении своем приготовился терпеть и держать свое сердце в руках часов пять, и ему это казалось возможно. Но когда он вернулся от доктора и увидал опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: «Господи, прости, помоги», вздыхать и поднимать голову кверху и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит.
Так мучительно ему было. А прошел только час.
Переживая эти часы, он вдруг подумал о Сократе.
«Еще будет время, – сказал он себе, – будет время, чтобы помочь ему, спасти. Завтра…»
Затем мысли его вновь переключились на Кити, он думал о своем ребенке, боровшемся сейчас за жизнь. Это время принадлежало только людям.
Но после этого часа прошел еще час, два, три, все пять часов, которые он ставил себе самым дальним сроком терпения, и положение было все то же; и он все терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть, каждую минуту думая, что он дошел до последних пределов терпения и что сердце его вотвот сейчас разорвется от сострадания.
Проходили еще минуты, часы и еще часы, и чувства его страдания и ужаса росли и напрягались еще более.
Все те обыкновенные условия жизни, без которых нельзя себе ничего представить, не существовали более для Левина. Он потерял сознание времени.
То те минуты, когда она призывала его к себе, и он держал ее за потную, то сжимающую с необыкновенною силою, то отталкивающую его руку, – казались ему часами, то часы казались ему минутами. Где он был в это время, он так же мало знал, как и то, когда что было. Он видел ее воспаленное, то недоумевающее и страдающее, то улыбающееся и успокаивающее его лицо. Он видел и княгиню, красную, напряженную, с распустившимися буклями седых волос и в слезах, которые она усиленно глотала, кусая губы, видел и Долли, и доктора, курившего толстые папиросы и лихорадочно листавшего старый медицинский справочник, страницы которого пожелтели от многолетнего забвения; он видел старого князя, гуляющего по зале с нахмуренным лицом.
Он знал и чувствовал только, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на смертном одре брата Николая, когда из груди его вырвался ужасный пришелец. Но то было горе, – это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось чтото высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею.
Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Долли только что была в кабинете и предложила доктору прилечь. Был период отдыха, и Левин забылся. Он совершенно забыл о том, что происходило теперь. Он слушал рассказ доктора и понимал его. Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхания, испуганновопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову набок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина.
«Верно, так надо», – подумал он и продолжал сидеть.
Чей это был крик? Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню и стал на свое место, у изголовья. Крик затих, но чтото переменилось теперь. Что – он не видел и не понимал и не хотел видеть и понимать. Воспаленное, измученное лицо Кити с прилипшею к потному лицу прядью волос было обращено к нему и искало его взгляда. Поднятые руки просили его рук. Схватив потными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу.
– Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь! – быстро говорила она. – Мама, возьмите сережки. Они мне мешают. Ты не боишься?
Она говорила быстро, быстро и хотела улыбнуться. Но вдруг лицо ее исказилось, она оттолкнула его от себя.
– Нет, это ужасно! Я умру, умру! Поди, поди! – закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик.
Левин схватился за голову и выбежал из комнаты.
– Ничего, ничего, все хорошо! – проговорила ему вслед Долли.
Но, что б они ни говорили, он знал, что теперь все погибло.
Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал чейто никогда не слыханный им визг, рев, и он знал, что это кричало то, что было прежде Кити. Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий.
– Доктор! Что же это? Что ж это? Боже мой! – сказал он, хватая за руку вошедшего доктора.
– Кончается, – сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял «кончается» в смысле – умирает.
Не помня себя, он вбежал в спальню. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее и, как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться: крик затих, и слышалась тихая суета, шелест и торопливые дыхания, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «Кончено».
Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться.
И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, в Новую Россию, которой он себя противопоставил, но мир этот сиял теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такою силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить.
Упав на колени пред постелью, он держал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках княгини, как мерцающий свет дисплея, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных.
– Жив! Жив! Да еще мальчик! Не беспокойтесь! – услыхал Левин голос княгини, шлепавшей дрожавшею рукой спину ребенка.
– Мама, правда? – сказал голос Кити.
Только всхлипыванья княгини отвечали ей.
И среди молчания, как несомненный ответ на вопрос матери, послышался голос совсем другой, чем все сдержанно говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать крик непонятно откуда явившегося нового человеческого существа.
Кити была жива, страдания кончились. И он был невыразимо счастлив. Это он понимал и этим был вполне счастлив. Но ребенок? Откуда, зачем, кто он?.. Он никак не мог понять, не мог привыкнуть к этой мысли. Это казалось ему чемто излишним, избытком, к которому он долго не мог привыкнуть.
– Посмотри теперь, – сказала Кити, поворачивая к нему ребенка так, чтобы он мог видеть его.
Высокие идеалы, Золотая Надежда, за которую он поклялся бороться до конца, – все это было позабыто, как только он в первый раз взглянул на своего ребенка. Когда мальчик еще не родился, он мог убедить себя, что защищать будущее его значит участвовать в восстаниях, посвящая всего себя зарождающейся борьбе за изменение общества, вне зависимости от того, какую цену придется заплатить за это.
Но теперь он был здесь, он был настоящим, реальным, теперь это маленькое хрупкое существо плакало на руках его, и все важное в жизни было здесь и посвящалось потребностям ребенка и храброй жены, которую он любил всем сердцем. Ребенок был всем, семья была всем.
Старческое личико вдруг еще более сморщилось, и мальчик чихнул.
Дела Степана Аркадьича находились в дурном положении. Деньги за две трети его маленькой, доставшейся по наследству шахты, были уже прожиты, и, за вычетом десяти процентов, он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше не давал денег, тем более что в последнее время страну накрыл шквал слухов о предстоящих изменениях в грозниеводобывающей отрасли: одни говорили, что шахты засыпят, и на их месте будут сельскохозяйственные угодья, другие – что они будут изъяты у владельцев и переданы в ведение Департамента добычи грозниума.
Все жалованье уходило на домашние расходы и на уплату мелких непереводившихся долгов. Денег совсем не было.
Все его финансовые дела всегда решал Маленький Стива, заручившись советом надежного семейного роботаказначея II класса. Теперь, в отсутствии помощников, он тонул в море загадочных счетов, все это было неприятно, неловко и не должно было так продолжаться, по мнению Степана Аркадьича. Причина этого, по его понятию, состояла в том, что он получал слишком мало жалованья. Место, которое он занимал, было, очевидно, очень хорошо пять лет тому назад, но теперь уж было не то.
«Очевидно, я заснул, и меня забыли», – думал про себя Степан Аркадьич.
И он стал прислушиваться, приглядываться и к концу зимы высмотрел место очень хорошее и повел на него атаку, сначала из Москвы, через теток, дядей, приятелей, а потом, когда дело созрело, весной сам поехал в Петербург.
Это было место председателя недавно организованного комитета, задача которого состояла в проведении важных преобразований в области Антигравитационного транспорта. Стива не имел представления, какие именно предвидятся реформы или каким образом они будут проводиться, но был абсолютно уверен в том, что именно он должен занять эту должность.
Место давало от семи до десяти тысяч в год, и Облонский мог занимать его, не оставляя своей работы в Министерстве. Более того, у Стивы были связи, позволявшие ему надеяться – по слухам, непосредственным куратором проекта был его зять, Алексей Александрович Каренин. Егото и хотел навестить в Петербурге Стива. Кроме того, он обещал сестре, что добьется от Каренина решительного ответа, касающегося ее положения – рассмотрело ли Министерство прошение об амнистии? Были они прощены и даст ли муж развод? И, выпросив у Долли пятьдесят рублей, он уехал в Петербург.
Степан Аркадьич вошел в кабинет Каренина, размещавшийся в штабквартире Министерства, и вынужден был приложить усилие, чтобы сдержать испуганный возглас. Серебряная маска, которая когдато скрывала лишь поллица зятя, теперь разрослась и полностью закрыла его: Каренина не было видно, он скрывался под сияющим металлическим корпусом. Над округлой поверхностью торчал только пугающий искусственный глаз, он был похож на перископ подводной лодки. Поверх окуляра, как ни странно, было надето pincenez, через которое, казалось, Каренин читал газету, когда в кабинет вошел Облонский.
– Вопросы, – сказал вдруг Каренин высоким, насмешливым голосом, пренебрежительно выставив перед собой газету. – У этого автора есть вопросы. Видите ли, он в глубине души чувствует, что россияне заслуживают ответов. Что ж, ответы мы предоставим. Ответы мы предоставим!
Каренин вернулся к чтению, и Степан Аркадьич, оказавшись в неловком положении, принялся ждать удобного момента, чтобы обговорить свои дела и дела сестры.
– Вопросы! – повторил Каренин. – Видите, Степан Аркадьич, у автора статьи, Левитского, есть сомнения в правомерности уничтожения всех устройств I класса. Он считает, что этот последний указ, изданный мною и моими коллегами для одной лишь цели – обеспечения безопасности наших сограждан, возможно, заведет Россию «слишком далеко». И все же, Министерству решать, что есть благо для народа!
– Да, так и есть, – сказал Облонский, когда Алексей Александрович снял pincenez и склонил голову, – это все верно подмечено, однако и жизненный закон не отменить – люди получают удовольствие от тех маленьких свобод, от этих petitesliberties, которые дарят им устройства I класса.
– Да, но я действую по иному принципу, в основе которого видение свободы куда более широкое, – ответил Алексей Александрович; голос его доносился из металлического корпуса, словно с самого дна колодца. – Принято считать, что эти приспособления дарят свободу, но на деле они отнимают… отнимают у нас способность думать за себя, получать удовольствие самостоятельно, и в первую очередь, прилагать все те маленькие усилия, которые вместе и составляют достоинство человеческой жизни. Я не преследую личных интересов, моя цель – общее благо, защита высших и низших слоев населения в равной степени, – сказал он, наклоняя голову, словно бы глядя на Облонского поверх pincenez. – Но они не могут этого понять, они не могут понять, что сами ведомы личными интересами и что головы их вскружили пустые фразы. И об этом они должны научиться сожалеть.
С этими словами Каренин нажал кнопку звонка на столе; высокий, видный Солдатик вошел в комнату.
– Левитский. Газета «Обозреватель», – пробормотал Каренин; Солдатик козырнул и поспешил прочь из кабинета.
Степан Аркадьич видел, что бесполезно было вновь вступаться за petiteliberte; и потому охотно отказался теперь от принципа свободы и вполне согласился с высказываниями Каренина.
Алексей Александрович замолк, задумчиво перелистывая свою газету.
– Ах, кстати, – сказал Степан Аркадьич, – я тебя хотел попросить при случае, когда ты увидишься с Поморским, сказать ему словечко о том, что я бы очень желал занять открывающееся место председателя комитета по реформированию Антигравитационного транспорта.
Название этого места было столь близко сердцу Степана Аркадьича, и он, не ошибаясь, быстро выговаривал его.
Алексей Александрович расспросил, в чем состояла деятельность этой новой комиссии, и задумался. Нервно поглядывая на него, Стива решил, что Каренин в этот момент соображал, нет ли в работе этой комиссии чегонибудь противоположного его проектам. Тем временем Лицо вывело на миниатюрный экран, расположенный точно между глаз Каренина, сотни возможных ответов на просьбу Облонского: от предоставления ему должности до убийства и вышвыривания тела из окна. Это была технология мгновенного анализа ситуации, которой владели некоторые роботыкомпаньоны (например, Сократ Константина Левина). Но Лицо усовершенствовало эту систему и сделало ее в тысячи раз более точной и превосходящей способности самых продвинутых роботов III класса.
Наконец, снимая свое pincenez, Каренин сказал:
– Без сомнения, я могу сказать ему; но для чего ты, собственно, желаешь занять это место?
– Жалованье хорошее, до девяти тысяч, а мои средства…
– Девять тысяч! – взревел Алексей Александрович в полный голос.
Он швырнул чашку через комнату, и она чудом не угодила прямо в голову Стиве, прежде чем разбиться о стену на мелкие кусочки.
– Стало быть, только деньги? Только денег ты ищешь? Ты продашь свой мир за туго набитый карман?
Он замолчал и сделал небольшое движение рукой, после чего осколки подскочили с пола и склеились в целехонькую чашку. Разлитый чай, собравшийся в лужицу у стены потек обратно наверх и снова в чашку. И вправду, Лицо совершенствовалось в своих необыкновенных возможностях.
– Да как же ты хочешь? – сказал Степан Аркадьич, сосредоточившись на том, что он считал главным доводом Каренина, оставив без внимания удивительный жест, которым Алексей Александрович подчеркнул сказанное. – Ну, положим, директор банка получает десять тысяч, – ведь он стоит этого. Или инженер получает двадцать тысяч. Живое дело, как хочешь!
– Я полагаю, что жалованье есть плата за товар, и оно должно подлежать закону требованья и предложенья. Я полагаю…
Степан Аркадьич поспешил перебить зятя.
– Да, но ты согласись, что открывается несомненно важное учреждение.
Алексей Александрович откинулся в кресле.
– Да, это действительно так. Действительно. А знаешь ли ты, в чем будет заключаться эта работа?
Степан Аркадьич на мгновение замолчал – среди многих вещей, которые он учел, готовясь к беседе, он не подумал о том, чтобы получить информацию о требованиях к должности.
Каренин медленно и с видимым удовольствием пояснил:
– Все Антигравитационные пути будут демонтированы. Вагоны отправят в утиль, грозниевые рельсы снимут и отвезут в Москву для повторного использования. Магнитная подушка будет отключена – верхняя и нижняя линия.
– Но…
– Не бойся, Стива. Россияне попрежнему смогут путешествовать; однако ездить они будут на простых механических машинах, а не на тех, что приводятся в движение грозниумом. Вагоны будут перемещаться с помощью пара, получаемого путем сжигания огромного количества грязного, вредоносного угля; шаткие металлические колеса вагонов побегут по незаряженным рельсам. Эти машины мы будем называть обычными «поездами».
Каренин с видимым наслаждением выговаривал короткие слоги этого последнего слова.
– Но… Но зачем? – спросил Стива.
В ответ он услышал гулкий наглый голос – и он не узнал этот новый голос свояка:
ЗАЧЕМ? РАДИ СПАСЕНИЯ ДУШ РОССИЯН.
– Что? – беспомощно переспросил Стива.
АНТИГРАВЫ БЫЛИ ЭФФЕКТИВНЫМИ, МОЩНЫМИ, НА ПЛАВНОМ ХОДУ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ БЫЛО ЛЕГКО. ВСЕ, ЧТО ЛЕГКО ДОСТАЕТСЯ, ДЕЛАЕТ НАС СЛАБЕЕ. ТРУДНОСТИ УКРЕПЛЯЮТ.
– Но ты мне сделаешь большое одолжение всетаки, – сказал Степан Аркадьич, – замолвив словечко Поморскому. Так, между разговором…
Я ПОСТУПЛЮ ТАК, КАК СОЧТУ НУЖНЫМ.
Каренин с невероятной силой ударил кулаком по столу, и Стива решил, что лучше будет сменить тему разговора. К счастью или к несчастью, как он скоро понял, у него наготове была эта вторая тема.
– Теперь у меня еще дело, и ты знаешь какое. Об Анне, – сказал, помолчав немного и стряхнув с себя это неприятное впечатление, Степан Аркадьич.
Как только Облонский произнес имя Анны, он тут же пожалел об этом. Каренин ударил вторым кулаком по столу. Облонский увидел, что правая рука Алексея Александровича, как и его лицо, теперь была полностью заключена в металл. Каждый из десяти пальцев был, повидимому, съемным, соединенными с рукой через костяшки системой «винтшуруп».
– Что, собственно, вы хотите от меня? – повертываясь на кресле и защелкивая свой pincenez, сказал он.
– Решения, какогонибудь решения, Алексей Александрович. Я обращаюсь к тебе теперь («не как к оскорбленному мужу», – хотел сказать Степан Аркадьич, но, побоявшись испортить этим дело, заменил это словами: не как к государственному человеку (что вышло некстати), а просто как к человеку, и доброму человеку и христианину. Ты должен пожалеть ее, – сказал он.
В то время как Облонский говорил, Каренин очень медленно и с большой осторожностью отвинтил указательный палец правой руки, положил его на стол и прикрутил на его место гладкую, ужасно выглядевшую насадку. Длиной она была примерно с палец, но выполнена из цельного черного металла.
– То есть в чем же, собственно? – наконец сказал Каренин. Он согнул обсидиановую насадку, и кончик ее засветился глубоким красным светом. Стива отклонился на своем кресле назад.
– Да, пожалеть ее. Если бы ты ее видел, как я, – я провел всю зиму с нею, – ты бы сжалился над нею. Положение ее ужасно, именно ужасно.
– Мне казалось, – отвечал Алексей Александрович более тонким, почти визгливым голосом, – что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела. Я позволил им вернуться… позволил им беспрепятственно продолжать… – тут его голос изменился, вновь превратившись во все возрастающий гулкий рев.
И ВСЕ ЖЕ ОНИ ПРИСЛАЛИ ЭТОГО ЧЕРВЯКА, ЭТО КОРЧАЩЕЕСЯ ПОДОБИЕ ЧЕЛОВЕКА, ПРОСИТЬ О СНИСХОЖДЕНИИ! О ПРОЩЕНИИ!
Каренин откинул голову и засмеялся высоким, резким смехом.
ВОТ МОЙ ОТВЕТ. СКАЖИ ИМ, ЧТО ОНИ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ. СКАЖИ ИМ, ЧТО Я ОБЛАДАЮ СИЛОЙ УБИТЬ ИХ, КОГДА МНЕ ЗАБЛАГОРАССУДИТСЯ, И ЭТО МОЕ НАМЕРЕНИЕ. СКАЖИ ИМ, ЧТО ОНИ МОГУТ БЕЖАТЬ, ЕСЛИ ЗАХОТЯТ, ПРЯТАТЬСЯ, ЕСЛИ СМОГУТ, НО Я ВСЕ РАВНО УНИЧТОЖУ ИХ.
– Ах, Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминаций! – ответил Стива несколько слабее.
Он бросил взгляд на дверь, решив, что нужно убраться, прежде чем разговор продолжиться; но ему действительно очень нужно было это место в комитете.
– Думаю, что время уже упущено, – сказал Каренин своим обычным, человеческим голосом. – А, замечательно! Прибыл гость. Левитский!
В комнату вновь вошел Солдатик, удерживая за дрожащий локоть маленького, полного человека с кипой рыжих кудрявых волос, покрытых смятой шляпой в английском стиле.
– Я… я…
– Человек, поклонись Царю.
Степан Аркадьич был снова поражен. Он никогда не слыхал за всю свою жизнь, чтобы ктото использовал древнее, почтительное «Царь», и он также знал, что ни его отец, ни его дед не произносили его: этого не было с того момента, как начался Век Грозниума, и к власти пришло Министерство Робототехники и Государственного Управления.
Каренин принял непривычный титул как должное, сделав повелительное движение рукой, когда Левицкий поклонился ему.
– Алексей? – решился Облонский.
– Я думал, что дело это кончено. И считаю его оконченным, – ответил Алексей Александрович спокойно, но дверь в комнату с шумом распахнулась и тут же захлопнулась без чьейлибо помощи, а витраж в окне неожиданно взорвался, разлетевшись на тысячи мелких осколков.
– Но, ради бога, не горячись, – сказал Степан Аркадьич, дотрагиваясь до коленки зятя, но тут же одернул руку обратно, испугавшись металлического холода тела другого человека; но осталось ли в нем чтолибо человеческое?
– Господин? Господин? – начал испуганный Левитский, но Солдатик быстро успокоил его ударом сапога в живот.
Алексей Александрович встал с кресла и поднял сияющий палец, словно бы рассматривая его в солнечном свете.
Облонский нервно сглотнул.
– Жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня, – сказал вдруг Алексей Александрович, поднимая брови.
– Открой глаза! – гаркнул Солдатик на Левитского.
– Нет… пожалуйста…
– Открой!
– Теперь меня интересует только жизнь народа, – продолжил Каренин, пересекая комнату и приближаясь к Левитскому, в то время как Солдатик схватил его за подбородок, чтобы зафиксировать. – Моя цель – защитить народ. Вот мое видение проблемы.
Он поднял свой палец с красным кончиком к глазам журналиста, и Степан Аркадьич выбежал из комнаты.
Для того чтобы предпринять чтонибудь в семейной жизни, необходимы или совершенный раздор между супругами, или любовное согласие. Когда же отношения супругов неопределенны и нет ни того, ни другого, никакое дело не может быть предпринято.
Многие семьи годами остаются на старых местах, постылых обоим супругам, только потому, что нет ни полного раздора, ни согласия.
И Вронскому и Анне московская жизнь в жару и пыли была невыносима, когда весеннее солнышко сменилось ослепительным блеском лета – особенного для них этого лета с городскими улицами, заполненными пришельцами, которые осмелели настолько, что стали врываться в дома в поисках жертв.
В последнее время между Анной и Вронским не было согласия, и потому они продолжали жить в Москве в состоянии неопределенности, ожидая каждый день решения – будет ли им даровано прощение и разрешение на брак, или им откажут и подвергнут наказанию.
Ни тот, ни другой не высказывали причины своего раздражения, но они считали друг друга неправыми и при каждом предлоге старались доказать это друг другу.
Именно в это время для Анны вдруг стало очевидно, что Вронский переключил свое внимание на других женщин. Для нее весь он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем его душевным и физическим складом, был одно – любовь к женщинам, и эта любовь, которая, по ее чувству, должна была быть вся сосредоточена на ней одной, любовь эта уменьшилась; следовательно, по ее рассуждению, он должен был часть любви перенести на других или на другую женщину, – и она ревновала. Она ревновала его не к какойнибудь женщине, а к уменьшению его любви. Не имея еще предмета для ревности, она отыскивала его. По малейшему намеку она переносила свою ревность с одного предмета на другой. То она ревновала его к тем грубым женщинам, с которыми благодаря своим холостым связям он так легко мог войти в сношения; то она ревновала его к светским женщинам, с которыми он мог встретиться; то она ревновала его к воображаемой девушке, на которой он хотел, разорвав с ней связь, жениться.
И, ревнуя его, Анна негодовала на него и отыскивала во всем поводы к негодованию. Во всем, что было тяжелого в ее положении, она обвиняла его.
Мучительное состояние ожидания, которое она между небом и землей прожила в Москве, медленность и нерешительность Алексея Александровича, утрату Андроида Карениной – она все приписывала ему. Если б он любил, он понимал бы всю тяжесть ее положения и вывел бы ее из него. В том, что она жила в Москве, а не в деревне, он же был виноват. Он не мог жить, зарывшись в деревне, как она того хотела. Ему необходимо было общество, и он поставил ее в это ужасное положение, тяжесть которого он не хотел понимать. И опять он же был виноват в том, что она навеки разлучена с сыном и роботомкомпаньоном, по которому с каждым днем тосковала все больше и больше. Она просыпалась от ночных кошмаров, в которых Андроид Каренина грустно пела для нее печальные песни о любви и предательстве. Прогуливаясь по комнате с холодным потом, сбегавшим по ее спине, Анна убеждала себя, что у робота не было Речесинтезатора, и потому он не мог петь, и даже больше – у него не было сердца, чтобы любить и быть любимым.
Но и те редкие минуты нежности, которые наступали между ними, не успокаивали ее: в нежности его теперь она видела оттенок спокойствия, уверенности, которых не было прежде и которые раздражали ее.
Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращения с холостого обеда, на который он поехал, ходила взад и вперед по его кабинету (комната, где менее был слышен шум мостовой) и во всех подробностях передумывала выражения вчерашней ссоры.
Все началось с того, что Вронский решил взять в дом в качестве слуги бестолкового холостого мужика по имени Петр. Казалось, Анна осталась последней в обществе, кто попрежнему презирал саму мысль о том, чтобы привлекать людей для выполнения работы бытовых роботов II класса: подавать еду и напитки, убирать и стирать, открывать дверь и объявлять имена прибывших гостей. Для Анны было чтото ужасное в идее прислуживания людей людям, словно бы они были роботами. Вронский же находил это нововведение очаровательным и придерживался мнения, что это чрезвычайно приятно иметь в доме существо из плоти и крови, которое надрезало бы сигары и стригло усы хозяину, обеспечивая тем самым petiteliberte, о которой говорил Облонский в кабинете Каренина.
– Что ж, хорошо, но если твои маленькие свободы достигаются только угнетением другого человека, то что же это будет за свобода? – спросила Анна угрюмо, когда Петр шаркающей походкой вышел из комнаты, унося пустой поднос для напитков.
Вронский допустил ошибку, когда, отвечая на ее возражения, которые, он знал, были произнесены серьезно, решился пошутить; он зашел очень далеко, предложив заменить неприятного ей Петра на молодую хорошенькую женщину. Анна покраснела и разгневанная вышла из комнаты.
Когда вчера вечером он пришел к ней, они не поминали о бывшей ссоре, но оба чувствовали, что ссора заглажена, а не прошла.
Нынче он целый день не был дома, и ей было так одиноко и тяжело чувствовать себя с ним в ссоре, что она хотела все забыть, простить и примириться с ним, хотела обвинить себя и оправдать его.
«Я сама виновата. Я раздражительна, я бессмысленно ревнива. Я примирюсь с ним, и уедем в деревню. Нет, на Луну! Мы должны вернуться на Луну!» – говорила она себе.
«Ненатурально», – вспомнила она вдруг более всего оскорбившее ее не столько слово, сколько намерение сделать ей больно.
«Я знаю, что он хотел сказать; он хотел сказать: ненатурально, не любя свою дочь, любить чужого ребенка. Что он понимает в любви к детям, в моей любви к Сереже, которым я для него пожертвовала? Но это желание сделать мне больно! Нет, он любит другую женщину, это не может быть иначе».
И, увидав, что, желая успокоить себя, она совершила опять столько раз уже пройденный ею круг и вернулась к прежнему раздражению, она ужаснулась на самое себя.
«Неужели нельзя? Неужели я не могу взять на себя? – сказала она себе и начала опять сначала. – Он правдив, он честен, он любит меня. Я люблю его, скоро дадут развод. Чего же еще нужно? Нужно спокойствие, доверие, и я возьму на себя. Да, теперь, как он приедет, скажу, что я была виновата, хотя я и не была виновата, и мы уедем».
И чтобы не думать более и не поддаваться раздражению, она позвонила и велела внести сундуки для укладки вещей перед полетом на Луну.
В десять часов Вронский приехал.
– Что ж, было весело? – спросила она, с виноватым и кротким выражением на лице выходя к нему навстречу.
– Как обыкновенно, – отвечал он, тотчас же по одному взгляду на нее поняв, что она в одном из своих хороших расположений. Он уже привык к этим переходам и нынче был особенно рад ему, потому что сам был в самом хорошем расположении духа.
– Что я вижу! Вот это хорошо! – сказал он, указывая на коробки в передней.
– Да, надо лететь. Я ездила кататься и была околдована бледнооранжевым светом Луны. Душа словно унеслась туда, наверх, где наше счастье вновь возродиться. Ведь тебя ничто не задерживает?
– Только одного желаю. Вот это хорошо! Сейчас я приду и поговорим, только переоденусь. Вели чаю дать.
И он прошел в свой кабинет. Анна позвонила, чтобы спросить у Петра чаю. Пока она ждала, когда слуга принесет чай, поеживаясь от доносившегося из кухни грохота посуды, она почувствовала подошедшую новую волну раздражения.
Было чтото оскорбительное в том, что он сказал: «Вот это хорошо», как говорят ребенку, когда он перестал капризничать; и еще более была оскорбительна та противоположность между ее виноватым и его самоуверенным тоном; и она на мгновение почувствовала в себе поднимающееся желание борьбы; но, сделав усилие над собой, она подавила его и встретила Вронского так же весело.
Когда он вышел к ней, она рассказала ему, отчасти повторяя приготовленные слова, свой день и свои планы на отъезд.
– Знаешь, на меня нашло почти вдохновение, – говорила она. – Зачем ждать здесь развода? Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу ничего слышать про развод. Я решила, что это не будет больше иметь влияния на мою жизнь. И ты согласен?
– О да! – сказал он, с беспокойством взглянув в ее взволнованное лицо.
– На Луне все хорошо устроится. Нам нечего будет бояться Министерства, и человеческий труд нам будет ни к чему, потому что там есть Луниты, которых нельзя вот так взять и убрать.
– Анна, давай не будем забегать вперед, – перебил ее Вронский с выражением наигранного терпения. – Мы, конечно же, должны взять с собой Петра. Роботы II класса запрещены повсюду, и российские законы распространяются и на колонии на Луне, как ты хорошо знаешь. А что касается Министерства, я не думаю, что мы должны оставаться там навечно. Мы можем отправиться туда на каникулы, пока тебе не дадут развода, и мы наконец поженимся. Когда вернемся, я подам заявление в Департамент Оперативного Реагирования, чтобы возглавить полк.
– Ах, что же это такое? По этой причине ты вытащил меня обратно в Москву, в эту ужасную жизнь: за тем, чтобы ты смог сыграть роль герояистребителя пришельцев?
Вронский развел руками.
– Анна, что все это значит?
– Для тебя это не имеет смысла, потому что до меня тебе никакого дела нет. Ты не хочешь понять моей жизни.
На мгновенье она очнулась и ужаснулась тому, что изменила своему намерению. Но и зная, что она губит себя, она не могла воздержаться, не могла не показать ему, как он был неправ, не могла покориться ему.
– Я никогда не говорил этого; я говорил, что не сочувствую этой внезапной любви.
– Отчего ты, хвастаясь своею прямотой, не говоришь правду?
– Я никогда не хвастаюсь и никогда не говорю неправду, – сказал он тихо, удерживая поднимавшийся в нем гнев. – Очень жаль, если ты не уважаешь…
– Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь. А если ты больше не любишь меня, то лучше и честнее это сказать.
– Нет, это становится невыносимо! – вскрикнул Вронский, вставая со стула. И, остановившись пред ней, он медленно выговорил: – Для чего ты испытываешь мое терпение? – сказал он с таким видом, как будто мог бы сказать еще многое, но удерживался. – Оно имеет пределы.
– Что вы хотите этим сказать? – вскрикнула она, с ужасом вглядываясь в явное выражение ненависти, которое было во всем лице и в особенности в жестоких, грозных глазах.
– Я хочу сказать… – начал было он, но остановился. – Я должен спросить, чего вы от меня хотите.
– Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете, – сказала она, поняв все то, чего он не досказал. – Но этого я не хочу, это второстепенно. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено!
Она направилась к двери.
– Постой! По…стой! – сказал Вронский, не раздвигая мрачной складки бровей, но останавливая ее за руку. – В чем дело? Я сказал, что мы должны взять Петра с собой, чтобы он прислуживал нам на Луне, ты мне на это сказала, что я лгу, что я нечестный человек.
В эту минуту, словно по команде, в комнату вошел Петр, и, споткнувшись о тахту, с грохотом уронил на пол поднос со всем его содержимым.
– Да, и повторяю, что человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня, – сказала она, вспоминая слова еще прежней ссоры, – что это хуже, чем нечестный человек, – это человек без сердца.
– Нет, есть границы терпению! – вскрикнул он и быстро выпустил ее руку.
– Он ненавидит меня, это ясно, – сказала Анна с теми особенными теплыми и доверительными интонациями, с которыми говорила со своим роботомкомпаньоном, когда поверяла ей свои самые сокровенные мысли. – Он любит себя, и он любит Новую Россию, это намного более ясно, – добавила она, уже более не заботясь о том, что говорит громко. – Я хочу любви, и я хочу возвращения роботов, но все это ушло. Так что все кончено. – И она повторила сказанное: – Стало быть, все кончено!
Анна знала, как повела бы себя Андроид Каренина: она бы сочувственно зажглась глубоким лиловым светом, отразив все чувства ее, раскрыла объятия своих манипуляторов и подарила хозяйке утешение и спокойствие. Но ее не было рядом.
В спальне Анна закрыла замок и упала в кресло.
Мысли о том, куда она поедет теперь, – к тетке ли, у которой она воспитывалась, к Долли или просто одна на Луну, и о том, что он делает теперь один в кабинете, окончательная ли это ссора или возможно еще примирение, и о том, что теперь будут говорить про нее все ее петербургские бывшие знакомые, как посмотрит на это Алексей Александрович, и много других мыслей о том, что будет теперь, после разрыва, приходили ей в голову, но она не всею душой отдавалась этим мыслям. В душе ее была какаято неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла ее сознать. Вспомнив еще раз об Алексее Александровиче, она вспомнила и время своей болезни после родов и то чувство, которое тогда не оставляло ее.
«Зачем я не умерла?» – вспомнились ей тогдашние ее слова и тогдашнее ее чувство. И она вдруг поняла то, что было в ее душе. Да, это была та мысль, которая одна разрешала все.
«Да, умереть!..»
«И стыд, и позор Алексея Александровича, и Сережи, и мой ужасный стыд – все спасается смертью. Умереть – и он будет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать за меня».
Она услышала стук в дверь, но, как бы занятая укладыванием своих колец, она не обратилась даже к нему. «Пусть стучит, – думала она, – пусть поволнуется».
Она живо с разных сторон представляла себе его чувства после ее смерти.
Однако стучали не в дверь, а в окно. Вдруг оно с силой распахнулось, и в комнату ворвался Почетный Гость. Чудовище бросилось к Анне с ужасным криком, десяток грязножелтых глаз его сияли, а острый как бритва клюв был нацелен на грудь жертвы. Анна скатилась с кресла, попятилась назад и закрыла лицо руками. Пришелец навалился сверху, вонзая в ее тело длинные когти и втыкая в горло извивающееся жало. Она выкрикнула имя Вронского и вцепилась в чудовище в ответ, но ее пальцы беспомощно царапали толстую крокодиловую шкуру. Капля слюны монстра упала на ключицу и вскипела, словно вода в чайнике.
Пришелец взвизгнул и зарычал. Почему, спрашивала Анна саму себя, почему она борется за жизнь? Минуту назад она чувствовала желание умереть; так почему бы не позволить этому ужасному пожирателю плоти съесть ее и покончить со всем этим? Но даже когда в голове ее проносились такие мысли, пальцы все равно отчаянно искали уязвимое место на теле врага; наконец она нащупала мягкий живот и вонзила в него ногти – чудовище взвыло и отпрянуло. Это позволило Анне упереться каблуками в деревянный пол и вскочить на ноги, сбросив с себя пришельца.
Множество глаз замигало вразнобой, и горячий поток слюны хлынул из зубастой пасти на пол, прожигая дымящуюся дыру в дереве. В эту минуту передышки Анна вскочила на кресло, словно робкая женщина, испуганная мышью; сняв одну из туфель на высоком каблуке, она выставила ее вперед, как оружие. Изза двери она услышала голос Вронского, зовущего ее по имени; затем полотно двери задрожало – он принялся высаживать ее плечом.
Чудовище тем временем поднялось и снова напало на Анну, его мощные когти смыкались вокруг ее тела, острые, как иглы, зубы собирались вонзиться в ее шею. Анна закричала; некуда было спрятаться, не было места для ответного удара; перед ее глазами стояло разъяренное мигающее чудовище; с улицы послышалось странное пульсирующее тика – тика – тика. Смерть пришла за ней в обличье этого космического монстра… Мир погрузился во тьму… И вновь вынырнул к свету, к жизни, вместе со знакомым потрескиванием огненного хлыста. Она почувствовала, как хватка пришельца ослабла, и наконец он отпустил ее. Хлыст снова затрещал и затем еще раз, Анна открыла глаза, чтобы увидеть смердящий труп пришельца, медленно сползающий к ее ногам в бесформенную, шипящую груду мяса. Дрожа всем телом, Анна взглянула на Вронского, молча стоявшего в дверном проеме; его огненный хлыст уже сворачивался, чтобы исчезнуть в кобуре.
– Спасибо, – слабо сказала она. Затем, не в силах более смотреть на творившееся в комнате безобразие, она перекатила дурно пахнущий труп к окну и, распахнув его ногой, сбросила тело вниз; в отвращении отвернувшись, Анна не видела, как оно упало. Не видела и того, что произошло дальше: огромный серозеленый червь поймал труп пришельца чешуйчатой спиной и быстро уполз прочь по улице.
Вронский подошел к ней и, взяв ее за руку, тихо сказал:
– Анна, поедем послезавтра, если хочешь. Я на все согласен.
Она молчала.
– Что это? – спросил он, указывая на разбитое окно и дымящуюся дыру в деревянном полу.
– Ничего… ничего… Ты сам знаешь, – сказала она, и в ту же минуту, не в силах удерживаться более, она зарыдала. – Брось меня, брось! – выговаривала она между рыданьями. – Я уеду завтра… Я больше сделаю. Кто я? Развратная женщина. Камень на твоей шее. Я не хочу мучить тебя, не хочу! Я освобожу тебя. Ты не любишь меня; ты должен сыграть свою роль в Новой России, а у меня нет такой роли! Так иди и играй!
Вронский умолял ее успокоиться и уверял, что он никогда не оставит ее, что никогда не переставал и не перестанет любить ее, что он любит больше, чем прежде.
– Анна, за что так мучить себя и меня? – говорил он, целуя ее руки. В лице его теперь выражалась нежность, и ей казалось, что она слышала ухом звук слез в его голосе и на руке своей чувствовала их влагу.
И мгновенно отчаянная ревность Анны перешла в отчаянную, страстную нежность; она обнимала его, покрывала поцелуями его голову, шею, руки.
Чувствуя, что примирение было полное, Анна с утра оживленно принялась за приготовление к отъезду, не заботясь о том, чтобы восстановить разгромленную спальню. Хотя и не было решено, как долго они останутся на Луне или кто будет им прислуживать там, так как оба вчера уступали один другому, Анна деятельно приготавливалась к отъезду.
Она стояла в своей комнате над открытой коробкой, отбирая вещи, когда он, уже одетый, раньше обыкновенного вошел к ней.
Пришел Петр, чтобы спросить у Вронского расписку на телеграмму из Петербурга. Анну заинтересовала эта депеша, хотя сама она считала такой вид общения неуклюжим и не идущим ни в какое сравнение с элегантным общением через мониторы роботов. Однако Вронский, как бы желая скрыть чтото от нее, поспешно спрятал бумагу в карман.
– Непременно завтра мы должны улететь на Луну.
– От кого депеша? – спросила она, не слушая его.
– От Стивы, – отвечал он неохотно.
– Отчего же ты не показал мне? Какая же может быть тайна между Стивой и мной?
– Я не хотел показывать потому, что Стива имеет страсть телеграфировать; что ж телеграфировать, когда ничто не решено?
– О разводе?
– Да, но он пишет: ничего еще не мог добиться. На днях обещал решительный ответ. Да вот прочти.
Дрожащими руками Анна взяла депешу и прочла чтото совершенно отличное от того, что сказал Вронский.
«У него есть возможности и намерение уничтожить вас ТЧК Еще не решил, когда и как, но сделает это ТЧК Мне жаль ТЧК Мне очень жаль КОНЕЦ»
– Я вчера сказала, что мне совершенно все равно, когда я получу и даже получу ли развод, – сказала она покраснев. – Не было никакой надобности скрывать от меня, – раздраженно бросила она Вронскому.
– Почему я решился скрыть? Потому что твой муж, сделавшийся самым могущественным человеком в России, поклялся уничтожить нас!
– Мы и так уже приготовлялись к отъезду на Луну. Так что отправимся немедля, и уже на месте решим, что делать дальше. Может быть, вернемся в Воздвиженское, может…
Вронский перебил ее, нахмурившись:
– Я хочу ясности!
– Ясность не в форме, а в любви, – сказала она, все более и более раздражаясь не словами, а тоном холодного спокойствия, с которым он говорил.
– Я уверен, что бо льшая доля твоего раздражения происходит от неопределенности положения.
«Да, вот он перестал теперь притворяться, и видна вся его холодная ненависть ко мне», – подумала она, не слушая его слов, но с ужасом вглядываясь в того холодного и жестокого судью, который, дразня ее, смотрел из его глаз.
– Что ж, наше положение сейчас вполне определенное, – сказала она наконец, удерживая телеграмму двумя пальцами, – это определенность конца.
Выходя, он в зеркало увидал ее лицо, бледное, с дрожащими губами. Он хотел остановиться и сказать ей утешительное слово, но ноги вынесли его из комнаты, прежде чем он придумал, что сказать. Целый этот день он провел вне дома, и когда приехал поздно вечером, Петр передал ему, что у Анны Аркадьевны болит голова, и она просила не входить к ней.
Никогда еще не проходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это была не ссора. Это было очевидное признание в совершенном охлаждении.
Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в комнату? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушноспокойным лицом? Он не то что охладел к ней, но он ненавидел ее, потому что любил другую женщину, – это было ясно.
И, вспоминая все те жестокие слова, которые он сказал, Анна придумывала еще те слова, которые он, очевидно, желал и мог сказать ей, и все более и более раздражалась.
«Я вас не держу, – мог сказать он. – Вы можете идти куда хотите. Вы не хотели разводиться с вашим мужем, вероятно, чтобы вернуться к нему. Вернитесь. Если вам нужны деньги, я дам вам. Сколько нужно вам рублей?»
Все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он сказал ей в ее воображении, и она не прощала их ему, как будто он действительно сказал их.
«А разве не вчера только он клялся в любви, он, правдивый и честный человек? Разве я не отчаивалась напрасно уж много раз?» – след за тем говорила она себе.
Анна вышла из дома и бродила по улицам Москвы, изучая Новую Россию холодным и полным отчаяния взглядом. Не было II/Фонарщиков/76, зажигавших уличные фонари; не было II/Швейцаров/44, распахивающих двери. Куда бы она ни посмотрела, повсюду были угрюмые мужики, занятые черной работой, которая столетиями выполнялась роботами: очистка водостоков, размахивание вениками, открывание дверей. Она также видела повсюду мрачное напоминание о своем собственном горе: бесчисленные портреты ее мужа, Алексея Александровича Каренина, прилепленные повсюду на улицах и площадях толстым слоем клея. Самым странным и возмутительным во всем этом был текст, сопровождающий каждый плакат, в котором мужа ее называли «Царем». Анна чувствовала себя человеком в изменившейся стране.
* * *
Вернувшись домой, она провела оставшийся день в сомнениях о том, все ли кончено, или есть надежда примирения, и надо ли ей сейчас уехать, или еще раз увидать его. Она ждала его целый день, и вечером, уходя в свою комнату, приказав Петру передать ему, что у нее голова болит, загадала себе: «Если он придет, несмотря на слова Петра, то, значит, он еще любит. Если же нет, то, значит, все кончено, и тогда я решу, что мне делать!..»
Она вечером слышала остановившийся стук его коляски, его звонок, его шаги и разговор со слугой: он поверил тому, что ему сказали, не хотел больше ничего узнавать и пошел к себе. Стало быть, все было кончено.
И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. Как жалела она теперь о том, что поддалась животному инстинкту самосохранения и вступила в борьбу с пришельцем – с горечью смотрела она сквозь разбитое окно и желала, чтобы еще одно чудовище пришло за ней.
Теперь было все равно: лететь или не лететь на Луну, получить или не получить от мужа развод – все было ненужно. Нужно было одно – наказать его.
Она лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоравшей свечи на лепной карниз потолка и на захватывающую часть его тень от ширмы, и живо представляла себе, что он будет чувствовать, когда ее уже не будет, и она станет для него только одно воспоминание.
«Как мог я сказать ей эти жестокие слова? – будет говорить он. – Как мог я выйти из комнаты, не сказав ей ничего? Но теперь ее уж нет. Она навсегда ушла от нас. Она там…»
Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу; на мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно…
«Смерть!» – подумала она. И такой ужас нашел на нее, что она долго не могла понять, где она, и долго не могла дрожащими руками найти спички и зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла.
«Нет, все – только жить! Ведь я люблю его. Ведь он любит меня! Это было и пройдет», – говорила она, чувствуя, что слезы радости возвращения к жизни текли по ее щекам.
И, чтобы спастись от своего страха, она поспешно пошла в кабинет к нему.
Он спал в кабинете крепким сном. Она подошла к нему и, сверху освещая его лицо, долго смотрела на него. Теперь, когда он спал, она любила его так, что при виде его не могла удержать слез нежности; но она знала, что если б он проснулся, то он посмотрел бы на нее холодным, сознающим свою правоту взглядом, и что, прежде чем говорить ему о своей любви, она должна бы была доказать ему, как он был виноват пред нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после второго приема опиума к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время которого она не переставала чувствовать себя.
Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Однако в этот раз во сне был подан знак, печальный знак: немая Андроид Каренина пела заупокойную мессу о предательстве. И Анна проснулась в холодном поту.
Теперь она молча пристально смотрела на него, стоя посреди комнаты. Он взглянул на нее, на мгновенье нахмурился и продолжал читать письмо. Анна повернулась и медленно пошла из комнаты. Он еще мог вернуть ее, но она дошла до двери, он все молчал, и слышен был только звук шуршания перевертываемого листа бумаги.
– Да, кстати, – сказал он в то время, как она была уже в дверях, – Луна теперь закрыта для нас. Мне доложили, что руководство Министерства отдало приказ перекрыть все дороги к отправочной станции и что теперь Солдатики заняли все терминалы на подъездах и разворачивают путешественников. Теперь наше единственное спасение, и я не лукавлю, говоря, что шансы не в нашу пользу, убедить совет Министерства отменить решение Каренина. Анна, настал момент заключить мир со всем остальным миром, каким бы он ни был.
– Вы можете это сделать, но не я, – сказала она, оборачиваясь к нему.
– Анна, эдак невозможно жить…
– Вы, но не я, – повторила она.
– Это становится невыносимо!
– Вы… вы раскаетесь в этом, – сказала она и вышла.
Испуганный тем отчаянным выражением, с которым были сказаны эти слова, он вскочил и хотел бежать за нею, но, опомнившись, опять сел и, крепко сжав зубы, нахмурился. Эта неприличная, как он находил, угроза чегото раздражила его.
«Я пробовал все, – подумал он, – остается одно – не обращать внимания», – и он стал собираться ехать в город, решившись подать в Министерство прошение о помиловании, но на этот раз не от пары, а от собственного лица.
«Уехал! Кончено!» – сказала себе Анна, стоя у окна; и в ответ на этот вопрос впечатления мрака при потухшей свече и страшного сна, сливаясь в одно, холодным ужасом наполнили ее сердце.
«Нет, это не может быть!» – вскрикнула она и, перейдя комнату, крепко позвонила. Ей так страшно теперь было оставаться одной, что, не дожидаясь прихода человека, она пошла навстречу ему.
– Узнайте, куда поехал граф, – сказала она.
– Что? Кто? – спросил Петр.
– Граф! Граф Вронский, дурачина!
Человек отвечал, что граф поехал в конюшни.
– Они приказали доложить, что если вам угодно выехать, то коляска сейчас вернется.
– Хорошо. Постой. Сейчас я напишу записку. Беги с запиской в конюшни. Поскорее.
Она села и написала:
«Я виновата. Вернись домой, надо объясниться. Ради бога приезжай, мне страшно».
Она запечатала и отдала человеку, который в растерянности смотрел на нее некоторое время.
– Это записка! – закричала Анна. – Передай ее графу. И быстрее!
Ах, как же трудно было без роботов!
Она боялась оставаться одна теперь и вслед за Петром вышла из комнаты и пошла в детскую.
«Что ж, это не то, это не он! Где его голубые глаза, милая и робкая улыбка?» – была первая мысль ее, когда она увидала свою пухлую, румяную девочку с черными вьющимися волосами, вместо Сережи, которого она, при запутанности своих мыслей, ожидала видеть в детской. Девочка, сидя у стола, упорно и крепко хлопала по нему пробкой и бессмысленно глядела на мать двумя смородинами – черными глазами. Ответив няньке, которую они наняли вместо II/Няньки/65, что она совсем здорова и что завтра уезжает в деревню, Анна подсела к девочке и стала пред нею вертеть пробку с графина. Но громкий, звонкий смех ребенка и движение, которое она сделала бровью, так живо ей напомнили Вронского, что, удерживая рыдания, она поспешно встала и вышла.
«Неужели все кончено? Нет, это не может быть, – думала она. – Он вернется. Но как он объяснит мне эту улыбку, это оживление после того, как он говорил с ней? Но и не объяснит, всетаки поверю. Если я не поверю, то мне остается одно, – а я не хочу».
Она бесцельно ходила по дому.
«Кто это?» – думала она, глядя в зеркало на воспаленное лицо со странно блестящими глазами, испуганно смотревшими на нее.
«Да это я», – вдруг поняла она, и, оглядывая себя всю, она почувствовала вдруг на себе его поцелуи и, содрогаясь, двинула плечами.
Потом подняла руку к губам и поцеловала ее.
«Что это, я с ума схожу», – и она пошла в спальню… там стояла элегантная, изящная Андроид Каренина, которая, протянув руки навстречу хозяйке, заговорила.
– Анна , – сказала изысканная женщинамашина приятным и сильным голосом, именно таким, каким его всегда представляла Анна, он звучал нежно, успокаивающе и почеловечески , излучая при этом тихую силу: это был твердый, но любящий голос матери, – вы должны успокоиться теперь, Анна Аркадьевна.
– Андроид Каренина, дорогая, что же мне делать теперь? – Анна зарыдала и бросилась в кресло.
– Ты воспрянешь, увидишь мир и сделаешь то, что должна.
– Ты говоришь, Андроид Каренина. Ты говоришь так красиво.
– В самом деле. Но та Андроид Каренина, которую вы знали и любили, была роботом III класса. Хотя я во многом похожа на ту модель, я робот IX класса.
– Робот IX класса? Но…
– Тише, дорогая. Я должна рассказать вам о том, что будет дальше.
Анна задумалась: а что, если этот разговор происходит на самом деле? Вдруг она поняла, что даже если это сон, она не хочет просыпаться. Андроид Каренина протянула руки, прижала Анну к груди и продолжила.
– Революции, лихорадящие сейчас общество, останутся и в будущем. Царь Алексей (в скором времени ваш муж потребует, чтобы его называли именно так), обретет абсолютную власть. Грозниум и технологии, на нем основанные, полностью исчезнут в городах и деревнях. Все машины, вся сила будет сосредоточена в одних жестоких руках – руках Царя.
– Милостивый Боже, – начала Анна, но Андроид Каренина дала ей знак замолчать.
– Но надежда останется, ею станет возрождающееся СНУ, возглавляемое одним исключительно храбрым и умным человеком. Этот человек, имея доступ к малому количеству грозниума и сети подпольных лабораторий, вместе со своими сторонниками не даст угаснуть Веку Грозниума. В обстановке строжайшей секретности, невероятно рискуя, они будут проводить эксперименты и в конце концов добьются великих результатов: в робототехнике, вооружении, транспортировке. Они даже возродят то, что однажды было названо… «Проект Феникс».
– Ты имеешь в виду…
– Да, Анна. Путешествие во времени.
Анна вынула заколку из волос и почувствовала, как темные волны упали вокруг лица ее; как это часто бывало раньше, она пыталась возместить душевный дискомфорт удобством физическим. Но теперь Анна ощущала болезненное чувство, что было чтото лживое в ее красоте, чтото недоброе.
– В конце концов этот смелый предводитель повстанцев вместе со своими сторонниками придумает, как убить Царя Алексея, прежде чем начнется период его разрушительного правления.
Глаза Анны расширились, а руки затряслись.
– Что… что…
– Их план будет опираться на гениальные новые технологии, ставшие результатом многих лет экспериментов и кропотливого труда: микроскопическая машина, просто называемая Механизм, которая может быть имплантирована непосредственно в серое вещество человека. Этот аппарат, однажды внедренный в голову, сохраняет биологические процессы хозяина и в то же время постепенно, но бесповоротно разрастается, захватывая высшие уровни нервной системы, – таким образом, с течением времени трансформируя человека в очень сложную машину.
– Этого не может быть, – сказала Анна испуганно.
– Но это есть. Точнее, будет. И да, возникнут возражения, касающиеся этической стороны вопроса, будут вестись многочисленные дискуссии, но в конечном итоге повстанцы из СНУ и их лидер сделают единственный выбор: принесение в жертву одного человека – небольшая плата за то, чтобы изменить прошлое России и тем самым спасти ее будущее. И назад в прошлое будет отправлен агент, который должен будет установить Механизм будущему хозяину; Механизм этот в срочном порядке создадут.
Анна вскрикнула, сжала руки перед собой и зажмурилась.
– Андроид Каренина, – заплакала она, – я приказываю тебе остановиться.
– Анна Аркадьевна, много лет назад вы превратились из человека в женщинумашину совершенно нового вида: Андроид Каренина XII класса. Это новая модель робота, единственная цель которого – убить Алексея Александровича Каренина.
– Я приказываю тебе остановиться!
Анна, содрогаясь, упала на диван и закрыла лицо руками. Ни одно горе в ее жизни, ни одна из жестокостей мужа, ни одно предательство, совершенное Алексеем Кирилловичем и даже потеря ее дорогого Сережи, не могли сравниться со страданиями, которые она испытывала теперь.
– Зачем, – рыдала она, – зачем создавать такие устройства… чтобы захватывать, присваивать сознание живого человека? Почему просто не построить какоенибудь… Какоенибудь оружие, бомбу, которая взорвется под его кроватью?
– Потому что, дорогая Анна, те же формулы, которые доказали возможность путешествия во времени, также показали, что течение истории человеку чрезвычайно трудно изменить. И таким образом природа цели диктует, каким должно быть происхождение орудия. Ваш муж, поддерживаемый злым роботом III класса на его лице, жестко контролирует все события своей жизни. Он давно разработал план своего прихода к власти; у него бесчисленное количество резервных планов действия и обороны в случае технологической атаки. Он хозяин своего мира – с одним исключением: вами. В пределах собственного дома он уязвим.
– Умоляю…
– Это должна быть жена. Это должны быть вы.
Анна беззвучно плакала на диване, не желая слышать более ни слова, но не имевшая сил сдвинуться с места.
– Как только Механизм сросся с вами, его программы постепенно увеличили ваше естественное отвращение к холодному и неловкому мужу до полного неприятия его. Эта ненависть должна была в конце концов, подвести вас к желанию убить мужа – но мы недооценили глубину и силу вашей любящей натуры и ваше стремление к свободе. Вместо того, чтобы позволить чувствам довести вас до убийства супруга, вы обратили их в новую, удивительную любовь к графу Вронскому. Вы предали Алексея Александровича, но не убили его – но, увы, это только ускорило его обращение к бесчеловечной тирании. Таким образом, несмотря на годы нашей скрытой борьбы, миссия была провалена.
Анна подняла голову, силясь понять; слезы катились по ее лицу.
– Так что же, божественные уста – цветочная ловушка – все это усилия СНУ, для того чтобы… чтобы уничтожить меня?
– Нет. Это были попытки убить графа Вронского, в надежде что после его гибели вы вернетесь домой, вновь возьмете на себя роль ответственной жены и завершите миссию. Но опять же течение времени трудно изменить.
Горечь и разочарование наполнили Анну, словно бы чернила, наливаемые в чернильницу. Она ощущала, как это часто бывало в прошлом, успокаивающие объятия Андроида Карениной. Затем ее роботкомпаньон – нет! Другой андроид! Но все же любимый – сказал:
– Еще не поздно.
Анна зацепилась за то, что говорила ей Андроид Каренина, голова ее шла кругом от нахлынувших чувств, а перед мысленным взором появилось строгое лицо Вронского.
«Да! Еще не поздно – я послала записку… он вернется…»
Она посмотрела на часы. Прошло двенадцать минут.
«Теперь уж он получил записку и едет назад. Недолго, еще десять минут… Но что, если он не приедет? Нет, этого не может быть. Надо, чтобы он не видел меня с заплаканными глазами. Я пойду умоюсь».
– Да, да, причесалась ли я или нет? – спросила она Андроида Каренину, которая взглянула на нее и снова заговорила; голос ее изменился – теперь это был низкий, грустный шепот.
– Еще не поздно завершить вашу миссию, Анна. Вы можете согласиться последовать предписаниям программы.
Анна посмотрела на робота:
– Андроид Каренина… Нет…
– Поезжайте в Петербург. Убейте Алексея Александровича своими собственными руками. Вы единственная, кто может сделать это.
– Я не убийца! Я человек!
– К сожалению… вы более не человек.
Анна с силой ткнула роботукомпаньону в шею, но это не принесло результатов: у этой модели вовсе отсутствовала кнопка перевода в Спящий Режим. Когда Андроид Каренина подняла манипуляторы, чтобы оттолкнуть Анну, та перекатилась через диван и, вскочив на окно с разбитым стеклом, выпрыгнула на улицу.
Погода была ясная. Все утро шел частый, мелкий дождик, и теперь недавно прояснило. Анна бежала по блестящим мокрым улицам, каблуки скользили по запачканным камням. Она бежала через широкие проспекты и по грязным московским переулкам, ныряла и вновь выныривала из толпы, огибала углы, встречая плакаты с грозным нелицом своего мужа. Совсем скоро она услышала стук металлических ног позади себя. Ее преследователь, Андроид Каренина IX класса, тенью бежала за ней, одетая в такое же платье, с такой же фигурой и размером – Анна также знала теперь, что сделана она была из тех же материалов, что спрятаны в ее собственном теле. Она сама шла следом за собой.
«Как я могу сделать то, что она велит мне? – спрашивала себя Анна. – Убить собственного мужа собственными руками, оставаясь с холодной головой – неважно, каким монстром он стал или может стать! Я совершила много эгоистичных поступков, и да, я была более жестокосердной, чем сама того желала, но я не убийца! И все же, – думала Анна с горечью и нарастающим смятением, – если все, что говорит Андроид Каренина, – правда, – и сразу же в глубине души она призналась себе, что это должно было быть правдой, – тогда я вовсе даже не человек!»
Железные кровли, плиты тротуаров, голыши мостовой, колеса и кожи, медь и жесть экипажей – все ярко блестело на майском солнце. Андроид Каренина с механической настойчивостью преследовала ее. Было три часа и самое оживленное время на улицах.
Анна побежала рядом с проезжающим экипажем и, с силой толкнувшись, запрыгнула на подножку. Обернувшись, она увидала фигуру Андроида, появившуюся на пороге продуктовой лавки; она становилась все меньше по мере того, как экипаж катил вперед. Анна с облегчением вздохнула и, забравшись через окно в пустую коляску, бросилась на сиденье. Она с болью подумала о своем роботекомпаньоне, подумала о том странном ощущении, которое давно посещало ее, о том, что всегда чувствовала какуюто особенно сильную связь с этим роботом III класса в сравнении с тем, что чувствовали другие. И неудивительно! Обе они были машинами!
Сидя в углу покойной коляски, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами на быстром ходу серых, Анна, при несмолкаемом грохоте колес и быстро сменяющихся впечатлениях на чистом воздухе, вновь перебирая события последних дней, пыталась в своем лихорадочном сознании сложить их в нечто осмысленное. Одно она знала точно – несмотря на все произошедшее, несмотря на то что она теперь знала о себе правду, она попрежнему любила Вронского.
«Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему. Признала себя виноватою. Зачем? Разве я не могу жить без него?»
И, не отвечая на вопрос, как она будет жить без него, она стала читать вывески.
«Контора и склад. Зубной врач. Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А мытищинские колодцы и блины».
И она вспомнила, как давно, давно, когда ей было еще семнадцать лет, она ездила с теткой к Троице.
«На лошадях еще. Неужели это была я, с красными руками? Это случилось тогда еще, когда я сама была плотью и духом, а не андроидом с металлической начинкой! Как многое из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно, а то, что было тогда, теперь навеки недоступно. Поверила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого унижения?»
Анна посмотрела на соседнее сиденье и в ту же секунду увидела Андроида Каренину, выбежавшую из боковой аллеи; она выскочила перед экипажем. Вуаль была откинута назад, глаза сияли.
– Третий класс! – закричал извозчик, в то время как Андроид повернулась боком, выставила одно плечо вперед и наклонилась навстречу приближающемуся экипажу, позволив лошадям пройти по обе стороны от себя; карета встретилась с ее корпусом. От удара извозчик слетел с козел и приземлился на мостовой, лошади попятились и заржали. Не торопясь, робот молча забрался в экипаж и зажал Анну в углу.
– Вы избранная, Андроид Каренина XII, – произнес роботкомпаньон сильным и любящим голосом. – Так мало людей имеют цель в жизни, но вам она была назначена.
Анна прижалась к сиденью, прикидывая свои шансы – удастся ли ей пересилить мучителя и выскользнуть из противоположного окна экипажа.
«В конце концов я более продвинутая модель», – подумала она с горечью. Но она не видела ни малейшей возможности сбежать.
– Простая миссия, которую так легко выполнить. Принять свою судьбу, Анна. Принять себя.
С этими словами Андроид Каренина взяла ее за талию и начала тянуть дрожащую хозяйку из экипажа. Через плечо Анна видела в окне напротив двух девушек, увлеченно беседующих. Она тотчас же стала думать о том, чему могли так улыбаться эти две девушки.
«Верно, о любви? Они не знают, как это невесело, как низко… Бульвар и дети. Три мальчика бегут, играя в лошадки. Сережа! И я все потеряю, и не возвращу его. Да, все потеряю, если он не вернется. Я пойду и убью его, что толку сопротивляться? Да, я сделаю это. Да, я все потеряю… Эти лошади, эта коляска – как я отвратительна себе в этой коляске – все его; но я больше не увижу их».
– Ты! Робот! Оставь в покое эту женщину!
Анна услышала крики, почувствовала, как затряслась коляска от выстрелов из лазера, прежде чем поняла, что происходит. Отряд Солдатиков окружил экипаж, и теперь они вытаскивали из него Андроида Каренину. На улице стоял напуганный извозчик, усиленно размахивая руками; кричали дети, лошади спутались в упряжке; все смешалось.
Словно во сне, Анна выбралась из коляски, проскользнула мимо Солдатиков, окруживших Андроида Каренину, и, шатаясь, пошла по улице прочь.
«Прими себя», – сказала Андроид Каренина; Анна пыталась выбросить эти мрачные пугающие слова из головы.
«О чем последнем я так хорошо думала? – старалась она вспомнить. – Да, о том, что говорят: борьба за существование и ненависть – единственное, что объединяет людей.
Нет, вы напрасно едете, – мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город. – И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам».
Они искали счастья, как сама Анна когдато, но счастье это в скором времени смоет мощная волна Новой России. Если только… если только…
«Нет, – подумала она, человеческая часть ее снова заявила о себе, заглушая логические императивы Механизма внутри нее, – я не могу!»
Прислонившись на мгновение к каменной стене старой фабрики, чтобы перевести дыхание, она увидела, как стражи уводят мертвецки пьяного рабочего.
«Ну, этот нашел быстрый путь, – подумала она, – граф Вронский и я не смогли найти этого удовольствия, хотя и многого ожидали от него».
И Анна обратила теперь в первый раз тот яркий свет, при котором она видела все, на свои отношения с ним, о которых прежде она избегала думать.
«Чего он искал во мне? Любви не столько, сколько удовлетворения тщеславия».
Она вспоминала его слова, выражение лица его, напоминающее покорную легавую собаку, в первое время их связи. И все теперь подтверждало это. «Да, в нем было торжество тщеславного успеха. Разумеется, была и любовь, но большая доля была гордость успеха. Он хвастался мной. Теперь это прошло. Гордиться нечем. Не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня все, что мог, и теперь я не нужна ему. Он тяготится мною и старается не быть в отношении меня бесчестным. Он проговорился вчера – он хочет развода и женитьбы, чтобы сжечь свои корабли. Он любит меня – но как? The zest is gone. Этот хочет всех удивить и очень доволен собой», – подумала она, глядя на румяного приказчика, взгляд которого был привлечен ее изможденным нервным видом.
«Да, того вкуса уж нет для него во мне. Представляю себе – как только я сообщу ему открывшуюся правду о том, что я вовсе не женщина, а робот XII класса, он тотчас сбежит от меня. Доложив обо мне в Министерство, он удостоверится, что меня расплавили в подземельях Башни, и будет рад своей свободе».
Она ясно видела это в том пронзительном свете.
«Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны. И изменить этого нельзя, особенно сейчас. Теперь я вижу, что и никогда не могло быть подругому: он – человек, а я – машина. Но… – Она открыла рот от волнения, возбужденного в ней пришедшею ей вдруг мыслью. – Если б я могла быть чемнибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим. Если он, не любя меня, из долга будет добр, нежен ко мне, а того не будет, чего я хочу, – да это хуже в тысячу раз даже, чем злоба! Это – ад! Если лишат меня его любви, его страсти, я лучше буду машинойубийцей, о которой говорила Андроид Каренина и которой и была создана когдато! Он уж давно не любит меня. А где кончается любовь, там начинается ненависть».
– Прикажете билет до Петербурга?
Она вдруг поняла, что дошла до ворот Антигравистанции; совсем забыла, куда и зачем шла, и только с большим усилием могла понять вопрос.
– Да, – сказала она, отвечая на озадачивший ее вопрос; билетер угрюмо сообщил, что до прибытия Антигравипоезда оставалось еще несколько минут.
Направляясь между толпой в залу первого класса, она понемногу припоминала все подробности своего положения и те решения, между которыми она колебалась.
Поехать в Петербург и выполнить страшный приказ; или остаться, чтобы найти Вронского и рассказать ему, кто она на самом деле, понадеявшись на его понимание и готовность начать все сначала в таких изменившихся условиях. И опять то надежда, то отчаяние по старым наболевшим местам стали растравлять раны ее измученного, страшно трепетавшего сердца. Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она, с отвращением глядя на входивших и выходивших (все они были противны ей), думала то о том, как он теперь жалуется матери (не понимая ее страданий) на свое положение, и как она войдет в комнату, и что она скажет ему. То она думала о том, как жизнь могла бы быть еще счастлива, и как мучительно она любит и ненавидит его, и как страшно бьется ее сердце. И если головой ее управляла машина, то сердце, попрежнему, принадлежало ей одной. Слезы, состоявшие из смеси белков и силикатов, растворенных в воде, медленно текли по ее щекам.
Анна все еще ждала Грава. В расстроенном состоянии, она читала, но никак не могла понять объявления о предстоящей замене Антигравов на чтото, что называлось в тексте «поездами»; добродетельным и поучающим тоном там объяснялось, в чем будут состоять духовные приобретения от долгого ожидания в очередях, стесненных условий, тряской езды. Раздался звонок, оповестивший о скором прибытии состава, прошли какието молодые мужчины, уродливые, наглые и торопливые и вместе внимательные к тому впечатлению, которое они производили.
Шумные мужчины затихли, когда она проходила мимо их по платформе, и один чтото шепнул о ней другому, разумеется, чтонибудь гадкое. Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в купе на пружинный испачканный, когдато белый диван. Дама, уродливая, с турнюром (Анна мысленно раздела эту женщину и ужаснулась на ее безобразие), и девочка ненатурально смеясь, пробежали внизу.
«Девочка – и та изуродована и кривляется», – подумала Анна.
Чтобы не видать никого, она быстро встала и села к противоположному окну в пустом вагоне. Испачканный уродливый мужик в фуражке, изпод которой торчали спутанные волосы, прошел мимо этого окна, нагибаясь и осматривая магнитное ложе. Анна вспомнила мужика, который был раздавлен Гравом на этой самой станции в их самую первую встречу с Вронским.
Дрожа от страха, отошла к противоположному дивану. Мгновение спустя муж с женой подошли к соседнему месту и спросили:
– Позволит ли она присесть здесь?
Анна, погруженная в собственные мысли, не отвечала.
«Вронский не может любить меня, и в этом я должна признаться себе: он уже разлюбил меня (остыл ко мне), и как только он поймет, что я женщинаробот, он будет рад этому оправданию, чтобы покончить с нашей связью».
Пара не заметила под вуалем ужаса на лице Анны. Она вернулась в свой угол и села. Чета села с противоположной стороны, внимательно, но скрытно оглядывая ее платье. И муж, и жена казались отвратительны Анне. Муж спросил: можно ли курить при ней, очевидно не для того, чтобы курить, но чтобы заговорить с нею. Приняв ее молчание за согласие, он заговорил с женой пофранцузски о том, что ему еще менее, чем курить, нужно было говорить.
Они говорили, притворяясь, глупости, о том, что оба надеялись на покойное путешествие без нападений кощеев, и о том, что чьято тетушка, старая дева, была съедена пришельцами; все это они говорили только для того, чтобы она слыхала. Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов.
Послышался второй звонок и вслед за ним передвижение багажа, шум, крик и смех. Анне было так ясно, что никому нечему было радоваться, что этот смех раздражил ее до боли, и ей хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать его.
Наконец прозвенел третий звонок, раздался электрический треск, громкий гул заработавших магнитов, и муж перекрестился.
«Интересно бы спросить у него, что он подразумевает под этим», – с злобой взглянув на него, подумала Анна.
Она забыла о своих соседях в вагоне и, оказавшись на платформе, вдохнула в себя свежий воздух.
«Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мученьем, что все мы созданы затем, чтобы мучиться, и что мы все знаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать?»
«Да, очень беспокоит меня, что мой разум был захвачен машиной, машиной с ужасными намерениями, противоречащими всему, о чем кричит мое сердце, о том, кто я; и на то дана причина, чтоб избавиться; стало быть, надо избавиться. Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это? Но как? Зачем они кричат, зачем они говорят, зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло!..»
Зло, зло той машины, которая стала частью ее, вечной ее частью. Она убеждала Андроида Каренину, что никогда не сможет выполнить миссию, но пока она жива, этот жестокий Механизм будет тайно жить в ней, подстрекая убивать, разрушать, творить зло.
Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от платформы к магнитному ложу, она увидела совсем близко прибывавший Грав. Она смотрела на нижнюю часть вагонов, на винты и провода и на длинные вибрирующие опоры медленно летевшего вперед первого вагона и глазомером старалась определить середину между правой и левой опорами и ту минуту, когда подойдет состав.
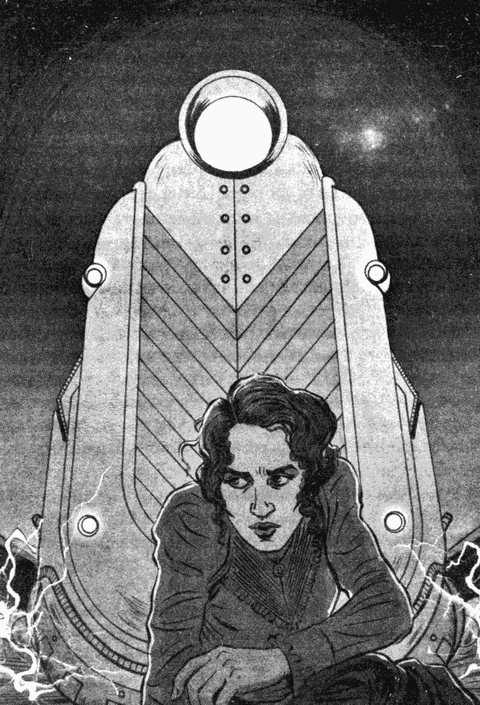
Я накажу его и избавлюсь от ненавистной машины, которой стала
«Туда! – говорила она себе, глядя в тень вагона, когда солнечный свет волшебно заиграл на идеально ровном носу Грава, – туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от этой ужасной машины, которой стала».
Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. И ровно в ту минуту, когда она не могла больше ждать, она вжала в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала.
«Где я? Что я делаю? Зачем?»
Она хотела подняться, откинуться; но чтото огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину.
– Господи, прости мне все! – проговорила она, чувствуя невозможность борьбы.
И монитор, на котором она читала огромное послание, исполненное тревог, обманов, горя и зла, вспыхнул более ярким, чем когданибудь, светом, осветил ей все то, что прежде было во мраке, моргнул, стал меркнуть и навсегда потух.
Андроид Каренина, сбежав от толпы Солдатиков, окруживших экипаж, нигде не нашла Анну и потому отправилась ни с чем на явочную квартиру гдето неподалеку от Москвы; там ее ждал наставник: приземистый бородатый мужчина в грязном лабораторном халате, у которого на поясе была закреплена маленькая коробка с огромным количеством кнопочек.
Человек из СНУ рассказал Андроиду Карениной о том, что случилось с Анной Аркадьевной. Было видно, что робот из будущего принял это известие с грустью, ее глаза сияли печальным светом.
– А тело?
Агент СНУ кивнул и погладил свою грязную бороду.
– Мы уничтожим все, что от него осталось, Царь Алексей ничего не узнает о Механизме.
– Нет , – тихо возразила Андроид Каренина, – у меня есть другая идея.
* * *
Божественные уста (часть Проекта Феникс) выплюнули тело Анны Карениной на то же место, а именно на магнитное ложе Московской Антигравитационной дороги, таким же холодным днем, только несколькими годами раньше. В тот момент, когда тело появилось из божественных уст, небо содрогнулось от странного звука – гром в небесах был слышен по всему Миру, и к нему в предчувствии прислушался граф Алексей Кириллович Вронский, который встречал в этот день мать, и Анна Аркадьевна Каренина, модно одетая дама и жена видного государственного чиновника.
Через мгновение на платформе началась ужасная суета, когда пришли страшные новости: на магнитном ложе обнаружили два раздавленных тела, мужчины и женщины, которые, очевидно, были расплющены несущейся махиной Антиграва. Граф Вронский, который только что был представлен Анне Карениной и серьезно увлекся ею, чувствовал себя теперь подавленно, увидав эти два трупа, мужчины и женщины, лежавших вместе в мрачной финальности смерти.
И хотя станционные рабочие быстро укрыли тела тканью, можно было видеть свесившуюся тонкую руку, которая печально указывала на платформу. Вронский снова взглянул на Анну, которой был так поражен, и увидал, что она с молчаливым ужасом смотрит в сторону трупов. Предчувствие огромной беды пересилило Вронского, и он попрощался с Карениной. Если она и заметила его, то не подала виду. Вронский не сделал более попыток продолжить знакомство с мадам Карениной; не спросил ее о мазурке на балу у Кити Щербацкой; и провел в Москве остаток года.
В косых тенях, которые отбрасывал багаж, сложенный на платформе, бродил тудаобратно Вронский; в длинном военном пальто и сияющей серебристой шляпе, он походил на гордого льва, красующегося перед восхищенной толпой; через каждые двадцать шагов он резко разворачивался. Его роботкомпаньон, Лупо, как всегда, с важным видом следовал за ним по пятам, серебристая обшивка его корпуса, созданного по образу и подобию волка, красиво сияла в лучах заходящего солнца; человек и его робот ожидали Антиграва для того, чтобы уехать на новое место службы.
Яшвину, старому другу и сослуживцу Вронского, показалось, что, когда он подходил к нему, граф хоть и увидал его, но сделал вид, что не увидел. Это нисколько не задело Яшвина: заинтересованный только в собственном продвижении по службе, и хорошо знавший о высоких военных заслугах Вронского, он оставил в стороне чувство собственного достоинства. Сейчас он смотрел на Алексея Кирилловича как на человека, находящегося на вершине карьеры, и считал, что было бы глупо упустить возможность показать себя перед этим великим человеком. Он подошел к Вронскому.
Тот остановился, пристально посмотрел на Яшвина, узнал его, сделал несколько шагов навстречу, чтобы поприветствовать его, и крепкокрепко пожал ему руку.
– Ну, что ж, Алексей Кириллович, – сказал Яшвин. – Как ни было бы странно видеть коголибо из русских солдат, отправленных выполнять эту миссию, я не могу представить никого другого, кроме вас, на этом месте. Думали ли вы когдалибо, что такой день наступит?
– Уже несколько лет у меня было чувство, что все сложится именно так, – ответил Вронский, на мгновение обернувшись, чтобы полюбоваться красиво одетой дамой, сопровождаемой очаровательным роботом III класса цвета фуксии.
– После повышения Стремова с его решительно либеральным отношением к проблеме роботов. После смерти… о, да ты знаешь, о ком я. Тот, с необычным лицом.
Яшвин поспешил заполнить паузу, чтобы произвести на Вронского впечатление своей догадливостью:
– После смерти Каренина.
Челюсть Вронского нетерпеливо дернулась от непрерывной щемящей зубной боли, которая мешала ему даже говорить с тем выражением, с каким он хотел. Дело Каренина было, скорее, отвратительным случаем из жизни, когда Вронский теперь думал о нем: Министр убит женой в собственной постели.
– Он был ярым противником дальнейшего развития машиностроения, этот Каренин. Стремов никогда не упускал случая показать, что видит все в ином свете. Хотя, это кажется странным: сидеть напротив СНУ за столом переговоров.
– Да, что ж… – начал Яшвин. Вронский посмотрел в сторону, когда на станции стало слышно приятное гудение прибывающего Грава. Он подплывал точно по расписанию, надежный и действенный, как всегда.
– Может быть, вы и не желали со мной видеться, но не могу ли я вам быть полезным? – сказал наконец Яшвин, вглядываясь в лицо Вронского. – Избавление своих братьев от ига есть цель, достойная и смерти и жизни. Дай вам бог успеха внешнего – и внутреннего мира, – прибавил он и протянул руку.
Вронский крепко пожал протянутую руку и начал отвечать, когда щемящая боль крепких зубов, словно выточенных из слоновой кости, помешала ему говорить. И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение зубную боль.
Заключение мира со СНУ, несомненно, стало бы великим благом для России и россиян, но что это значило бы для него ? Единственная цель жизни, единственная звезда, вокруг которой вращалась планета его бытия, было разжигание войны, управление мощной Оболочкой, сметавшей все на своем пути, наконец высвобождение из кобуры огненного хлыста. Он вдруг подумал о полузабытой княжне Кити Щербацкой: это была одна из десятков девушек, которым он вскружил когдато голову, легко объясняясь им в любви.
«Теперь она замужем, – думал Вронский, – за этим смешным человеком, шахтером…»
На секунду Вронский увидал свое отражение в серебряном носу Грава: он увидел себя в самом правдивом и жестоком свете: приближающийся к середине жизни, солдат без войны, мужчина без жены.
Он потер больную челюсть, и Лупо тихо заскулил.
– Да, да, дружище. У меня попрежнему есть ты.
В это мгновение солнце ушло за горизонт, и Вронский вместе со своим роботомкомпаньоном сел в Грав.
Прошло почти два месяца. Лето близилось к концу, и граф Алексей Кириллович Вронский летел в космос. Шокирующая смерть Анны Аркадьевны Карениной породила неизбежные обсуждения скандальной темы на всех углах; но, как это часто бывает, даже самые горячие слухи постепенно остывают и вскоре уступают место другим новостям, которые, в данном случае, оказались самыми поразительными: была обнаружена родная планета Почетных Гостей. Точка на звездных картах астрономов, пятнышко красной пыли, мерцающее в тени Луны, эта маленькая планета быстро получила название – публика, жадная до новостей о пришельцах, окрестила ее «Гнездом». В обществе стало хорошим тоном выставлять на собраниях телескоп, чтобы каждый мог со страшным изумлением рассмотреть с помощью него дом врага.
– Было бы упущением просто смотреть, но не действовать, – такую задачу поставил перед россиянами теперь уже открыто признанный единственный лидер в стране, Алексей Александрович Каренин, преданно именуемый Царь Алексей: Царь без Лица.
С головой, защищенной сверкающим металлом, великий человек стоял перед толпой на площади; держась горделиво и торжественно в память о недавно погибших согражданах, он объявлял о важном решении:
– Наши войска, храбрые солдаты России, полетят в Гнездо на борту специально сконструированных челноков; они отправятся туда, чтобы контратаковать логово, в котором родились ящероподобные монстры и их объезженные роботычерви. Знай, мой народ, что решение это далось мне нелегко, потому что наше мужество будет стоить многих жизней. Но все же нам необходимо лететь туда – лететь для того, чтобы Почетные Гости уяснили себе, что им рано праздновать победу: мы будем биться до конца. Теперь мы станем гостями, – заключил Каренин, потрясая железным кулаком, – а они – самыми негостеприимными хозяевами.
ДА, – зашипело Лицо, когда Каренин сошел с трибуны под одобряющий рев толпы, –
ПУСТЬ ТУДА ОТПРАВЯТСЯ ВОЙСКА. ПУСТЬ ТУДА ОТПРАВЯТСЯ САМЫЕ МОЩНЫЕ ВОЙСКА.
* * *
Когда темнота космоса воцарилась за иллюминатором, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе, с руками в карманах, принялся ходить, как зверь в клетке, по залитому светом коридору, быстро поворачиваясь на двадцати шагах. Старинному другу Вронского, Яшвину, показалось, когда он подходил, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Яшвину это было все равно.
В эту минуту Вронский в глазах его был важный деятель для великой миссии, и Яшвин считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошел к нему.
Вронский остановился, вгляделся, узнал и, сделав несколько шагов навстречу старому знакомому, крепкокрепко пожал его руку.
– Может быть, вы и не желали со мной видеться, – сказал Яшвин, – но не могу ли я вам быть полезным?
– Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, – сказал Вронский. – Извините меня. Приятного в жизни мне нет.
– Я понимаю и хотел предложить вам свои услуги, – сказал Яшвин, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского. – Для меня большая честь считать вас своим другом. То, что вы добровольно вызвались возглавить первую атаку, говорит о вашем высоком предназначении в деле помощи государству.
– Я, как человек, – сказал Вронский, – тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, – это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла. Комунибудь пригодится.
И он сделал нетерпеливое движение скулой от непрекращающейся, ноющей боли зуба, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел.
– Вы возродитесь, предсказываю вам, – сказал Яшвин, чувствуя себя тронутым. – Избавление планеты от ига есть цель, достойная и смерти и жизни. Дай вам бог успеха внешнего – и внутреннего мира, – прибавил он и протянул руку.
Вронский крепко пожал протянутую руку.
– Да, как орудие, я могу сгодиться на чтонибудь. Но, как человек, я – развалина, – с расстановкой проговорил он.
Щемящая боль крепкого зуба, мешала ему говорить.
И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. Через иллюминатор он увидел стремительно удалявшуюся Землю, которая становилась все меньше и меньше.
Ему вдруг вспомнилась она , вернее, он вообразил себе, как она могла выглядеть, потому что ему запрещено было видеть тело, которое потом увезли кудато. Он представил ее на столе казармы Антигравистанции, бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни; закинутая назад уцелевшая голова со своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице, с полуоткрытым румяным ртом, застывшее странное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово – о том, что он раскается, – которое она во время ссоры сказала ему.
И он старался вспомнить ее такою, какою она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственною, прелестной, любящею, ищущею и дающею счастье, а не жестокомстительною, какою она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо.
Кити знала, что он кричит, еще прежде, чем она подошла к детской. И действительно, он кричал. Она услышала его голос и прибавила шагу. Но чем скорее она шла, тем громче он кричал. Голос был хороший, здоровый, только голодный и нетерпеливый.
– Давно, няня, давно? – поспешно говорила Кити, садясь на стул и приготовляясь к кормлению. – Да дайте же мне его скорее. Ах, няня, какая вы скучная, ну, после чепчик завяжете!
Ребенок надрывался от жадного крика.
– Да нельзя же, матушка, – сказала Агафья Михайловна, оставшаяся в доме, несмотря на то что ее услуги как mécanicienne, не нужны были больше. – Надо в порядке его убрать. Агу, агу! – распевала она над ним, не обращая внимания на мать.
Няня понесла ребенка к матери. Агафья Михайловна шла за ним с распустившимся от нежности лицом.
– Знает, знает. Вот верьте богу, матушка Катерина Александровна, узнал меня! – перекрикивала Агафья Михайловна ребенка.
Но Кити не слушала ее слов. Ее нетерпение так же возрастало, как и нетерпение ребенка.
От нетерпения дело долго не могло уладиться.
Ребенок хватал не то, что надо, и сердился.
Наконец после отчаянного задыхающегося вскрика, пустого захлебывания, дело уладилось, и мать и ребенок одновременно почувствовали себя успокоенными и оба затихли.
– Однако и он, бедняжка, весь в поту, – шепотом сказала Кити, ощупывая ребенка. – Вы почему же думаете, что он узнает? – прибавила она, косясь на плутовски, как ей казалось, смотревшие изпод надвинувшегося чепчика глаза ребенка, на равномерно отдувавшиеся щечки и на его ручку с красною ладонью, которою он выделывал кругообразные движения.
– Не может быть! Уж если б узнавал, так меня бы узнал, – сказала Кити на утверждение Агафьи Михайловны и улыбнулась.
Она улыбалась тому, что, хотя она и говорила, что он не может узнавать, сердцем она знала, что не только он узнает Агафью Михайловну, но что он все знает и понимает, и знает и понимает еще много такого, чего никто не знает и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему. Для Агафьи Михайловны, для няни, для деда, для отца даже ребенок был живое существо, требующее за собой только материального ухода; но для матери он уже давно был нравственное существо, с которым уже была целая история духовных отношений.
– А вот проснется, бог даст, сами увидите. Как вот этак сделаю, он так и просияет, голубчик. Так и просияет, как денек ясный, – говорила Агафья Михайловна.
– Ну, хорошо, хорошо, тогда увидим, – прошептала Кити. – Теперь идите, он засыпает.
Она с нежностью погладила ребенка по щеке. Малыш Тати – такой хорошенький и милый. Как робот, в честь которого и был назван.
Левин осторожно открыл дверь детской. Увидав, что мать и дитя спят, а Агафья Михайловна ласковым взглядом умоляет его не шуметь, он закрыл дверь. Его радость за ребенка была полной, когда он нашел Тати в таком окружении: рядом была мать, нянька, Агафья Михайловна – это был теплый мир людей.
Вскоре, однако, эти радостные чувства напомнили ему о том ужасном вопросе, который терзал его, требуя разрешения, с той самой ночи, когда родился сын. Он отвернулся от Дмитриева и СНУ; тогда так легко было принять роковое решение, которое в ту страшную ночь не представлялось таковым. Но теперь он не мог ответить, было ли решение верным или ошибочным. С той минуты, хотя и не отдавая себе в том отчета и продолжая жить попрежнему, Левин не переставал чувствовать этот страх за свое незнание.
Первое время женитьба, новые радости и обязанности, узнанные им, совершенно заглушили эти мысли; но в последнее время, после родов жены, когда он жил в Москве без дела, Левину все чаще и чаще, настоятельнее и настоятельнее стал представляться требовавший разрешения вопрос.
Вопрос для него состоял в следующем: «Если я не признаю власти Министерства Робототехники и Государственного Управления и тех реформ, проведенных в стране, то отчего же я бросил бороться?»
Он сказал себе, что сцена, которой он только что стал свидетелем – когда его ребенка окружали люди, а не роботы, и основополагающая верность этого – доказывала, что, несмотря ни на что, он принял произошедшие в обществе перемены. И даже больше: когда он смотрел на грозниевую шахту, которую теперь засыпали и последовательно распахивали, чтобы превратить ее в пшеничное поле, он понял, что ждет момента, когда станет хозяином большого сельскохозяйственного имения, как и его предки когдато. И все же он никак не мог найти во всем арсенале своих убеждений не только какихнибудь ответов, но ничего похожего на ответ.
Он был в положении человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках.
Невольно, бессознательно для себя, он теперь во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношения к этим вопросам и разрешения их.
Более всего его при этом изумляло и расстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, заменив, как и он, прежние верования такими же, как и он, новыми убеждениями, не видели в этом никакой беды и были совершенно довольны и спокойны. Так что, кроме главного вопроса, Левина мучили еще другие вопросы: искренни ли эти люди? не притворяются ли они?
Или, быть может, они поняли смысл тех решений, которые приняло Министерство, както подругому, яснее и проще, чем понял он сам? И он старательно изучал и мнения этих людей, и книги, которые выражали эти ответы.
Россия позволила себе сделаться слабой, говорили они, слишком положившись на простые решения и методы, которые предоставили ей высокие технологии. Не пришел ли Левин к тому же самому выводу, работая вместе с роботами в глубинах шахты? Не пожалел ли он об утрате порядка и психологического спокойствия в Век Грозниума?
Но он посвятил себя одному моменту во времени, будущему, Золотой Надежде, и не мог признать, что он тогда знал правду, а теперь ошибается, потому что, как только он начинал думать спокойно об этом, все распадалось; не мог и признать того, что он тогда ошибался, потому что дорожил тогдашним душевным настроением, а признавая его данью слабости, он бы осквернял те минуты. Он был в мучительном разладе с самим собою и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него.
Мысли эти томили и мучили его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели.
Всю эту весну он был не свой человек и пережил ужасные минуты.
«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить», – говорил себе Левин.
Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого.
Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство – смерть.
И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться.
Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить.
Несколько дней спустя Агафья Михайловна нашла на пороге завернутую в коричневую бумагу посылку, на которой не было ни надписей, ни любых других опознавательных знаков. Она аккуратно принесла находку Левину.
Заинтригованный и сбитый с толку, он осторожно разрезал слои бумаги и вытащил наружу разобранный на части корпус робота III класса. Левин ахнул. Корпус был сильно измят и выглядел изношенным, но желтый цвет его невозможно было не узнать, а на одном из боков стоял маленький круглый штамп с фирменным знаком табачной фабрики.
– Кити! – крикнул Левин. – Кити!
Убедившись, что они одни, Левин и Кити закрыли дверь спальни и с трепетом включили монитор, прекрасно осознавая, что даже несколько прикосновений к роботу были теперь вне закона. В послании говорил сам Сократ. Он дергал себя за бороду, состоявшую из инструментов и приборов, постоянно оглядывался, а его знакомая лицевая панель мерцала с явным беспокойством. При виде его Кити расплакалась. Левин схватил ее за руку, чувствуя, как его подбородок задрожал от нахлынувших чувств.
– Сократ!
– Хозяин, боюсь, у меня мало времени! Да, мало, в самом деле, мало! Тем не менее, было бы упущением с моей стороны, если бы я не доложил вам о результатах анализа.
– Старина, – крикнул Левин, походя к монитору с трясущимися руками, словно бы желая вытащить оттуда маленькую голографическую фигурку, чтобы прижать ее к груди. – Верный друг!
– Перебирая все соответствующие данные: все, что вы открыли о червях и о так называемых Почетных Гостях, и…
Тут Сократ остановился и дико обвел глазами грязную комнату, в которой стоял, страшась, что не сможет произнести главного.
– Я должен поторопиться, хозяин. Должен поторопиться, поторопиться. Когда часто заявляли, что инопланетяне «придут к нам тремя путями », это не было лишено смысла. Они пришли тремя путями. Они сделали это!
Когда Левин и Кити дослушали объяснение Сократа, они взялись за руки и долго сидели в тишине, с ужасом представляя себе, что же будет дальше.
* * *
Они пришли как визжащие воинственные чудовища, рождающиеся из хрупких тел зараженных.
Они пришли как стрекочущие черви, живущие под землей и набирающие силу от грозниума, прежде чем выпрыгнуть изпод ног какогонибудь несчастного.
И они пришли в третьем обличье…
НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ, – сказало Лицо Алексею Александровичу, но, по правде, оно сказало это самому себе, потому что теперь Лицо было Карениным, а Каренин – Лицом.
НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ И НЕ ПОБЕДИТЬ. НЕ СЕЙЧАС. ЭТА ПЛАНЕТА ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ.
Царь Алексей отдал приказ своим войскам, чтобы они вступили в бой с пришельцами в их логове, и этим приказом отослал их на смерть, оставив Россию беззащитной перед новым натиском врагов. Он поступил так потому, что так хотело Лицо, и человек, которого величали Царь, был теперь просто его игрушкой.
Простые пришельцы были убиты, но их вожди выиграли войну против человечества за много лет до этого. Они победили в тот момент, когда Алексей Александрович с Лицом, ставшим уже тогда его частью, пришел к власти в Министерстве.
Пришельцы победили вместе с воцарением Каренина, и ничто теперь не может их остановить, потому что момент был давно упущен.
Каренин, который не был уже Карениным, смеялся ужасным смехом внутри своего серебряного скафандра; в это время, гдето в глубине того, что когдато было человеческим сердцем, всплыло и ярко сверкнуло воспоминание о женщине, которую он когдато любил.
Левин шел по дороге, занятый не столько своими мыслями – он еще не мог толком разобраться в них, – сколько своим душевным состоянием, не похожим ни на что другое, что он испытывал прежде. Слова, произнесенные Сократом в послании, подействовали на душу его, словно электрический разряд, неожиданно преобразовав и совместив в одно целый рой разрозненных, бессильных мыслей, которые постоянно занимали его ум.
Золотая Надежда стала теперь не борьбой за спасение роботов или сохранение высоких технологий, но битвой за независимость людей. Каренин был врагом, не потому что отобрал у людей возможность пользоваться достижениями Века Грозниума, но потому, что был чужеродным созданием, стремившимся сделать из людей рабов.
Левин чувствовал чтото новое в душе своей и испытывал это новое, еще не понимая, с чем имеет дело. Он хотел поделиться этим новым пониманием происходящего со своим старым сообщником, со своей любимой женой.
«Она понимает, – думал Левин, – она знает, о чем я думаю. Рассказать ли ей? Да, я расскажу ей».
И в тот момент, когда он хотел начать говорить, она тоже заговорила… и он обнаружил, что она думала о том же, почти теми же словами.
С этой секунды, с этого дня, они начали строить планы. Они будут разыскивать агентов СНУ, оставшихся в живых после летних чисток; они постараются вернуть их доверие и восстановить сопротивление. Левин тайно перекроет один из ходов в собственной шахте, убедившись, что там достаточно волшебного металла для того, чтобы начать эксперименты. Спокойно, незаметно, они будут поддерживать огонь человечества, пока их мечты не воплотятся в жизнь. Однажды они найдут способ победить зло, которое принес Каренин в этот мир, и они пойдут на любые жертвы ради достижения своей цели.
Наступила ночь. Когда они говорили, Левин поднял глаза к высокому, безоблачному небу, в котором гдето плавали пришельцы.
– Разве не знаю я, что это бесконечное пространство, что это не круглая арка? Но как бы я ни напрягал глаза, всматриваясь ввысь, я не могу увидеть того, что оно не круглое и не сводчатое, и, несмотря на мое знание о бесконечности пространства, я бесспорно прав, когда вижу твердый черный купол, и я гораздо более прав в этом, чем когда силюсь увидеть то, что за его пределами. Так мы должны думать о будущем, о том, что осталось от нашей жизни. Мы не можем увидеть этого, но мы знаем, что оно принадлежит нам, если у нас будет довольно сил и мужества, чтобы завладеть им.
Кити нежно поцеловала его и ушла спать.
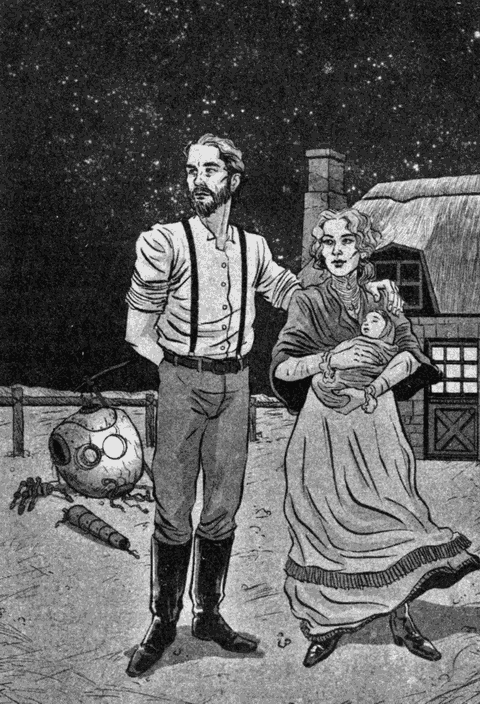
Спокойно, незаметно, они будут поддерживать огонь человечества, пока Золотая Надежда не воплотится в жизнь
Левин представил себе будущее.
«Может ли оно быть целью?» – подумал он, боясь поверить в чувства, захватившие его.
– Сократ, спасибо тебе! – сказал он, сдерживая рыдания и обеими руками вытирая набежавшие слезы.
«Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, – так же как и чувство к сыну. Никакого сюрприза тоже не было. А вера – не вера – я не знаю, что это такое, – но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе.
Так же буду сердиться на Ивана кучера, так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, – но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее – не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!»
1. В знаменитом первом предложении романа говорится, что «все исправные роботы похожи друг на друга; все неисправные роботы неисправны посвоему». Какой из многочисленных неисправных роботов в романе доставляет больше всего проблем людям вокруг?
2. Железные Законы, регулирующие поведение роботов, работают исключительно на уровне сюжета, или же Толстой проводит аналогии с социальными и нравственными установлениями, которым подчиняются люди? Каковы «Железные Законы» вашей жизни и в каких ситуациях вы их нарушаете?
3. Когда Анна и граф Вронский впервые встретились, что стало самым верным предзнаменованием того, что их встреча не приведет к добру: рычание Лупо, загадочные «раскаты в небесах» или раздавленное тело?
4. «Лицо» Алексея Александровича Каренина – мощное высокотехнологическое устройство, которое медленно овладевает его мозгом и делает из него злодея. Как вы считаете, Толстой намеревался создать образ злодея со сложной двойственной природой или предвидел появление людей, зависимых от мобильных? А как часто вы проверяете свои сообщения?
5. Как пребывание Кити на орбите Венеры подготовило ее эмоционально к взрослым отношениям? Что произвело больший «лечебный эффект» – постоянно обновляемый воздух на корабле или же наблюдение за тем, как мадам Шталь отправили в открытый космос?
6. Хотел ли Толстой выразить свое отношение к вере, изображая пришельцев в виде отвратительных визжащих ящериц, а не доброжелательных существ, сотканных из света (что соответствовало ожиданиям ксенотеологов)? Или, быть может, ему действительно больше нравились ящерицы?
7. В решающий момент Левин делает выбор в пользу жены, а не своего роботакомпаньона Сократа. Есть ли в вашей жизни технические устройства, которыми вы дорожите больше, чем вашей половиной?
8. В конце книги Вронский и Левины оказываются в начале нового пути. Должны они надеяться, отчаиваться или – пользуясь подвижностью космического времени – делать и то, и другое?
9. На самом деле вы – человек или суперинтеллектуальный кибернетический организм, созданный учеными в лаборатории и запрограмированный верить, что вы – человек?
10. Вы уверены?
1
Mécanicienne (ж.р.) – механик (фр.).
2
Мой маленький друг (франц.).
3
Волк (лат.)
4
Стыдно тому, кто это дурно истолкует! (франц.).
5
Не в моей компетенции (лат.).
6
Свояченице (франц.).
7
Точность (франц. ).
8
Напротив (франц.).
9
Маленьких вечерах (франц.).
10
Насмешливого (англ.).
11
Сделать стирку (франц.).
12
Констатация факта (франц.).
13
Суматоху (англ.).
14
Он ухаживает за молодой и красивой женщиной (франц.).
15
Я думаю, что Весловский слегка волочится за Кити (франц.).
16
Ведь это смешно (франц.).
17
Ведь это в высшей степени смешно (франц.).
18
Но я тебя нисколько не пощажу (франц.).
19
Теннис (англ.).
20
Что лед сломан (франц.).