Книга: Океан
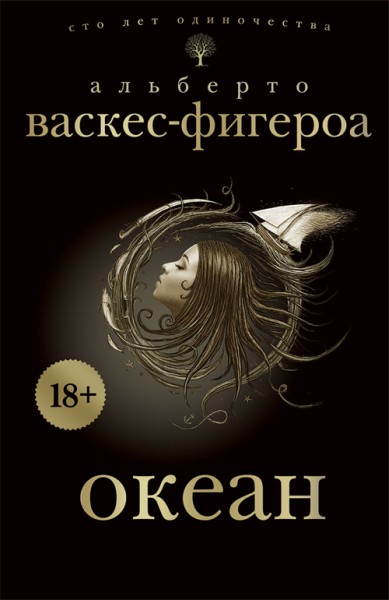
Океан
Рассказывали, что единственной женщиной, родившейся на острове Исла-де-Лобос, или Волчьем острове, была Маргарита, дочь смотрителя маяка. Но вскоре после ее появления на свет маяк автоматизировали, и уже больше никто постоянно не жил на этом скалистом клочке суши, горы которого высились, словно часовые, между островами Фуэртевентура и Лансароте, что в архипелаге Канарских островов, напротив пустынного африканского побережья.
Также люди говорили, что Маргариту крестили в Карралехо на борту одного из баркасов, также носившего имя «Исла-де-Лобос». Лодку эту совсем недавно построил старый Езекиель Пердомо, известный островитянам под прозвищем Марадентро[1]. Именно он стал крестным отцом маленькой Маргариты, дочери смотрителя маяка, огни которого столь часто помогали ему темной ночью добраться до дому, что уже было и не сосчитать.
Семья Пердомо, или Марадентро, жила в маленьком порту Лансаротеньо, что на берегу Плайа-Бланка, казалось, с первых дней сотворения мира. Поговаривали, что в том порту, раскинувшемся как раз напротив большого маяка острова Исла-де-Лобос, живут лучшие и самые отчаянные рыбаки, каких только можно сыскать на свете.
Люди говорили, что беда не приходит одна, а потом рассказывали, что трагедия в семье Марадентро случилась аккурат в ту же самую неделю, когда недалеко от берега Плайа-Бланка погибла женщина. Та самая женщина, которую много лет назад Марадентро везли крестить на своем галете[2].
И действительно, моя мать, Маргарита Риал, умерла очень молодой, еще в сорок девятом году, прямо на праздник святого Педро, спустя четыре дня после того, как в свете прожекторов маяка Сан-Хуан трое молодых хлыщей-сеньоритос, прибывших из города, впервые увидели Айзу Пердомо, самую младшую в семье Марадентро.
А пришли они поглазеть на нее в Плайа-Бланка потому, что слава о красоте Айзы, дочери Абелая, внучки Езекиеля и сестры Асдрубаля и Себастьяна Пердомо, докатилась не только до «столицы» острова, но даже уже и до соседних островов. Принадлежала она к семье рыбаков, чьи изборожденные тысячами морщин лица еще до рождения девочки огрубели от соленых ветров, а кожа почернела под палящими лучами солнца. И как же не похожа была на них Айза с ее огромными зелеными с чуть заметными золотыми крапинками глазами, тонкими чертами лица и хрупкой, но уже вполне созревшей и оформившейся фигурой девочки-женщины. Но она могла похвастаться не только своими изяществом и утонченной, нездешней красотой. Поговаривали, будто Айза Марадентро обладает удивительным даром привлекать рыб, успокаивать животных и говорить с умершими.
Однако до способностей Айзы чужакам, приехавшим на праздник святого Хуана[3], не было ровным счетом никакого дела. Они были ослеплены блеском ее глаз и сиянием улыбки, очарованы плавными, преисполненными грации движениями. Они глаз не могли отвести от ее высокой, налитой груди, которая вздымалась и опускалась в такт дыханию. Во всем, что Айза делала, что и как говорила, виделась им затаенная чувственность.
Разгоряченные, как водится, алкоголем, чужаки вскоре начали выражать недовольство, так как красавица еще ни разу не приняла их предложения потанцевать. Да что там танцевать, она даже словом с ними не перекинулась, даже взглядом не одарила!
Беда случилась сразу же по окончании празднества, когда землю окутала кромешная ночная тьма. Доведенные до бешенства холодностью красавицы чужаки подстерегли ее на обочине дороги, что вела к дому Марадентро, и попытались силой заполучить то, чего не удалось добиться уговорами и похвалами. Однако в краях этих они раньше не бывали, потому и знать не могли, что младший брат Айзы всегда провожал ее до самого дома и неизменно ждал, пока она не войдет во двор и калитка за ней не закроется.
Асдрубаль — а именно так звали младшего из братьев, — увидев чужаков, закричал так громко и пронзительно, что даже припозднившиеся гуляки, все еще распевавшие песни у догорающих костров, его услышали. Он же решительно бросился на нападавших и в горячке драки пронзил одного из чужаков ножом, от чего тот умер прямо на месте.
Асдрубалю на тот момент только что исполнилось двадцать два года.
Погибший был еще моложе.
А надо сказать, что несчастный был единственным сыном дона Матиаса Кинтеро, хозяина виноградников из Мосаги и самого влиятельного землевладельца острова. Если же прибавить сюда еще и политическую карьеру Матиаса, и многочисленные награды, полученные им на полях сражений в Толедо, Мадриде и Сарагосе, то становится понятно, что человеком он был для тех мест необыкновенным и наделенным неограниченной властью.
— Прячься! — первое, что сказала Аурелия Пердомо своему сыну, когда в ту же самую ночь установили личность погибшего. — Прячься и не возвращайся, пока не пройдет время и не утихнет боль утраты, так как Матиас вполне способен убить тебя в припадке гнева. А ведь он из тех людей, у кого никто не станет требовать объяснений.
— Но ведь я защищал себя и сестру, мама! — попытался было возразить Асдрубаль. — Ведь он чуть не изнасиловал Айзу! Почему я должен прятаться, словно подлый убийца?
— Время лечит и восстанавливает справедливость. Однако мертвому оно помочь не может, — последовал ответ. — Беги, прячься и не спорь.
Асдрубаль попытался было ответить, но тут в спор вмешался отец, наделенный в доме безграничной властью.
— Делай, что тебе говорит мать, сын… — медленно проговорил он. — Пусть твой брат отвезет тебя на Исла-де-Лобос. Там-то ты и спрячешься. — Он положил на плечо сына огромную и тяжелую, словно набалдашник молота, руку. — Думаю, долго тебе на маяке сидеть не придется. Цивильная гвардия[4] быстро во всем разберется. Они поймут, что у тебя не было выхода.
— В наши времена Цивильная гвардия этим заниматься не станет, — возразила Аурелия. — Это дело Матиаса Кинтеро, а я сомневаюсь, что он захочет прислушаться к доводам разума.
Уроженка Тенерифе, Аурелия Пердомо приехала на остров Лансароте двадцать шесть лет тому назад, сразу после окончания педагогического училища. Она планировала остаться здесь года на четыре, чтобы подзаработать кое-каких деньжат и по возвращении поступить на факультет правоведения. Аурелия мечтала продолжить семейную традицию и стать адвокатом, так же как и ее ныне покойный отец.
Поначалу Лансароте ей совсем не понравился, и она даже мысли не допускала о том, что может остаться здесь навсегда. Однако было в этом месте что-то притягательное и таинственное, и очень скоро Аурелия поняла, что магия острова постепенно порабощает ее душу. Когда же однажды утром она увидела, как огромный, ростом почти в два метра, мужчина, который, казалось, поднялся прямо из морской пучины, принялся вытаскивать на берег свой баркас, ее планы в корне изменились.
Аурелия Асканио с первого взгляда влюбилась в Абелая Пердомо Марадентро, в этого высокого, сильного, замкнутого и серьезного человека. С тех пор сколько бы ни умоляла ее вернуться донья Кочи — самая родовитая старуха на Тенерифе, — сколько бы ни уговаривали ее подруги, какие бы советы ни давали родственники, все было впустую.
Она навсегда забыла об ученых книгах и вложила свою судьбу прямо в огромные мозолистые руки рыбака, руки, которые, стоило им только нерешительно и нежно прикоснуться к ней, заставляли ее буквально с ума сходить от желания.
Сколько уже лет прошло, но стоило мужу обнять Аурелию, как по телу ее пробегала дрожь наслаждения. Его большое, словно вырезанное из камней острова тело по-прежнему вызывало в ней восторг. И она ничуть не жалела, что променяла адвокатскую практику на жизнь жены простого рыбака, неделями пропадающего в море.
Во время своего вынужденного одиночества Аурелия Асканио воспитывала детей и учила взрослых и малышей острова чтению и письму. В свободное же время она часами бродила по острову, на котором родился ее муж, и с каждым разом он казался ей все более таинственным и прекрасным, пока она не решила, что остров этот — самый прекрасный из тех, что Создатель разбросал по морям и океанам.
Со временем она хорошо научилась понимать живших на острове людей и прекрасно знала, что с доном Матиасом Кинтеро шутки плохи. Для этого человека имела значение лишь смерть сына, а не обстоятельства, при которых она произошла. И если парень решил изнасиловать дочь какого-то грязного рыбака, так что ж с того!
— Этот человек может принести нам много бед, — рассудила она. — Много бед… Он и раньше-то, еще при жизни сына, был не подарок.
Асдрубаль Марадентро нехотя согласился с матерью, сложил в мешок все самое необходимое, попрощался с Айзой, которая за все это время не произнесла ни слова, и последовал за своим братом Себастьяном к пляжу, уже окутанному ночной тьмой. Там они спустили баркас на воду и медленно принялись грести к маяку, остерегаясь до времени ставить парус, который, хлопнув на ветру, мог бы разбудить любопытных соседей.
Более получаса они гребли в молчании, каждый отдавшись своим невеселым мыслям. Сейчас братья отчаянно тосковали по тем золотым временам, когда их единственной заботой было узнать, не штормит ли море, да наловить побольше рыбы… Ну может, еще думали они время от времени о старом баркасе, который построил еще их дед и который, несмотря на годы, оставался самым надежным судном на всем острове.
— Я иначе поступить не мог.
— А я тебя ни о чем и не спрашивал.
Асдрубаль всегда не только любил, но еще и безгранично уважал старшего брата, своего учителя и помощника.
— Я бы поступил так же, ты же знаешь. И сейчас это не только твоя беда, это беда всей нашей семьи.
— Но ты не должен страдать из-за того, что сделал я. Это несправедливо…
Однако Асдрубаль и сам не верил в то, что говорил. Марадентро всегда и всё делили друг с другом с того самого момента, как их род появился на этом свете. Если кому-то удавалось наловить много рыбы, улов разделяли на всех; если выдавались голодные времена, то все безропотно затягивали пояса. Их верность друг другу была вечна и незыблема, как скалы острова, на котором они построили свой дом.
Сына Кинтеро на самом деле убил не Асдрубаль, его убили все Марадентро.
Бабушка Энкарна всегда говорила: «Семья — только там, где все принадлежит всем, остальные люди — сбоку припеку».
Вот только семье Пердомо приходилось чаще делить друг с другом несчастья и горести, чем радость и удачу. Жили они в трудные послевоенные годы; земля, на которой стоял их дом, была бесплодна. Иногда они месяцами ждали дождя и никак не могли дождаться. Однако беды лишь сильнее сплачивали Пердомо, да и после пережитых горестей любая удача казалась им особенно значительной.
Теперь для семьи снова наступало трудное время. Северный бриз легко нес баркас к подветренному мысу, и братья, завороженные мягким светом маяка, вспоминали, сколько раз они причаливали в этой тихой, закрытой от всех ветров бухте, которую отыскал еще их дед Езекиель. Старик никому не рассказывал об этом месте, хранил тайну для своих наследников. Здесь можно было переждать любую бурю, даже самую сильную, когда волны на западе поднимались чуть ли не до небес или с африканского побережья налетал коварный сирокко.
То были счастливые времена. Они, еще будучи мальчишками, пробирались на остров и, шутя, направляли луч прожектора маяка в сторону острова так, чтобы он аккуратно попадал в пятно света, падающего из окна четвертого дома Карралехо.
— Здесь! Здесь! Бросай якорь! — приказывал Абелай, и мальчишек буквально распирало от гордости — и снова они все сделали так, как надо, и уже через пять минут на глубине в тридцать саженей голодный морской лещ или меро[5] начинали бросаться на наживку.
Старый Езекиель Пердомо оставил своей семье богатое наследство — неистощимую «кладовую» рода Марадентро, куда всегда можно было прийти в тяжелые времена, «кладовую», созданную самой природой. Хранящееся в ней добро следовало беречь так же рьяно, как золотые монеты в кошеле, и никогда не брать оттуда сверх меры. И конечно же никому, кроме членов семьи, не стоило открывать этой тайны.
— Ни единого слова. Ловите, но не поднимайте шума, — всегда предупреждал Абелай сыновей, — ибо все окрестные рыбаки душу бы продали за то, чтобы только найти это место. Помните, наступит день — и ваши дети и внуки придут сюда, чтобы утолить голод, и вытащат из воды детей и внуков тех рыб, что вы ловите сейчас.
Так, предаваясь воспоминаниям, Себастьян и Асдрубаль вскоре подошли к скалистой бухточке, где некогда пережили столько прекрасных приключений, возможных лишь в детстве. Сейчас и Себастьян, и Асдрубаль Пердомо отчетливо понимали, что те спокойные ночи, когда они бесшумно закидывали снасти, боясь кашлянуть или закурить сигарету, остались далеко позади и жизнь никогда не будет прежней. А ведь то было поистине счастливое время. По сути, они были еще детьми, но чувствовали себя настоящими мужчинами: старшие раскрыли им секрет, рассказали о том, как семье Пердомо удавалось выживать даже в самые тяжелые годы.
— Грядут страшные времена…
Асдрубаль сказал это не думая, точно так же, как это обычно делала Айза — предсказания всегда срывались с ее губ раньше, чем появлялись в мыслях, и она первая потом удивлялась, когда ее слова сбывались. Если она говорила, что один из рыбаков скоро утонет, что на следующий день к берегу подойдут тунцы или что у жены Бенжимина родятся близнецы и один из них вскоре умрет, то, значит, так оно потом и случалось.
— Все это лишь твое воображение, — попытался успокоить его брат. — Да, грядут плохие дни, но потом-то все обязательно наладится… Люди знают, что иначе ты поступить не мог.
— И где же эти люди? Разбежались, как только мерзавец отдал концы!
— Полиция их разыщет. Они, должно быть, из Мосаги… Или из Арресифе… Мы все их видели. Они, скорее всего, дружки…
— Да, дружки! Все они одинаковы и добивались одного и того же! Я даже не знаю, чей был нож, то ли убитого, то ли одного из них. Было так темно!
— Нож был убитого, — уверенно заявил Себастьян. — Ты сам так сказал, помнишь? «Я схватил его за запястье, вывернул руку и проткнул его собственным ножом…» То были твои слова.
Асдрубаль задумался, глядя в сторону маяка Исла-де-Лобос, лучи которого блеснули последний раз и исчезли за западным мысом. Он пытался вспомнить в подробностях то, что случилось каких-то четыре часа тому назад.
— Он был такой хлипкий, — пробормотал он. — Худой и слабый, а запястье его было едва ли толще нашего якорного каната… Я чуть было не сломал его. — Он потряс головой, отгоняя охватившие его мысли. — Зачем он вытащил нож? — произнес он жалостливо. — Если бы не нож, все было бы по-другому.
Себастьяну Пердомо не нужно было смотреть на своего брата, чтобы увериться в правдивости его слов. Тот городской мальчишка привык к книгам и безделью и знать ничего не знал о тяжелом, изматывающем каждодневном труде. Его хрупкие кости раскрошились бы под руками Асдрубаля Марадентро словно мел. И ничего, что Асдрубаль был в их роду самым низкорослым. Когда дело доходило до того, чтобы вытащить баркас на берег или одним махом поднять ящик, до краев наполненный рыбой, он единственный мог посоревноваться в этом с гигантом Абелаем.
Себастьян и Айза, без сомнения, пошли в мать, изящную уроженку острова Тенерифе. Асдрубаль же был Пердомо до мозга костей, от своих предков он унаследовал оливкового цвета кожу, непослушные волосы, бычий торс и стальные мускулы.
Все считали Асдрубаля человеком страшным и полагали, что в потасовках ему нет равных. Достаточно лишь вспомнить, как он оторвал от земли и подбросил в воздух того здоровяка из Тегисы, а ведь в нем было не меньше ста двадцати килограммов. А такому доходяге, каким был погибший, он и вовсе мог с одного маха переломить хребет.
— Зачем он вытащил нож? — повторил Асдрубаль и с тоской посмотрел на брата.
— Потому что был слабаком и струсил…
— Я не хотел ему зла, — сказал Асдрубаль. — Я только хотел, чтобы они ушли… Чтобы оставили в покое Айзу.
— Он решился на низкое дело, а значит, был отчаянным трусом.
— Айза так испугалась… Точно так же, как и в ту ночь, когда увидела во сне, как тонет «Тимафайа».
— Он заслужил смерть. Они все ее заслужили. Всех троих следовало бы прирезать, как свиней, лишь за одни непристойные мысли о нашей сестре.
— Не говори так! — оборвал брата Асдрубаль. — Такая страшная смерть… Он лежал на земле и даже пошевелиться не мог, и только открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба… Он смотрел прямо на меня, а тело его в это время била страшная дрожь. Он дрожал, ибо знал, что уже мертв. И он все дрожал и дрожал, отчего еще сильнее походил на рыбу, бьющуюся на дне лодки в отчаянной попытке спрыгнуть в воду… На какой-то миг мне показалось, что вот сейчас у него появится рыбий хвост… Он ударит им раз, другой — и все-таки спрыгнет за борт, вернется к жизни. Как бы я хотел, чтобы жизнь все-таки вернулась к нему!
— Дело сделано! Забудь об этом!
— Ты ведь знаешь, что я никогда не смогу этого забыть… То, что произошло этой ночью, навсегда останется с нами, брат, образ покойника будет преследовать нас до самой смерти. Уж в этом-то ты можешь быть уверен.
Себастьян Пердомо не стал отвечать, сосредоточив все свое внимание на зарифлении паруса. Сейчас, чтобы благополучно подогнать баркас к небольшому молу, служащему волнорезом и причалом одновременно, ему приходилось маневрировать в полной темноте.
Асдрубаль схватил носовой конец и спрыгнул на берег с ловкостью, свойственной человеку, проведшему всю свою жизнь в отчаянных схватках с морем. Босыми ногами он уперся в мокрый, скользкий камень скалы, словно на пальцах его вместо ногтей росли изогнутые острые когти. Затем он одною рукою перехватил переданный братом тяжелый мешок, швырнул его на землю и, слегка подавшись вперед, умоляюще произнес:
— Позаботься об Айзе! Ты ведь знаешь, какого она натерпелась страху.
Себастьян молча кивнул. А потом он недвижно стоял на носу баркаса и смотрел, как его брат медленно исчезает в темноте, направляясь в сторону маяка.
Дон Матиас Кинтеро всем сердцем любил невысокую, слабую здоровьем женщину, у которой едва нашлось сил произвести на свет немощного, ей под стать, малыша. Роды окончательно истощили ее, и она оставила этот мир. Душа ее, должно быть, походила на птицу: долго, очень долго она пыталась вырваться из гнезда и подняться в небо, и наконец-то ей это удалось.
Капитан Кинтеро нашел утешение в тщедушном заморыше, которого оставила ему на память жена. Сын был его единственной радостью, и он тратил все силы на то, чтобы поднять его на ноги. В остальном жизнь его текла размеренно и однообразно. Он в одиночку накачивался лучшим вином со своих виноградников, играл в домино и позволял один раз в неделю своей худющей ключнице Рохелии, которую все звали Ель-Гирре, делать себе минет, благодаря чему снимал сексуальное напряжение до следующей субботы.
Оставалось лишь удивляться переменам, произошедшим в жизни этого тщеславного и могущественного человека, привыкшего красоваться в увешанной наградами военной форме. В свое время дон Матиас Кинтеро, благодаря своему другу, могущественному генералу Окампо, многого достиг и был в Мадриде не последним человеком. Однако и сын, и виноградники требовали все больше и больше его внимания. Потом умер Окампо, Германия проиграла войну, и дон Кинтеро понял, что время его подошло к концу. Он понял, что состариться ему суждено в деревне, наблюдая, как год за годом разрастаются его и без того немалые владения. Понял и смирился. К тому же на Лансароте он по-прежнему оставался всемогущим доном Матиасом, люди уважали и боялись его независимо от того, завладеет ли Окампо министерским креслом или умрет.
И там был его сын, слабый мальчик, который не перенес бы тяжелого мадридского климата.
Сын… который теперь мертв.
Ему сообщили о произошедшем, когда он находился в казино. В тот миг его голова была затуманена вином и сигарным дымом, а партия в «чамела»[6] была в самом разгаре. Вначале ему показалось, что все происходящее — сон, что кто-то рассказывает содержание фильма, увиденного в поселке, или пересказывает бредни местного безумца.
«Его не могут убить. Это — все, что у меня есть», — говорят, что услышав новость, он произнес именно эти слова.
И вот теперь сама его жизнь лежала перед ним, превращенная в окровавленное месиво, со свернутым на сторону от сильнейшего удара носом, со сломанной, словно карандаш, рукой, с рассеченным надвое сердцем…
— Кто это был?
— Какой-то пьяный рыбак.
— Ему не хватит и тысячи жизней, чтобы расплатиться.
Мертвецы всегда на самом деле всегда невиновны. Оправданием любому их прижизненному поступку служит смерть. И очень трудно согласиться с виной сына в собственной смерти, когда он перед тобой на обеденном столе, когда лицо его побелело, взгляд остановился, а тело застыло навеки.
Возможно, ни у кого не нашлось смелости рассказать дону Матиасу о том, что именно произошло, а может, он и слушать ничего не захотел.
— Пусть его приведут.
— Он в бегах.
— Пусть разыщут, достанут хоть из-под земли. Богом клянусь, мне не будет покоя, пока он не последует за моим сыном! Кто он?
— Асдрубаль Пердомо. Из семейства Марадентро, что живет на Плайа-Бланка… Люди крутые.
— Самыми крутыми на этой земле были красные… В войну. Теперь они все до одного мертвы.
— Но сейчас нет войны, дон Матиас.
— Знаю. Сейчас все намного хуже. В войну у меня не убили ни одного сына.
Все попытки вразумить его оказались напрасными. Дон Матиас отгородился от мира и закрылся в своем огромном старом доме с толстенными стенами. Каждый вечер он садился на крыльцо под перголой, где некогда любил работать с документами и разбираться с делами раскинувшегося у подножия Огненных гор виноградника, поджидая возвращения сына. Теперь он тоже ждал. Ждал, когда на его пороге появится человек, который приведет к нему убийцу сына.
Такую душевную боль он испытывал лишь раз в жизни, когда хоронил мать этого несчастного создания. Проходили дни, но ни время, ни тишина, ни уединение не помогали ему забыть то, что случилось, напротив, боль, грызущая, словно дикий зверь, его нутро, медленно превращалась в глухую, отчаянную злобу, в безумную жажду мести. И очень скоро он уверился в том, что, уничтожив Асдрубаля Пердомо, он сможет вернуть к жизни сына.
Только Рохелия Ель-Гирре, худая, как жердь, всегда молчаливая, в неизменном траурном платье, время от времени отваживалась подойти к дону Матиасу и принести ему поднос с едой. К еде, правда, он не прикасался. Тело его таяло так же, как таяла душа, и буквально за четыре дня он изменился до неузнаваемости.
Спустя две недели к нему наведался его верный партнер по «казино», лейтенант Альмендрос. Однако тот не принес никаких утешительных вестей.
— Парень все еще где-то прячется, хотя мы буквально по камешку перебрали остров. Родные его молчат, но мне все же удалось кое-что выведать. В ту ночь произошла ссора, и, похоже, нож принадлежал вашему сыну.
— У моего сына никогда не было ножа… Кто это говорит?
— Некий торговец скобяными изделиями из Арресифе. Он сам продал нож вашему сыну.
— Ему заплатили, чтобы говорил неправду. Но скоро его замучает совесть и он возьмет свои слова обратно.
Лейтенант, служивший в Цивильной гвардии, пристально посмотрел на своего друга, который за пятнадцать дней, казалось, превратился в столетнего старика. Они вместе выиграли четыре турнира и разделили не одну сотню обедов, и лейтенант научился ценить дона Матиаса, несмотря на его постоянно дурное настроение и гневное ворчание, когда кто-то ошибочно ставил не ту фишку. Сперва он ему сочувствовал из-за случившегося, но вскоре у него сложилось свое собственное мнение касательного того, что же все-таки произошло на Плайа-Бланка.
— Ваш сын вел себя неблагоразумно в ту ночь, — начал он нерешительно. — Он и его дружки приставали к девушке.
— Неправда! Я прекрасно его воспитал. Эта свинья — девка крайне распущенная, я наслышан о ней. Она сама заигрывала с ними до тех пор, пока не появился ее пьяный брат и, не сказав ни слова, ударил ножом моего сына…
— Все было совсем не так, дон Матиас…
— Я знаю, как оно было! — зло оборвал его капитан. — На Плайа-Бланка Марадентро считают себя королями. Этакие князьки! Они всегда делали то, что им вздумается, однако сейчас они столкнулись со мной — с капитаном Матиасом Кинтеро.
— Мне бы не хотелось, чтобы вы встали на зыбкий путь мести.
— А за что же еще мстить, как не за смерть сына? Моего единственного сына! Единственного родного мне человека! — Он широким жестом повел вокруг, указывая на плантации, раскинувшиеся перед ним, где каждая лоза была любовно обложена каменными стенками, защищающими ее от ветра. — Этому я посвятил все мои силы. Добился того, что на злой, вечно сухой земле стали вызревать прекрасные урожаи. Я стал делать вино «Кинтеро», каковому на всем архипелаге нет равных. Мальчик бы продолжил мое дело… Я бы отправил его учиться во Францию, а по возвращении купил бы часть «Херии», чтобы он исследовал там новые подвои… Он был очень умным и способным… — Он помотал головой, словно пытаясь отогнать от себя страшные мысли. — Кому, скажите, кому я теперь все это оставлю? Этой уродине Ель-Гирре и этому законченному козлу, ее мужу?!
Вразумить дона Матиаса, ослепленного злостью, было попросту невозможно, и лейтенанту Альмендросу не оставалось ничего другого, как признать свое поражение. Тем более что ему оставалось всего восемь дней до отпуска, и он никак не мог дождаться того момента, когда сможет посадить на корабль семью и спокойно отдохнуть летом, думать не думая об этом запутанном деле, от которого за версту разило неприятностями.
Лейтенант Альмендрос не стал рассказывать другу о скором отъезде и о том, что дело его сына он передал своим подчиненным. Напротив, он попытался было сменить тему, но было очевидно, что ничто не сможет отвлечь дона Матиаса от несчастья, вокруг которого постепенно начинала вращаться вся его жизнь.
— Где он может скрываться? — неожиданно прервал он монолог Альмендроса. — Ведь остров не такой уж и большой.
— Может быть, он уехал? Скорее всего, он сбежал на Тенерифе, к родственникам матери, а может, подрядился на одно из рыбацких суден, которые спускаются до Ла-Гуэры и Мавритании.
— Я его заставлю вернуться.
— Как?
— У меня есть одна идея…
— Не наживайте себе проблем, дон Матиас. Я вас понимаю и очень вам сочувствую, однако, когда речь заходит о законе, вы должны держать себя в руках. — Лейтенант Альмендрос сделал паузу, закурил сигарету и посмотрел на пальцы, покрытые несмываемым налетом никотина. — Я говорил с его родителями, и они мне пообещали, что он сам сдастся, как только вы успокоитесь и решите все же ознакомиться со свидетельскими показаниями.
— Какие это еще свидетели?
— Ребята, которые были в ту ночь с вашим сыном. — Лейтенант глубоко вздохнул. — Если они скажут правду, Асдрубаль покорно примет наказание, к которому его приговорят.
— Но зачем мне что-то читать? Ведь я и без того знаю правду: он предательски убил моего сына, да еще и ночью… Наверное, хотел его ограбить. — Дон Матиас произносил слова медленно, тщательно проговаривая каждую букву, словно пытался таким образом придать им еще больше значимости. — Или, может быть, он убил его потому, что это был мой сын… Эти свиньи никак не могут смириться с тем, что мы их победили, и теперь нападают из-за угла, мстят…
— Ох, полноте, дон Матиас! Не осложняйте дела. Война закончилась десять лет назад!
— Вы же видите, что они ничего не забыли… И я тоже!
Если бы лейтенант Альмендрос попытался убедить в своей правоте мула, он бы добился большего успеха, чем в случае с доном Матиасом Кинтеро. В воображении несчастного отца покойный навсегда должен был остаться милым юношей, из которого мог бы вырасти успешный и учтивый мужчина. В мыслях дона Матиаса не было места насильнику, первому выхватившему в драке нож.
Вечерело. Солнцу понадобилось лишь несколько минут, чтобы скрыться за вулканом острова Тимафайа, и редкие белые облака, постепенно приобретая красную окраску, устремились к югу, подталкиваемые бризом, дующим со стороны Фамара. Это был самый прекрасный час на острове, когда вулканы из черных постепенно становились желтыми, потом темно-красными и в конце коричневыми. Это был самый прекрасный час в доме капитана, когда дон Матиас усаживался на крыльце и рассказывал сыну о матери, о войне, о будущем, которого, как оказалось, для него не существовало.
— Наверное, было бы недурно, если бы ты привел в дом женщину, — обычно говорил дон Кинтеро. — Хорошую девушку, которая нарожала бы мне внуков. С ними в наш дом пришла бы радость, а то живем, словно в склепе. Рохелия с каждым годом худеет все больше и больше, словно высыхает на солнце. Кожа ее — дряблая, а когти на руках — как у хищной птицы, вот-вот вцепится в добычу. Она даже цыплят ворует. Ну а яйца мои только потому оставляет целыми, что я их после ее ласк каждый раз пересчитываю…
По правде говоря, дон Матиас Кинтеро прекрасно знал, что вот уже два года, как его сын связался с компанией неразборчивых молодчиков, каждый из которых уже давно потерял невинность во рту Рохелии.
Сын его к тому времени был уже мужчиной, и они могли говорить о таких делах, как мужчины. Однако при взгляде на сына, худого и слабого, дона Матиаса часто одолевали сомнения — сможет ли он продолжить род Кинтеро?
Без сомнения, величественный дом Кинтеро знавал лучшие времена. Дом этот был выстроен на самой вершине мрачной горы, и со временем жителям острова стало казаться, будто он, вырастая прямо из камня, превратился в настоящее сердце острова. Толстые стены дома наводили на мысли о средневековых замках. В его комнатах всегда царила благословенная прохлада, даже если казалось, что на улице от жары вот-вот загорятся виноградники.
Иногда, блуждая по дому, Кинтеро слышался смех многочисленных родственников и друзей. Иногда он видел детей, голоса которых некогда звенели в этих мрачных стенах. Они как угорелые носились из комнаты в комнату, выскакивали во двор, бежали в сад, в тень старых смоковниц…
Где же они все теперь? Как же так случилось, что все эти люди исчезли, ушли один за другим, ничего после себя не оставив? Каждый раз ему приходилось напрягать память, чтобы восстановить историю то одного, то другого гостя дома. И каждый раз он приходил к одному и тому же неутешительному выводу: всему виной был смертоносный ветер времени, чьи порывы унесли в страну забвения и эти радостные голоса, и этот веселый смех.
Его предки всю свою жизнь боролись и побеждали, бессильны они были лишь перед временем, бесконечно сильным и бесконечно жестоким. Теперь могилы его братьев были разбросаны по всему свету, словно беспощадная рука судьбы выхватывала их из жизни и, как следует размахнувшись, отбрасывала подальше. В памяти до сих пор всплывал образ жены, чистой и хрупкой, словно созданной из хрусталя. Он до сих пор не понимал, как она не рассыпалась на тысячу осколков, когда он впервые проник в нее в их первую брачную ночь… Ночь, после которой стены их старого дома постепенно стали пропитываться запахом смерти, по мере того как из дверей выносили усопших.
Скоро в многочисленных комнатах дома не осталось ни одной кровати, на которой кто-нибудь да не умер… И только его сын, последняя его надежда на то, что род Кинтеро не прервется, предпочел умереть далеко от дома, среди камней какой-то забытой богом и людьми тропы.
Почему так вышло?
Временами он задавался вопросом: возможно ли, что тот грязный рыбак уже давно возненавидел его сына и лишь ждал подходящего момента, чтобы хладнокровно вонзить нож ему в сердце? Как бы там ни было, последние надежды дона Кинтеро из Мосаги растворились во рту ненасытной Рохелии — так вулканическая лава, живая и пылающая, в один миг холодеет и превращается в камень, стоит ей лишь коснуться холодных морских вод.
Дон Матиас Кинтеро с детства ненавидел море — после того, как оно проглотило его кузена Андреса на его глазах. Произошло это в Фамаре. С тех самых пор он всегда поворачивался спиной к океану, который казался ему злым и враждебным. Ему словно что-то подсказывало, что океан и его люди однажды принесут в его дом несчастье.
Он остался в одиночестве и равнодушно наблюдал за тем, как со всех сторон на имение наползает ночная тьма. Дону Кинтеро казалось, что вся его жизнь со смертью сына превратилась в одну сплошную, никак не заканчивающуюся ночь, что теперь он обречен метаться во мраке среди теней и отчаянно ждать наступления холодного рассвета, который, скорее всего, не принесет облегчения и не избавит его от душевных мук.
Вокруг было пугающе тихо. Даже ветер-полуночник, который когда-то каждую ночь на цыпочках пробегал по стенам дома и прыгал по виноградным листьям, теперь мчался прочь от дверей помеченного смертью дома. Он улетал, все быстрее и быстрее, чтобы начать свою песню где-нибудь на подступах к Масдаче, а потом, подпрыгивая, взобраться на самую вершину вулкана Фемес, весело броситься вниз, к Плайа-Бланка, туда, где ликовал Пердомо Марадентро, уничтоживший род Кинтеро из Мосаги.
Он так и остался сидеть в одиночестве, пережевывая злобу и лелея жажду мести. В конце концов дон Кинтеро решил, что на острове больше нет справедливости и пора уже действовать самому, начать охоту на убийцу и дать всем понять — тот, кто поднял руку на одного из Кинтеро, заплатит за свое преступление кровью.
Когда Ель-Гирре явилась со своим проклятым подносом, он отстранил его резким движением руки.
— Унеси это! — прохрипел дон Кинтеро. — Я не голоден. Унеси и позови своего мужа… Завтра, как только рассветет, он должен спуститься в Арресифе и отправить телеграмму.
— Телеграмму? — удивилась старая карга. — Кому?
— Человеку, который знает, как следует поступать с мерзавцами.
В ту ночь, когда родилась Айза, начался дождь. Он шел долго, очень долго, и подарил много радости жителям бесплодного, каменистого острова. Хлынувшая с неба вода напитала землю и наполнила до краев хранилища. Люди собирали в ладони тяжелые прохладные капли и умывались с таким наслаждением, будто не видели пресной воды со времен Ноя.
Девять дней дождя там, где приходилось ждать по девять лет, пока на землю упадет хоть одна капля, занесенная сюда неизвестно каким ветром. И стоит ли удивляться, что событие это было для жителей острова столь важным, что в книгах муниципального совета даже были сделаны соответствующие записи. Тогда же Сенья Флорида, умевшая предсказывать судьбу по внутренностям акулы маррахо, заявила: небеса так обрадовались рождению внучки старого Езекиеля Марадентро, что решили преподнести всем жителями острова бесценный дар — дождь.
Однако все знали, что Сенья Флорида с каждым днем становилась все глупее и глупее и в последнее время частенько несла околесицу.
А спустя две недели по всему острову распустились миллионы цветов, пробивавшиеся даже сквозь трещины в лаве, а бесплодные камни Рубикона впервые превратились в роскошное пастбище, где козы и верблюды могли наконец-то наесться вдоволь. В тот же день, когда новорожденной исполнился месяц, из-за мыса Папагойо приплыл косяк прыгающей макрели: казалось, рыба ждала, когда рыбаки, не прикладывая никаких усилий, лишь вытянув руку, ее поймают. Тут уже даже самые отчаянные реалисты были вынуждены признать, что всеми этими чудесами жители острова обязаны очаровательной зеленоглазой малышке, родившейся в семье Пердомо.
— У нее барака, — утверждал Мавритании Абдул, который три года назад чуть не утонул при крушении судна в Пуэрто Муелас, после чего навсегда остался на острове. — Говорю вам, у нее барака — дар божий. Вокруг нее всегда будут происходить чудеса, пока она навечно не отдаст сердце мужчине.
Айзе не исполнилось еще и пяти лет, когда с ней произошло очередное чудо. Находящийся в гоне, разъяренный верблюд, чуть не затоптавший до смерти Марсиала, неожиданно затих, стоило девочке лишь приказать ему остановиться. Позже она стала предсказывать кораблекрушения, которые затем непременно происходили у берегов острова, а также рассказывать о приближении самых свирепых ветров сирокко. Она умела снимать жар и убирать даже самые большие опухоли. А в тот день, когда у нее в первый раз пришли месячные, она предотвратила нашествие саранчи.
Сенья Флорида оказалась первой из ушедших в мир иной, кто явился Айзе во сне. Старуха, которая на тот момент вот уже два месяца как лежала в могиле, рассказала ей о месте, в котором она спрятала все свои сбережения и которое ее сын безрезультатно искал все это время.
Посему, когда Айза впервые увидела Дамиана Сентено в дверях дома, который он только что снял, она тут же явилась к матери и сказала, что явилось «зло».
— Почему это «зло»?
— Потому что оно живет в его взгляде и смотрит из татуировки на его правой руке. Каждый раз, как я вижу в снах кораблекрушения или беду, этот рисунок сливается с лицом умершего.
— Что еще за рисунок?
— Кровоточащее сердце, пронзенное штыком винтовки. Как-то в таверне я спросила Дамиана Сентено о том, что значит этот рисунок. И он хриплым голосом мне ответил: «Я сделал его в тот самый день, когда узнал, что красные убили мою мать в Барселоне. Эта татуировка не дает мне забыть о матери… И о красных тоже».
Тогда слова Дамиана Сентено так и остались без ответа. Лансароте всегда жил своей жизнью. Конечно, во времена Гражданской войны, с ее жуткой ненавистью и бесчисленными преступлениями, и здесь кое-кого сбросили в море с камнем на шее или столкнули в бездонную пропасть с самых высоких утесов Фамары. Однако ненависть и злоба хорошо жили лишь в больших городах. Лансароте же был слишком маленьким островом, чтобы его немногочисленные жители могли позволить себе роскошь бездумно убивать друг друга. Произойди это — и остров быстро бы превратился в бесплодную каменистую пустыню.
Однако слово «красные», произнесенное Дамианом Сентено и буквально сочащееся ненавистью, вызвало у многих страшные воспоминания. И вдруг для всех стало очевидно, что мирные годы так и не наступили.
Дамиан Сентено был человеком маленького роста и страшно худым, однако его хриплый голос всегда звучал так уверенно, что казалось, будто все силы его тщедушного тела сосредоточились именно в нем. Жалкий внешний вид Сентено мало кого мог обмануть: при первом же взгляде на него становилось понятно, что и в свои сорок с небольшим лет он может играючи уложить за раз троих молодцов.
Все в нем — и жуткая татуировка, и манера вечно приказывать, и гордая посадка головы, и длинные густые бакенбарды — выдавало закаленного в сотнях боях и в тысячах пьяных драк человека, настоящего короля улиц. Он никогда не застегивал до конца свою зеленую рубаху, и все видели длинный и тонкий шрам на его груди, оставшийся после удара ножом. Он носил его с гордостью, словно получивший орден солдат.
— Зачем сюда приехал?
— Провести отпуск… А что, я вам тут мешаю?
— Ни в коем случае. Однако чужаки не слишком-то часто появляются на нашем богом забытом острове… И надолго думаешь остаться?
— Пока не поймаю одну «рыбку»… Очень, знаете ли, меня интересует рыба.
— На Коста-дель-Моро рыба получше водится. Ты, случайно, не из Марокко приехал?
Дамиан Сентено пристально посмотрел на Хулиана ель-Гуанче и едва заметно улыбнулся, слегка оскалив белые, немного похожие на кроличьи зубы:
— Не, мне нужна другая рыба, там такой нет. И почему это вы решили, будто я приплыл из Марокко? Я ведь ни о чем таком не говорил.
— А чему тут удивляться? Там находятся основные силы терсио[7], а у меня племянник тоже легионер.
— Такой же умный, как и вы?
— Должно быть, это у нас семейное. — Дон Хулиан был не из тех людей, кто легко сдается. И годы не сломили в нем боевого духа. — Однажды став легионером, человек остается им до конца. На его лице словно особая отметина появляется. Много лет службы?
— Двадцать восемь. — Дамиан Сентено распахнул рубаху. — Видите этот шрам? Это память о высадке на Алхусемас. А в ноге я до сих пор ношу русскую пулю, полученную в Сталинграде.
— А этот, на груди?
— Один ефрейтор, который мне не подчинился в Рифиене… Я его прикончил его же собственным ножом.
— Здесь совсем недавно произошла похожая история. Один юноша вытащил в драке нож… Его же им и убили.
— Удивительное совпадение, — согласился Дамиан Сентено. — Правда, мне рассказывали по-другому. Один торговец признался, что на самом деле продал нож убийце…
— Это что-то новенькое.
— Позавчера, — уточнил Дамиан Сентено. — Он рассказал мне об этом позавчера. Ночью, в одном из баров Арресифе.
— Что ж, значит, и здесь странное совпадение. Знаешь, хотелось бы мне разобраться во всей этой чертовщине… Ты, случайно, не друг дона Матиаса Кинтеро?
— Капитана Кинтеро? — переспросил легионер, чем и выдал себя. — Ах да, конечно! Последние два года, что шла война, я имел честь служить под его началом.
— Погибший — его сын.
— Я и об этом слышал. А также я слышал, что убийца сорвался с крючка…
— Теперь я понимаю, какую «рыбу» ты собираешься ловить в наших водах.
Из таверны дон Хулиан ель-Гуанче прямо направился к дому своего кума, Абелая Пердомо, чтобы пересказать ему разговор, который несколько минут назад произошел между ним и Дамианом Сентено.
— Он даже не скрывает своих намерений, — завершил он свой рассказ. — И парень этот показался мне слишком самоуверенным. Похоже, что «рыбалка» его будет удачной.
— Я знала, что так будет, — сказала Аурелия, которая все это время молча слушала рассказ кума. — Дон Матиас заставил торговца изменить свои показания, и теперь последнее слово за этими юношами, друзьями убитого. — Она вздохнула, откладывая в сторону брюки, на которые в который уже раз накладывала заплаты. — Суд вынесет решение в пользу того, у кого больше денег… Бедный мой мальчик!
— Его пока еще не схватили. Да и найти его будет непросто. Уж как они старались, но все их старания прошли впустую, — спокойно заметил ее муж. — Я сам первый выступлю за то, чтобы наш сын понес справедливое наказание. Но он должен быть наказан лишь за то, что совершил. Однако сейчас мне становится страшно, потому как дон Матиас, без сомнения, затеял грязную игру… — И он обратился к куму: — Что намерен делать этот убийца, который надеется опередить местную полицию? Снова собирается перебрать остров по камешку?
— Не знаю, Марадентро, не знаю. Скажу лишь одно: не позволяй ему приближаться к мальчику, — медленно, с расстановкой произнес дон Хулиан. — Он не станет добиваться правды и ни в чем не поможет полиции. Единственное, на что он способен, — это преподнести голову твоего мальчика — еще одну голову! — дону Матиасу. Он настоящий головорез, которому самое место в тюрьме. Он опаснее мурены, выскочившей ненастной ночью на палубу. А ведь все знают: если она вонзает в кого-то свои зубы, то уже не отпустит жертву, пока ей не отсекут голову.
— Он нам принесет много бед, — тихо произнесла Айза, сидевшая все это время в своем уголке. — Даже дедушка дрожит, когда слышит его имя.
Старый Езекиель умер уже четыре года тому назад, однако все знали, что дух его так и остался на борту старого баркаса «Исла-де-Лобос» и сходил на землю только тогда, когда жаркими лунными ночами Айза ложилась спать с открытым окном. Они тогда подолгу разговаривали, и он ей рассказывал истории, произошедшие так давно, что никто уже, кроме него, о них и не помнил.
— Не вмешивай деда в эти дела, — оборвала ее мать. — Иначе ты и впрямь накличешь беду. Твои дурные предсказания и без того пугают меня. В конце концов, этот Дамиан Сентено всего лишь человек. Твой отец может одним ударом кулака проломить ему череп.
— Это мой страх говорит во мне, — последовал ответ дочери. — Асдрубаль убил, защищая меня. Папа же может убить, защищая Асдрубаля… Было бы намного лучше, если бы в ту ночь все шло своим чередом. Тогда сейчас все бы уже позабыли о произошедшем.
С этими словами она встала и вышла из комнаты той своей легкой, величественной походкой, которая, должно быть, досталась ей в наследство от какой-то императрицы, непонятно каким чудом имевшей в незапамятные времена отношение к семье Пердомо. Во всяком случае, никак иначе ее манеру держаться, столь несвойственную простым островитянам, объяснить было нельзя. Правда, Аурелия полагала, что ее дочь ступает так легко потому, что привыкла бродить по пляжу среди кружащих в воздухе теней. Девушка большую часть времени гуляла по колено в воде, беседуя с умершими и создавая миллионы миров, каждый из которых потом продолжал жить в ее воображении.
С детства она привыкла ходить по песку, перешагивая через накатывающие на берег волны, отчего ее ноги, длинные и всегда загорелые, сохраняли стройность, а упругие бедра мерно покачивались при каждом движении. Так что, если бы Айзу нельзя было бы сравнить с царицей, ее смело можно было бы сравнить с кошкой. Каждый раз, когда Айза вставала, она походила на львицу в засаде или на гепарда, приготовившегося сделать прыжок. Ее походка сводила мужчин с ума ничуть не меньше, чем ее высокая грудь или тонкое, чувственное лицо, на котором неизменно сохранялось отсутствующее выражение.
— Ваша малышка может принести на остров много бед, — пробормотал хриплым голосом дон Хулиан ель-Гуанче. — Уже один парень погиб из-за нее, и, помяните мое слово, это только начало. Юноши и дальше будут продолжать резать глотки друг другу.
— В случившемся нет ее вины, — ответила грустно Аурелия. — Она такой родилась и такой выросла.
— Нет вины… Пожалуй, что так. Однако вот она, такая, какая есть, и хотел бы я видеть, как все это ты объяснишь людям.
В том, что сказал дон Хулиан ель-Гуанче, для Айзы не было ничего нового. С тех пор как она стала женщиной, дочь Абелая уже успела привыкнуть к тому, что разговоры сразу прекращаются, стоит ей лишь войти в комнату, и тут же звучат вновь, стоит ей выйти.
Ей были противны взгляды мужчин, которые своими сальными глазами ощупывали ее тело, она ненавидела пересуды, легкие прикосновения и перешептывания. А слыша вслед глумливый свист, пошлые слова и колкие фразы, она чувствовала себя оскорбленной.
Она любила вспоминать детские годы, когда могла свободно гулять по пляжу, гладя ногами нежный песок и млея от ласковых прикосновений накатывающейся воды. Только она одна знала, что вода приносит к берегу мелкую рыбешку, которая, играя, касается ее ног. Это были благословенные годы, когда она могла себе позволить остаться наедине с героями своих любимых книг, страсть к которым зародила в ее душе мать. Тогда она еще не привлекала к себе десятки взглядов, сейчас же самая невинная прогулка по пляжу оборачивалась непристойным спектаклем.
Почему люди так изменились?
Почему она перестала быть Айзитой Марадентро, которую мужчины могли послать за табаком, а матери попросить присмотреть за детьми? Почему она перестала быть малышкой Абелая, которая умела избавлять от жара или предсказывать время, когда пойдут валом тунец или сардины? Почему женщины нехотя стали пускать ее в свои дома в час, когда там находятся их мужья? И почему мужчины столь настойчиво зазывают ее в гости, когда их жены уходят по делам?
Неужели они не понимают, что она все та же девочка, какой была, и любит она по-прежнему те же вещи, какие и любила? Это тело ее вздумало измениться, но не душа. Она все еще предпочитала шить платья своей старой кукле или восхищаться морем, думая о Мобе Дике или Сандкане, чем выслушивать сомнительные комплименты мужчин, так и норовивших до нее дотронуться. Она не понимала их намеков, однако в обещании подарить узорчатый платок, бронзовый браслет или цветастую блузку она чувствовала скрытую опасность.
— С тобой то же самое происходило, мама?
— Почти. Не так часто, как с тобой.
— Почему?
Всякий раз, услышав подобный вопрос, Аурелия гладила дочь по голове и подолгу пристально смотрела ей в глаза.
— Потому что я никогда не была такой красивой, дочка. Пришло твое время, мы все должны понять, что Господь наградил тебя красотой, которая сводит с ума мужчин и тревожит женщин. — Она смущенно покачала головой. — Не знаю, хорошо это или дурно, но, как бы там ни было, тебе следует вести себя благоразумно. Глядя на тебя, я испытываю гордость, однако чувствую я и страх.
Происходящее пугало и Айзу.
После той проклятой ночи страх, казалось, навечно вошел в ее сердце. Теперь она садилась на каменные ступени, спускавшиеся из кухни их дома прямо к морю, и долго смотрела на мигающий свет маяка. Каждый раз она спрашивала себя: винит ли ее Асдрубаль в случившемся, в том, что он вынужден скрываться в огромном пустом доме, затерявшемся среди камней безлюдного острова, в то время как его истинное место было здесь, рядом с родными?
Потом она неизменно вспоминала, как Асдрубаль, сидя на этих же ступеньках, учил ее навязывать крючок на самодельную удочку, насаживать наживку и забрасывать снасть, когда ей еще не исполнилось и шести лет. Когда же она поймала свою первую сельдь, которую затем приготовила на ужин, он без устали ее нахваливал.
Вспоминался ей и Себастьян, учивший ее плавать в море, чьи волны бились о берег в каких-то десяти метрах от того места, где стояла ее кровать, его сильные руки, аккуратно поддерживавшие ее под живот. Вся ее жизнь с тех самых пор, как она себя помнила, текла спокойно и размеренно в самом прекрасном месте в мире, в окружении самых замечательных людей на свете — строгого великана отца, всем сердцем обожавшего свою малышку, ласковой мечтательницы матери, с лица которой не сходила улыбка, и самых лучших, самых умных и самых отважных братьев на свете.
А потом ее мир разлетелся на тысячи осколков, обнажив неприглядную реальность — у нее выросла высокая и упругая грудь, а бедра стали походить на круп нервной чистокровной кобылицы.
Даже ее отец изменился. Теперь, когда по вечерам она вбегала в дом и запрыгивала ему на колени, он напрягался, словно был не рад ее видеть. Она же едва смогла скрыть свое смущение, когда однажды он ее отстранил, хлопнув ладонью по ягодицам:
— Ты уже не в том возрасте, чтобы вот так запросто садиться на колени к мужчине. Это был последний раз. Теперь ты сядешь на колени только своего мужа.
В тот апрельский вечер за ней навсегда закрылись двери, ведущие в детство. Когда же она поняла, что никто, даже ее отец, уже не любит ее так, как прежде, ей стало так горько, что и словами не передать.
Во что же она превратилась, если даже родные братья боялись к ней прикоснуться? Почему она должна менять свою жизнь из-за странных прихотей собственного тела, ведь ей так нравилось кувыркаться с Асдрубалем на песке или кататься на плечах Себастьяна, который потом непременно заходил в воду и принимался прыгать через набегающие на берег волны.
Теперь она страстно мечтала лишь об одном, чтобы Асдрубаль, как и прежде, уселся на одной из верхних каменных ступеней, а она бы села чуть ниже и, прислонив голову к его коленям, слушала рассказы — о рыбной ловле, о том, какую историю на этот раз поведал ребятам дон Хулиан, о деньгах, которые они когда-нибудь непременно накопят, купят весь остров Исла-де-Лобос до последнего камня и превратят его в царство Марадентро.
— Ты представляешь, что это значит построить дом за лагунами? Разбить вокруг него прекрасный сад, полный диковинных растений, и обязательно соорудить рядом причал, чтобы баркас приставал прямо к крыльцу?
Лагуны эти покрывал песок, такой белый, что слепило глаза, а вода в них была кристально чистой. Океан после отлива оставлял в маленьких затоках крошечную рыбешку и крабов. Это было самое прекрасное место в целом мире, настоящий рай, где можно было искать под камнями осьминогов, играть в мяч, плавать, ловить рыбу прямо руками, сидя на большом камне, или валяться на горячем песке и наслаждаться послеполуденным солнцем.
Лоточник-турок, который четыре раза в год спускался на Плайа-Бланка, иногда приносил вместе с неизменными свистульками и безделушками маленькие очки в резиновой оправе, которые плотно прилегали к лицу и позволяли видеть то, что происходило под водой так ясно, словно ее и не существовало. Малышня готова была отдать за эти очки все свои сбережения, собранные за целый год.
Какое же забавное зрелище они собой являли. Зады их высоко поднимались над водой, в которой скрывались их головы. Они с удивлением наблюдали за жизнью подводного мира и каждый раз разбегались с визгом, случись им увидеть что-то необычное или Себастьяну нырнуть слишком глубоко, подняв при этом тучу брызг.
Когда-то на острове водились тюлени и морские волки, которые и дали ему название, однако несколько лет назад они ушли к мавританским берегам. Правда, они все еще попадались на глаза рыбакам, спускавшимся к большим рыбным банкам мыса Кабо-Бахадор.
Удивительно, что животные, более привычные к холодным полярным водам, когда-то выбрали этот безлюдный жаркий остров. На протяжении столетий он был их единственным домом, пока строительство маяка и постоянное присутствие людей из Фуэртевентуры и Лансароте не вынудили их мигрировать к спокойным, не менее жарким и таким же скалистым африканским берегам.
А вот рыба, живущая в лагуне, людей не боялась: когда Себастьян, умевший плавать лучше всех в семье Марадентро, нырял в воду, она не уплывала в сторону, не пряталась под камнями и среди водорослей, а с любопытством приближалась и глядела своими выпученными глазами на странного и смешного «осьминога», чьи щупальца были слишком коротки. Рыба даже давала потрогать себя.
Айза не умела нырять так глубоко, как ее брат, и ей оставалось лишь наблюдать за ним с восхищением. И это тоже были одни из самых ярких и самых прекрасных воспоминаний ее детства.
Теперь она никак не могла взять в толк, почему ее братья должны идти в военный флот, а она сама превратилась в женщину. Почему от прежнего счастья у нее остались лишь воспоминания?
— Почему вещи не остаются такими, какими они были раньше?
Себастьян возник прямо из ночной темноты, сел рядом и со свойственной ему медлительностью закурил сигарету.
— Это цена, которую мы вынуждены платить за взросление.
— А кому интересно быть взрослым? Посмотри, что происходит! Мы здесь, сидим и смотрим на огни маяка, думаем, как там Асдрубаль… Как же ему сейчас, должно быть, одиноко в том старом и ветхом доме!
Себастьян ответил не сразу. Он был тем человеком, кто предпочитал больше молчать, а если и разговаривал, то менее горячо, да и вообще был менее мечтателен, чем его сестра.
— Ему скоро придется уйти, — произнес он наконец. — Не знаю куда, знаю лишь, что как можно дальше от дома. Он должен либо сдаться, либо уйти. У меня дурное предчувствие: этот человек, которого дон Матиас пустил по следу, скоро поймет, где скрывается Асдрубаль.
— А что будет, если он сдастся?
Себастьян лишь пожал плечами:
— Не имею ни малейшего представления. В лучшем случае проведет несколько лет в тюрьме. Но это его уничтожит… Асдрубаль не из тех людей, кто может сидеть под замком. Он влюблен в море, ему необходимо его видеть, дышать им каждый день. Когда он находится на суше, какой бы она ни была, ему становится тесно. Не знаю, как он сможет выжить в камере…
Айза ласково погладила брата по мускулистой руке, сейчас безвольно повисшей.
— Закрой глаза и представь, что это всего лишь кошмар, — сказала она. — Разве нельзя сделать так, чтобы время повернулось вспять, хотя бы на двадцать дней назад? Все было так хорошо!
— Нет. Хорошо не было, — ответил Себастьян, перебирая ее длинные нежные пальцы — сложно было поверить в то, что эти руки каждый день моют посуду и солят рыбу. — Мы жили спокойно, вот и все. И теперь, когда мы потеряли покой, та жизнь кажется нам прекрасной. — Он слегка надавил пальцем на кончик ее носа. — Ты ведь уже давно чувствуешь себя несчастной.
— Люди уже не любят меня так, как раньше.
Себастьян не нашелся что ответить, ибо даже для него сестра из прелестной и озорной девчушки превратилась в таинственное и незнакомое создание.
Они долго сидели молча, каждый погрузившись в свои мысли, устремив взоры на покрытое ночным мраком море и на маленький, беспрерывно мигающий вдали огонек, пока вдруг не заметили, как чья-то спичка зажглась метрах в десяти от лестницы, как раз у самой воды. Пока она медленно горела, разжигая кончик сигареты, на них в упор смотрел какой-то человек.
Сколько времени он находился здесь, никто не знал, но было очевидным, что наблюдал за домом он уже давно, явно не скрывая своего присутствия.
— Пожалуйста! — взмолилась Айза. — Это человек меня пугает.
— Хотелось бы знать, зачем он здесь рыщет.
— Оставь его! Берег принадлежит всем, и он имеет право находиться там, где хочет.
— Ему незачем крутиться возле нашего дома в такое время… Он хочет напугать тебя.
— Ему это уже удалось, но я не хочу, чтобы я снова стала причиной несчастья.
Довольный тем, что ему удалось достичь желаемого, Дамиан Сентено сделал глубокую затяжку, дав сигарете сильнее разгореться, и выбросил ее в море. Огонек прочертил длинную дугу в воздухе и исчез в темноте, превратившись в тень среди теней.
Они прибыли на следующий день в полдень, и их было шестеро.
Кое-кто из них тоже хвастался своими татуировками, а некоторые в них и не нуждались, ибо их внешний вид и манера держать себя ни у кого не оставляли сомнений в том, что люди эти — самые настоящие мерзавцы, бывшие заключенные, отчаянные головорезы.
Они прибыли ровно в полдень, словно специально выбрали время для того, чтобы произвести впечатление на собравшихся на берегу перед таверной стариков, как всегда обсуждавших происшествия, приключившиеся за неделю рыбного промысла. Вспоминали они и о несчастье, произошедшем на Плайа-Бланка.
Кое-кто из женщин, чистивших рыбу, стиравших белье или посматривавших в окна свои кухонь, пока готовили обеды, тоже видели чужаков. Они, не откладывая дела в долгий ящик, поспешили оповестить своих мужей, отдыхавших после ночного лова. И вот уже все селение, храня молчание, смотрело на чужаков, пока те выходили из больших, покрытых пылью автомобилей, громко приветствовали и крепко обнимали Дамиана Сентено и друг за другом входили в большой дом, принадлежавший Сенье Флориде, который с превеликим удовольствием она сдала этому беспутному мерзавцу за двадцать дуро в месяц.
Дом Сеньи Флориды, белый, просторный, всегда хорошо проветриваемый, хранил за своими стенами настоящее сокровище — единственное дерево на целой трети южной части острова Лансароте. То была мимоза, по весне покрывавшая землю мягким желтым ковром и неизменно вызывавшая восхищение детворы, почти не привыкшей к цветам. Мимоза стояла на вершине скалистой возвышенности, закрывавшей с востока небольшой пляж и бухту вместе с кучкой беленых домов.
Дом Пердомо Марадентро, который закрывал пляж с другой, западной, стороны, стоял чуть ниже и находился на расстоянии чуть более чем в шестьсот метров, если идти напрямую. С самого первого дня Аурелия заметила — впрочем, не заметить этого было сложно, так как чужаки не считали нужным скрываться, — как какой-то незнакомец постоянно наблюдал за их домом в длинную, отливающую золотом подзорную трубу, в линзах которой плясали блики жаркого солнца.
— Чего они хотят добиться?
— Хотят запугать нас.
— Еще больше? Не думаю, что это вообще возможно.
— Наверное, они хотят подловить нас, узнать, где скрывается наш сын.
— Они нас плохо знают!
— Естественно… Они плохо нас знают, — согласился Абелай Пердомо. — Однако и мы их плохо знаем. Один Бог ведает, на что они способны. — Он сделал паузу. — Этот человек, что называет себя Дамианом Сентено, выглядит настоящим мерзавцем… Одним из тех, кто во время войны глумился на площадях над красными, словно речь шла о быках на арене. А ведь все это было недавно. Совсем недавно!
— Прошло десть лет.
— Для некоторых этих десяти лет не было. Война для них никогда не кончится. И дон Матиас, должно быть, один из таких людей. — Он замолчал на несколько мгновений, словно стыдясь того, что должен был сказать. — Я трижды пытался встретиться с ним, хотел рассказать правду о случившемся и объяснить, что Асдрубаль готов повиниться, если только над ним учинят справедливый суд. Однако он отказался принять меня. Велел передать, что подобные вещи словами не решаются.
— Естественно, не решаются, — согласилась Аурелия, прекратив на мгновение вытирать посуду и пристально посмотрев на мужа. — А что тут может решиться? Его сын мертв, и никто не сможет вернуть его к жизни. Я его понимаю. Я бы такого не перенесла, хотя у меня есть другие дети, а у него нет. Должно пройти время, и немало.
— Дон Матиас не тот человек, которого время сделает мягче, — возразил ей Абелай. — Скорее оно его уничтожит, сгрызет, как голодный пес кость. Оно растерзает его душу, и от этой боли он лишь сильнее разозлится. Такое часто происходит с людьми с материка: морской ветер не уносит их дурных мыслей. Они прячутся в себя, словно черепахи в свой панцирь, и позволяют страданиям грызть себя изнутри.
— Я и сама с материка, — напомнила ему жена. — Лагунера[8], помнишь? Но я никогда не вела себя подобным образом.
— С материка? — весело улыбнулся муж. — Ты полжизни провела в этом доме, на самом берегу моря. Ты пропахла смолой и родила двух сыновей-рыбаков и дочь, которая проводит больше времени промокшей, чем сухой. С материка, скажешь тоже! Видать, океанскими ветрами тебе выдуло последние воспоминания. Скажи, сколько времени прошло с тех пор, как ты последний раз видела проливной дождь, такой, который каждый вечер идет в Ла-Лагуне?
— С тех пор, как родилась дочь.
— Шестнадцать лет уже, ты понимаешь? Мы здесь живем совсем другой жизнью, война прошла мимо нас. Войны — дело людей с материка. Нас же, людей моря, больше заботят рыбная ловля, предстоящий шторм или возможный штиль, когда обвисают паруса. Океан огромен. Никто не может его измерить. Никто не может завладеть ни единой его частицей, ибо он не признает хозяев, а тот, кто ставит на нем свою отметку, рано или поздно оказывается в пучине. Поэтому мы, когда все-таки уходим на войну, делаем это по приказу людей с материка.
— И как же все это связано с нашим Асдрубалем?
— Люди с материка не меняются, они остались такими же, какими были во время войны. Дон Матиас думает, что смерть его сына принесла в наш дом радость. Он также считает, что мы были бы рады завладеть его деньгами и виноградниками. Богатые люди, как правило, живут в придуманном мире, полагая, что мы спим и видим, как бы только урвать часть их богатства. Да на кой черт мне их земля?! Мне ненавистна сама мысль о том, что я могу быть хозяином клочка земли! По мне, так я бы все время спал в море.
Абелай Пердомо был человеком немногословным, однако в тот день он твердо вознамерился излить душу. Жена была единственным человеком, кто мог его разговорить, однако его угрюмость являлась следствием не дурного характера, а природной стеснительности простого человека, едва научившегося выводить свое имя на бумаге.
Во времена детства Абелая на Плайа-Бланка была всего лишь дюжина домов, разбросанных вдоль берега с подветренной стороны. Умение читать здесь почиталось за небывалую, сравнимую со сверхъестественной способность. Ни один юноша на острове не мог себе позволить роскоши отправиться в школу, потому что сразу же, как только мальчик вставал на ноги, он отправлялся в море помогать взрослым добывать пропитание.
Абелай помнил так ясно, словно это произошло вчера, как ему сообщили о приезде на Фемес учительницы из Тенерифе и как он чуть не лишился чувств, а баркас показался, как никогда, тяжелым, когда он увидел ее на пляже, читавшей под утренним воскресным солнцем газету, бесстыдно выставившей свои загорелые ноги.
Почти целых четыре месяца он не осмеливался произнести при ней и полудесятка осмысленных слов, и даже после стольких лет совместной жизни он иногда задавался вопросом, почему эта женщина, которая знала мир и могла бы выбрать себе мужчину под стать, посвятила свою жизнь именно ему.
Первое, что она сделала на этой земле, полюбила его, родила ему троих детей и занялась домом, а между делом научила его держать карандаш, распознавать буквы и говорить как нормальный человек, а не морское чудовище, только что выбравшееся из подводной пещеры.
— Мир — это не только рыба, ветер и снасти, — сказала она ему в тот момент, когда он в очередной раз не отваживался прикоснуться к ее руке, казавшейся ему игрушечной. — И ты должен понять это.
Что ни говори, а учеба оказалась делом долгим и трудным. Сколько раз Абелай краснел, слыша обрывки разговоров жены и собственных детей и понимая, что жена страшится того дня, когда эти молокососы вырастут и начнут стыдиться собственного отца.
Аурелия ни разу, ни единым жестом, ни резким словом не унизила его, прекрасно понимая, в какую яростную борьбу он вступил со словами, цифрами и фактами.
Абелай Пердомо Марадентро, красавец великан, был человеком грубоватым, однако душа у него была предобрейшая. Жену свою он любил почти до обожествления. Это была женщина, которая разделила с ним его простую жизнь рыбака, подарила ему троих прекрасных детей и бесчисленные ночи, когда он был вынужден кусать губы, чтобы его крики не разнеслись по берегу, перекрывая шум ветра и гул прибоя.
И вот теперь один из этих детей прятался в семи милях от дома, у подножия башни, высившейся на восточном мысу небольшого острова, каковой Аурелия столько лет обозревала из окна своей кухни. А муж, ее мужчина, человек, которого никогда не пугали ни жестокие штормы, ни самые темные ночи в бушующем море, ни война, ни бесконечные засушливые и голодные годы, когда на каменистой земле хорошо росли лишь несчастья и злоба, впервые был взволнован, и виной всему были люди с материка, которых, как научила его жизнь, следовало постоянно опасаться.
— Чего они хотят?
Ответ пришел к ним на следующую ночь из уст дона Хулиана, которого Дамиан Сентено избрал посредником в своих переговорах с семьей Марадентро.
— Скажи своему куму, что мы останемся здесь до тех пор, пока не объявится его «мальчик», — приказал Сентено, потягивая ром. — И еще скажи, что нрав у моих людей крутой и нетерпеливый… — Тут он улыбнулся своей хищной улыбкой, демонстрируя острые зубки. — Порой даже я не в силах удержать их. Любой из них готов на самый отчаянный поступок… Ох уж эта девочка! Скажи родителям, что ее вранье может очень скоро стать правдой. Ты меня понял?
— Прекрасно, — ответил дон Хулиан. — Но вам не кажется, что Абелай скорее бы понял вас, поговори вы с ним лично?
— Я бы это сделал с удовольствием, — не сразу ответил Сентено. — Но у меня есть дурное предчувствие, что этот разговор очень плохо закончится. Займись я отцом, и все бы уже забыли о парне. А ведь это он, Асдрубаль, должен заплатить за то, что совершил.
— Насколько я понял, вас… или скорее того, кто вами командует, устроит лишь одно наказание — смерть.
— Глаз за глаз… Разве этот закон не так же древен, как и само человечество?
— Тогда дону Матиасу Кинтеро нужно для начала обзавестись дочерью, которую потом попытаются изнасиловать несколько парней. Из-за этого-то все и началось… — Хулиан сделал паузу. — А у вас дети есть?
— Если и есть — чего я не знаю наверняка, — то все они родились от прожженных проституток. Вокруг легионеров другие женщины не крутятся. — Он снова приложился к рому. — Да они меня никогда и не интересовали. Порядочные женщины нужны лишь для того, чтобы оседлывать настоящих мужчин.
— Вы себя считаете настоящим мужчиной?
— Можете убедиться, когда закончится это дело.
Дон Хулиан ель-Гуанче пристально посмотрел на собеседника и вознес свои мольбы к Богу, чтобы никогда только не узнать, насколько далеко простирается злоба Дамиана Сентено.
В этот же вечер он передал своему куму угрозы Сентено, впервые не прибавив от себя ни единого лишнего слова, старясь пересказать весь разговор как можно более точно, так как желал, чтобы сам Марадентро решил, насколько опасен этот покрытый татуировками и шрамами заморыш.
Однако было кое что, чего Хулиан при всем своем желании не мог бы передать другу, — тот безотчетный страх, который внушало одно лишь присутствие бывшего легионера, и ощущение угрозы, слышавшейся в каждом его слове, сказанном так, словно человек этот привык приказывать.
А его глаза? Маленькие, черные и круглые. Они казались безжизненными, как глаза акул маррахо, когда те, оказавшись на палубе со вспоротым брюхом и размозженной баграми головой, неожиданно делали последний рывок, на секунду возвращаясь с того света, и в последний раз смыкали свои смертоносные челюсти, способные перекусить ногу зазевавшемуся рыбаку.
— Этот человек — совершенный congrio[9], — завершил свой рассказ дон Хулиан. — Холодный, скользкий, изворотливый и подлый. Опасный у тебя враг, Марадентро.
Абелай Пердомо согласился с тем, что враг у него опасный, а потом ночью спать не стал. Он провел ее, сидя на ступеньках позади дома, бросая взгляды на маяк на острове Исла-де-Лобос и наблюдая за тем, как один за другим гасли огни в домах соседей. Вскоре остров окутала тьма. Горело лишь одно окно, в доме на скале, там, где поселились чужаки.
Они развесили на углах дома огромные фонари петромаксы, которые иногда рыбаки брали с собой в море. Они бездумно тратили керосин на никому не нужную иллюминацию, желая тем самым продемонстрировать свою силу жителям острова, бедным людям, зачастую вынужденным пользоваться карбидом, чтобы разжечь свои лампы. К тому же, как только наступала темнота, чужаки посылали на плоскую крышу дома вооруженного часового, и делали это весьма демонстративно.
Всем было понятно, что он специально выставляет свое оружие напоказ. Он не опасался мирных жителей поселка, напротив, хотел, чтобы они начали бояться его.
Они приехали сюда, на самый пустынный и самый отдаленный остров из всех островов архипелага, и поселились в ветхом доме, стоявшем на самом отшибе, в месте, забытом богом и почти забытом людьми. Казалось, что они завладели этим местом и теперь не уйдут до тех пор, пока не лишат кого-то жизни.
Абелай знал, что им не нужна просто чья-то жизнь, им нужна жизнь его сына Асдрубаля, юноши с непослушными волосами, квадратным подбородком, черными глазами и геркулесовой силой Пердомо — его повторения, его воплощения. Он сильно отличался от брата с сестрой, в чьих жилах было больше крови матери-лагунеры, чем Марадентро.
Он снова окинул взглядом ночной горизонт: вдали, как и всегда, мигал фонарь маяка «Исла-де-Лобос».
Присев на корточки у маяка и укрывшись от ветра, Асдрубаль Пердомо прислонился спиной к прохладной стене и зажал руки коленями. В прежние времена он частенько так сидел, любуясь морем, но сейчас ему оставалось только в отчаянии смотреть на мигающие огни пролива Бокайна и задавать себе один и тот же вопрос: какого дьявола они устроили такую иллюминацию и как эта странность была связана с двумя огромными автомобилями, которые он видел в полдень, когда рассматривал поселение в бинокль?
Что-то странное происходило в Плайа-Бланка, куда за все то время, что он себя помнил, никогда не приезжали сразу две машины. Туда и одна-то машина наведывалась редко, и были это, как правило, полуразвалившийся, дребезжащий грузовик, один раз в неделю привозивший воду, да фургончик лоточника-турка, показывавшийся в поселке четыре раза в год.
Даже жандармы и те приходили в поселок пешком — путь их лежал по каменистой тропинке Рубикона, — разбивая сапоги о кочки и острые камни, обливаясь потом под палящим солнцем, от которого, казалось, начинали дымиться их треуголки.
Он чувствовал, что в поселке на той стороне пролива происходит что-то недоброе, и сходил с ума от ощущения полного бессилия, накатывавшего на него все чаще и чаще. Асдрубаль оказался на крошечном скалистом острове, который можно было обойти из конца в конец за десять минут. Уже сейчас он чувствовал себя заключенным, оказавшимся в камере самой страшной и самой непреступной тюрьмы в мире.
Каким же прекрасным теперь казался остров Исла-де-Лобос из этого адского места, куда привезли его совсем недавно.
Но самое страшное было то, что он оказался совершенно один. Здесь уже не было его брата Себастьяна, за которым он мог бы наблюдать, пока тот ныряет за осьминогами и меро. Не было Айзы, с которой можно было бы дурачиться в лагуне. Не было матери, стряпающей паэлью[10] на камнях, и отца, задумчиво посасывающего трубку в тени навеса. Теперь лишь чайки, кролики да два осла, которых кто-то однажды оставил на острове, составляли ему компанию. В те дни, когда из Фуэртевентура на остров приплывал помощник смотрителя маяка, Асдрубаль был вынужден прятаться, забиваясь в самый дальний конец одной из самых больших балок. Ему пришлось позабыть о том, что старик на самом деле был человеком ласковым и компанейским и в прежние времена частенько наведывался в гости к Пердомо, чтобы откушать вместе с ними паэльи, выпить кофе, поговорить о жизни и выкурить сигару-другую.
Когда же неделю назад на остров наведались представители Цивильной гвардии, с целью обыскать пещеры и развалины старого особняка, Асдрубаль чуть богу душу не отдал от страха. Стоило ему лишь увидеть луч фонарика, медленно ползшего по стенам руин, служивших ему убежищем, как у него ноги задрожали.
Ни одного следа он не оставил на пыльных тропах, бегущих вокруг маяка. Все время он передвигался прыжками, даже в темноте, перескакивая с одного камня на другой, и тщательно убирал все угольки, оставшиеся от костра, который был вынужден разжигать по ночам, чтобы приготовить себе еду.
Юноша был сыт по горло своим одиночеством и мучился от стыда, так как считал, что скрываться от наказания, словно закоренелый преступник, недостойно настоящего мужчины. Однако с самого детства он привык прислушиваться к родительским словам и знал, что людей в зеленой униформе бояться не следует. Но даже они не в силах будут защитить его от Матиаса Кинтеро, охваченного жаждой мести.
По вечерам, когда солнце пряталось за Монтанья Роха и за соляными копями Ханубио, бросая тысячи лучей на лысый кратер вулкана Тимафайа, он пьянел от счастья, разглядывая в бинокль каждый домик, каждую тропинку Лансароте, и боялся, что каждый раз может оказаться последним. Родное поселение было для него самым лучшим местом на земле, каждый пляж, каждый утес и даже каждая пальма пробуждали в нем сладостные воспоминания.
Белое пятно церкви Фемеса, там, наверху, где он впервые ухаживал за девушкой под звуки колокольчиков и гитар; уединенный пляж Плайа-Кемада, где некая красавица иностранка, из речи которой он не понял ни единого слова, открыла ему тайны женского тела и показала, как нужно проникать в него; утес Торреон-де-лас-Колорадас — место, где собиралась вся детвора поселка и куда они с братом прибегали дважды в неделю и устраивали битву с пиратами-берберами.
Каждое мгновение его жизни было связано с бескрайним морем, раскинувшимся у его ног, или с бесплодным, почти лишенным растительности островом, который сейчас высился перед ним во всей своей строгой красе, — и ему вдруг показалось невозможным, что кто-то может отнять у него все это, вырвать его из привычной жизни лишь потому, что он поступил как человек чести.
У него было предостаточно времени, чтобы как следует подумать о событиях, произошедших в ту проклятую ночь, во время праздника в честь святого Хуана. Но как он ни старался, так и не нашел своей вины в произошедшем. Трое незнакомцев, чьи физические возможности у него не было времени оценить, преградили путь Айзе, и у него не оставалось другого выхода, как броситься на защиту сестры. В момент, когда он заломил руку юнцу и по самую рукоятку вонзил в его живот его же собственный нож, он на самом деле не хотел его смерти. В душе у него даже не родилась ненависть.
— Это произошло случайно.
— Об этом знаем только ты да я, — ответил ему отец в последний свой визит, когда привез на остров еду. — Впрочем, возможно, что точно так же думают и другие жители поселка, однако все это неважно, ведь дон Матиас отказывается поверить в твои слова. Посему все оборачивается против тебя. Ты должен смириться и прятаться до тех пор, пока мы не найдем способа увезти тебя с острова. — Абелай печально покачал головой. — Мать права, только время… Много времени должно пройти, пока река не вернется в свое русло.
— Как там дон Матиас?
— Насколько мне известно, никто его не видел с тех пор, — ответил отец. — Он заперся в своем доме и, должно быть, останется там до тех пор, пока злость окончательно не сожрет его.
— Мне кажется, что я убил двоих. Сына одним ударом, а отца медленно… Очень медленно.
— Тебе следует уехать как можно дальше. Другого выхода я не вижу.
— Я уже подумывал о том, чтобы завербоваться, — признался Асдрубаль. — Уйду в плавание. Только так люди позабудут о случившемся. Дон Матиас уже стар, и, возможно, душевная боль заберет у него последние силы. Когда он умрет, дела обернутся по-другому… А что сказали жандармы?
— Они не делают выводов. Их дело — разыскать тебя и передать судье, который все и решает.
— А судья что говорит?
— Тоже ничего. Вначале ему нужно встретиться с тобой. Но, как мне кажется, судьи чаще встают на сторону мертвого, а не живого. Ни один мертвец не нуждается в большем наказании, чем то, что он уже понес.
Отец медленно положил свою сильную и тяжелую, словно молот, руку на плечо Асдрубаля, вложив в эту скупую ласку всю нежность, на какую только был способен, а потом покачал головой, отгоняя мрачные мысли.
— Я не знаю, что еще и думать обо всем этом, сынок, — добавил он. — Мое дело рыбачить и приносить в дом деньги, благодаря которым ваша мать могла бы и дальше вести хозяйство, а вы бы окончательно встали на ноги. Все, что касается законов и книг, для меня темный лес.
— Мы должны были слушаться маму и продолжать учебу, — заметил Асдрубаль. — Однако море завладело моей душой, а Себастьян, у которого голова всегда была светлой, не хотел становиться для нас обузой. Теперь уже слишком поздно. Впрочем, тогда никто и представить себе не мог, что ветры нашей жизни окажутся столь сильными и непопутными.
Абелай Пердомо слабо улыбнулся:
— Я тебя с самого детства научил хорошо ставить и опускать паруса и заходить в порт даже при встречном ветре.
— Знаю, отец. Я усвоил все твои уроки. Но море я понимаю лучше людей. В этом деле мы словно плывем над вершинами скал Фамары. Один неточный галс — и мы налетим на утес.
— Святой Марсиал защитит тебя и не позволит случиться еще одному несчастью.
Святой Марсиал, покровитель Лансароте, с давних времен считался наиглавнейшим святым семейства Пердомо Марадентро, представители которого в жизни не переступили порог ни одной церкви и не верили ни во что, кроме собственных сил и удачи. Однако стоило морю разбушеваться не на шутку, рыбе, которая вот-вот уже должна была оказаться на дне лодки, сорваться с крючка, а жаркому ветру, прилетавшему из пустыни, принести с собой облака желтой пыли, от которой задыхался весь остров, Пердомо вспоминали о своем святом покровителе.
Так они и жили: то молились и благодарили святого, то проклинали его — в зависимости от обстоятельств. Однако в последнее время для всех стало очевидно, что святой Марсиал отвернулся от семьи, и сделал это он по собственной воле, словно и его страшило появление в доме такой странной девушки, какой была Айза Пердомо.
— Живет будто и не здесь, — с горечью произнес Абелай, отвечая на вопрос сына. — Кажется, что она не знает, куда приткнуться, или не может избавиться от своих дурных мыслей даже по ночам. Бродит, словно привидение, по дому и даже кусочка хлеба в рот не берет. Но, невзирая ни на что, с каждым днем становится все красивее. От одного только взгляда на нее моя душа наполняется радостью, а сердце — страхом. Не знаю, черт возьми, к чему стремится эта девчонка!
Асдрубаль хитро улыбнулся.
— Ведь это ты ее породил, — сказал он. — Лучше бы ты эту красоту разделил на троих.
Абелай Пердомо легонько толкнул сына в плечо, от чего любой другой свалился бы с ног.
— Хорош же ты был бы с таким задом, как у Айзы! — воскликнул он. — Ох, как бы за тобой бегал корчмарь Арриета!
Если кто-то имел бы возможность посмотреть на дона Матиаса Кинтеро, так ни разу и не вышедшего за стены, окружавшие имение его предков, он бы решил, что тот превратился в мумию. Снедаемый ненавистью, он отказывался от еды, а с тех пор, как лейтенант Альмендрос ушел в свой долгий отпуск, не принимал никого, кроме Дамиана Сентено, который каждый божий день поднимался из Плайа-Бланка, чтобы рассказать патрону о том, как идут дела.
Больше он уже не сидел под перголой у крыльца и не любовался закатом над Тимафайа, а тихо ждал наступления вечера, запершись в красной зале с изъеденными молью шторами. И только тогда, когда последний солнечный луч уползал за горизонт, уступая место тысячам звезд, он выходил во двор или в сад и бродил там, словно неприкаянный дух, блуждающий среди ночных теней.
Рохелия Ель-Гирре, которая многое знала о тенях, ибо сама всю жизнь была не более чем тенью настоящей женщины и наваждение это не рассеивалось даже в знойный полдень, часами стояла у окна за опущенными жалюзи и все ждала, не раздастся ли выстрел. Она ужасно боялась пропустить эту занимательную сцену, ей хотелось видеть, как мозги проклятого старика, который унижал ее столько лет, разлетятся по саду.
Все давно уже было готово: были выбраны тайники для серебряной посуды; подделаны, пока еще без проставления даты, чеки, которые с неописуемым хладнокровием она крала все эти годы, и надежно спрятаны на дне одного из сундуков дубликаты ключей от сейфа. Как же ей не терпелось, как хотелось, чтобы поскорее пришло то время, когда ее самая сильная, самая сокровенная мечта осуществится — ее хозяин решится наконец убить себя, и единственным свидетелем произошедшего будет она.
— Он не умрет! — раз за разом повторял ее муж Роке Луна, который всегда был ужасным пессимистом. — Хоть ты с ним и спишь, я-то его знаю намного лучше. Этот проклятый старик не окочурится, пока не увидит труп Асдрубаля Пердомо изрубленным на куски. Жажда мести удерживает жизнь в его теле, а так как он почти уже и не живет, а жажда его сильна, то он протянет еще долго.
— Ты считаешь, что сержант все-таки сможет убить парня?
— Сентено? — переспросил он. — Несомненно. Дону Матиасу доставляет удовольствие говорить о войне, и он частенько рассказывал мне об этом Дамиане Сентено, самом злом и бесчестном мерзавце из всех, что только бывали в Терсио. Когда он вернулся из России, то даже легион не мог справиться с его буйным нравом. В итоге произошла какая-то заваруха, за которую его и выгнали из легиона, и он четыре года провел в тюрьме. Но что бы там ни было, старик его обожает — помогал ему все эти годы и поддерживал с ним дружбу, где бы тот ни находился. — Словно для того, чтобы придать еще больше веса своим словам, Роке Луна тряхнул головой. — Старик знает, каких нужно подбирать себе людей. Этот Сентено однажды вручит ему игральные кости, вырезанные из черепа Асдрубаля.
— Когда?
— Как только выследит, будь спокойна. Дамиан Сентено, будто хорек, который не спешит до тех пор, пока не обнаружит нору своей жертвы. Тогда он немедля набрасывается на нее и одним-единственным укусом перегрызает хребет. Как только Марадентро вылезет из той щели, в которую он забился, на свет божий, он тут же умрет.
— Его отец приходил сюда. Он хотел поговорить со стариком. Мне не показалось, что его легко запугать.
— Я и его хорошо знаю, — согласился Роке Луна. — Чтобы справиться со старым Пердомо в открытом бою, понадобятся двое таких, как этот Дамиан Сентено. Но у Абелая нет и одной десятой доли злости, что живет в Сентено. Чем сильнее яд, тем меньше мензурка. А Дамиан Сентено — это чистейший яд.
— Но он не защищает своего сына.
— И это тоже играет в его пользу. Он станет думать головой, а не сердцем, и в этом будет его преимущество.
Однако у Рохелии Ель-Гирре были насчет Сентено кое-какие сомнения. Время тянулось для нее бесконечно долго, и она никак не могла дождаться наступления того часа, когда все это богатство, среди которого она жила с тех пор, как помнила себя, но которое ей никогда не принадлежало, перейдет в ее руки.
Ее жизнь всегда была связана с семьей Кинтеро, и она видела, как род этот постепенно тает, словно гигантская сахарная голова, попавшая под дождь. В те моменты, когда она смотрела на последнего в роду Кинтеро, бродящего, словно привидение, по спящим виноградникам, она с удовольствием перебирала в уме имена тех, кто уже сгинул в небытие, в то время как она, Рохелия, самая худая и самая слабая, с самого рождения страдавшая такой сильной чахоткой, что никто не дал бы за ее жизнь и песеты, продолжала и по сей день вертеться как веретено и вот-вот должна была стать хозяйкой усадьбы.
— Да будет благословен Асдрубаль Марадентро! — часто шептала она. — Этому недоноску, который так часто развлекался за мой счет, хватило одного твоего удара. Теперь он больше не будет пачкать мои волосы своим грязным семенем, а этот мерзкий вонючий старикашка, его отец, скоро отправится вслед за своим выродком.
Не раз в те дни, когда дон Матиас Кинтеро по вечерам отказывался от еды и лишь иногда выпивал стакан молока с взбитым яичным желтком и немного коньяку, тем самым поддерживая жизнь в своем немощном теле, у нее возникало желание добавить в сахар ложечку мышьяка. Однако останавливали ее не угрызения совести, а страх перед неминуемым разоблачением и наказанием. Посему она предпочла, как и прежде, терпеливо ждать.
Правда, она была больше чем уверена в том, что дон Матиас знал ее настолько хорошо, что угадывал самые тайные ее мечты, знал о самых потаенных ее замыслах… Знал, но ни слова не говорил, не пытался хоть как-то ей воспрепятствовать. И эти мысли порой отравляли ей существование.
Впрочем, волновалась Рохелия не зря, ибо судьба ее решилась еще во время первого визита Дамиана Сентено. С того момента, как он переступил порог усадьбы, не прошло и получаса, а дон Кинтеро уже выложил перед ним свои карты:
— Если ты покончишь с этим сучьим выродком, который убил моего мальчика, я сделаю тебя наследником. Ты станешь настоящим богачом, если сумеешь передавить горло Рохели и заставить ее вернуть все, что она наворовала у меня за все эти годы. Она и вправду похожа на птицу, но вместо Гирре[11] ее следовало бы назвать Уррака[12] из-за ее неугасимой страсти к воровству.
С этого самого момента Дамиан Сентено стал считать себя хозяином большого дома и виноградников Мосаги, так как ему казалось, что покончить с Асдрубалем будет не слишком сложно, а капитан Кинтеро не стал бы обещать ему того, чего не смог исполнить, ибо знал, что его старший сержант не из тех людей, с которыми можно безнаказанно шутить.
Когда разговор был окончен и дон Матиас передал Сентено все необходимые ему сведения и толстую пачку денег на первые расходы, сержант вышел из мрачного дома и, стоя на крыльце, долго смотрел на раскинувшееся у его ног имение, где каждая виноградная лоза была заботливо посажена в ямку, присыпанную гравием, и окружена защищавшей ее от ветра полукруглой каменной стенкой. Открывшуюся перед ним картину можно было бы сравнить с лунным пейзажем.
Он подошел к человеку, который с необычным спокойствием ремонтировал разрушенную ветром стенку, и сделал широкий жест рукой.
— Как вы управляетесь со всем этим, как поливаете? — спросил он. — Не вижу ни одной оросительной канавы, а как мне сказали, на этом острове годами не бывает дождей.
— А мы и не поливаем, — ответил Роке Луна, приподняв одною рукой сомбреро, в другой он держал кусок лавы. — Эти растения почти не нуждаются в воде.
Дамиан Сентено посмотрел на него тем самым своим тяжелым взглядом, который, казалось, еще немного — и буквально раздавит собеседника, словно огромный камень.
— Всяким растениям нужна вода, — уверенно произнес он. — Иначе бы и Сахара зазеленела.
Роке Луна наклонился, взял горсть черного гравия, покрывавшего поверхность земли, и протянул его Сентено, высыпав тому в открытую ладонь.
— Это пикон, — сказал он, — вулканический пепел. Ночью он впитывают влагу из воздуха, а потом передает ее земле. Днем же он защищает землю и не дает влаге испаряться. — Роке Луна слегка улыбнулся, так, словно это чудо происходило исключительно благодаря ему. — Таким образом мы и выращиваем виноград. Достаточно всего лишь одного дождя, чтобы урожай был хорошим.
Дамиан Сентено пристально посмотрел в глаза Роке Луна, а затем, помяв в ладони пикон, снова окинул взглядом виноградники и величественный дом, который вскоре должен был стать его домом. Здесь он наконец-то сможет пустить корни, и это после стольких лет скитаний, когда его единственным имуществом были лишь жалкий матрац, кособокий чемодан да пара комплектов поношенной униформы.
— Сколько бы лет тебе ни было, всегда следует учиться новым вещам, — важно произнес он. — И всегда полезно их применять на практике…
Затем, не торопясь, он направился к такси, такому старому, что казалось, оно вот-вот развалится, и спросил водителя, коротавшего время в тени каменного забора:
— Сможете подбросить меня до Плайа-Бланка?
— Смочь-то смогу, — ответил тот. — Но от Уга вниз ведет эта проклятая каменная дорога. Если у меня лопнет ось, вам придется за это платить. — И он пожал плечами, как бы извиняясь за свои слова. — Вы же понимаете, что иначе поездка для меня не окупится. Там ведь настоящий ад, на этой дороге.
Через окно просторного салона, устроившись в огромном кожаном кресле, которое то становилось больше, когда он приподнимался в нем, то сжималось, когда он в него опускался, дон Матиас Кинтеро смотрел, как автомобиль удалялся в сторону дороги, извивавшейся между лавовых потоков и ведущей прямиком к Аду Тимафайа, и впервые после той проклятой ночи, когда погиб его сын, он испытал нечто сродни покою.
Когда Асдрубаль Пердомо будет мертв, возможно, жизнь снова станет достойной того, чтобы ее прожить, а он прекратит страдать от невыносимой боли, грызущей его душу, и снова с удовольствием сыграет партейку в домино со своими старыми друзьями и выпьет стакан хорошего рому, отведает поджаренного на огне барашка и даже насладится ласками одной из тех проституток, которые недавно прибыли в Арресифе и о которых он столько слышал во время последних вечеринок.
Потом он прикажает Дамиану Сентено прижать Рохелию к стенке и заставить ее вернуть все, что она успела наворовать, а затем подыщет новых людей, чтобы те занялись его кухней и домом, а сам переложит груз хозяйственных забот на того, кто в течение всех этих лет хранил ему верность.
То, что все имущество после его смерти перейдет в руки Сентено, дона Матиаса не волновало. После смерти последнего в роду Кинтеро из Мосаги дом, виноградники, инжировые деревья, мебель, серебряная посуда и даже драгоценности могут катиться ко всем чертям, ибо все, кто мог потребовать у него объяснений, уже давным-давно покоились в своих могилах.
Единственное, чего требовали их души, так это мести за коварно пролитую кровь Кинтеро. И он был намерен отмстить, чтобы потом спокойно воссоединиться со своей семьей.
После полуночи загорелся чей-то баркас.
Он стоял рядом с другими, также вытащенным на песок подальше от волн и надежно установленными на башмаки, в ожидании, когда его столкнут в море… И вдруг ни с того ни сего превратился в пылающий факел, от которого в ночное небо разлетались пылающие искры, разносимые в стороны несильным восточным бризом и угрожавшие рядом стоящим лодкам.
Весь поселок спал. Спали даже собаки. И только тогда, когда жена трактирщика, жившая поблизости, проснулась и закричала, зашумели и мужчины и, перепуганные со сна, бросились спасать баркас, таща с собой ведра и тазы, доверху наполненные водой, выстраиваясь в цепочку, ведущую от моря к поселку. Они кричали, сыпали проклятиями, падали на песок и тут же вскакивали на ноги…
Тушили баркас недолго. Спустя каких-то десять минут вода победила огонь. На берегу осталась толпа испуганных столь неожиданно пришедшей бедой людей, подпаленные баркасы да некогда красивая новая шаланда «Ла Дульсе Номбре», превратившаяся теперь в дымящийся почерневший остов.
Были здесь еще десять или двенадцать баркасов и три тяжелых карбаса, которые использовались для перевозки соли с побережья на парусники, стоящие на рейде в каких-то двухстах метрах от берега, однако, судя по всему, жертвой должна была стать именно «Ла Дульсе Номбре». Лодка, за которую еще совсем недавно Торано Абрео отдал все, что ему удалось скопить за долгие годы труда, превратилась в пепел.
Торано Абрео, его жена и их дети остались стоять среди людей словно громом пораженные, все еще не веря в случившееся. Ужас сковал их, ведь на Плайа-Бланка, острове и без того нищем, рыбак, не имевший собственного баркаса, не смог бы прокормить и жену, что уж говорить о семье из пяти ртов.
— Возможно ли?.. Как же это?.. — вновь и вновь повторяли люди. — Когда мы отправлялись спать, все было спокойно, а спустя два часа вспыхнул огонь.
— Может, оставил непотушенный окурок?
— Торано не курит. Он бросил курить, чтобы расплатиться за баркас.
— Может, кто-то гулял по пляжу?
Все строго посмотрели на Исидоро, трактирщика, сказавшего эти слова.
— Хочешь сказать, кто-то из поселка? — с нажимом спросил дон Хулиан. — Мы все с детства приучены бросать окурки в море. К тому же все мы знаем, каких сил стоило Торано выкупить этот баркас.
— Я и не говорю, что это был кто-то из наших, — стоял на своем трактирщик. — Я знаю, что никто из здешних такого бы не сделал.
Больше в объяснениях не было нужды. Каждому на ум пришли шестеро чужаков, которые равнодушно наблюдали за пожаром из своей «крепости» на горе.
— Но почему Торано? — задал вопрос беззубый старик. — Почему не Абелай Пердомо, ведь это он их интересует? Мы все знаем, что эти люди приехали из-за Асдрубаля. Ты-то им что сделал, Торано?
— Ничего, — ответил дон Хулиан строго. — Сам-то он ничего не сделал, но он живет в поселке…
— Ты хочешь сказать, что мы все должны теперь расплачиваться за поступок Асдрубаля до тех пор, пока он не вернется? — раздался чей-то встревоженный голос.
— Я ничего такого не сказал, — последовал ответ. — Даже не подумал. Однако все это очень странно.
— Вышвырнем их отсюда! — предложил старик. — Разве за годы спокойствия мы превратились в трусливых крыс? Ведь их только шестеро.
— А у тебя есть оружие, чтобы вышвырнуть их? — задал вопрос трактирщик уничижительным тоном. — Трое из них мне уже показали свои пистолеты. И я уверен, что они неплохо умеют с ними обращаться.
— Я был на войне, — подал голос брат дона Хулиана.
— Интендантом! А я чистил картошку на военной базе. Так что не выпендривайся!
— Завтра я поднимусь в Фемес и поговорю с жандармами из Цивильной гвардии.
— Извини, Марадентро, — решительно прервал его сын Сеньи Флориды. — Цивильная гвардия только тогда станет тебя слушать, когда ты скажешь, где прячешь своего сына. О чем еще тебе с ними говорить? О том, что сгорел баркас? Так тебя отправят к пожарникам. У нас нет доказательств, что это сделали чужаки. — Он обвел пристальным взглядом всех присутствующих. — Ни одного доказательства.
Абелай Пердомо прекрасно понял смысл сказанного. Он помолчал немного, а затем решительно направился туда, где Торано Абрео неподвижно стоял, не сводя остекленевшего взгляда с обгорелого остова «Ла Дульсе Номбре».
— Бери мою барку, пока мы не поможем тебе купить другую, — сказал он. — Я же управлюсь с «Исла-де-Лобос». В конце концов, в случившемся нет и капли твоей вины.
— Я их убью! — процедил несчастный, впервые открыв рот с тех пор, как все началось. — Я их перебью по одному. Это были они.
— Не говори глупостей! — ответил ему Пердомо, положив руку ему на плечо. — Подумай о жене и детях. Моей барке уже немало лет, но она даст фору любой новой лодке. А я подыщу способ компенсировать тебе потерю.
— Кто бы мог подумать, что наш остров когда-нибудь станет страдать от чужаков. Я недоедал в течение трех лет, чтобы купить эту лодку, я не выпил ни рюмки, не выкурил ни одной сигареты… Ты же знаешь, что они ни в жизнь не заплатят.
— Знаю, Торано, однако зло уже свершилось. Не порти себе кровь. Они пришли сюда из-за меня, и они — мой страх и моя забота.
Торано ответил не сразу. Он подошел к остову своего баркаса, медленно провел ладонью по форштевню, единственной части, которая не пострадала от огня.
— Она так легко ходила! — воскликнул он, чуть не рыдая. — Была такой маневренной и так хорошо принимала ветер. Казалось, она знает, куда идти, чувствует места, где будет самый хороший лов, казалось, что она пела, когда возвращалась домой… У меня никогда не было подобной барки… Никогда!
Как же можно было утешить человека, который любил свою барку так же сильно, как и своих детей?
Возвращаясь домой, Абелай Пердомо признался себе, что Дамиан Сентено сумел точно рассчитать первый удар, и он уже не сомневался, что тот не промахнется и во второй раз. Он наверняка наблюдал за происходящим в свою позолоченную подзорную трубу, и, должно быть, все его внимание было сосредоточено на пылающем баркасе, который его хозяин лелеял, словно малого ребенка. Торано Абрео шел к своей лодке тогда, когда остальные рыбаки еще спали или коротали время в таверне.
— Начинаю понимать твою игру, — тихо произнес Абелай, будто Дамиан Сентено мог услышать его. — Ты будешь вредить людям до тех пор, пока не вынудишь их выбирать, пока наконец кто-нибудь из них не выдаст моего сына…
Убежище Асдрубаля было хорошо скрыто от людских глаз, и никто из семьи Пердомо и словом не обмолвился о том, где он мог прятаться. Однако Абелай не строил иллюзий на сей счет и понимал, что односельчане если еще и не начали догадываться, то вскоре обязательно догадаются, где именно схоронился его сын. На остров Исла-де-Лобос указывала быстрота, с которой он бежал. Да и всем было хорошо известно о любви, которую питали Марадентро к этому каменистому клочку суши. К тому же все знают: хочешь что-то спрятать — положи на виду. А остров Исла-де-Лобос был хорошо виден практически с любой точки Плайа-Бланка.
— Ему нужно уходить, — сказал Абелай, когда вся его семья собралась вокруг кухонного стола за крепким и горячим кофе, только что приготовленным Аурелией. — Каким бы удаленным ни было место, в котором он прячется, если эти свиньи возьмутся искать его на маяке — они его найдут. Он должен уходить, — повторил он, а затем обратился к Айзе: — И ты тоже.
— А я почему?
— Потому что рано или поздно они доберутся и до тебя. Сентено уже озвучил свои намерения. Он прекрасно знает, что, причинив тебе зло, он нанесет нашей семье сокрушительный удар. Когда-то давно я оказал Руфо Гера одну услугу, и теперь он у меня в долгу. Хотя за подобные услуги стыдно просить расплаты, но ситуация складывается таким образом, что он меня поймет и не осудит. В его доме никто не станет искать тебя, да и жандармам до тебя нет никакого дела.
— А как же Асдрубаль?
— Он мужчина. Он переждет на Тимафайа, пока какой-нибудь рыбак, питающий к нашей семье дружеские чувства, не увезет его с острова. Если ему удастся добраться до рыбных промыслов Мавритании, оттуда он сможет перебраться в Сенегал, а там уже найти способ переправиться в Америку… — Абелай сделал паузу. — В конце концов, многие уехали туда, лишь бы спастись от голода. Кое-кто даже нашел там свое счастье. — Он одним глотком допил свой кофе и сказал тоном, не требующим возражений: — Может быть, такова его судьба.
— Наверное, мне тоже придется уехать в Америку, — тихо сказала Айза. — Я уже никогда не смогу жить здесь спокойно.
— Потерять двоих детей одновременно — это уж слишком, — так же тихо ответила Аурелия. — К тому же твой отъезд посчитали бы своего рода признанием вины. — Она убрала волосы с лица дочери, как делала это еще в детстве, а затем слегка погладила ее по щеке. — Я согласна с твоим отцом. Тебе действительно следует ненадолго уехать, но потом ты вернешься в свой дом, к своей семье, и тогда все встанет на свои места.
— Ничто и никто уже не станет прежним, мама, и ты хорошо это знаешь, — ответила Айза. — Скажи же ей, отец! Скажи ей, чтобы не мечтала… Наша семья рушится по моей вине! Скажи ей, что уже ничего нельзя вернуть.
— Почему же по твоей вине, дочь? Я знаю, что ты ни в чем не виновата.
— Если бы в ту ночь я вела себя спокойно и молчала, вместо того чтобы танцевать и веселиться, словно девица легкого поведения, ничего бы не произошло.
— Ты делала то, что делают все девушки в твоем возрасте. Эти парни все равно поступили бы так, как поступили, даже если бы ты хранила молчание. — Голос Аурелии Пердомо звучал теперь намного более твердо и строго, чем обычно. — Настало время тебе перестать стыдиться собственного тела. Если Бог наградил тебя им, то тебе не остается ничего другого, как поблагодарить Его. Любая другая женщина была бы счастлива быть похожей на тебя, а ты нос воротишь. Прекрати горбиться, словно ты столетняя старуха, хватит смотреть в землю, будто у тебя косоглазие. Ты не виновна в том, что остальные женщины рождаются или слишком худыми, или слишком толстыми, что у кого-то слишком длинный нос, а у другой — слишком большая голова… Я в муках родила тебя такой, какая ты есть, и хочу, чтобы ты собой гордилась.
— Но это очень нелегко, мама.
— Уверяю, намного трудней ковылять по земле, словно у тебя ноги парализованы, и носить на своем лице ведьмин нос. А ведь Асумара живет со всем этим. — Она брезгливо покачала головой, давая понять, что эта тема уже успела ей порядком надоесть. — У нас и без того достаточно проблем, чтобы ты еще докучала нам своими глупостями.
— У меня тоже достаточно проблем, мама.
— В таком случае избавься от них и начни вести себя как настоящая женщина! В твоем возрасте моя мать уже была замужем, а годом позже уже родила меня, чуть не умерев при родах.
— Если будешь ей приводить такие примеры, то не думаю, что ей захочется стать наконец-то женщиной, — оборвал мать Себастьян, до этого хранивший молчание. — Однако, как бы то ни было, ты права: дело это не из легких и будет еще больше усложняться. Посему настало время забыть о мелких проблемах и сосредоточиться на главном. Как мы увезем ее отсюда так, чтобы никто не заметил?
— Мы поступим так, как поступали и раньше, — ответил ему отец. — Который сейчас час?
— Двенадцать минут третьего.
Абелай Пердомо вышел за дверь кухни и внимательно посмотрел на небо и на море. Ему понадобилась всего одна минута, и он, возвратившись, сказал:
— После четырех задует северо-восточный ветер. Приготовь свои вещи, Айза. А ты, Аурелия, мешок с едой и один гаррафон воды. Как только погаснут огни, всем сидеть тихо! Себастьян, пойдем, поможешь мне.
Час спустя, когда поселок снова погрузился в сон, а до того момента, когда усталые после беспокойной ночи люди начнут просыпаться, чтобы выйти в море на промысел, оставалось еще достаточно времени, три тени бесшумно преодолели десять метров, отделявших дом Пердомо от моря, и тихо поплыли, толкая перед собой грубо связанный из кусков пробкового дерева и пустых бутылок плотик.
Разглядеть их было невозможно, как ты ни старайся, как ни напрягай глаза. Ущербный месяц был едва ли не тоньше ниточки и терялся среди тысяч ярко сиявших на ночном небе звезд, поэтому уже в пяти шагах никого не было видно.
Даже беглецам стоило немалого труда разглядеть силуэт «Исла-де-Лобос», стоящего на рейде примерно в трехстах метрах от берега. Оказавшись в проливе Бокайна, они обязательно бы промахнулись, если бы Айза не услышала голос деда Езекиеля, зовущего ее с подветренной стороны.
— Туда, — тихо произнесла она, медленно поворачивая, и через пять минут все уже были на борту баркаса, дрожа и стуча зубами.
— Вытрави конец бакена и позволь лодке идти самой! — приказал Абелай Пердомо, почти прижавшись губами к уху сына. — Накатом волны нас отнесет в пролив, и через полчаса мы можем без страха поставить паруса. Тогда пусть нас видят. Вытрись и спустись за фоками, — велел он дочери. — Будет лучше, если станем держать несколько парусов наготове.
Марадентро хорошо знали море и свой баркас. Спустя пятнадцать минут лодка, подгоняемая ветром, который начал дуть, пробуждая ото сна море, баркасы и рыбаков, находящихся в своих постелях, взяла курс на мерцающий мягким светом маяк острова Исла-де-Лобос.
Баркас в чьем скрипе можно было при желании различить едва уловимый шепот, разрезал волну, наслаждаясь упругостью парусов, натянутых на его старых мачтах. Уже и сосчитать было нельзя, сколько раз он бороздил пролив Бокайна, и теперь он весело, словно доброго друга, приветствовал каждую подводную скалу, а та эхом отвечала ему, будто рассказывала о делах старых знакомых.
Ни один даже очень слабый огонек не светился на палубе, и «Исла-де-Лобос» походил на призрак, темной ночью поднявшийся из морской пучины. Перед его форштевнем таинственно сияла вода — это светился поднявшийся к самой поверхности планктон. Однако человеку несведущему могло показаться, что это звезды отражаются в морской глади, а нос баркаса, разрезающий волны, разбивает эти отражения на миллионы крошечных осколков.
Айза Пердомо прислонилась к борту и, изредка посматривая на мужчин, старалась не упустить из виду мерцающую точку на вершине маяка. Внезапно она ощутила присутствие рядом с собой человека, которого всегда очень любила и которого считала близким себе по духу. Она поняла, что это дед Езекиель плыл вместе с ними, хотя на этот раз он не был так беззаботен и весел, как в другие ночи.
Она оглянулась, но не увидела деда, и это очень ее удивило, ибо с детских лет она твердо усвоила, что ушедшие в мир иной никогда не предстанут перед ней в часы бодрствования. Они являются лишь в моменты, предшествующие снам, когда трудно бывает определить границы между действительностью и фантазией.
Только под утро, когда она вот-вот должна была открыть глаза, однако все еще находилась в объятиях дремы, набежавший ветерок рассказывал ей о том, с какой силой собирается дуть на сей раз, а дед говорил, придут ли к берегам острова тунец, макрель или сельдь и где именно следует их ловить.
Но сейчас она знала, что, хотя дед Езекиель и не произнес ни слова и даже не предстал перед нею, он находится рядом и, случись такая необходимость, подправит руль, ибо никто лучше него не знает особенности течения и изгибы пролива.
Тут вдруг она отчетливо увидела деда: он сидел на своей любимой каменной скамеечке и, устало откинувшись на каменную стену, глядел на снующие в разные стороны по широкому проливу паруса. Лодки плавали слишком далеко, и невозможно было различить, где чей баркас, но он узнавал манеру ловить ветер и выполнять галсы и мог безошибочно указать на любую лодку.
— Таких моряков, как в мои времена, уже нет! — обычно повторял он. — Эти дерьмовые машины все только портят. Все до того развращены моторами, что даже такой баркас, как мой, при попутном сирокко не смогут подогнать к Арресифе.
Приятно было ощущать присутствие старика на борту даже тогда, когда он был встревожен и озабочен, и впервые после той кошмарной ночи в душе Айзы родилась надежда на благоприятный исход дела. Возможно, их семья когда-нибудь снова соберется вместе.
Они вошли в спокойные воды бухточки, защищенной громадой кратера спящего вулкана — единственной вершиной небольшого острова, — и Абелай Пердомо, знавший как свои пять пальцев эти места, обогнул остров и взял курс к мысу, где стоял маяк.
— Опускай грот! — велел он сыну, внимательно следившему за маневрами лодки. — Продолжу на фоках.
Айза помогла брату собрать бизань а затем и бросить якорь, который ушел в воду, как только баркас подошел к выступу напротив высокой башни и встал так, чтобы луч маяка, шаривший по горизонту, прошел над ним.
Спустили фоки, и лодка закачалась на низких, мерно накатывавших волнах примерно в двухстах метрах от берега.
— Пойду отыщу своего брата!
Себастьян скинул с себя одежду, бросился в воду и поплыл, сильно загребая руками, к берегу.
Они услышали, как, едва выбравшись на берег, он позвал Асдрубаля и тот тут же ему ответил. Потом братья недолго о чем-то поговорили, прежде чем оба вошли в воду.
Они неторопливо проплыли плечом к плечу расстояние, отделявшее баркас от прибрежных камней, и наконец-то забрались в баркас. Асдрубаль, едва ступив на палубу, сразу же бросился обнимать сестру, с которой не виделся с той самой ночи, когда произошло несчастье.
Абелай Пердомо не дал им, впрочем, времени как следует друг друга поприветствовать. Он тут же приказал ставить все паруса, с которыми только мог справиться старый баркас, и, как только якорь улегся на свое место, он развернул лодку и взял курс в открытый океан, зная, что, прежде чем забрезжит рассвет, они как раз успеют пройти между двумя большими островами.
Ночь в очередной раз проиграла схватку с солнцем, когда они проскочили между Плайа-Бланка и мысом Печигера и, пройдя так три мили, переложили руль на правый борт, позволив баркасу набрать скорость.
Спустя три часа, под защитой легкого тумана, превратившего берега острова Фуэртевентура в расплывчатое, едва заметное пятно и полностью скрывшего даже самые высокие вершины Лансароте, Абелай Пердомо попросил сыновей спустить паруса и положил баркас в дрейф, позволив ветру и течению медленно нести их к югу.
Теперь пришло время ждать.
Дамиан Сентено грубо выругался. Они не подумали о том, что Пердомо Марадентро может столь стремительно отреагировать на их вызов.
Как только часовой, пришедший разбудить его, сообщил, что баркас «Исла-де-Лобос» исчез с причала, Сентено поднялся на плоскую крышу и, прильнув к окуляру подзорной трубы, стал внимательно, миллиметр за миллиметром, осматривать линию горизонта. Впрочем, он понимал, что дело это успехом не увенчается, ибо враг его был кем угодно, только не дураком, и первое, что он сделал, так это убрался как можно дальше от острова.
Затем он перевел взгляд на берег, где толпились жители деревни, большинство из которых не вышли на утренний промысел, даже несмотря на то, что море было спокойным, а ветер — благоприятным. Все они собрались вокруг почерневшего остова «Ла Дульсе Номбре». По тому, как они поглядывали в сторону дома Сеньи Флориды, Сентено тут же понял, что они уже вычислили поджигателей.
Не оборачиваясь, он позвал Хусто Гаррига, выходца из провинции Аликанте, который вот уже долгие годы был его правой рукой.
— Возьми трех человек, спустись вниз и узнай, что они говорят, — приказал он. — Ни в чем не признавайтесь и ничего не отрицайте, но сделайте так, чтобы они поняли — мы сюда пришли не шутки шутить. Да, и приведи ко мне дона Хулиана!
Затем он уселся на выступ стены и закурил сигарету, приготовившись насладиться предстоящим спектаклем. От его внимательного взгляда не укрылась нервозность местных жителей и злость, которая родилась в их сердцах сразу же, как только они увидели четырех чужаков, решительно к ним приближающихся.
Торано Абрео попытался было кинуться на своих обидчиков с кулаками, однако трактирщик Исидоро и еще два человека удержали его, напуганные огромными пистолетами, болтавшимися на поясах Хусто Гаррига и худого лысого типа, по прозвищу Мильмуертес.
Дамиан Сентено прекрасно знал, что на самом деле открытое ношение оружия может стать причиной серьезных проблем с Цивильной гвардией, которая в то время являлась единственной властью, известной на острове, однако полностью доверял слову Матиаса Кинтеро, пообещавшего держать жандармов подальше от Плайа-Бланка.
— Я хорошо знаком с правительственным делегатом, — сказал он. — Мне известно, каким путем он получил свои земли и особняк в Тегисе, и он знает, что я это знаю. Стоит мне поговорить с друзьями из Мадрида, и его карьера полетит к чертям. Посему он пообещал мне попридержать своих людей. Каждому свое!
Разговор между людьми Сентено и жителями острова был недолгим. Большинство из местных удалились в сторону таверны или разошлись по своим домам, будучи убежденными, что Хусто Гаррига и его компания способны применить оружие, если их к тому вынудить.
Увидев, что двое из его людей возвращаются, ведя с собой дона Хулиана. Дамиан Сентено спустился вниз и встретил его прямо на крыльце, чтобы островитяне, наверняка следившие за ним из своих окон, могли хорошо все видеть.
— Где твой кум? — не здороваясь, спросил он. — Как это ему удалось так быстро скрыться?
— Я не думаю, что он убежал, — ответил Хулиан, силясь сохранять спокойствие. — Возможно, он вышел на промысел или решил спрятать свой баркас в надежном месте. Никому ведь не хочется, чтобы сожгли его лодку. Это самое страшное преступление, которое только может быть совершено в наших краях.
— Думаю, убийство беззащитного юноши — преступление намного более ужасное.
— Как сказать… Есть категория людей, которые только и делают, что бродят в поисках смерти.
— Это что, угроза?
— Я никогда никому не угрожаю. Здесь живут мирные люди, которые во всем слушают свою совесть. Что бы ни случилось…
— Будем надеяться, что так, — тихо ответил Сентено. — Война вам не подходит. Зато мои люди прямо-таки рождены для нее.
— Мы это уже поняли. Но в чем виновен бедный Торано? Его даже не было в Плайа-Бланка в ночь святого Хуана. Он выходил на промысел.
— Кто такой Торано? Тот, чья барка сгорела? Скажите ему, что я сожалею. Однако он мог бы быть более осторожным. А может, всему виной его друзья? — Сентено пристально посмотрел Хулиану в глаза, пытаясь понять, осознал ли тот смысл сказанного. — Пусть он лучше объяснит своим соседям, что тот, кто покрывает преступника, нарывается на крупные неприятности. — На губах Дамиана заиграла злая усмешка. — Я понимаю, что с этим трудно смириться, однако заявляю, что никто — повторяю, никто — не будет жить спокойно на этом острове до тех пор, пока не объявится Асдрубаль Пердомо. Вы меня поняли?
— Я это понял в тот день, когда вы ступили на нашу землю, — ответил дон Хулиан, голос которого слегка дрожал от едва сдерживаемого возмущения. — Это вы никак не хотите понять. Асдрубаль не настолько глуп, чтобы вернуться сюда из-за человека, который поджигает баркасы, вернуться в место, где его непременно убьют. Мы организовали сбор пожертвований и, работая вместе, скоро купим Торано новый баркас. Но и целый остров не сможет воскресить Асдрубаля, если его зарежут, посему никто не хочет его возвращения. Подумайте над этим. Когда придет время и вас и ваших друзей станут есть черви, Плайа-Бланка будет жить своей жизнью, как и прежде, как одна большая семья. Иногда, конечно, и у нас случаются ссоры, однако семья она на то и семья, чтобы вместе преодолевать все беды и невзгоды. И я с гордостью стану рассказывать своим внукам, как мы все вместе купили баркас Торано Абрео. Но я лучше умру, чем стану рассказывать им о том, как мы предали одного из наших братьев. Вы меня поняли?
— Отлично понял. Но вы еще меня не знаете.
— А вы нас. Ведь нам всем вместе легче узнать, что вы за человек, чем вам проникнуть в душу целого селения.
— Вы что, хотите рискнуть и стать героями?
— Вовсе нет! — твердо ответил дон Хулиан. — Но мы не желаем, чтобы кто-то ходил по нашей земле и пытался нас напугать. Мы люди моря. Кое-кто из нас пережил сто штормов, а другие по три раза в жизни тонули. Большинство из нас тоже были на войне, однако мы не считаем это ни профессией, ни поводом для гордости. — Он ткнул в собеседника узловатым, покрытым мозолями указательным пальцем. — Хочу дать вам один совет. Раскройте хорошенько глаза и осмотритесь вокруг. Здесь очень переменчивые ветры, и если загорится еще один баркас, не ровен час, как пламя перекинется и на этот дом. Крыша здесь старая и вспыхнет, словно ее керосином облили. — С этими словами он развернулся, чтобы уходить. — А сейчас я должен идти. Я не могу терять целый день за пустыми разговорами. Да и Айза Пердомо утверждает, что именно на этой неделе повалит тунец…
Дамиан Сентено смотрел, как дон Хулиан не спеша спустился к берегу и зашагал к своему баркасу, и на какое-то мгновение в его душе поселился если не страх, то сомнение. Запугать людей, заставить их грызться друг с другом — эта тактика хорошо работала во время войны, когда повсюду царили ненависть и страх. Однако с такими людьми, как эти, с людьми, которые каждый день рисковали жизнью, каждый час бросали вызов стихии, способной сокрушить горы и стереть с лица земли целые острова, и изо дня в день одерживали над нею верх, надо было вести себя по-другому.
— Похоже, они не такие уж и слабаки, которые разбегаются в разные стороны, подобно кроликам, стоит им только почувствовать опасность, — сказал он себе. — Наверное, они из той породы людей, которым следует покрепче прижать пальцы… Хусто! — позвал он своего помощника, все еще стоявшего у баркаса. — Хочу что-то сказать тебе!
Наедине, в комнате, когда-то бывшей салоном покойной Сеньи Флориды, которая умела предсказывать будущее по внутренностям акулы маррахо, он рассказал Хусто о своих страхах и твердо добавил:
— Нельзя им дать время очухаться. Нам нужно нанести им удар такой силы, чтобы они поняли, что мы намерены действовать серьезно…
— Что мы должны сделать?
— Дать им понять, кто здесь командует.
— Думаю, они это и так уже знают. Командуем здесь мы.
— Да, — согласился Дамиан Сентено. — Но они думают, что без оружия мы не что иное, как пустое место. И пока они так думают, они нам никогда не покорятся. Нужно показать им, что мы на самом деле сильны. С оружием или без него.
У Дамиана Сентено было время как следует разузнать об обычаях Плайа-Бланка, и он выбрал удачный момент между девятью вечера и полуночью, когда в единственной таверне, превращавшейся иногда в казино, около десятка человек играли в карты или вели разговоры о событиях, произошедших в последнее время в поселке и потрясших местных жителей.
Дамиан Сентено со своими людьми неожиданно возник на пороге и тут же направился к стойке, грубо сколоченной из досок старых баркасов и толстых, принесенных прибоем к берегам Папагойо бревен, и потребовал лучшего вина из Уги и шесть стаканов.
Трактирщик Исидоро на несколько мгновений опешил. Пробежавшись взглядом по лицам завсегдатаев, которые прервали игру и теперь молча смотрели на чужаков, он хотел было отказать вошедшим, однако, сообразив, что этим самым он только ухудшит ситуацию, выставил стаканы на барную стойку и принялся наполнять их, разливая вино из одного из самых своих больших кувшинов.
— Всем добрый вечер!
Голос Дамиана Сентено прозвучал ясно и четко. Здороваясь, он повернулся в сторону присутствующих. Он опирался на стойку и демонстрировал людям, что под его распахнутой рубахой нет никакого оружия.
Пятеро головорезов последовали примеру своего предводителя, и даже самый тупой островитянин понимал, что, хоть они и пришли без оружия, намерения у них были самые что ни на есть серьезные.
Никто в ответ не произнес ни слова, но Дамиан Сентено и не нуждался в ответе, так как немедля добавил:
— Кто из вас Торано Абрео?
— Торано никогда не ходит в таверну, — ответил ему старый рыбак, чье лицо, казалось, было соткано из тысячи тончайших морщин. — Все свои деньги он потратил на баркас, который на днях поджег какой-то сукин сын.
Дамиан Сентено взял преподнесенный ему стакан и, осушив его одним глотком, тем же тоном задал вопрос:
— А есть здесь хоть один сукин сын, который осмелится утверждать, что это я или кто-то из моих людей поджег баркас? — Он сделал короткую паузу и добавил: — Если есть, пусть подойдет, и я ему размозжу голову. И если так думают два человека, пусть подойдут, и их ждет та же участь. И даже если их трое… Ибо каждого из нас и три человека не заставят проглотить свои зубы.
Рыбаки один за другим начали подниматься, отставляя в стороны столы и стулья, — они последовали примеру старого морщинистого рыбака. Кое-кто из них стал снимать рубахи, осторожно складывая их в одном из углов бара.
Затем островитяне, за исключением стариков, которые отошли к дверному проему и оттуда решили наблюдать за грядущей схваткой, начали наступать. Самым первым и самым решительным из них оказался сын дона Хулиана, более известный под прозвищем Гуанчито. Именно он нанес удар, от которого Хусто Гаррига ловко увернулся.
Минуту спустя драка стала всеобщей. Жители Плайа-Бланка превосходили чужаков по численности, однако последние были закаленными в многочисленных боях солдатами, привыкшими вести рукопашный бой. Все их движения были отработаны до совершенства.
Самым ловким из местных, без сомнения, был трактирщик Исидоро, с самого начала одним ударом — головой в нос — вырубивший так называемого Мильмуертеса. Однако Дамиан Сентено, наблюдавший за происходящим, встал перед Исидоро, легко увернулся от очередного мощного броска и, не дав противнику опомниться, одним точным ударом ноги в пах и хуком в нос уложил того на пол рядом с Мильмуертесом.
Драка была яростной, но протекала она в полной тишине, словно все понимали, что сейчас не стоит тратить силы на проклятия и стенания. Несмотря на глухие звуки ударов, треск мебели и звон разбившихся кувшинов, никто из прохожих, очутившихся неподалеку от бара, и представить себе не мог, что за его зеленой дверью разворачивается настоящая битва.
Драка заняла не более двенадцати минут, и под конец люди Дамиана Сентено лишь издевались над теми немногими островитянами, кто еще не валялся без сознания на полу. В конце концов были вынуждены вмешаться даже старики, не позволившие Хусто Гаррига и некоему галисийцу разорвать на части сына дона Хулиана, который до сих пор держался на ногах каким-то чудом. Он стоял, прислонившись спиной к стене, и лишь гордость не позволяла ему рухнуть под мощными ударами, которые наносили ему со всех сторон.
Когда он наконец свалился, Дамиан Сентено, кому в рукопашной схватке не было равных, окинул пристальным взглядом таверну и жестом приказал своим сообщникам поднять Мильмуертеса и цыгана, который то и дело падал, пытаясь встать на ноги. После чего он покинул таверну, чей пол был залит вином и кровью.
Примерно в то же самое время, около десяти часов вечера, баркас «Исла-де-Лобос» на всех парусах прошел к подветренному берегу, совершая длинные галсы и оставляя по правому борту луч маяка Печигера, а затем медленно приблизился к опасным банкам Тимафайа, по всей видимости, самого безлюдного места на земле.
В первый день сентября 1730 года зеленые долины и беленькие деревушки на юго-западе острова Лансароте стерло с лица земли самое страшное извержение вулкана, которое только могло сохраниться в памяти человечества. Оно продолжалось более шести лет, за это время натекло столько лавы, что она похоронила под собой десять селений и покрыла четвертую часть острова.
Тридцать девять новых вулканов присоединились к почти к тремстам уже существующим. Температура их была так высока, а клокочущая раскаленной лавой в их жерлах сила столь велика, что и два века спустя на Тимафайа оставались места, где достаточно было погрузить руку на несколько сантиметров в пепел или расщелину, чтобы тут же получить страшный ожог — температура здесь доходила до четырехсот градусов.
Немногие выжившие свидетели рассказывали о жестоком сражении, развернувшемся между раскаленной лавой и свирепым бушующим морем, когда в небо поднимались тучи обжигающего пара. В доказательство их слов осталось множество почерневших, обожженных камней, которые были отброшены вулканом в океан на сотни метров, однако, не сумев его победить, навсегда изуродовали береговую линию. С тех самых пор место это считалось недобрым, и немногие рыбаки отваживались бросать здесь сети, хотя прибрежные воды и изобиловали рыбой.
Решение безлунной ночью, да еще и при неспокойном море, подойти к линии прибоя острова Тимафайа являлось по-настоящему рискованным, и Абелаю Пердомо пришлось призвать на помощь всю свою ловкость, смекалку и знания, чтобы в каких-то ста метрах от маленькой бухточки с черным песком спустить на воду крошечный плотик, на который тут же запрыгнул Асдрубаль.
Затем Абелай положил баркас в дрейф, и только тогда, когда находился уже в двух милях от берега, развернул его на сто восемьдесят градусов, взяв курс на северный мыс острова, так, чтобы к трем часам утра «Исла-де-Лобос» мог войти в спокойные воды Рио — узкого морского рукава, который отделял высокие утесы острова Фамара от вечно печального Ла-Грасиоса, единственное селение которого в это время тонуло во мраке. Но Абелай Пердомо не нуждался в свете, так как мог плыть, ориентируясь по отблескам далекого маяка Алегранса да по темному, вырисовывающемуся на фоне неба силуэту, образуемому высокими скалами восточного берега.
Ветер зло засвистел в вантах, когда баркас, опасно накренясь, буквально несся по спокойным водам Рио. Какой-нибудь полуночник-рыбак с Ла-Грасиоса, решивший забросить свои сети, решил бы, что видит перед собой паруса Летучего голландца, неприкаянного духа, мчащегося мимо грозных утесов острова прямо в преисподнюю.
Айза Пердомо сидела на корточках на носу баркаса, а рядом, по-прежнему безмолвный, устроился ее дед. Она, притихнув, смотрела на море и на мерцающие звезды, то появляющиеся из-за туч, то пропадающие за гигантскими отвесными скалами. По мере того как баркас приближался к цели, в ее душе разрасталась тоска, ибо с каждой минутой она все яснее осознавала, что теперь уже не скоро увидит тех, кого так любила.
Даже отсутствие Асдрубаля, прятавшегося по другую сторону пролива Бокайна, она переносила с трудом. Теперь же ей было страшно представить, как она станет просыпаться по утрам, не слыша привычной возни матери на кухне, не ощущая запахов родного дома, лишившись возможности выглянуть за дверь и увидеть море, откуда так часто возвращался баркас ее отца.
Она вспомнила Руфо Гера, человека замкнутого и одинокого, все время проводившего с книгами. Обычно он устраивался на берегу, прислонившись спиной к борту перевернутой старой шаланды, и до вечера погружался в чтение. Частенько он просил Аурелию Пердомо, которую уважал за энциклопедические знания, объяснить ему особо сложные места, которые он не в силах был понять.
Таким образом он скорее мог считаться другом Аурелии, чем Абелая, однако к старшему в семье Пердомо он питал особую симпатию и был предан ему всей душой, ибо однажды, когда оба они были еще очень молоды, Абелай Пердомо в одну из безлунных ночей помог четыре часа продержаться на плаву его единственному брату, когда один из пароходов разломил надвое баркас, на котором они рыбачили.
Восемь лет назад, когда умерла одна из тетушек Руфо Гера и оставила ему в наследство свои земельные участки и дом в Арии, он решил, что и так уже потратил слишком много лет на бесплодную борьбу с морем и теперь наступил момент обрести покой. Для него это означало устроиться поудобнее с хорошей книгой в тени раскидистой пальмы, потому что «лук и помидоры растут сами по себе, а тебе уже не нужно день-деньской насаживать наживку на крючки».
Тем не менее каждые два или три месяца он спускался в селение, чтобы провести неделю в местах, где родился. Он приходил с худющей верблюдицей, нагруженной до предела продуктами, и почти всегда останавливался в доме Пердомо Марадентро, потому что там он всегда мог обратиться к Аурелии за помощью и советом.
Айза знала, что Руфо Гера был одним из тех немногих людей, которые ненавидят море, однако в их компании все равно можно было чувствовать себя свободно. Каждый раз, видя его, она вспоминала о том единственном дне, когда оказалась у него в гостях, в окруженном пальмами доме, примостившемся на склоне скалы. Оттуда не было видно моря. Для нее же море всегда было неотъемлемой частью того, что она считала настоящей жизнью. Оно было для нее не менее важно, чем родители и братья.
Когда она думала о вещах, которые любила, в сердце ее рождалась страсть, когда же вспоминала о том, что ее теперь вынуждают все это оставить, душу ее захлестывала тоска, которая становилась все сильнее и сильнее по мере того, как низкий берег острова Ла-Грасиоса уходил назад, а форштевень баркаса неумолимо приближался к бухте.
Впрочем, о Ла-Грасиоса она хранила одно из самых прекрасных своих воспоминаний. Когда ей исполнилось десять лет, вся семья взошла на баркас, чтобы провести пять дней на якоре с подветренной стороны острова, принимая участие в последних приготовлениях к свадьбе самого лучшего друга Асдрубаля и Себастьяна.
Юноша, которому не исполнилось и двадцати лет, уже три года строил дом, в котором ему предстояло жить со своей юной женой, на острове же существовала традиция, согласно которой все жители помогали молодой паре обустроить семейный очаг в те дни, когда море было особенно несговорчивым.
На Ла-Грасиоса, который на архипелаге называли Островом Добрых Обычаев, все делалось сообща, начиная от строительства дома, подготовки баркасов и заботы о больных и заканчивая поддержанием чистоты в поселке и его благоустройством. Айзе особенно запомнилось то, что также произвело неизгладимое впечатление на ее мать, когда она присутствовала на церемонии репарто, проходившей в те дни.
В течение года команда каждого баркаса отдавала одной из местных старушек выручку — почти всегда одними монетами дуро — от продажи рыбы, и добрая женщина обязывалась хранить ее, пряча в тяжелый деревянный сундук.
После завершения путины, как всегда накануне крещений и свадеб, команды рыболовов рассаживались на песке вокруг старушек, и те, не торопясь, клали по одной монете перед каждым мужчиной, и так до тех пор, пока годовая выручка не закончится. Изредка они добавляли небольшую горстку тому рыбаку, которому необходимо было отремонтировать свой баркас, однако всегда откладывали на нужды больных, горстку монет отдавали соседям, которые по той или иной причине не могли выйти в море в этом году, и, наконец, последняя горстка предназначалась для вдов и сирот.
Аурелии Пердомо этот обычай показался самым прекрасных из всех, что она знала, ибо он указывал на необычайно тесные узы дружбы, связывавшие всех жителей острова. В течение многих недель она внушала своим детям и всем, кто мог ее слышать, что если бы весь мир последовал примеру рыбаков с Ла-Грасиоса, то большей части проблем попросту бы не существовало. Айзе же в ее десять лет в те дни интереснее всего было побегать с местными ребятами по просторному пляжу Плайа-де-лас-Кончас, понырять в незнакомых, богатых рыбой заводях пролива и до отвала наесться пирожных, арбузов и сушеного инжира, которые подавали на одном из самых веселых праздников, которые она когда-либо видела в своей жизни.
По ночам она укладывалась спать на палубе, любуясь теми же самыми звездами, которые сейчас покачивались у верхушек мачт, представляя, как в один из дней она тоже выйдет замуж за одного из людей моря и нарядится в такое же красивое платье, а ее братья с гитарами и колокольчиками будут развлекать гостей.
И все было бы именно так, окажись она такой же простой и скромной девушкой, как та невеста, которая прекрасно подходила рыбаку с Ла-Грасиоса. Но она из маленькой девочки превратилась в красавицу, на которую нельзя было не обратить внимания.
Из раздумий ее вывел голос отца, приказавшего спустить паруса, и она бросилась на помощь брату точно так же, как это делала тогда, когда была еще совсем маленькой девчушкой, путавшейся в тросах и ногах взрослых.
Как только баркас оказался перед единственным огоньком, тускло мерцавшем в одном из окон полудюжины хибар Осолы, Себастьян бросил якорь, затем уложил фоки, и «Исла-де-Лобос» встал на рейде, защищенный скалистыми выступами узенькой бухточки, в глубине которой находилось некое подобие порта.
— Проводи свою сестру к Руфо Гера и постарайся, чтобы вас никто не видел, — велел Абелай Пердомо. — Затем ступай прямо к дому.
— А баркас?
— Смогу и сам управиться. Выйду в открытое море и с попутным ветром, не торопясь, вернусь в Плайа-Бланка. — Он нежно поцеловал дочь в лоб. — Постарайся сделать так, чтобы никто не узнал, где ты находишься, — попросил он. — У Матиаса Кинтеро большие связи, да и люди на материке совсем не такие, как мы. — Он минуту помолчал, а затем хриплым голосом, в котором явственно слышалось волнение, произнес: — Помни, если ты попадешься, нас не будет рядом с тобой, и мы уже не сумеем тебя защитить. Ты меня поняла?
— Не беспокойся… — Она ласково погладила отца по небритой щеке. — Обо мне не волнуйтесь, позаботьтесь о себе.
Себастьян разделся, аккуратно положил одежду и ботинки на большой кусок пробкового дерева, соскользнул в воду, поплыл по спокойной бухте и вскоре уже вышел на берег. Айза последовала его примеру. Абелай Пердомо отгреб на несколько метров и начал выбирать длинный конец, стараясь не глядеть на обнаженное тело дочери, которое поражало своей красотой даже в неверном свете звезд.
Десятью минутами позже, когда Абелай убедился, что дети начали подниматься по извилистой тропе, едва заметной на черной лаве, покрытой лишайником и жухлой травой — постоянными обитателями Проклятой страны вулкана Корона, — он поставил фоки, взял лево руля и одним рывком, словно игрушку, поднял якорь.
Когда борт баркаса «Исла-де-Лобос» прошел буквально в трех метрах от последнего утеса северо-восточного мыса, Абелай Пердомо взял курс на восток, закрепил руль и, приложив всю свою геркулесову силу, одним махом поднял главный парус.
Когда наконец он окончательно закрепил его, баркас рванул вперед, набирая скорость, и его форштевень начал мурлыкать словно кот, по мере того как лодка рассекала спокойные воды с подветренной стороны острова.
— Он находится на Лансароте.
— И это все, что тебе до сих пор удалось узнать? Что он находится на Лансароте?
— Послушайте, дон Матиас, — попытался защититься Дамиан Сентено, — когда я только приехал, все местные, как один, пытались уверить меня в том, что парень находится далеко. На какое-то время я даже поверил их россказням, полагая, что Цивильная гвардия здесь все как следует обыскала. Однако потом я пришел к выводу, что никто как следует не порыскал на острове. Возможно, речь идет о самой негостеприимной земле на свете, но нужно помнить, что там достаточно укромных мест, где можно хорошенько спрятаться.
— Ты имеешь ввиду Тимафайа?
— Да, я говорю об этой адской земле Тимафайа, обо всех этих пещерах, пляжах, соседних островках и даже жилых домах. Здесь большинство домов находятся далеко друг от друга, и люди живут изолированно. Их разделяют не только стены, но еще и обычаи. Можно прочесать Лансароте от края и до края и не встретить ни одной живой души. Этот остров словно населен призраками, а поля будто обрабатываются сами по себе.
— Крестьяне встают очень рано и, как только начинается жара, возвращаются в свои дома, где сидят до наступления вечера. Здесь, за исключением времени сева и уборки урожая, они лишь подправляют стены, защищающие посевы от ветра, да выпалывают сорняки. Так как здесь нет воды, то и поливать нечего. Здесь им помогает роса.
— Я уже это понял. А также понял, что достаточно кому-либо спрятать своего сына, как любые поиски становятся безуспешными.
— Если бы речь шла о простом деле, я бы тебя не позвал, — сухо произнес дон Матиас. — Ни тебя, ни твоих людей. Я не хочу объяснений. Я хочу лишь побывать на похоронах Асдрубаля Пердомо… — Он сделал длинную паузу, а потом посмотрел на Сентено таким тяжелым взглядом, что тот поежился. — Более того, мне доставит ни с чем не сравнимое удовольствие, если ты приведешь мне его живым. Тогда я бы сам пристрелил его, закопал в саду и каждый день мочился бы на его могилу. Так скажи — когда же это произойдет?
— Я уверен в том, что все будет именно так, я просто не могу сказать, когда именно это случится, — ответил Дамиан Сентено. — Девица тоже исчезла, однако думаю, что прячутся они порознь.
Старик ничего не ответил. Он встал, высунулся в окно и, казалось, залюбовался своими виноградниками, потом наконец он подошел к старому камину — его дом был одним из немногих на Лансароте, который мог бы похвастаться подобной роскошью, — и взял с полки фотографию сына:
— Мне все еще кажется, что он может вернуться домой. Я вскину взгляд — и увижу, что он стоит на пороге. Потом он попросит у меня несколько дуро, чтобы пойти на паранду… Я просыпаюсь по ночам, представляя, что это он стучит в дверь, а оказывается, это всего лишь ветер гудит в лозах. Ты знаешь, я целыми днями плачу от бессилия и гнева. И как до сих пор Бог не покарал человека, совершившего подобное преступление. Это то, чего я никак не могу понять, однако надеюсь, что спрошу Его, когда предстану перед Ним на том свете! Я потерял три года жизни, рискуя собственной шкурой, чтобы защитить Христа, а Господь не потратил и минуты, дабы защитить моего сына. И мне кажется, что это чертовски несправедливо! Да, несправедливо! Когда наступит время, я буду вынужден потребовать у Него объяснений.
Дамиан Сентено все это время молча смотрел на своего патрона, а потом налил себе еще одну рюмку сладкой домашней мальвазии, которую Рохелия оставила на столе рядом с подносом с галетами и бисквитами. Сержант пришел к выводу, что нужно поспешить, иначе он рискует в итоге остаться ни с чем. Похоже, его бывший командир был уже изрядно не в себе, и не случится ли так, что к тому времени, когда он доведет дело до конца, дон Матиас окончательно съедет с катушек и его завещание будет признано недействительным? Одиночество, злоба и бессилие превратили его в охваченного бешенством зверя, в старого, потерявшего разум шизофреника, который раньше срока рискует сойти в могилу.
— Вам бы следовало выходить время от времени, — осмелился дать совет Дамиан Сентено, когда заметил, что дон Матиас снова погрузился в свои мысли, невидящими глазами глядя на фотографию сына. — Постарайтесь отвлечься, снова сходите в казино, сыграйте партейку-другую или пригласите в гости друзей. Вы только себе хуже делаете, продолжая так убиваться.
— Я в советах не нуждаюсь, Дамиан. Мне нужен Асдрубаль Пердомо, мертвый, вот и все, — огрызнулся дон Матиас, даже не взглянув на собеседника. — Мертвый, Дамиан, мертвый… Ты понял? Один-единственный мертвый человек! — На сей раз он повернул голову, и глаза его жутко сверкнули. — Ну чего тебе стоит убить одного-единственного человека? Он всего лишь присоединится к сотням покойников, которых ты уже отправил на тот свет! Что происходит? Неужели ты постарел?
— Вы же знаете, что нет, — возразил Сентено. — Дело в том, что на этом проклятом острове дела складываются совсем не так, как на материке, да и времена уже другие. Тогда я только вам должен был давать объяснения…
— Теперь ничего не изменилось. Ты по-прежнему должен давать объяснения только мне.
— Вы ошибаетесь, дон Матиас. Я говорю так, потому что провел четыре года жизни в заточении, а это очень тяжело, поверьте мне. Я убью этого парня для вас, однако хочу обставить все так, чтобы не провести потом остаток жизни в тюрьме.
— Ты ведь знаешь, что я, как и раньше, стою за твоей спиной.
— Знаю, и благодарен вам за это. Однако, каких бы иллюзий мы ни питали, следует понимать, что та протекция, которую вы можете мне составить, совсем не та, какую вы могли мне предоставить во время войны. Хотим мы этого или нет, но с той поры прошло уже десять лет, и годы эти многое изменили.
— Я это уже понял.
— Только не смейтесь надо мной. — Голос бывшего легионера зазвучал недовольно и немного капризно, что, естественно, не могло остаться незамеченным для капитана. — В Терсио я понял одну вещь: тот, у кого первого сдают нервы, совершает фатальную ошибку. Вам должно быть известно: дело до конца можно довести только при одном условии — я сумею сохранить спокойствие. На это я всегда рассчитывал — и теперь не стану менять своих убеждений.
— Все это было бы очень хорошо, если бы я видел результаты. Чего тебе удалось добиться?
— Того, что они боятся. Еще больше они станут бояться, когда поймут, что дни проходят, а водовоз не появляется. — Он слегка усмехнулся. — Засуха затяжная, баки пусты, а времена, когда на Плайа-Бланка воду верблюды доставляли в бурдюках, давно прошли. Сейчас жителей снабжает водой водовоз, а я сделал так, что он не появится.
— Надеешься, что это даст результат?
— Нет ничего хуже жажды, уж будьте уверены. Я три года служил в Сахаре — и очень хорошо знаю, что это такое. То, что человек откажется сделать даже за миллион, он сделает за глоток воды, стоит ему лишь испытать настоящую жажду.
Дон Матиас ответил не сразу. Он снова подошел к окну, открыл его настежь и глубоко вдохнул воздух, насыщенный ароматом спелого инжира, долетавшего сюда из сада. Ночь уже опустилась на остров, размазывая очертания предметов, превратив землю в сгусток ароматов и звуков. В такие моменты старик становился другим. Казалось, что наступление темноты успокаивало его ярость или, быть может, распаляло только сильнее, однако в такое время внешне он становился более спокойным.
— Не знаю, одобрю ли я или нет то, что ты делаешь, — заметил он наконец, не переставая вглядываться в темноту. — И по душе ли мне мысль, что эти люди станут ненавидеть меня или, что еще хуже, моего сына… Считаешь, что действительно другого выхода не существует?
— Нет, и вспомните о том, что произошло на месте убийства. Это они своим молчанием поддержали убийцу.
— А если они действительно не знают, где он скрывается?
— Они будут вынуждены узнать это, потому что Пердомо сами никогда не раскроют секрет. Они будут молчать даже тогда, когда их будут резать на части.
Послышался настойчивый стук в дверь, и тут же на пороге появилась высокая фигура Рохелии Ель-Гирре, которая, не сводя взгляда с Дамиана Сентено, спросила своим хриплым голосом:
— Останетесь ужинать?
— Нет, спасибо. Меня ждут в Арресифе. Скажите мне, Рохелия, вы знаете этот остров до последнего камня. Кому хорошо известен Монтаньяс-де-Фуего?
— Тимафайа? Никто не отважится соваться в это проклятое бесплодное место. Хотя есть один пастух из Тинахо. Он коз пасет. Его зовут Педро Печальный. Он часто ходит туда охотиться на кроликов и куропаток. Думаете, что этот выродок прячется там?
Дамиан Сентено ответил не раздумывая:
— Если бы я был на его месте, то спрятался бы там.
— В таком случае возвращайтесь домой, — более чем уверенно заявила женщина. — Даже целому Легиону, вооруженному до зубов, не вытащить из пещер Тимафайа человека, если он не захочет оттуда выходить. Искать там убийцу все равно что искать муравья в пшеничном бурте.
— Но должен же быть какой-то способ.
— Мне известен один…
— Какой?
— Его мать… Если она будет в ваших руках, то рано или поздно Асдрубаль Пердомо сдастся.
Дамиан Сентено кинул на Рохелию Ель-Гирре холодный взгляд, удивившись в душе, что именно женщина предложила подобный метод решения проблемы.
— Я об этом как-то не подумал, — признался он нехотя. — Но если дело дойдет до Цивильной гвардии и она решит вмешаться, я могу оказаться на виселице. Там шутить не станут, если речь зайдет о похищении.
— Боишься?
Сентено повернулся в сторону старика, задавшего вопрос.
— А вы нет? — в свою очередь задал он вопрос. — Одно дело смерть, к которой я давно привык, ибо избрал ее своей профессией, а другое дело виселица. И если меня схватят, то полагаю, что вскоре и вы ко мне присоединитесь. Помните Диего Вассалло? Он одним махом заработал «Лавровый Венок» в бою под Таурелем, а его отец был влиятельным фалангистом. Однако, когда он изнасиловал и убил ту грязную лесбиянку из Альмерии, старик недолго думая подписал смертный приговор, и сделали так, что язык Вассалло повис до пояса. Я навещал его в тюрьме. Он был типом отчаянным, готовым сыграть в «русскую рулетку» с закрытыми глазами, однако одна мысль о том, что он окончит свои дни на виселице, превратила его в труса, постоянно накладывающего в штаны. Ну как! Виселица — не смерть для настоящего мужчины. — Он повернулся в сторону Рохелии: — Где я могу найти Педро Печального?
— В его доме на окраине Тинахо, рядом с мельницей. Если хотите, я зайду к нему.
— Не стоит… Отправлю к нему своих ребят.
Он устало поднялся из кресла и направился к двери.
— Я буду держать вас в курсе, — произнес он на прощание, обращаясь к дону Матиасу. — Единственное, чего я прошу, так это сохраняйте спокойствие.
— Покажи мне тот магазин, где продается спокойствие, и я тебя уверяю, что куплю все, что там окажется. Увы, оно нигде не продается, и ты это знаешь.
Дамиан Сентено, на секунду задумавшись, посмотрел на капитана, а потом, не говоря ни слова, попрощался взмахом руки и вышел во двор.
Рохелия Ель-Гирре выждала, пока за гостем со скрипом не закрылась дверь и со двора не послышался звук загудевшего мотора, а потом, убирая со стола поднос с рюмками, бисквитами и галетами, не поднимая взгляда, произнесла:
— Моя кума Ниевес просила, чтобы вы дали работу ее дочери. Она молода и здорова, а я уже устала. Этот дом слишком велик для одной женщины. Если вы не возражаете, я велю ей прийти и помочь мне.
— Ну а ее мать как?
Все еще склонившись над столом, Рохелия повернула голову и удивленно посмотрела на хозяина. Однако дон Матиас, небрежно махнув рукой, направился к своему креслу и, тяжело вздохнув, буквально рухнул в него.
— Полноте! — воскликнул он. — Не строй из себя обиженную. Я многое слышал о дочери твоей кумы Ниевес. Ей не было еще и двадцати, а она уже переспала с половиной острова, а теперь крутится в баре в Арресифе. Все знают, что она проститутка. Вели ей прийти, если хочешь, однако не знаю, на что ты надеешься. Ты становишься с каждым днем все старее и старее, однако проблема не в моем мужском достоинстве, а в моем сердце. Пока я не буду уверен, что мой сын встретил на том свете своего убийцу и там призвал его к ответу, меня ничто не будет радовать на этом свете. Я был бы противен самому себе, если бы улыбнулся до тех пор, пока мой сын не будет отмщен. Никогда не стоит забывать о главном, а главное для меня — это покончить с Асдрубалем Пердомо.
Первое, что сделал Асдрубаль Пердомо, оказавшись на черном пляже, это нашел неподалеку грот с теплым полом, который и стал его убежищем.
Тимафайа могла предложить тысячи и тысячи расщелин и пещер, где даже целой армии не удалось бы обнаружить беглеца, и он знал, что на свете не найдется ни одного следопыта, который сумел бы пройти и километр по бескрайнему морю окаменевшей лавы, которая, застыв, превратилась в нагромождение камней с острыми, словно лезвия, краями, способными распороть подошвы даже самых крепких сапог.
О том, что кто-то смог обойти Тимафайа и составить ее подробную карту, до сих пор не было ничего известно. К тому же и искать-то там особенно было нечего. Острову нечего было предложить людям, кроме проклятой вездесущей лавы. На маленьких прогалинах, которые извержение по каким-то причинам пощадило, водились только тощие кролики, куропатки да дикие голуби, гнездившиеся там в течение всего летнего сезона.
Ветер, который, не находя препятствий, дул здесь всегда, налетая с моря, формировал пустынный пейзаж, а с наступлением вечера приносил на своих крыльях влагу, которая оседала в расщелинах, превращая опаленную в течение дня солнцем каменную пустыню в подобие сибирской степи.
Тот, кто окрестил остров Адом Тимафайа, знал, что делал. Имя это остров получил не потому, что шесть лет подряд его кратеры изрыгали из недр земли весь скопившийся там огонь, а потому, что на всем белом свете невозможно было найти место более унылое и бесприютное, более не подходящее для жизни.
В море лавы ничто не могло выжить, даже личинка или лишайник. В некоторых местах, таких как Ислоте-де-Иларио, достаточно было вылить ведро воды в расщелину, чтобы тут же в небо взметнулась струя пара, настолько близко там подземный огонь подходил к поверхности земли. Вздумай кто копать колодец в той точке, он вскоре бы докопался до источника тепла, где температура перевалила бы за тысячу градусов. Посему, когда Асдрубаль на второй день блуждал по острову, он наткнулся на расстоянии чуть более километра от берега на место, покрытое красным рыхлым гравием. Там он и выкопал небольшую ямку, в центре которой температура была почти непереносимо высока.
Тогда он сходил за кофейником, наполнил его до половины водой и стал терпеливо ждать, с радостью увидев, что вода через пару минут начала кипеть. Для того чтобы достаточно долго прожить на Тимафайа, нужно было на самом деле не так уж и много, ибо при помощи того самого старого кофейника, резиновой трубки и одной бутылки огонь, веками дремавший под землей Лансароте, превращал морскую воду в дистиллированную и помогал приготовить тысячу блюд из рыбы, которую щедро отдавало море.
С небольшим кожаным мешочком да котомкой, с куском сыра и маленькой баночкой растительного масла, которое предусмотрительная Аурелия положила в самый последний момент, у Асдрубаля была лишь одна забота — чтобы не иссякла морская вода в постоянно кипящем кофейнике. Он отсыпался днем, а вечера и ночи проводил в поисках пропитания, ловя рыбу при помощи лески и нескольких крючков.
Он, как и его мать, как и брат с сестрой, с детства умел читать, и сейчас понимал, что хорошая книга всегда поможет скоротать долгие часы ожидания, однако было уже слишком поздно, чтобы чтение стало для него привычкой. В свое время он не сумел верно оценить это, без всяких сомнений, достойное умение, предпочитая проводить время в раздумьях, пытаясь представить, какой будет его жизнь вдалеке от Лансароте, в местах, где люди говорили на другом языке.
Его мать с помощью книг и карт рассказывала о мире, раскинувшемся за архипелагом, однако он никогда даже не думал, что в один прекрасный день эти рассказы из простого развлечения превратятся в полезную информацию, ибо жизнь за пределами островов казалась ему бессмысленной и пустой, ведь там, как его уверяли, даже на знали, что такое гофио[13].
Ну как люди могли жить на свете и не разу не попробовать гофио? Этот вопрос он частенько задавал матери. И хотя мать уверяла, что все остальные испанцы вместо гофио едят хлеб, ему было тяжело в это поверить. Да и как такое может быть, ведь жители Канарских островов еще до завоевания их земель испанцами ставили гофио в центр своих столов?
Гофио обычно разводили водой и добавляли туда несколько капель растительного масла и несколько кусочков сыра, а самые бедные клали в мешочки из кроличьей шкуры густую пасту, которая прекрасно утоляла голод. Другие бросали гофио в бульон, молоко или в острый суп, наделявший человека силой и бодростью, а самым маленьким нравилось жевать его со спелыми бананами или скатывать в шарики с медом.
Согласно одной из легенд, несколько столетий тому назад канарские эмигранты, принимавшие участие в колонизации Техаса и заложившие основные города этого американского штата, отказались отправляться в путь без гофио, и капитану корабля пришлось взять на борт еще и мельничный жернов, который везли до самого Веракруса, чтобы потом он продолжил свое путешествие по крутым и опасным горным дорогам. После того как переселенцы были атакованы местными индейцами и потеряли каждого пятого из своих товарищей, они были вынуждены бросить свое сокровище посреди пустыни, однако их привычка к гофио была так сильна, что однажды, уже окончательно обустроившись, они отправили самых сильных и ловких своих мужчин на поиски жернова. Он до сих пор хранится в Муниципальном музее Сан-Антонио.
Точно так же, как и для его далеких предков, для Асдрубаля Пердомо была непереносима мысль о том, что он может отправиться в путешествие без гофио. Для него это было равнозначно тому, как если бы европейский ученый отправился бродить по сельве, не взяв с собой нож для защиты от зверей.
Мука для жителей Канарских островов была все равно что пуповина, связывающая их с землей.
Асдрубаль Пердомо был человеком не робкого десятка, однако была на свете вещь, которая по-настоящему его пугала. Он страшился быть оторванным от своих корней, так как был человеком, крепко привязанным к своему дому, к своему поселку, к друзьям и к своей семье. Начиная с того самого дня, как его посадили в лодку, чтобы он научился ремеслу рыбака, это море, с его штормами и штилями, со встречными и попутными ветрами, с глубинами, кишащими прекрасными меро и жемчужницами, полностью завладело его сердцем.
— Вдали от моря нет ничего, о чем можно было бы печалиться, — утверждал Абелай, который даже принимал участие в затянувшейся войне на материке. Семейство Пердомо Марадентро видело в этих словах правду и не стремилось открывать для себя другие воды, даже если те были лучше и спокойнее их собственных.
Неудивительно, что Асдрубаль Пердомо не рвался в дальние страны, какими бы прекрасными и благополучными они бы ни были, особенно по сравнению с диким и суровым Адом Тимафайа. Для него родная земля оставалась самой лучшей, и он был убежден, что всегда сможет бороться с невзгодами и побеждать их, если останется в доме предков. Так что дорога не только не привлекала Асдрубаля, она пугала его.
И вот как-то утром, во время ежедневного обхода скалистого острова, Асдрубаль в свой старый бинокль увидел вдалеке три человеческие фигуры и двух псов, которые с трудом взбирались по опасным скалам цвета охры. Тогда у него появилось чувство, что его загнали в ловушку, которая вот-вот захлопнется.
— Педро Печальный! — воскликнул он, не отрывая взгляда от мужчин. Один из них шагал впереди, ступая широко, словно цапля, которая только что приземлилась. — Если кто и способен найти меня на этом острове, так это не кто иной, как презренный пастух коз. За бутылку рому он способен продать даже скелет своей матери.
Педро Печального жена бросила спустя пять месяцев после свадьбы. Ей ничего не оставалось, как рассказать всем, кто желал ее слушать, что за все это время муж ни разу к ней не прикоснулся, кроме первой ночи, проводя все остальное время в компании одной черно-белой козы, а не жены, которой клялся в вечной любви.
— Я бы смирилась, будь моей соперницей другая женщина, — исповедовалась она, прежде чем окончательно покинуть остров. — Даже если бы меня вычистили, я бы сумела отбить своего мужа у педераста. Но моя мать меня не научила тому, как бороться с козой. Что теперь ему может показаться во мне соблазнительным?
Педро Печальный считал ниже своего достоинства отвечать на подобные обвинения. Он невозмутимо продолжал жить той жизнью, к которой привык, занимаясь нелегким трудом пастуха и время от времени наведываясь в Ад Тимафайа. Но после того дня, когда в его отсутствие кумушки из поселка убили его черно-белую козу, он окончательно замкнулся в себе.
Асдрубаль Пердомо вспомнил, как в свое время мальчишки до хрипоты орали неизвестно кем сочиненную песенку, посвященную любовным похождениям пастуха коз из Тихано. В те времена кто-то даже преподнес Педро парочку стопочек огненного пойла, которым не раз травились в таверне поселка. Однако Асдрубалю тогда и в страшном сне не могло привидеться, что такое ничтожество может его погубить. Проблема заключалась даже не в том, что Педро Печальный в совершенстве знал каменный лабиринт острова, и даже не в том, что он обладал талантом выманивать кроликов из каверн и загонять их в свои силки. Угрозу представляли две его собаки, которых он, отправляясь на вулканический остров, каждый раз обувал в некое подобие высоких кожаных чулок, которые шил сам. В них можно было смело часами бродить по морю застывшей лавы — на лапах потом не было ни одной царапины.
— Пусть будет проклята душа этого любителя коз! — пробормотал Асдрубаль. — Этот сучий сын может сделать так, что его псы учуют мой след, как бы я ни прятался.
Педро Печальный с самого начала понял, где мог скрываться сын Пердомо Марадентро, ибо не зря вот уже сорок лет топтал море окаменевшей лавы, которую считал исключительно своей собственностью, так как, если оставить в стороне «Ислоте-де-Иларио» и некоторые из самых доступных и живописных кратеров, находящихся на периферии, никто и никогда не отважился бы претендовать на бесплодные и злые земли, которые неизменно очаровывали его.
Много лет назад, когда ему пришла в голову проклятая мысль жениться, а потом мерзкая, заплывшая жиром корова его бросила, у него возникло неодолимое желание бежать прочь из поселка, уплыть с острова, найти себе место, где никто и ничего о нем не знает. Тогда он собрал то немногое, что у него было, и зашагал по дороге в сторону Арресифе, однако, стоило ему миновать Сан-Бартоломе и потерять из виду цепь вулканов, рядом с которыми он родился и от которых никогда не уходил так далеко, он почувствовал, как все его тело вдруг обмякло, а внутренние силы, позволявшие ему часами не присаживаться, никогда не уставать — в общем, жить припеваючи, полностью его покинули.
Педро Печального мать зачала, раскинувшись на песках, в одну из ночей, когда на небе стояла полная луна. И на свет он появился ночью, в полнолуние, в тени одного из самых высоких кратеров Тимафайа.
Так как сын никогда не знал своего отца, в детстве он представлял его неким прекрасным существом, возникшим из земных недр, поднявшимся из глубин самых высоких вулканов, потому-то он предпочитал водиться с козами, ящерицами и кроликами. Он не в силах был понять и принять людей.
Так и в селении никто не мог понять его, когда он пытался объяснить — почти всегда пьяный, — что испытывал, сидя в лунные ночи на краю одного из кратеров, когда даже ветер преклонялся перед суровым величием Тимафайа. Педро долгими часами с восхищением всматривался в отблески лунного света на гладкой поверхности лавы, контрастирующей с бездонной темнотой вулканического пепла, который, казалось, проглатывал луну.
Пожалуй, он был единственным человеком на острове, кто чувствовал, как сила вулканов проникает в его тело сквозь подошвы босых ног, когда он ступал на пемзу, или течет по спине, когда он ложился спать прямо на камнях, а вместо крыши над головой были лишь звезды. Тогда его мысли падали в самые недра земли или возносились к самым далеким планетам.
Никто, наконец, кроме Педро Печального, нищего пастуха коз, не понял, что Тимафайа была тем местом, где сердце Земли и самые отдаленные уголки Вселенной говорили друг с другом.
В поселке все были уверены, что он напивался с горя потому, что какие-то старые потаскухи однажды убили самую красивую и самую нежную из его коз. Он же пил потому, что душу его снедала печаль, ибо никто больше на острове не захотел разделить с ним его открытие.
Его мать, чьего имени сейчас он даже вспомнить не мог, а если хорошо подумать, то можно было бы прийти к выводу, что она его и вовсе никогда не имела, без всяких на то причин считалась колдуньей и знахаркой, и много лет назад, когда на острове врача было не сыскать днем с огнем, к ней обращались даже столичные женщины. Одни из них были больны туберкулезом, другие не могли забеременеть, а третьи, напротив, хотели сделать аборт, так как еще не успели выйти замуж.
Последних она выхолащивала вязальной спицей для носков, больных туберкулезом лечила компрессами и отварами из трав, ну а бесплодных… Тут она прибегала к помощи одного батрака с огромным членом, награждая последнего двумя килограммами гофио за каждую клиентку.
Старуха умерла в тюрьме, когда Педро едва подрос, и уже с тех пор он научился обслуживать себя сам, избегать людей и находить в камнях и козах свое единственное утешение.
И вот два человека из другого мира, два чужака, из разговоров которых он ничего не понимал, один — похожий на петуха, а второй — с бледно-зеленым лицом и странной кличкой Мильмуертес, предложили ему столько денег, сколько он не видел ни разу в жизни. И все это в обмен на то, чтобы он за четыре дня познакомил их с бесчисленными тайнами Ада Тимафайа, где находилось начало всех земель.
— Что вы там ищите?
— Некоего убийцу.
— Кого он убил?
— Сына дона Матиаса Кинтеро.
Он помнил барчука. Тот часто со своими друзьями наведывался из Мосаги в таверну, просил, чтобы ему зажарили козленка. Там, ни во что не ввязываясь, он основательно напивался и раз за разом исполнял дурацкие куплеты, посвященные несчастному Педро.
— Да? Ну царство ему небесное!
— Помолимся мы потом. Тебе хватит сорок дуро, чтобы отыскать убийцу?
— Мне хватит сорок дуро, чтобы отыскать его. А как я это сделаю, это уже не ваша забота.
— Хорошо. Деньги здесь. Отправляемся утром.
— Отправляемся утром. — Педро допил свой ром и, возможно, впервые в жизни попросил целую бутылку, зная, что сможет заплатить за нее. — А скажите-ка мне, сеньор, — добавил он, — а тот, кто убил, случайно был не Асдрубаль Пердомо, один из отпрысков Марадентро из Плайа-Бланка?
— Он самый.
— Брат Айзы Марадентро, той, что водит дружбу с животными и мертвыми?
— Он самый. Какие-нибудь проблемы?
— Никаких.
Однако Педро Печальный лгал — проблемы были.
В тот раз, когда он впервые увидел Айзу Пердомо, гулявшую по черному песку пляжа Гольфо, где вулканы и море соединились таким образом, что породили на свет зеленую лагуну, в глубине которой находился отдельный кратер, Педро Печальный пришел к заключению, что этой девчушке с длинными волосами и таинственным взглядом тоже было известно о силе, таившейся в кратерах вулканов и льющейся прямо из центра Земли. Он понял, что эта девочка тоже являлась частицей лавы и камней и была единственным созданием на острове, с которым он ощутил некое родство, хотя и не был связан кровными узами. И что самое главное, он один знал о ее способностях.
Айза Пердомо была наделена при рождении, как и его собственная мать, ни имени, ни лица которой он, как ни силился, никак не мог вспомнить, уникальной способностью, о которой всем прочим островитянкам оставалось лишь мечтать. Ее тоже можно было назвать колдуньей, одной из тех женщин, которые испокон веков правили островом наравне с мужчинами. Она получила свои способности от всем известной Армиды, волшебницы, которая похитила крестоносца Рейнальдо и прожила с ним долгие годы в любви и согласии на острове Ла-Грасиоса.
Ни одно существо, рожденное людьми, не могло обладать такой красотой и величественной осанкой, как у Айзы Пердомо, и Педро Печального каждый раз распирало от гордости при мысли, что лишь он один сумел разгадать секрет рождения это странной девочки, которая говорила с рыбами, поднимала на ноги больных, укрощала зверей и веселила души мертвых.
Ночь он провел без сна в компании бутылки с ромом, улегшись на свою подстилку рядом с козами. Через незастекленное окно он глядел на звезды, повисшие над дальней вершиной вулкана Монтанья-де-Корухо. До рассвета оставалось еще три часа, когда он засобирался в дорогу. Он разбудил своего соседа, вручил ему три дуро, дабы тот присмотрел за стадом в те дни, пока он будет отсутствовать, и уселся под дверью таверны в ожидании чужаков, его нанявших.
Его псы, чьи предки жили на острове еще за тысячу лет до появления здесь Армиды и Рейнальдо, как всегда, следовали за ним, словно четвероногие тени своего хозяина, похожие на него и статью и манерами. Они были худы, длинноноги и молчаливы — и возбужденно принюхивались к воздуху, в предчувствии успешной охоты, которая дарила несоизмеримо больше наслаждения, чем ежедневное наблюдение за козами, когда ты можешь лишь слегка прикусить ногу животного, отбившегося от стада.
Мильмуертес и Дионисио, некий галисиец, у которого недоставало трех пальцев на одной руке, подошли к таверне, когда первое дуновение ветра возвестило о наступлении утра. Не произнеся ни слова, Педро повел их по тропе, которая бежала по луковым полям и табачным плантациям, все дальше и дальше уводя их от селения, чьи обитатели еще спали крепким сном.
Попутчики оказались людьми, не привыкшими к затяжным пешим переходам. Педро услышал, как они засопели за его спиной, когда он, не сбавляя темпа, начал подниматься по склону, и ему стало ясно, что их ноги не были предназначены для ходьбы по острым камням и им будет тяжело сохранять равновесие на неровных волнах застывшей лавы. А когда рассвело и он остановился, чтобы обуть своих псов, дабы те не поранили лапы, увидел, как чужаки, тяжело дыша, повалились на землю, ловя ртом воздух.
— Ты не мог бы чуток сбавить шаг? — попросил его галисиец, припав губами к фляге с водой. — Ведь мы спешим не на пожар.
Педро, не глядя на них, пожал плечами.
— Деньги ваши, — сказал он. — Мне Марадентро ничего не сделал, а я за всю свою жизнь никогда не спешил.
— Я рад это слышать, потому что если бы ты спешил, то у нас к этому времени уже печенки бы вылезли изо рта, — простонал галисиец и показал на псов: — Впервые вижу обутых собак. Они хоть когда-нибудь ели?
— Иногда им кое-что перепадает, — ответил Педро. — Толстый пес не охотник.
Мильмуертес, который безуспешно пытался прикурить на ветру пожелтевшую сигарету, вполголоса чертыхнулся:
— Дерьмовая страна! И почему люди не уберутся с этого острова, пусть даже и вплавь?
Педро Печальный лишь пристально посмотрел на него, закончил возиться со вторым псом и поднялся, тем самым давая понять, что следует снова отправляться в путь.
Дионисио запротестовал:
— Подожди немного! Я подумал, что нам стоит чуток отдохнуть…
— Как хотите, — последовал ответ пастуха. — Однако взбираться на вулканы тогда, когда начнет припекать солнце, будет делом ох каким непростым.
Им предстояло подняться на вершину, что само по себе было делом нелегким, ибо ноги их уже тряслись, а сердца вот-вот готовы были разорваться в груди, хотя солнце еще не прошло и половины пути до своего зенита.
Исхлестанные ветром, дующим прямо в лицо, они вновь уселись на землю и удивленно окинули взглядом море черных камней и кратеры — жуткие темные провалы, казалось, раскалывают надвое землю. Земля же раскинулась под ними и терялась вдалеке, сливаясь с океаном, играющим темно-синими волнами.
— Мы что, должны искать его там? — задал вопрос, не веря своим глазам, Мильмуертес. — Да это только сумасшедшим может прийти в голову!
— Сорок дуро в любом случае остаются при мне, я их не возвращаю, — поспешил уточнить пастух коз. — Вы сами захотели пойти.
— Да кто станет думать о сорока дуро, когда нужно подумать о собственных ногах! Я их уже в кровь разбил. И руки изодрал до мяса. Вон, смотрите, кожа лоскутами свисает. И кому взбрело в голову бродить по этой лаве? Режет, словно бритва.
— Если хочешь, мы вернемся.
— Сентено нас убьет, — тяжело вздохнул галисиец и кивком показал в сторону цепи вулканов: — Неужели и правда можно найти человека в этом аду?
— Вы мне платите за попытку, вот я и пытаюсь.
— Это правда, что тебе нравятся эти места?
— Правда. — Педро в упор посмотрел на чужаков. — Людей здесь нет.
— Да, я уже слышал, что люди тебе не по душе. Тебе больше всего нравятся козы. А правда, что ты с ними сношаешься?
Впервые в жизни Мильмуертес пожалел о том, что сказал. Хотя Педро Печальный никак не отреагировал на его вопрос, однако бывший легионер заметил в глазах пастуха нехороший блеск, из чего сделал вывод, что только что нажил себе еще одного врага.
Пастух предпочел на время сохранить молчание и какое-то время безучастно смотрел на раскинувшуюся перед ними черную пустыню, занимавшую так много места в его сердце, а затем встал и начал трудный спуск, не обращая внимания на шедших позади него.
Вопрос, заданный ему чужаком, он слышал вот уже лет двадцать и никогда на него не отвечал. Его жена — беззубая пастушка, которая преследовала его несколько лет, мечтая женить на себе и таким образом заставить работать на мельнице своего отца, где каждый день нужно было таскать тяжеленные мешки с мукой, — растрепала всему миру, что он предпочел ей козу и что в их брачную ночь он оказался ни на что не годен.
А вот что не рассказала эта жирная свинья, так это то, что в ту ночь додумалась погасить в доме все свечи, якобы от стыда перед мужем, и разлеглась лицом вверх на гигантском матраце, набитом кукурузными листьями, прикрытом простынями и одеялами, нарядившись в какое-то рубище, лишь отдаленно напоминающее рубаху, которое сама сшила из старых мешков из-под муки.
В темноте Педро Печальный попытался применить на практике все свои знания, вспоминая, какие позы принимают козы, собаки, куры, верблюды и даже жуки. Но как он ни копался в своей памяти, так и не смог найти от волнения ни одной подходящей сцены с простынями, одеялами, хрустящими матрацами и лежащей на спине самкой. Как он ни пытался перевернуть толстуху и поставить ее на колени, все было впустую. Он добился лишь ее протестов и возмущенных упреков.
— Ведь я же не какая-нибудь сука! — в конце концов зло закричала она. — Я это хочу делать так, как делают все люди!
Но как же все люди это делают?
Он этого не знал, потому и попытался вложить в ее руку свой «рычаг», чтобы она сама направила его в нужное место, но та вскочила, будто его мужское достоинство превратилось в змею, пытающуюся ее ужалить.
— Ах ты, свинья! Я женщина честная!
Он снова попытался, но уже более тактично, однако, прежде чем нашел дорогу к цели в куче тряпья и под складками потного дряблого мяса, он услышал вопли. Женщина спрыгнула с кровати и скрылась в соседней комнате, где спали козы.
— Боров! Хуже, чем боров! — визжала она. — Ты посмотри, что ты сделал! Ты мне испортил ночную рубаху!
Нет. То совсем была не брачная ночь, особенно если учесть, что вскоре под окнами дома появилась компания перепивших мужиков из поселка, которые начали распевать серенаду под звон колокольчиков.
На следующую ночь дела пошли еще хуже, ибо речь зашла уже о физической угрозе. Если в предыдущую ночь на его голову сыпались оскорбления, то на этот раз на нее обрушились удары, а ребра потом долго ныли от болезненных тычков. Как он ни старался объяснить толстухе, что было бы намного проще совершить «дело» так, как это водится у животных, все было напрасным. А когда он снова попытался, в ответ она завизжала не своим голосом:
— Если тебе нравится это делать по-козьи, то и совершай любовные акты с козами, а не с богобоязненной женщиной.
И почему Господь решил, что люди должны обязательно совершать любовный акт в определенной позе, в темноте, завернувшись в простыни и ночные рубахи, а остальные бедные создания совсем в других позах, на свежем воздухе, и главное — без всяких проблем?
Все это никак не мог понять пастух коз из Тинахо, потому-то супружеские узы так быстро лопнули, а его сексуальная жизнь закончилась, не успев толком начаться. Когда же толстуха ушла из дому, рассказывая каждому встречному и поперечному, что он предпочел ей козу, у него не хватило духу объяснить, что все было совсем не так, просто он предпочел бы встать на колени позади козы, чем иметь дело с такой скандальной и неуживчивой женщиной.
В конце концов, ему было не по душе еженощно вести подобные битвы или страдать бессонницей, слушая ее храп или монотонную болтовню, а посему он решил, что будет намного проще смириться со славой человека, удовлетворяющего коз, чем всю оставшуюся жизнь провести под каблуком наглой толстухи.
Вот почему он не ответил на вопрос Мильмуертеса и молча зашагал вперед, лишь изредка свистом подзывая собак, чтобы те не теряли время на поиски кроликов и куропаток, и только тогда, когда солнце, достигнув своего зенита, начало палить совсем уж нещадно, доведя чуть ли не до умопомрачения галисийца Дионисио, он нашел тень под выступом скалы, где лава, стекая вниз, образовала черные, закрученные вокруг своей оси сталактиты, немного походившие на гигантские окаменевшие слезы.
Пока его спутники приходили в себя и пытались отдышаться, изнемогая от жары и усталости, он открыл свой кожаный мешочек, отмерил порцию гофио, добавил к нему несколько небольших кусочков твердого, хорошо завяленного сыра и, плеснув немного воды, любовно перемешал все это на своем правом бедре. Дионисио и Мильмуертес отупело смотрели на него.
— И что, это вся твоя еда?
Он кивком показал в сторону своих псов:
— И собак тоже. Если я им не даю поохотиться, то вынужден кормить. Они сегодня довольно хорошо намотались.
— Теперь меня не удивляет, почему они такие худые, — не унимался галисиец. — Можно подумать, что они питаются воздухом: это единственное, чего вдоволь на этой бесприютной земле…
Из своих рюкзаков чужаки принялись вытаскивать большие куски хлеба, сыр, колбасу и банки с консервами. Среди всего прочего на свет божий появился большой блестящий револьвер, который Мильмуертес положил рядом с собой.
Тут Педро Печальный перестал копошиться в своем мешке и, кивнув в сторону оружия, спросил:
— Вы убьете мальчишку?
Мильмуертес весело заржал:
— Если ты захочешь, то мы возьмем у него автограф и попросим, чтобы он нас проводил в Мосагу, потому что дон Матиас хочет с ним немного поиграть перед смертью.
Пастух помолчал несколько мгновений и снова принялся что-то перебирать в своем мешке, а потом как бы между прочим произнес:
— Вас зовут Мильмуертес, не так ли?
— Ты это уже знаешь, так зачем спрашиваешь?
— Потому что, как мне думается, это все равно если бы вас звали Мильуна или Мильдос[14]…
Оба легионера, нахмурив брови, переглянулись и очень внимательно посмотрели на Педро.
— Что ты этим хочешь сказать? — задал вопрос галисиец.
— Ровным счетом ничего, — уклончиво ответил пастух. — Это все мои дела… Вы знаете Айзу, сестру Асдрубаля?
— Не так близко, как бы мне хотелось! — громко рассмеялся Мильмуертес. — У этой девочки пороху больше, чем я видел в своей жизни. И я тебе гарантирую, что я не уйду с острова, пока не запрыгну на нее.
— Тебе придется встать в очередь, — прервал друга Дионисио. — Эта мысль посещала каждого из нас, и мне кажется, что Сентено твердо решил стать первым… А ведь он — шеф.
— Ты думаешь увезти эту девчонку в город и заставить работать? Будет очередь! С такой фигурой и таким личиком она сможет оказать более тридцати «услуг» в день! У этой сучьей дочери в одном месте заложена целая мина!
— Аурелия Пердомо никакая не сука, — тихо прервал их Педро Печальный. — Всему миру известно, что она очень серьезная и очень добрая женщина, — продолжил он, и голос его звучал немного хрипло. — И Айза рождена не для проституции… У нее дон[15]…
Легионеры насмешливо посмотрели на пастуха, ожидая объяснений, будто речь шла об умалишенном ребенке или о пьянице.
Пастух же убедился, что масса гофио стала плотной и не прилипает больше к внутренним краям кожаного мешочка, и, вытаскивая ее, сказал:
— У моей матери тоже был дар…
— Что? Дон?
— Она лечила больных…
— Ух ты!
— Помогала женщинам забеременеть…
— Это была твоя мать или все-таки твой отец?..
— А посмотрев кому-нибудь в лицо, знала, когда этот человек умрет…
— Шибко интересно рассказываешь, — усмехнулся галисиец Дионисио. — Но что до меня, то я интересуюсь единственным доном, который Господь поместил у этой малышки между ног…
Педро Печальный, пастух коз из Тинахо, ничего не ответил, полностью переключившись на дележ гофио между собаками, а покормив их — что не заняло много времени, — он плеснул в банку из-под сардин немного воды и дал им напиться. Затем приказал псам улечься в тени, и только тогда принялся бросать маленькие кусочки гофио себе в рот, медленно пережевывая их и спокойно глядя на окружающий их пустынный пейзаж, будто он остался здесь один со своими псами, а двое чужаков внезапно растворились в небытии.
Они же тоже принялись резать хлеб острыми альпинистскими ножами, смачивая еду большими глотками крепкого золотистого вина «Гериа», каким накануне наполнили до краев две своих фляги.
Наевшись и напившись досыта, уставшие и разомлевшие от жары, даже не вынув изо рта потухших сигарет, легионеры устроились поудобнее и вскоре заснули.
Псы тоже заснули, однако, как всегда, держали уши востро. Бодрствовал лишь пастух. Он сидел неподвижно, словно и сам когда-то был сотворен потоком лавы, мысли его витали далеко от этих мест. Такое состояние было для него не ново — большую часть своей жизни он провел, присматривая за козами и любуясь окружающей его природой. Педро Печальный ясно сознавал, что, по всей вероятности, этот день окажется самым важным в его до сей поры скучной и монотонной жизни, ибо никогда он не мог себе представить, даже находясь в трансе, что ему суждено пуститься в погоню за человеком, которого хотят убить.
Он снова посмотрел на сверкающий револьвер, по-прежнему лежащий на камне, почти под самой рукой Мильмуертеса. Вид оружия завораживал Педро, ибо до сих пор он ничего подобного не видел.
Он охотился, используя силки и капканы. Никто его так и не призвал на военную службу — может быть, из-за того, что его мать не дала ему имени и нигде не зарегистрировала факт его рождения. А может быть, и потому, что никто не обратил внимания на жалкого подростка, пасущего коз на склонах Огненных гор, или же обратили внимание, но решили, что без этого заморыша испанская армия будет только лучше.
Педро Печальный, пастух из Тинахо, рожденный чуть позже начала века от неизвестного отца и матери, чье имя не помнил никто, даже он сам, жил настолько уединенно, что в течение многих лет он произнес меньше слов, чем за один этот день.
Он жил один, один пас коз, один напивался допьяна и охотился на самой безлюдной земле из всех безлюдных земель тоже один. Когда он присаживался за отдельно стоящим столиком в жалкой таверне в Тинахо, хозяин подходил к нему с кувшином и стаканом и наливал ему строго пропорционально количеству монет, лежащих на столе. После стольких лет у них так и не нашлось что сказать друг другу, ибо на самом деле им не о чем было говорить.
На какое-то мгновение у него возникла мысль протянуть руку к оружию, ощутить холодное прикосновение металла и почувствовать его тяжесть, но он не сделал этого, так как помнил, что «оружие заряжает дьявол», а он был из тех людей, кто по-настоящему верил в дьявола, ибо не зря большую часть своей жизни провел в долгих прогулках по Тимафайа, некоторые из пещер которого действительно вели в ад. А это оружие было не простым охотничьим ружьем, которое он время от времени видел в руках то одного, то другого охотника. Это оружие было предназначено для убийства людей. Внутри себя оно хранило пули, которые должны были оборвать жизнь брата Айзы Марадентро.
Он закрыл глаза, и перед ним предстал образ девушки, которую в последний раз он видел во время праздника Уга, когда, кажется, весь остров наконец-то осознал, насколько она прекрасна. И он вдруг почувствовал какое-то странное удовлетворение от того, что тоже слышал, с какой сладостной застенчивостью пела она народные песни, не совсем приличные, и видел, как она танцевала со своими братьями и с какой непринужденностью улыбалась ему, заметив, что Педро пристально на нее смотрит. Он же не имел в душе никаких дурных помыслов, а лишь пытался определить, какое количество дона скрывалось в этом совершенном теле.
В какое-то мгновение у него промелькнула мысль, что тот, кто, как Асдрубаль Пердомо, провел столько времени рядом с Айзой, тот уже достаточно насладился жизнью, а посему не имеет права жаловаться, если его убьют молодым. Однако тут же подумал о ней — и представил, как после смерти брата ее глаза, сейчас сверкающие радостью, навсегда затуманятся печалью, и ему стало страшно, что он может оказаться одним из тех людей, кто причинит страшное горе Айзе Пердомо, той, кто веселит усопших.
С подветренной стороны острова, неподалеку от пляжа Комада и на подходе к мысу Папагойо, разрезавшему море, словно каменный нож, находилась просторная гавань, которую называли Байа-де-Авила и куда заходили в безветренные ночи, когда море было спокойно и ласково, люди с побережья, чтобы посидеть при свете факелов и встретиться с погибшими в морской пучине родственниками. Это был древний обычай, существовавший, возможно, столько же, сколько существовал и сам Лансароте. Многим вдовам и сиротам удавалось поговорить с родными душами, хотя не меньше было и людей, кто, проведя долгие часы на берегу, так и не дождался родных.
Однако поговаривали, что в те ночи, когда Айза Марадентро спускалась в бухту, редко кто из утопленников не являлся на зов своих близких, а Педро Печальный, который провел первые годы своей жизни среди знахарей и колдуний, питал слишком глубокое уважение к потустороннему миру, чтобы осмелиться навлечь на себя гнев духов и той, которая могла говорить с ними.
— Нам нужно идти, — наконец произнес он. — Мы сюда явились не для того, чтобы весь день спать.
Нехотя Дионисио и Мильмуертес продрали глаза, собрали свои вещи и зашагали следом за пастухом, который вышагивал по краю глубокой расщелины своей журавлиной походкой.
— Ты хоть знаешь, куда мы идем? — спросил Дионисио. — Или мы так и будем целый день болтаться туда-сюда, словно три дурака?
— Я об этом думал. Знаю я тут одно местечко.
— Далеко?
— Уже не очень.
Легионеры переглянулись, и в их взглядах промелькнуло явное недоверие. Мильмуертес покопался в рюкзаке, снова достал револьвер и засунул его за пояс брюк так, чтобы он был хорошо виден.
— Этот тип нравится мне все меньше и меньше, — произнес он. — Мне кажется, он немного чокнутый.
— Немного? — прошипел его подельник. — Да он тупее коз, которых так обожает.
Они еле тащились за пастухом, и не было в них уже утренней беспечности, когда только и было забот, чтобы не подвернуть ногу и не упасть. Как и у всех людей, слишком часто имевших дело со смертью, у них было хорошо развито шестое чувство, и сейчас в головах их стали рождаться какие-то странные мысли, словно что-то страшное и неизведанное шло за ними по пятам. Галисиец, пожалуй, больше доверял своей интуиции, чем Мильмуертес, и на какое-то мгновение он испытал желание послать все к чертям, забыть о пастухе, его псах и о проклятом Асдрубале Марадентро и бежать отсюда, бежать далеко, куда глаза глядят, только бы подальше от этого мертвого океана с его «окаменевшими» волнами.
Однако, посмотрев на неуклюжую фигуру Педро, галисиец решил, что имеет дело с самым нищим, жалким и безобидным пастухом из всех пастухов на свете, и спросил себя потом, как сможет объяснить свое бегство Дамиану Сентено, по-настоящему опасному человеку, которому был неведом страх.
Для успокоения Дионисио покопался в рюкзаке, потом прикоснулся к револьверу и, ускорив шаг, поравнялся с проводником.
— Ты знаешь Асдрубаля Пердомо? — спросил он.
— Видел пару раз.
— А его семью?
— Тоже так себе.
— А мне казалось, что на острове все друг друга знают.
— Это потому, что он маленький.
— Оказывается, не такой уж он и маленький, если ты так плохо знаешь Пердомо. А сколько здесь живет людей?
— Никогда не считал.
— Понимаю… А почему Марадентро тебе нравятся?
— Я не говорил, что они мне нравятся.
— Действительно, не говорил… Ты не говорил.
Он снова дал Педро уйти вперед и невольно содрогнулся, глядя, как тот, словно марионетка, высоко задирает ноги. Тут-то Дионисио и догнал его товарищ, Мильмуертес:
— Что сказал этот любитель коз?
— Ничего. Он мне ничего не говорит, и это больше всего меня настораживает, — ответил Дионисио. — У меня такое впечатление, что он решил бродить по этим кругам ада до тех пор, пока нас не вывернет наизнанку, а затем он бросит нас здесь и преспокойно вернется домой с деньгами в кармане. Он нас водит за нос, попомни мои слова.
— Он еще не знает, с кем решил шутки шутить.
— Конечно нет… Но если он не захочет, чтобы мы нашли парня, могу поклясться, что мы его не найдем… Эй, ты! — позвал он. — Подожди минутку.
Педро Печальный остановился и повернул голову. Псы последовали его примеру. Ничего не сказав, он дождался, пока чужаки подошли к нему вплотную.
— Если мы найдем Асдрубаля Пердомо, я дам тебе тысячу песет в награду.
Пастух на мгновение задумался, затем пристально посмотрел на чужаков, остановил свой взгляд на револьвере, который Мильмуертес отвлеченно поглаживал, и ответил:
— Две тысячи.
— Вот это да! — воскликнул галисиец. — Мы начинаем понимать друг друга… Согласен, две тысячи.
Пастух утвердительно кивнул:
— Я приведу вас туда, где он скрывается, после чего вы мне сразу платите и я убираюсь восвояси. Не хочу принимать участие в убийстве. — Он несколько раз отрицательно помотал головой. — Не из-за двух тысяч.
— Я понимаю, — рассмеялся галисиец. — Наверно, ты боишься, что мы и тебя тоже убьем. Не так ли?
— Есть немного.
— Можешь быть спокоен. Не стоит бросать камни на собственную крышу. Сделка заключена! — добавил он. — А теперь в путь, и не заставляй нас терять время.
Педро Печальный лишь кивнул, вытащил длинную веревку, взял собак на свору и, щелкнув языком, скомандовал:
— Ищите!
Псы, казалось, давно ждавшие приказа, встрепенулись, опустили морды и бросились вперед, почти таща хозяина, следовавшего за ними большими прыжками.
Так вприпрыжку они бежали больше часа, обогнув красноватый кратер, который словно погас всего три дня назад. Они пересекли овраг с бездонными провалами и наконец остановились перед цепочкой пещер, неожиданно открывшихся среди наплывов лавы, образовавшихся столетие спустя после извержения и ведших, похоже, в самое сердце ада.
Пастух что-то сказал псам, и они тут же начали рычать, оскалив зубы. Он удерживал их изо всех сил, так как собаки готовы были броситься ко входу одной из пещер.
Он оглянулся и посмотрел на только что подбежавших, как всегда тяжело дышащих подельников:
— Будет лучше, если вы приготовите оружие. Там кто-то есть.
Дионисио, не дожидаясь повторного предложения, поставил рюкзак на землю, вытащил пистолет и зарядил его, поставив на предохранитель. Мильмуертес тоже сбросил с плеч свой рюкзак. Педро вытащил из своего мешка карбидную лампу, влил в нее немного воды, чтобы та была наготове, и, наконец, не спуская псов, соблюдая всяческие предосторожности, вошел в пещеру.
Труба из лавы, появившаяся здесь по капризу кипящей лавы, разбросавшей по полу огромные камни и оставив большие воздушные карманы, с течением времени разрушившиеся и рухнувшие из-за новых движений земли, почти двадцать метров шла прямо, чтобы потом образовать выступ, за которым разливалась кромешная тьма, едва рассеиваемая на расстоянии вытянутой руки карбидной лампой. Пройдя около десятка шагов, преследователи оказались в одном из разветвлений коридора, где одна галерея вела прямо, а другая вниз, словно стремясь к центру Земли.
Собаки тут же смело бросились во вторую, как всегда еле сдерживаемые хозяином. За ними, отстав на метр, следовали галисиец и Мильмуертес, хотя было видно, что ни одному из них сия авантюра не пришлась по душе.
Педро Печальный время от времени опускал лампу до земли, отыскивая знаки того, что кто-то ходил той же дорогой. Однако пол, потолок и стены представляли собой слегка покрытый рябью лавовый монолит, на котором нельзя было обнаружить и намека на следы.
Спустя несколько минут они достигли просторной залы с потолком настолько высоким, что к нему не мог пробиться свет лампы. Псы тут же бросились в проход, ведущий вниз, преодолевать который людям пришлось на четвереньках.
Вскоре Дионисио, не отрывавший взгляда от пламени лампы, опустил руку в карман и выхватил пистолет, готовый выстрелить в любую секунду, как только что-нибудь покажется ему подозрительным. И тут он вдруг понял, что свет не двигается. Спустя несколько секунд он наткнулся на лампу, оставленную на полу коридора, а псы и их хозяин, казалось, испарились, словно земля поглотила их, словно неизведанная сила затащила их в одну из многочисленных галерей, которые открывались по обеим сторонам узкого прохода.
— Проклятый сучий сын! — воскликнул Дионисио.
Следовавший за ним Мильмуертес дрожащим голосом произнес:
— Что происходит?
— Он удрал! Он удрал… Он оставил нас здесь… Поворачивай назад! Назад, пока не погасла лампа!
Трясясь, проклиная пастуха на чем свет стоит и чуть не воя от страха, Мильмуертес крутанулся на месте и на четвереньках что есть сил пополз в направлении залы, оставшейся где-то позади.
Но когда они до нее добрались, лампа уже еле светила.
Айза Пердомо проснулась среди ночи с криком, когда же старый Руфо Гера примчался к ней с керосиновой лампой в одной руке и с длинным мачете — в другой, он нашел ее сидящей на кровати. Лицо ее было покрыто потом, а в глазах плескался ужас.
— Что случилось, девочка? — спросил он, судорожно оглядывая комнату в поисках возможной опасности. — Кто это был?
Айза успокоилась не сразу. Она закрыла глаза, глубоко вздохнула и крепко схватилась за руку маленького старика, присевшего рядом с ней.
— Я видела двух мужчин, которые воют от страха, — сказала она. — Они умрут. И все это из-за меня.
Руфо Гера облегченно вздохнул и положил на стол рядом с лампой свой устрашающий мачете.
— П-у-у-ф! — выдохнул он. — Ну и напугала же ты меня! Успокойся! Это всего лишь сон.
Но она уверенно возразила:
— Это был не сон… Я все ясно видела. Видела их так же, как тех, кто утонул в море, или как тунца и сардин, приплывающих к нашим берегам. Несчастье происходит в эту самую минуту!
— Глупости! — возразил старик. — С детства тебя пичкали дурацкими историями и здорово этим напугали. Как это так получилось, что при такой культурной и образованной матери ты веришь в старые бабкины сказки? Тебе бы не следовало их слушать.
— А в чем тут моя вина, если те, кто бьется в предсмертной агонии, приходят и говорят со мной? Я ведь их не звала.
Руфо Гера попытался подыскать подходящие аргументы, чтобы девчонка наконец-то осознала всю нелепость своего страха, однако вспомнил, как впервые увидел ее после рождения и как сам стал свидетелем чудес, с ним связанных. А затем он не раз слышал, что все ее предсказания сбывались. Много дуро заработали рыбаки, выйдя на путину, когда она предсказывала, что подойдет косяк; он же потерял много часов — хотя никому в этом до сих пор не признавался, — пытаясь найти в столь дорогих его сердцу книгах объяснение данному феномену.
— Кто они? — спросил наконец Руфо.
— Я не видела их лиц, — ответила она. — Там было очень темно, и темнота эта их пугала. Однако мне кажется, что эти мужчины из тех, кто недавно приехал в поселок.
— Судя по тому, что ты мне о них рассказывала, не думаю, чтобы они боялись темноты. Почему они кричали?
— Они умрут.
— Ты в этом уверена?
— Совершенно… Да, еще там лаяли собаки.
— Собаки? Что за собаки?
— Собаки… Не смогла разглядеть их. Только слышала лай.
— У кого в селении есть собаки?
— Вы же знаете, что у многих есть… Собак у нас больше, чем людей.
— Да, это так, черт возьми! — Он беспомощно покачал головой. — Ну хорошо, все уже прошло. Забудь об этом и спи.
Но Айза решительно отказалась:
— Только я закрою глаза, как они снова появятся… Так всегда происходит. Не хочу больше спать в эту ночь.
— Но ведь до рассвета еще целых два часа! — возразил Руфо Гера.
— Попытаюсь почитать, если вы не станете возражать против того, что я зажгу лампу. Или выйду и пройдусь по полю. Когда происходят такие вещи, моя мама остается со мной и рассказывает мне разные истории. Это лучший способ успокоиться.
— Рассказывает истории? Громы и молнии! Да никто не сможет в такое время рассказывать истории. Даже дон Хулиан, который слывет самым искусным рассказчиком на острове, а его фантазии может любой позавидовать… — Он сделал паузу и, резко переменив тон, спросил: — А какие истории тебе нравятся?
— Нет уж! — возразила Айза. — Я не хочу, чтобы вы провели остаток ночи без сна по моей вине. Идите спать.
Тут уже пришла очередь старика отказываться.
— Да твоей отец убьет меня, если я тебя брошу в таком состоянии. Он доверился мне, и я обязан оберегать тебя даже от твоих собственных снов. А любовные истории тебе нравятся?
— Мне нравятся приключения. Особенно на море. «Черный пират», «Сандокан» и все в таком роде.
— Ты читала Сальгари?
— Нет. Сальгари, наверное, единственный писатель, которого я не читала. Однако мне очень нравится Жюль Верн. Больше всего похождения капитана Немо…
Он резко провел пальцем под носом:
— Черт возьми! Признаюсь, если бы мне дали возможность выбирать в этой жизни, мне бы больше всего понравилось быть капитаном Немо. Он все знал и умел!
— Но ведь он был очень несчастен. У него убили всю семью.
— Я никогда не смогу понять его страданий. У меня не было семьи. Были только брат да выжившая из ума тетка. Она обожала моего брата и заботилась о нем, как о сыне. Твой отец однажды спас его, не дал утонуть. Затем брат уехал в Америку и ни разу мне не написал. Ты представляешь? Я бы отдал жизнь за него, а он за тридцать лет не написал мне ни единой строчки.
— Наверное, он не смог этого сделать. А может, он умер?
— Это меня не утешает. Предпочитаю думать, что он просто плохой брат. Плохой, но живой… Возможно, когда-нибудь он мне напишет.
— А если он отправился за удачей, но у него ничего не получилось и он стыдится признаться в этом?
— Своему собственному брату? Не всем, кто отправляется в Америку, удается добиться успеха. В противном случае здесь никого бы не осталось. Ему всего лишь нужно вернуться, и я поделюсь с ним всем, что у меня есть. Этого дома и этого сада с избытком хватит на двоих. — Он забрался с ногами на кровать и, обхватив руками колени, прислонился к стене. — Однако хватит говорить обо мне. Я привык к тому, что компанию мне составляют лишь книги, больше мне никто не нужен… А сейчас мне хочется узнать кое-что о тебе. Меня всегда интересовала твоя способность обо всем узнавать заранее. Ты уверена, что эти мужчины умерли?
Айза пожала плечами.
— Пока нет, — призналась она. — Однако скоро умрут, и они это знают. Они во всем винят меня…
— А ты? Ты себя чувствуешь виновной?
— Дон Хулиан утверждает, что из-за меня умрет еще много людей.
— Тебя это беспокоит?
— Я не хочу приносить вред. Хочу оставаться такой, какой была раньше, хочу, чтобы на меня смотрели спокойно..
— Большинству женщин доставляет удовольствие, когда ими восхищаются и говорят им комплименты.
— А мне нет. Думаю, когда-нибудь мне доставит удовольствие комплимент от одного-единственного мужчины, но я пока такого не встретила.
Руфо Гера надолго задумался, не отводя взгляда от девушки, которую он по-прежнему считал маленькой дочуркой его лучшего друга. Он смотрел на нее как на дочь, которую очень бы хотел иметь сам. Несмотря на то что он видел, как она родилась, он не перекинулся с нею до сего часа и десятью словами.
— Тебе нравится море? — задал он вдруг вопрос.
— Да, конечно… Это то, что мне больше всего нравится на этом свете.
— Так вот, представь на миг, что морю не захотелось, чтобы кто-то смотрел на него. Получилось бы несправедливо, ты не считаешь?
Она покачала головой, посмотрела на него искоса и дурашливо улыбнулась.
— Да ну вас! — воскликнула она. — Море никто не станет лапать грязными руками и уж тем более никто не захочет завалить его в постель, как только выпьет чуть больше положенного. Мне нравится сравнение с морем, но такая жизнь не по мне. Если бы морю довелось слышать то, что слышу я, то можете быть уверены, оно бы постоянно штормило.
Старик весело рассмеялся.
— Я представляю, — сказал он, справившись со смехом, и показал на двор. — Вставай. Пойду приготовлю хороший завтрак, потом мы пойдем на улицу, залезем там на высокую стену и будем смотреть на море и дожидаться рассвета. Уверяю тебя, что это зрелище незабываемое.
Старик оказался прав, и Айза будет помнить всю жизнь, как всходило солнце, как из утренней дымки выступал на горизонте одинокий утес Роке-де-Есте и как тень вулкана Корона медленно плыла по долине. Все это, без сомнений, делало поселок самым красивым местом на острове и одним из самых красивых мест на Земле. Здесь было все, чего только может пожелать душа: и высокие горы, и изумрудные поля, за которыми день и ночь присматривали местные фермеры, и типичные для Лансароте дома с ослепительно-белыми стенами, и конечно же сказочный лес, где пальмы были так высоки, что их кроны гладили облака.
А вдалеке виднелись пятна лавы и покрытые темно-зеленым мхом склоны Злой страны вулкана Корона сбегали к берегу, песок которого был занесен сюда из самой Сахары. Он проделал долгий путь, летя на спине ветра, чтобы наконец-то спокойно осесть на берегу острова или опуститься в спокойные, блестящие, словно покрытые металлической пластиной, морские воды, в которых отражался безбрежный небосвод.
Пустельги уже начали свой путь по небу, неподвижно паря в воздухе и высматривая мышь, ящерицу или крольчонка, в то время как остальные птицы только-только просыпались в пальмовой роще, а в глубине долины петухи уже будили островитян резкими, пронзительными криками.
Руфо Гера подал кофе в красивом рыбацком термосе, а к нему сыр, виноград, инжир и несколько хрустящих на зубах галет.
Если бы кто-нибудь увидел их в этот час, то принял бы за влюбленную парочку, ибо девушка возлежала на траве, любуясь окружающим ее пейзажем, а старик трогательно ухаживал за ней, размешивая сахар в чашке и подавая большие дольки гуайявы.
— Мама говорит, что в городах есть люди, которые никогда не видели рассвета, — вымолвила Айза, мелкими глотками отпивая горячий кофе. — Они очень поздно ложатся спать и просыпаются, когда уже совсем светло. Вы можете себе это представить?
— Конечно могу, — не стал возражать Руфо Гера. — Впрочем, рассвет в городах не так хорош, как у нас. Горожанам достаточно иметь лишь день и ночь, остальное для них не важно.
Айза ничего не ответила. Покончив с завтраком, она залюбовалась красным диском солнца, который взлетал над горизонтом, а затем очень тихо произнесла:
— Один умер.
Руфо Гера пристально посмотрел на нее.
— Откуда ты знаешь? — спросил он.
— Я услышала выстрел, и мне показалось, что он позвал меня.
— Кто его убил?
— Его страх.
— Страх?
— Он был один. Его бросили.
— Но ведь их было двое? Где же второй?
— Не знаю. Этот присел на корточки в углу, точь-в-точь как ребенок, который должен вот-вот родиться. Он плакал как младенец, а потом прозвучал выстрел. — Она посмотрела в сторону собеседника. — Почему Бог наказывает меня этим даром? — спросила она. — Почему ко мне всегда приходят утонувшие и умершие?
— Потому, что ты медиум.
— Я кто?
— Медиум. Так называются люди, которые могут вступать в контакт с мертвыми. Я кое-что читал об этом.
— А быть медиумом хорошо или плохо?
— Не знаю. Но кажется, они зарабатывают очень много денег. Все на свете хотят поговорить с мертвыми.
— Для чего?
— Чтобы знать, что происходит в потустороннем мире.
— Мертвые этого не знают.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Только то, что они ничего не знают. Потому-то они приходят ко мне и задают свои вопросы. Им страшно, и они желают остаться с нами, пытаются создать иллюзию того, что тоже живы.
— Ты уверена?
— Нет. — Она покачала головой в глубокой задумчивости. — Все, что происходит, плохо. Меня это пугает, и я уже ни в чем не уверена. — Она взяла камешек и далеко бросила его, прежде чем снова заговорила: — Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Один юноша сказал, что я всего лишь тщеславная истеричка. Я никогда не понимала того, что значит быть истеричкой. Это что, своего рода сумасшествие?
— Я никогда не слышал такого слова. А если и прочитал его когда-то, то, не зная его значения, не обратил на него внимания. С тех пор как твоя мать перестала объяснять мне смысл вещей, многое проходит мимо меня. Да и я старею. Начинаю думать, что стремление к знаниям на самом деле ни к чему не приводят. Теперь я скорее прочту уже знакомую книгу, а не новую, а это плохой симптом. — Он усмехнулся сквозь зубы. — Очень и очень маленьким детям и очень и очень старым людям нравится только то, что им уже известно. Настоящее любопытство — дело молодых.
— Вам не хватает моей матери, правда?
— Ты не можешь себе представить насколько.
— Вы были влюблены в нее?
Руфо Гера начал собирать вещи, складывая их в рюкзак.
— Думаю, что да, — в конце концов признался он. — Почти все ученики влюбляются в своих учительниц, а она была моей учительницей. Ты знаешь, как она меня научила читать?
— Она никогда мне об этом не рассказывала.
— Это было задолго до того, как ты родилась. Я все еще надеялся, что мой брат мне напишет, и я хотел сам прочитать его письмо. У нее было огромное терпение, и она меня научила читать, а потом научила выбирать книги…
Старик замолчал и больше не произнес ни слова за все то время, что помогал ей спуститься с горы.
— Я, будучи еще совсем молодым, был страшным задирой и выпивохой и с тех пор, как уехал мой брат, не вылезал из таверны. Там я просаживал заработок и терял друзей, так как со всеми дрался. Уверен, если бы не научился читать, то к этому времени был бы одиноким, всем ненавистным стариком. — Он подмигнул девушке, и лицо его приняло хитрое выражение. — Теперь я стар и одинок, но рюмку беру только от случая к случаю. И никто меня не презирает, хотя и не знаю, хорошо ли это.
— Должно быть, хорошо. А вот меня большинство людей ненавидит. Я им ничего не сделала, все время стараюсь быть любезной и ласковой, однако все мои усилия проходят впустую.
— Не думаю, что ненавидят тебя. — В голосе Руфо звучала непоколебимая уверенность в собственных словах. — Это оттого, что они тебя видят другой, и это их пугает.
— А почему я должна быть другой?
Он пожал плечами:
— Кто его знает! Природа частенько проделывает подобные штуки. Обрати внимание на этот остров. Отсюда он весь хорошо виден, от утесов Фамара до мыса Папагойо. Вроде бы ничего особенного, остров как остров, и тем не менее Природа сосредоточила здесь больше вулканов, чем на всем континенте. Однажды я прочел, что Лансароте является одним из тех мест на Земле, где скрещивается больше всего магнитных полей.
— А что такое магнитные поля?
Руфо задумался на секунду, и стало очевидным, что он не слишком-то уверен в своем ответе, однако наконец, засмущавшись, произнес:
— Как я это понимаю, мир пересекает множество магнитных полей, которые еще называют линиями магической силы. Иногда они сходятся в одной точке, и там начинают происходить всякие странные вещи. Поля эти влияют и на людей, и на животных. Древние верили в это, однако христиане позаботились о том, чтобы люди забыли о местах пересечения магнитных линий, назвав их колдовством и дьявольскими происками. В Ирландии тоже есть места пересечений магнитных полей. Есть они и в Индии, и в Бирме. Но нигде на Земле нет такого количества магнитных полей, как здесь. Вот потому-то, куда ни посмотри, повсюду здесь вздымаются кратеры вулканов, а земля буквально горит под нами. Разве это не каприз Природы? И разве мы не идем на поводу у собственных капризов, оставаясь на этой бесплодной и суровой земле, каждый день подвергая себя опасности, ибо весь наш остров в любую минуту может взлететь на воздух? Нечто подобное уже произошло двести лет тому назад. Но почему? Почему мы остаемся, если жизнь здесь тяжела, как нигде больше, и зачастую у нас нет даже питьевой воды, а вулканы могут не сегодня завтра проснуться?
— Потому что это наша земля. И она прекрасна.
— Ну что же в ней прекрасного? Разве она лучше вечнозеленых лесов или полей, по которым текут настоящие реки с пресной водой? Скажи мне, сколько раз ты по-настоящему могла помыться? Думаю, что ни разу. Нам достаточно лишь перебраться на соседний остров Тенерифе, чтобы насладиться огромными лесами, дождем, родниками и даже снегом. Разве все это не лучше пересохшего куска земли? Этих скал и этих голых вулканов?
Айза Пердомо часто вспоминала те дни, когда бывала с матерью на Тенерифе; вспомнила нежный дождь в Ла-Лагуна, буйные леса в Монте-де-Есперанса, белый сияющий снег на склонах Тейде, холодные источники, чья вода стремительным потоком бежит между скал. Вспомнила цветы и изумрудную зелень долины Оротава, где тут и там встречаются банановые плантации, протянувшиеся от моря до подножия самого огромного вулкана… Вспомнила и наконец медленно, но очень уверенно покачала головой:
— Нет… Это не так.
— Дерьмовщина! — воскликнул Руфо Гера. — Почему мы — лансаротеньос — рождаемся такими глупыми? Почему?
Караван верблюдов — одногорбых дромадеров, привезенных из пустыни Сахара, — не торопясь, спускался из живописной деревушки Фемес, примостившейся между двумя горами и будто выглядывавшей из-за склона, чтобы убедиться, что Исла-де-Лобос и Фуэртевентура остались на том же самом месте, где стояли раньше, а не ушли вглубь океана. Медлительные и усталые животные с отрешенным видом двигались так, будто боялись раздавить воображаемые яйца, оказавшиеся на извилистых тропах из камня и лавы.
Каждое животное несло на своей спине два довольно больших бочонка, а повод каждого верблюда был привязан к хвосту впереди идущего. В то время как мальчик-проводник нервно подхлестывал первого, трем женщинам было поручено подгонять остальных и следить за тем, чтобы кто-то из животных не начал кусаться или не лягнул другого.
Дело оказалось не из простых, ибо на то, чтобы подняться на гору, набрать воды и вернуться, каждый раз рискуя сорваться в пропасть и сломать себе шею, уходило не меньше четырех часов. И мальчик, и женщины были измучены палящим солнцем, грозящим сжечь все, до чего только могли дотянуться его лучи, они устали бороться с порывами ветра, легко преодолевающего расстояние в тысячу километров над морем и не встречающего на своем пути ни единого препятствия до тех пор, пока с размаху не влетит в горную цепь, где несчастные проводники всеми силами старались доставить воду в изнывающий от жажды поселок.
Люди хранили молчание, изредка прерываемое лишь криками в адрес упрямых животных. Они понимали, что эта тяжелая работа — кара, которую наложил на них Господь за упрямство, за то, что они, не желая оставлять остров, продолжают цепляться за голые скалы и свои нищенские дома.
Пять лет назад верблюдов заменил трясущийся на ухабах и жутко скрипящий грузовик. Он доставлял воду из Арресифе, каждый раз каким-то чудом преодолевая каменистую дорогу, идущую от Рубикона, однако местные жители издавна были привычны к тому, что машина могла в один прекрасный день просто не прийти, и тогда баки оказывались пустыми и в селении не оставалось воды даже на то, чтобы доварить черне. Тогда женщины снова запрягали верблюдов и, палками заставляя их подняться, отправлялись в Фемес.
Дромадеры в качестве тягловой силы заменяли мулов, ослов и лошадей во время пахоты или молотьбы зерна на току и даже придавали пустынному пейзажу некий африканский шарм, благодаря чему у многих складывалось ощущение, будто Лансароте — это всего лишь кусочек пустыни, много миллионов лет назад оторвавшийся от материка.
Удобно устроившись в тени навеса и наблюдая в свою неизменную подзорную трубу за спускающимся с горы караваном, Дамиан Сентено вспомнил проведенные в Марокко годы и попытался найти отличия между измученными женщинами в черных одеждах и широкополых соломенных сомбреро и бедуинками в синих накидках или берберами с Атласских гор. Поразмыслив еще немного, он вынужден был в очередной раз признать, что судьба свела его с людьми, немало выстрадавшими и закаленными в боях со стихиями и жизненными невзгодами. Веками они вгрызались в бесплодные камни и отнимали пищу у моря. Эти люди с легкостью мирились со своей тяжелой жизнью, ибо никогда не знали другой.
Жители Плайа-Бланка, казалось, не замечали ни его угроз, ни решительных действий, и их бескрайняя невозмутимость начала уже выводить его из себя. Сентено постепенно осознавал, что он для островитян всего лишь небольшая неприятность в череде многих и многих бед, которые они претерпевали от начала времен, и с таким же смирением, с каким они принимали жестокие порывы ветра, засухи и штормы, они примут все его дела и поступки.
Вот уже целую неделю, как в селении ничего не происходило. Жители укрылись в своих домах и были намерены сидеть там до тех пор, пока чужакам не надоест бродить по пустым улицам или сидеть на крыше дома Сеньи Флориды и они не уберутся восвояси. На дверях таверны висел замок, а большинство баркасов стояли на якоре в пятидесяти метрах от берега. Если бы не караван верблюдов, покачивающихся под тяжестью бурдюков с водой и медленно сползающих с горы, рыбаков, с рассветом проскальзывающих к морю и выходящих на промысел, да женщин, детей и стариков, украдкой подглядывающих за чужаками в окна, Плайа-Бланка можно было бы принять за город-призрак.
И главное, вот уже три дня, как не было вестей от Дионисио и Мильмуертеса, отправившихся в злые земли Ада Тимафайа. Дамиан Сентено, хорошо знавший своих людей, понимал, что те начали терять терпение: охота уже не увлекала их с прежней силой, а жизнь, в которой были лишь карты, пляжи, купание да рыбная ловля, совсем им не подходила.
Они были людьми действия, привыкшими к вину, потасовкам, грубым развлечениям, вечному шуму и женщинам, а посему тишина и спокойствие поселка их нервировали, и он не единожды уже был вынужден вмешиваться в назревавшие потасовки, дабы не допустить очередной кровавой драки.
Однажды утром Пако — цыган из Алманзоры, на которого Сентено привык рассчитывать даже в самых безнадежных делах, — проснулся, встав с левой ноги, принюхался, словно гончий пес, затем заявил, что в доме воняет, и, собрав свой небольшой чемоданчик, направился к двери.
— Почему?
— До того как стать легионером, я был бандерильеро в квадрильи Рафаеля Ель-Гальо. У него я научился одной вещи: когда внутренний голос велит тебе не соваться вперед быка, не вступать в сделку или не спать с женщиной, то слушайся его, слушайся и беги прочь. Быков, сделок и женщин в твоей жизни будет еще много, ты же в этом мире уже не повторишься.
— И чего ты боишься? — задал вопрос Дамиан Сентено. — Вшивых рыбаков?
— Нет. И ты это знаешь. Я могу испугаться сам, но напугать меня никто не может, — ответил цыган. — На этот раз я испугался сам. На этом острове есть что-то… И это что-то стоит выше дона Матиаса Кинтеро, а он даже в Мадриде считается важной персоной. И не спрашивай меня ни о чем: если бы я знал, что это, я бы обязательно тебе сказал. Но я предчувствую недоброе, и этого мне достаточно. Пока, сержант! — добавил он. — Ты ничего мне не должен, так же как и я не должен тебе. Но ты вспомнил обо мне, когда наклюнулось это дельце, потому в благодарность я дам тебе добрый совет — беги отсюда, линяй, пока не стало слишком поздно.
Сказав так, он не торопясь удалился, зная, что впереди его ждет долгая дорога. К товарищам своим, которые вышли на крыльцо дома и смотрели ему вслед, он был совершенно безразличен, равно как к женщинам и детям, глядящим на него сквозь приоткрытые двери и щели между ставен. Он шел размеренным шагом, с гордо поднятой головой, так потерпевший поражение тореро, душу которого разрывает на части чувство стыда, величественно вышагивает по улицам города, не склоняясь под ударами летящих в него со всех сторон насмешек.
— Добро! — прервал молчание Хусто Гаррига, когда фигура цыгана превратилась в крошечную точку на горизонте. — Теперь нас только трое, а жителей в деревне столько же, сколько было в день нашего приезда.
— Рассчитывай на меня, так что нас четверо, — поправил его Дамиан Сентено. — И Дионисио с Мильмуертесом скоро вернутся.
— Сомневаюсь.
Они пристально посмотрели друг на друга. Во взгляде Сентено явно читался упрек.
— Раньше ты никогда не сомневался в успехе.
— Несколько дней назад Пако мне сказал: «Эти не вернутся, ну и я уйду». И я ему поверил, потому что впервые в жизни видел его напуганным по-настоящему. А тебе ли не знать, как сложно напугать этого чертового цыгана? В поселке говорят, что девчонка — дочка старого Пердомо — колдунья, и это мне не нравится.
— Ерунда! Все это ерунда, старушечьи бредни, за которые с охотой цепляются всякие засранцы, вроде Пако, которые решили свалить по-тихому. Скорее всего, галисиец и Мильмуертес напали на след нашего птенчика и теперь пытаются сцапать его. А может, в эту самую минуту они уже тащат его сюда? Откуда нам знать, что там происходит? На этом чертовом острове нет ни телефона, ни телеграфа. На Тимафайа тоже. Будь все проклято! Стоило парням задержаться на пару дней, как вы уже готовы в штаны наложить со страху!
— Ты знаешь, что я не боюсь. И плевать я хотел на то, что произошло с этими мерзавцами! Я приехал сюда делать свою работу, и я ее сделаю, исполню любой твой приказ. Но даже ты не можешь заткнуть мне рот и запретить говорить то, что я думаю. Я знаю Мильмуертеса уже пятнадцать лет, и такого ловкого сукиного сына еще поискать надо. Должно быть, они находятся сейчас километрах в тридцати отсюда, и я ни за что на свете не поверю, что он до сих пор не нашел способа с нами связаться.
Пако же, добравшись до развалин ветряной мельницы, стоявшей на вершине небольшого холма у самого края дороги в километре от селения, остановился и посмотрел назад, словно навсегда хотел запомнить Плайа-Бланка, море и остров Исла-де-Лобос. Затем, развернувшись на месте, он окончательно скрылся из виду. Он шел походкой человека, который никуда не торопится, так как никто его не ждет. Пако-цыган еще не знал, что ему суждено до конца своих дней оставаться на Лансароте. Вначале он станет сутенером в одном из публичных домов, позже — барменом и, наконец, когда пройдет порядком времени, а в карманах его заведутся деньжата, владельцем рыбацкой флотилии. Однако за все эти годы он ни разу не пожелает вернуться в то селение, откуда ушел однажды утром, стыдясь самого себя.
В это же самое время Дамиан Сентено сказал Хусто Гаррига:
— Хорошо. Завтра я должен навестить дона Матиаса. По дороге я зайду в Тихано и постараюсь выведать, что же произошло. — Он покрутил из стороны в сторону головой, потом кивнул в сторону нового каравана верблюдов, который, приближаясь, спускался по склону горы Фемес: — Нам придется стать еще более жестокими, ибо эти кретины способны запастись водой на всю жизнь… — Он устремил взгляд на дом, стоящий на отшибе. — Ты обратил внимание на толстушку, которая постоянно ходит в цветастом платье?
— А то нет! Когда она садится солить рыбу, то ее ляжки напрягаются так, что становятся похожими на камень.
— Ее муж одним из первых выходит в море… Этой ночью ты можешь нанести ей визит.
— А почему не жене Абелая Пердомо? У нее до сих пор предостаточно пороха. Да и в конце концов, ведь это они нас интересуют.
— Иди, но ты найдешь дом пустым. Когда ее муж уходит в море, она ходит к кому-то из соседей. И у меня такое впечатление, что они в доме не оставили ничего стоящего… Если это стоящее у них когда-нибудь было. — Он прищелкнул языком. — Они не дураки, эти Марадентро. Совсем не дураки.
Действительно, Абелай Пердомо решил принять меры предосторожности и не оставлять Аурелию одну, особенно в те дни, когда он еще затемно выходил вместе с Себастьяном на путину. Абелай велел жене никогда не спать две ночи подряд в одном и том же доме, а переходить от соседа к соседу, убедившись заранее, что люди Дамиана Сентено ее не видели.
После того как жители Фемеса сказали, что не смогут больше возить воду, дела в поселке шли из рук вон плохо, однако Абелай Пердомо, знавший, что Асдрубаль надежно укрылся в пещерах Тимафайа, а Айза находилась в доме Руфо Гера, чувствовал себя на удивление спокойно.
Верблюды продолжали подниматься на гору и медленно спускаться вниз, но ни Дамиан Сентено, ни его люди не знали, что возвращаются они, как правило, пустыми. Жители селения преуспели в своем обмане — мол, смогли они и без грузовика обойтись, — однако воды теперь отчаянно не хватало даже на самое необходимое.
Люди дошли до предела своих возможностей, и Абелай Пердомо в один прекрасный день понял, что не вправе требовать от односельчан подобных жертв.
Это случилось в тот вечер, когда Рохелия Ель-Гирре в четвертый раз сообщила, что дон Матиас Кинтеро отказывается его принять. Но Абелай не ушел, опустив голову, как делал это раньше, а дождался наступления темноты и снова подошел, стараясь оставаться незамеченным, к величественному дому, который, словно средневековая крепость, врастал фундаментом в скалу и своими мощными стенами готов был раздавить хлипкие деревенские домики.
Ему пришлось ждать почти два часа, пока свет в большом окне не погас, и вскоре он заметил, как открылась парадная дверь и возникла худая, согбенная фигура дона Матиаса Кинтеро — до этого Абелай видел его лишь однажды, — старик спустился с крыльца и вошел в сад, раскинувшийся до самого виноградника.
Абелай тихо последовал за ним. Дон Матиас теперь стал таким маленьким и двигался он настолько медленно и бесшумно, что в какой-то момент Абелай даже потерял его из виду и был вынужден остановиться, чтобы прислушаться и вглядеться в темноту. Но вот до него донесся едва слышный шорох шаркающих шагов, и он снова увидел расплывчатый силуэт в свете растущей луны.
Абелай предстал перед доном Кинтеро словно призрак, сотканный из ночных теней. Старик вздрогнул и замер, сдерживая дыхание.
— ¡Buenas noches! — поприветствовал его Абелай Пердомо. — Пожалуйста, не пугайтесь. Я не причиню вам зла. Только хочу поговорить…
— Ты Марадентро, не так ли? — Голос дона Матиаса звучал спокойно. — Отец убийцы моего сына. Мне не о чем говорить с тобой. Абсолютно не о чем… — Он сделал едва заметную паузу. — Знаешь, когда я поговорю с тобой? Когда наши пути пересекутся на кладбище в День усопших. Только тогда у нас появится тема для разговора — наши мертвые сыновья.
Молниеносно выбросив вперед огромную, мускулистую руку, Абелай Пердомо схватил тщедушного старика за горло и чуть ли не приподнял над землей.
— Послушайте вы, проклятый старик! — воскликнул он, пока тот сучил ногами и молотил воздух руками, тщетно пытаясь вырваться. — Мне достаточно слегка сжать пальцы, чтобы покончить с этим делом раз и навсегда. Но Марадентро не убийцы. — Он ослабил хватку, чтобы ненароком не придушить старика. — Это был несчастный случай. Асдрубаль убил вашего сына, потому что тот пытался изнасиловать мою Айзу, а ведь она еще почти ребенок. Почему вы не желаете согласиться с правдой? Быть может, ваш сын был пьян? Откуда мне знать? А может, такова его судьба? Однако клянусь вам, что все мои слова — чистейшая правда. И если бы вы мне только предложили, я бы проверил… Признаю, должно быть, нелегко пережить своего ребенка, однако я ничего не могу сделать, чтобы изменить прошлое. И вы тоже!
Он разжал пальцы, и дон Матиас Кинтеро привалился к выложенной из обломков застывшей лавы стене. Старик поднес руку к горлу, словно так воздух скорее бы наполнил его легкие. Прошла почти минута, прежде чем он обрел дар речи. Наконец он поднял голову. На лице его застыло упрямое выражение, а глаза безумно блестели.
— Лучше бы ты задушил меня. Тогда бы ты вместе с сыном оказался на виселице. — Он сделал небольшую паузу, словно желая убедиться, что его слова достигли цели, а потом продолжил: — Решайся, иначе можешь быть уверен, что я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу могилу твоего сына!
Абелай Пердомо на какое-то мгновение замер в растерянности, словно никак не мог осознать, что стоящий перед ним человек может быть настолько одержим жаждой мести. Затем он тяжело прислонился к другой стене и помотал головой, прогоняя наваждение.
— Понимаю… — медленно произнес он. — Вам бы очень хотелось, чтобы я убил вас, потому что у вас не хватает духу сделать это самому. Сейчас единственный для вас выход — это уйти из этого мира. Однако я не собираюсь доставлять вам подобного удовольствия. Вам придется продолжать жить и со своей болью, и со своим стыдом, дон Матиас. И день ото дня они будут становиться лишь сильнее и сильнее, и чем старательнее вы будете пытаться заглушить их, совершая все новые и новые глупости — станете жечь баркасы или изводить жаждой невинных людей, — тем больше будете мучиться. Признайте же наконец правду! Ваш сын был самой настоящей свиньей, за что и поплатился. Да, убийцей оказался мой Асдрубаль, однако им мог оказаться и любой другой парень, потому что это ваш подлый сын первым вытащил нож. Впрочем, глядя на отца, я понял, почему сын вырос таким трусом. У вас тоже не хватает смелости решить свои дела, и вы нанимаете убийц, чтобы те сделали за вас всю грязную работу.
Они сидели очень тихо, глядя в упор друг на друга, и даже не подозревали, что в темноте за их спинами стояла Рохелия Ель-Гирре. Ее тонкий, как у зверя, слух позволял ей слышать каждое слово, и она сразу же поняла, что незваным ночным гостем был не кто иной, как Абелай Пердомо, который этим самым вечером в четвертый раз пытался повидаться с хозяином.
Ее слабая надежда на то, что Абелай прикончит дона Матиаса, так как тот сам не решился бы расстаться с жизнью, рассеялась в тот миг, когда она поняла, что Марадентро справился с приступом гнева. Теперь то, что могло бы стать схваткой не на жизнь, а на смерть, превратилось лишь в жалкую словесную перепалку.
Когда великан Пердомо выпрямился и, развернувшись, исчез в темноте, она так и продолжала стоять на месте. Еще несколько долгих минут Рохелия Ель-Гирре следила за своим тщедушным хозяином, который, словно изрядно потрепанная кукла, все еще стоял, прислонившись к стене, и никак не мог прийти в себя, чтобы вернуться в дом.
Рохелия Ель-Гирре пошарила вокруг, нащупала увесистый булыжник и крепко сжала его в руке, а затем скользнула, словно злой дух, к тому месту, где недвижно сидел дон Матиас Кинтеро. Она давно пришла к решению, что должна действовать сама, иначе все мечты, что подпитывали ее в течение последних лет, рассеются, словно дым, так и оставшись мечтами. Если же ее хозяин умрет после визита Абелая Пердомо, ни у кого не возникнет сомнений, что убийца именно он, у нее же будет предостаточно времени на то, чтобы вынести из дому все ей нужное, прежде чем сообщить в Цивильную гвардию о случившемся.
Она не испытывала ни малейших сомнений, пока бесшумно, совсем как рысь, кралась вперед, ни угрызений совести, ибо с тех пор, как помнила себя, она не получала от этого человека ничего, кроме презрения и унижений. Она в уме постоянно повторяла непристойные слова, которые он произносил, заставляя ее встать на колени, а затем медленно расстегивая ширинку брюк и вставляя ей в рот вонючий, потный и обмякший член.
Дамиан Сентено добрался до Тинахо в первом часу ночи. На мельнице, где мололи зерна для гофио, его заверили, что Педро Печальный, как всегда, с козами ушел в горы, и если ему, Сентено, требуется найти пастуха, то он должен пуститься в путь по самым что ни на есть ужасным дорогам, по которым не ездил даже тот старый автомобиль, чье тарахтение время от времени разносилось по острову.
Еще не единожды ему пришлось спрашивать дорогу, то стучась в двери обособленно стоящих домов, то расспрашивая одинокого крестьянина, пытавшегося починить разрушенную ветром стену своего виноградника. Когда нещадно палящее солнце стояло в зените, последние признаки дороги закончились, и он понял, что ему не остается другого выхода, как идти дальше по голым камням.
Он увидел пастуха издали — тот сидел на самом краю старого кратера и смотрел на очертания Огненной горы, вырисовывавшейся на горизонте. Пастух время от времени посвистывал, подзывая своих псов, или бросал в их сторону камень, таким образом приказывая им держаться поближе.
Козы там, где это было возможно, щипали жалкие пучки травы, которые, кто знает каким чудом, пробивались между камней и в трещинах лавы.
Педро Печальный даже не пошевелился, пока Дамиан Сентено с трудом поднимался по склону, а когда тот подошел и остановился перед ним, то поприветствовал его лишь кивком.
— Добрый день.
— Добрый день.
— Это вы Педро Печальный?
— Да, так зовут меня.
— Я ищу своих друзей.
— Здесь их нет…
— Я уже это вижу. Однако они ушли сюда, чтобы поговорить с вами, и не вернулись.
— Наверное, передумали.
— Вы хотите сказать, что они не приходили?
— Почему же не приходили? Приходили, — признался пастух. — Если это только те, о ком я думаю… Одного звали Мильмуертес, а другого Дионисио, если мне не изменяет память. Они просили провести их к Тимафайа. Я их туда и отвел, но им место не понравилось.
Дамиан Сентено попытался прочесть в невозмутимом взгляде пастуха правду, однако очень быстро понял, что собеседник его либо полный дебил, либо отъявленный хитрец. И в том и в другом случае рассчитывать на быстрый успех не приходилось.
— Что вы хотите этим сказать, уверяя, будто место им не понравилось? Что они сделали?
— Ушли… Сказали, что там слишком жарко и очень много острых камней. Нет, — повторил он, — им совсем не понравилось.
— И куда они пошли?
Пастух слегка наклонил в сторону голову.
— А вы их друг? — спросил он и, получив утвердительный кивок, как ни в чем не бывало добавил: — Ну уже если вы, будучи их другом, не знаете, куда они пошли, то откуда это знать мне? Ведь я их видел всего один раз в жизни.
Дамиан Сентено присел на камень, достал сигареты, предложил одну пастуху и после того, как оба закурили, сделав глубокие затяжки, сказал:
— Сдается мне, вы пытаетесь что-то от меня утаить. Вы говорите далеко не все, что знаете.
Педро пожал плечами:
— Каждый думает то, что ему хочется думать. Почему это они должны мне были говорить, куда пойдут? И какое мне до этого дело?
— Возможно, они так никуда и не пошли?
— Возможно… — Если бы Педро был способен улыбаться, то, вероятно, сейчас бы он именно это и сделал. — А может быть, я их съел? Разве я не похож на людоеда?
— Не говорите со мной подобным тоном, — предупредил его Дамиан Сентено, голос которого неожиданно стал хриплым. — Мне это не нравится.
— Мне ваш тон тоже не нравится, — последовал ответ. — Здесь мне, моим собакам и моим козам было спокойно, но вот появились вы и начали задавать вопросы. Я ведь уже рассказал вам обо всем, что вы еще хотите узнать?..
— Вы пока мне ничего не сказали.
— А вот мне кажется, что многое. Они ушли, и если вы хотите знать куда, то спросите у них, когда встретитесь с ними.
Было видно, что пастух лжет, однако Дамиан Сентено понял, что на вопросы свои он ответа не получит, сколько их ни задавай. Он посмотрел на худого, словно высохшего на солнце, пастуха коз, отчаянно похожего на длинноногого журавля и, по всей видимости, за всю свою жизнь и тарелки не разбившего, а потом подумал о Дионисио и Мильмуертесе. Он знал, что его люди способны противостоять любым трудностям, какие бы только ни встретились на их пути, и за каждого из них он бы сунул руку в огонь. К тому же они собирались покончить с Асдрубалем Пердомо, а значит, были хорошо вооружены. Посему Сентено казалось немыслимым, что это жалкое существо, сидевшее сейчас перед ним, могло вступить в схватку с двумя закаленными в боях головорезами и одержать над ними верх. Он придавил окурок сигареты носком сапога и спросил:
— Тысяча песет помогла бы вам вспомнить, куда отправились мои друзья?
— Помогла бы очень, если бы я это знал, — последовал хитрый ответ. — Однако повторяю вам, что они ничего не сказали.
Дамиан сделал последнюю попытку, хотя уже прекрасно понимал всю тщетность своих усилий:
— Возможно, жандармам из Цивильной гвардии удастся расспросить вас лучше, чем мне?
— Вы так думаете?
Дамиан Сентено понимал, что бессилен перед равнодушием своего собеседника, и это его невероятно злило. Он бы с большим удовольствием выхватил острую и длинную наваху[16], однако сделай он резкое движение — и собаки, на которых он сразу же обратил внимание, бросились бы на него в ту же секунду.
— Хорошо! — сказал он наконец, вставая и готовясь уйти. — Мы еще увидимся.
— Как вам угодно. Обычно я нахожусь здесь.
Спотыкаясь и оскальзываясь на камнях, Дамиан Сентено медленно спускался по склону. Все это время он не уставал благодарить провидение, из-за которого не взял с собой пистолет, иначе он бы уже давно влепил пастуху четыре пули, тем самым совершив самое напрасное убийство в своей жизни, которое потом непременно принесло бы ему много неприятностей.
Очевидно, что-то произошло между Педро Печальным и его людьми, но если и так, то они сами во всем виноваты, ибо знали, как должно вести себя в этой жизни, а он, Дамиан Сентено, не нанимался им в няньки. Он позвал их с единственной целью — избежать как можно большего количества проблем, и если пастух каким-то чудом умудрился их прикончить, то, значит, так тому и быть. Во всяком случае, ему совсем не хотелось превращаться в полицейскую ищейку, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло. С него было достаточно найти Асдрубаля Пердомо.
Дамиан Сентено за свою жизнь видел много смертей, ибо принимал участие в кампании в Марокко, в Гражданской войне и даже сражался с русскими в составе Голубой дивизии во время Второй мировой войны, а посему научился быстро забывать о погибших, даже если они были его друзьями, так как ни печаль, ни слезы еще никого не вернули с того света. Напротив, тоска и воспоминания заставляли лишь увериться в том, что ушедшие ждут не дождутся встречи с тобой, а значит, недалеко и до беды.
Он тысячу раз отправлял на верную смерть разведчиков, которые потом так и не возвращались, и вскоре перестал даже думать о том, что же могло с ними произойти. Люди на войне порой исчезают так внезапно, будто их проглатывает сама земля, но таков извечный ход вещей, и не ему, Дамиану Сентено, его менять.
Его ярость достигла крайних пределов, когда он подошел к автомобилю. Он обнаружил, что одно из колес спустило, а так как в это же самое утро другое лопнуло все на той же адской дороге, то дальнейший путь представлялся весьма затруднительным.
Будучи один и зная, что его никто не видит, Сентено принялся пинать колесо и ругаться распоследними словами, проклиная на чем свет стоит этот остров, где, казалось, даже камни восстали против него. Этот жалкий Лансароте словно был создан для того, чтобы ясно дать понять Дамиану Сентено, бывшему сержанту Легиона, человеку, четырежды получившему награды за свои мужество и хладнокровие, что здесь он на самом деле пустое место. Он не был человеком моря, не принадлежал этому миру, был чужд окружающей его суровой природе, а потому остров пытался вытолкнуть его из себя как нечто абсолютно чужеродное и даже болезнетворное.
Отрезанные от остального мира, извечно страдающие от голода и жажды «крольчатники» — как сами лансаротеньос называли себя — были до странности привязаны к этому бесплодному месту и порой казались ему существами из другой галактики, живущими по иным, чем другие смертные, законам.
Ни деньги, ни угрозы, ни сила не заставили их уступить. Когда Хусто Гаррига со своими дружками возвратился наутро после ночных похождений у жены рыбака, его разочарованное выражение лица в очередной раз привело Сентено в замешательство.
— Она ничего не сделала, — рассказал Хусто. — Мы тихо вошли и застали ее в постели. Вначале она отбивалась, пыталась сопротивляться, а когда поняла, что это бесполезно, притихла, будто мертвая, и выдержала все без единого стона. — Он замолчал, наливая себе кофе. — Когда мы уходили, то я было решил, что она примется орать что есть мочи. Однако она даже не пикнула, и у меня такое впечатление, что она даже не думает рассказывать о произошедшем.
— Ты ее бил?
— Зачем? Она же не сопротивлялась.
Хусто Гаррига, похоже, даже не понял, что Дамиан Сентено не развлекаться его отправлял. Он хотел, чтобы в Плайа-Бланка все наконец-то поняли серьезность их намерений. Они уже подожгли баркас, избили рыбаков и перехватили водовоз, заставив весь поселок мучиться от жажды. Но они могли зайти и дальше, много дальше, если островитяне не принудят семейство Марадентро выдать им Асдрубаля Пердомо.
Пока он, сгорбившись, обливаясь потом и умирая от жажды, шагал по раскаленным на солнце камням, пытаясь найти хотя бы жалкую тропу, которая вывела бы его на дорогу — любую, пусть даже и самую плохую, — до Мосаги, он продолжал задавать себе один и тот же вопрос: где он совершил ошибку и как должен был бы действовать изначально, чтобы добиться успеха, теперь с каждым днем казавшегося все более недосягаемым?
Старик уже начал терять терпение, и Дамиан это знал. Дон Матиас хотел результатов, а он не смог предложить ему ничего, что хотя бы на время его успокоило. Если он ему расскажет, что пропали двое из его людей, то старик перестанет верить в него, в человека, которого всегда уважал и которому всегда оказывал покровительство. А случись так, то он, Дамиан Сентено, снова останется ни с чем. Его уже прогоняли из Легиона. И теперь, когда ему вот-вот должно было исполниться пятьдесят лет, Сентено знал, что шансы на успех его в этой жизни невелики. Теперь он должен во что бы то ни стало сделать так, чтобы Матиас Кинтеро назвал его наследником своего огромного состояния, иначе свою жизнь он непременно закончит под забором. Как только Асдрубаль Пердомо умрет, старика уже ничто не будет держать на этом свете. Тогда не за горами будут времена, когда и прекрасный особняк, и виноградники перейдут в его руки.
Вначале дело ему представлялось легче легкого. Однако теперь по вине недалеких людей, которым, казалось, солнце выжгло последние мозги, ибо они разучились реагировать на события так, как должно это делать нормальным людям, он рисковал снова остаться ни с чем.
Сентено вышел к одинокому дому, однако залаявшая собака не давала ему подойти ближе. Но как он ни кричал, никто на зов так и не вышел, и не предложил ему стакана воды, и не указал дороги. Кто построил этот дом здесь, посреди безжизненной каменной пустыни, и где в этот момент находился хозяин, оставивший хозяйство на попечении злобного пса, оставалось лишь гадать.
Продолжая шагать по камням и застывшей лаве и морщась от боли, пронзавшей его разбитые в кровь ноги, Дамиан Сентено постепенно приходил к выводу, что пора перестать воевать со всей деревней и сосредоточиться на главном — на семействе Пердомо Марадентро.
Чтобы вытащить Асдрубаля из его норы на свет божий, ему придется убить всех Пердомо, медленно, по одному. В этой жизни мало что пугало или по-настоящему раздражало Сентено, однако единственное, к чему он не был готов, так это к тому, что горстка каких-то бородатых мужланов-рыбаков одержит над ним верх.
Спустя полчаса, повернув вместе с тропинкой в сторону, он лицом к лицу столкнулся с человеком, который накладывал мелкий древесный уголь — пикон в огромные корзины, которые затем собирался навьючить на верблюдов. Он сказал, что до Мосаги добрый час ходьбы через поле.
— Нет, — ответил он на немой вопрос Сентено. — Здесь вы не найдете ни дороги, ни машины, которая бы привезла вас на место.
— Вы уверены?
— Я здесь живу с рождения, сеньор, а потому знаю, что говорю. Верблюд — единственный вид транспорта, подходящий для этой части острова.
Дамиану ничего не оставалось, как, морщась от чувства унижения, залезть в одну из корзин и так, покачиваясь на лениво выступающем дромадере, ведомом невозмутимым крольчатником, который, время от времени посмеиваясь, подкручивал свои густые усы, въехать в Мосагу.
— Вот везу вам христианина! — весело произнес мужчина, заставляя животное стать на колени перед дверьми, в которых уже появилась Рохелия Ель-Гирре. — Он заблудился и отбил себе все ноги. Но так как он уверял, что он ваш друг, то я его и привез…
Рохелия, не сводя с Сентено взгляда, в котором злоба мешалась с презрением, утвердительно кивнула.
— Благодарю за услугу, Чо Ансельмо, — сказала она. — Зайдите на кухню и налейте себе глоточек вина. Да отнесите крендельков своим ребятишкам. Я их вытащила из печи всего час назад. — После чего она обратилась к Сентено: — Хозяин в спальне. Доктор приказал, чтобы его никто не будил.
— Он что, болен?
— Абелай Пердомо ночью хотел его убить. К счастью, мой муж услышал крики и вовремя прибежал на помощь. Мерзавец скрылся.
— Абелай Пердомо? — удивился хозяин верблюда. — Марадентро из Плайа-Бланка? Мне это кажется маловероятным.
— Почему же? — кисло отозвалась Рохелия. — Если его сын убил сына хозяина, то почему бы отцу не попытаться убить его самого?
Чо Ансельмо тут же сообразил, что все это не то дело, в которое стоило бы совать нос, и, не произнеся ни слова, направился в кухню за обещанными стаканом вина и крендельками. В предстоящие шесть месяцев его единственной заботой станут поля, пикон, который нужно грузить в корзины, да ленивый верблюд. Остальное же — печаль других, а у него и своих дел по горло.
Дамиан Сентено, не обращая внимания на недовольство Рохелии, попросил показать ему душевую, где бы он смог смыть с себя пыль, которая, казалось, навсегда вплавилась в его кожу под лучами жаркого солнца.
— Подожду, пока не проснется дон Матиас, — уточнил он. — Жандармы уже прибыли?
Он мог бы поклясться, что выражение лица женщины, которая тут же развернулась и последовала на кухню за хозяином верблюда, слегка изменилось.
— Хозяин не захотел вызывать, — ответила она. — Он сказал, что вы уладите это дело. За второй дверью наверху вы найдете спальню и ванную. Можете пользоваться. Через полчаса я подам вам ужин.
Опускаясь в теплую воду, Сентено поблагодарил судьбу, подарившую ему удовольствие, какового он не испытывал с момента прибытия на остров. Затем он обмотался большим полотенцем и приказал, чтобы к утру ему доставили чистое белье. Ужинал он один в сводчатой и мрачной столовой огромного дома Кинтеро и, покончив с едой, попросил Рохелию, чтобы та позвала своего мужа, Роке Луна.
— Зачем?
— Хочу, чтобы он рассказал, как это произошло.
— Он ведь уже говорил: услышал крик, прибежал и спугнул Абелая Пердомо.
Впрочем, Рохелия Ель-Гирре не стала упорствовать, понимая, что тем самым может возбудить в хитром Сентено подозрения, и пошла за своим мужем, который в этот час набивал обручи на бочки в подвале.
— Хочет видеть тебя, — сказала она.
— И что я ему скажу?
— То же самое, что врачу и старику, — рыкнула она. — Ты мне помешал убить его, однако клянусь, если ты меня отправишь в тюрьму, то пойдешь вместе со мной.
— Сумасшедшая, — проворчал Роке Луна, откладывая в сторону молоток, которым набивал металлический обруч. — Совсем ты сбрендила! Убить старика! И как это пришло тебе в голову, когда всего-то и дела, что терпеливо ждать.
— Терпеливо! На терпение я растратила всю свою жизнь.
— Это я терпел в то время, как ты мне наставляла рога! — взвился он.
— Эк как ты заговорил! Да тебе же все равно было, отсасываю ли я уже в десятый раз за день старику или мою отхожие места. Тебе-то и нужно было, чтобы тебя в покое оставили, чтобы каждый вечер ты преспокойненько устраивался в своем углу с трубочкой и домино. Или чтобы тебе не мешали каждое воскресенье таскаться на твою чертову рыбалку! — Она коротко, с горечью хохотнула. — На рыбалку! Четыре часа рыбалки, а остальное время в борделе Табиче. Ты думаешь, что я не знала? То, что я зарабатывала, деля постель с другими мужиками, ты просаживал с другими бабами. Однако с меня хватит! Все это время я жила лишь мечтой, что в один из дней и этот дом, и эти виноградники станут моими… — Она зло сплюнула на пол. — Будь ты проклят! Если бы ты не появился так некстати и не помешал мне, сегодня я была бы уже хозяйкой этого дома.
— Как ты можешь быть настолько глупой? Даже если хозяин умрет сам собой, то ни дом, ни виноградники твоими не будут. Где это видано, чтобы служанка была наследницей хозяина? Прекрати уже мечтать! Когда дон Матиас уйдет в мир иной, может быть, нам кое-что и перепадет, однако нам придется убраться отсюда навсегда. Кретинка! Я не стану доносить на тебя, но оставь свои фантазии и спустись наконец-то на землю. Ты всего лишь старая служанка, проститутка, воровка и, что до меня, так еще и убийца!
Он вышел, не дожидаясь ответа, и уже спустя минуту тихо стучался в дверь столовой. Тон его голоса и выражение лица полностью изменились, как только он открыл дверь и услужливо произнес:
— Вы хотели меня видеть, дон Дамиан?
— Хочу, чтобы вы рассказали о случившемся.
Роке Луна, крутя в руках потрепанное сомбреро, притворился, что ему не так-то и легко припомнить события минувшей ночи.
— Видите ли, дон Дамиан, — начал он, — у меня сон тревожный. Сплю, как пес: одно ухо опущено, а другое поднято. Это в крови у всего нашего семейства. Посему и фамилия у нас такая: больше подходит для ночи, нежели для дня… — Он сделал паузу. — Уже было поздно, когда я услышал голоса в саду, и это меня удивило, так как хозяин не ждал гостей. Потом голоса усилились, спор стал громче, и я вспомнил, что Абелай Пердомо уже несколько раз пытался поговорить с доном Матиасом. Я забеспокоился, начал одеваться, и именно в этот момент до меня донесся крик. Я выскочил в чем был, тоже закричал, спрашивая, что происходит, и увидел, как кто-то убегает, перепрыгивая через виноградные лозы. Я бросился в ту сторону, откуда доносились стоны, и увидел дона Матиаса, лежащего на земле с разбитой головой. Это был настоящий кошмар. Смотреть на него было больно!
— Он был без сознания?
— Не совсем. Но он был оглушен.
— Он сказал вам, что это был Абелай Пердомо?
— Это был Абелай Пердомо.
— Откуда вам известно?
— В саду и огороде полно его следов. Точно такие же, какие он оставил вечером на дороге перед домом. Никто больше вчера не приходил, да и лишь такой великан, как Абелай, может оставить такие следы. Хотите на них посмотреть?
— Нет. Не сейчас. Что вы сказали врачу?
— То, что приказал дон Матиас: будто бы он шел и ударился об одну из стен, что окружают виноградник.
— Что еще сказал хозяин?
— Ничего, и без того слов было достаточно. Он был очень слаб и немного не в себе.
— А вы что думаете?
— Я не думаю. — Роке Луна изобразил скромную улыбку. — Хочу сказать, что мне платят за работу, а не за то, чтобы лезть в чужие дела. Все, что произошло, очень печально, однако мне следует от всего этого держаться подальше.
— А Рохелия?
— То же самое.
— Где была Рохелия?
— Спала. К счастью, у нее сон не такой тревожный, как у меня.
— Понимаю. — Дамиан Сентено пристально посмотрел на Роке Луна, но тот выдержал взгляд, всем своим видом давая понять, что готов отвечать на дальнейшие вопросы. Однако больше ничего Дамиан Сентено спрашивать не стал и едва заметным движением руки отпустил его: — Хорошо. Можете теперь идти. Я же пойду прилягу, но хочу, чтобы меня разбудили, как только проснется дон Матиас. Ясно?
— Вполне, дон Дамиан. Я останусь присмотреть за ним. Не хватало еще, чтобы этому проклятому Пердомо Марадентро взбрело в голову вернуться и добить хозяина. Доброй ночи!
Уже засыпая, Дамиан Сентено снова подумал о том, что сегодня все ему врут. Может быть, он слишком рано становится подозрительным, однако он готов был дать руку на отсечение, что ни Педро Печальный, ни Рохелия, ни Роке Луна не сказали ему ни слова правды.
— Да будет проклят этот остров! — процедил он. — И люди, что живут здесь, тоже да будут прокляты!
Мануэла Кихано с рассветом спустилась к берегу и дошла до одной из многих бухточек, затерявшихся среди скал. Там она разделась догола, вошла в воду и мылась крупным куском зеленого, плохо пенящегося мыла до тех пор, пока от холода тело ее не начала бить крупная дрожь.
Наконец она обсушилась на утреннем ветру, снова надела свое единственное платье, купленное ей мужем, и направилась к Аурелии Пердомо, которая была ее учительницей и которую она выбрала в качестве крестной в день своей свадьбы.
— Вчера ночью меня изнасиловали трое мужчин, — сказала она.
Аурелия так и села, обмякнув, на кухонный табурет и закусила губу, чтобы не закричать. Она, не проронив ни единого слова, с бесконечной жалостью во взгляде посмотрела на молодую женщину, которую знала с рождения и о которой одно время подумывала как о потенциальной невестке.
— У них лица были закрыты масками, да еще и было темно, — продолжила Мануэла, — однако я знаю, что это были чужаки. От них не пахло морем, да и руки у них были не такие, как у рыбаков.
— Ты рассказала о случившемся Онорио?
— Он еще не вернулся из моря.
— Думаешь рассказать?
— Зачем? Чтобы он пошел туда и его убили? — тихо возразила она. — Никто, кроме тебя, не должен этого знать. Даже моя мать. Она начнет кричать и закатит скандал, который не снился и всем чертям в аду. И люди, хоть и станут жалеть меня, будут шептаться у меня за спиной. Тогда уже ни я, ни Онорио не сможем спокойно жить в этом селении. Но я родилась здесь и хочу здесь же умереть.
Аурелия молча кивнула и снова хранила молчание, пока готовила цикорий, в трудные времена заменявший островитянам кофе. Она наполнила две чашки, принесла несколько галет, которые сама же и состряпала, козьего сыра и, наконец, села напротив своей ученицы:
— А почему только мне ты об этом рассказываешь?
— Сама знаешь.
— Я буду знать лучше, если ты мне объяснишь…
— Эти люди здесь из-за вас, — сказала Мануэла. — Они ищут Асдрубаля и не прекратят творить зло, пока не найдут его. — Она на секунду замолчала, пока нехотя надкусывала сыр. — Сегодня зло пришло в мой дом. Но я об этом никому не скажу. Однако завтра или через неделю они выберут другую, которая станет кричать и обо всем расскажет своему мужу, и он обязательно захочет отомстить… — Она пристально посмотрела на Аурелию. — А может, она станет сопротивляться, и тогда они ее убьют…
— Понимаю.
Мануэла Кихано ничего не сказала, и Аурелия выдержала ее взгляд, который лучше любых слов говорил о ее чувствах.
— Понимаю, — повторила Аурелия. — Считаешь, что это мы виноваты в твоей беде? И что мы будем виноваты в любых зверствах, которые станут творить чужаки?
— Я не из тех, кто может судить Асдрубаля, — последовал ответ. — Думаю, что любой другой на его месте сделал бы то же самое. Однако нет никаких сомнений: если бы он сдался, то все снова встало бы на свои места.
— Если он сдастся, его убьют.
— Цивильная гвардия защитит его.
— И сколько времени они смогут его защищать? — задала вопрос Аурелия, и в голосе ее послышались сердитые нотки. — Если Матиас смог притащить сюда этих мерзавцев, думаешь, он успокоится после ареста моего сына? Да он даст взятку тюремщику и заплатит какому-нибудь убийце, чтобы тот зарезал моего сына! Нет! — добавила она твердо. — Если и было время, когда я сомневалась, как поступить, то оно давно прошло… Никто не хочет справедливости для моего сына. Я не стану уговаривать его вернуться, ведь тем самым я бы уговаривала его принять смерть от руки убийц!
— Ну а я в чем виновата? Или бедный Торано, у которого сожгли баркас? Или все эти люди, у которых нет воды даже для того, чтобы приготовить себе еду? Или Исидоро, которому разгромили таверну и он до сих пор не может оправиться от побоев? — Она протянула руку над столом и взяла руку Аурелии, лежавшую рядом с чашкой. — Я люблю тебя всем сердцем, мы подруги, и я благодарна тебе за все, чему ты меня научила. Одно время я даже думала войти в вашу семью. Я смогу пережить то, что со мной сделали. Страх уже прошел, а унижение со временем забудется. Забеременеть я не могу, так как со дня окончания месячных прошло всего два дня. Через несколько месяцев я лишь изредка стану вспоминать о случившемся. Но вот другие?
— Ты считаешь, что я не думаю о них каждую минуту? — Казалось, что Аурелия впервые вот-вот потеряет выдержку и заплачет. — Все это время я живу как в кошмаре, жду, что то, что случилось с тобой, произойдет и со мной. Или эти выродки просто убьют меня. Они пытаются надавить на нас, используя вас всех, ибо понимают, что мы все скорее умрем, чем выдадим своего сына и брата. Клянусь тебе, я уже давно потеряла сон, пытаясь решить проблему, но ровным счетом ничего мне в голову не приходит.
— Вам следует уйти.
— Уйти? — Аурелия махнула рукой, выражая этим жестом согласие с собеседницей. — Да, мы над этим думали, но куда? У нас нет денег, а здесь наш дом, наш баркас и море, которое мы знаем. Абелай рыбак. Он с детства рыбачит в этих водах и знает здесь каждый камень, каждую волну. Да и на что мы будем жить, если уедем, я не знаю.
— У тебя есть родня на Тенерифе.
— Моя мать давно умерла. А прочие родственники знать ничего не хотят о женщине, связавшей свою жизнь с неграмотным рыбаком, пусть бы даже я умирала от голода на их глазах. И если даже мы переедем на Тенерифе, думаешь, они оставят нас в покое? — Аурелия отрицательно покачала головой. — Нет! Ненависть этого человека не знает границ. Он поклялся убить Асдрубаля, и его ничто не остановит, пока он не добьется своего.
— Асдрубаль навсегда должен покинуть этот остров, — ответила Мануэла Кихано. — Мир очень большой, да и дон Матиас Кинтеро далеко не самый могущественный человек на Земле. Рано или поздно он поймет, что его чаяния бесплодны, и отступится.
— Не отступится. Он выместит всю свою ненависть на Айзе или Себастьяне… или на нас. Мы пытались говорить с ним, но он не в своем уме. Не в своем уме от ненависти и одиночества! Иногда, когда я лежу в постели, я думаю о том, что его гложет, пытаюсь поставить себя на его место и понять его. Так я пришла к мысли, что мы все ему ненавистны. Ему претит наша дружная семья, здоровье моих детей, то, что мы всегда были гомогенны.
— Гомо… что?
— Гомогенны. Это значит, что мы всегда были одинаковы, все мы принадлежим к одному и тому же классу, все мы живем вместе, одной большой, сплоченной семьей.
— Ты мне никогда не объясняла этого слова.
— Я тебе объясняла, но в то время тебе больше нравилось поглядывать в окно и высматривать, не вернулись ли мои сыновья из моря, чем слушать мои слова. Почему ты не вышла замуж за Себастьяна?
— Тогда он не был до конца уверен, хочет ли жениться, — слабо улыбнулась Мануэла. — Я бы нашла способ подтолкнуть его, но боялась это сделать.
— Боялась чего?
— Айзу.
— Айзу? — удивилась Аурелия. — Но Айза его сестра, и Себастьян бы никогда…
— Я знаю, — согласилась девушка. — Ты совсем не о том думаешь. Но в вашей семье Айза словно богиня. — Она прищелкнула языком и подняла руки, давая понять, что сдается. — Истина в том — если, конечно, отбросить в сторону зависть, — что Айза и есть богиня. Мне было страшно входить в вашу семью и, постоянно сравнивая себя с ней, раз за разом проигрывать в этом споре. — Она смешно, по-детски сморщила курносый носик. — Я себя знаю: я смазливая канарка, грудастая к тому же. Я из тех женщин, что нравятся мужикам. Онорио от меня без ума. Он готов целовать мои следы повсюду, где бы я ни прошла, а когда я начинаю раздеваться, у него изо рта слюна капает. В своем доме я королева, и мой муж видит меня такой. — Она снова прищелкнула языком, на сей раз гораздо громче. — Однако здесь, рядом с Айзой и тобой, я бы превратилась в бедную толстушку, рожающую детишек… — Немного помолчав, она добавила: — Поэтому-то я и побоялась.
— Ты бы мне нравилась как сноха.
— Только потому, что я местная. А еще я бы тебе нравилась не потому, что я такая, какая я есть, а потому, что ты знаешь меня как хорошую, добрую девушку, здоровую и без лишних амбиций. — Она весело рассмеялась. — Не отрицаю, что была бы хорошей снохой для клуши, которая всегда хочет держать своих цыплят при себе.
Они долго и пристально смотрели друг на друга, будто только что познакомились. Наконец Аурелия спросила:
— Знаешь что?
— Да, — быстро ответила Мануэла. — Я оказалась умнее, чем ты думала. И это естественно! Я настолько умна, что сразу поняла, тебе бы понравилось иметь умную сноху, потому-то я и сходила при тебе с ума. Ни мало ни много, а всего лишь настолько, насколько это было нужно. — Она несколько раз решительно покачала головой, как будто подводя итог: — Если Айза не стала бы той, кем она стала, я бы уже была частью твоей семьи.
— И кем она стала, Айза?
— Ты это знаешь лучше, чем кто-либо.
— Ты так считаешь? — возразила Аурелия. — Она моя дочь, я ее родила, рассказала ей обо всем, что знала и видела сама, я смотрела, как она растет, меняется изо дня в день, но даже сейчас я постоянно спрашиваю себя: кто она, откуда появилась и — что главное — какая ее ждет судьба? И это меня беспокоит.
— Меня тоже беспокоит, — призналась Мануэла. — Когда я была еще девчонкой, я пыталась представить, что стану ее свояченицей. Меня увлекали ее истории, тайна, которая постоянно ее окружала, меня завораживала та власть, какую она имела над некоторыми вещами… Затем неожиданно, в одно прекрасное утро, она стала женщиной, и мне показалось, что я увидела ее впервые… — И тут вдруг молодая женщина указала на море, на мыс Пунта-де-Агила, из-за которого показался треугольный парус. — Вон, мой Онорио идет! — воскликнула она. — А ведь нужно еще успеть немного прибраться в доме, чтобы он не начал задавать вопросов. Хочу, чтобы он позволил мне на несколько дней съездить в Угу вместе с моей сестрой… — Она встала и на секунду крепко зажмурилась, словно ее тело пронзила сильная боль. — Я не вернусь, пока все не уляжется, — сказала она, нежно поцеловав Аурелию в щеку. — Мне очень жаль, но кажется, я никогда не смогу забыть то, что произошло этой ночью. Удачи!
— Спасибо…
Аурелия осталась сидеть за кухонным столом и помешивать ложечкой в пустой чашке; она то смотрела в окно на приближающийся баркас Онорио, то провожала взглядом Мануэлу. Та решительно шла по пляжу, голова ее была гордо поднята, словно она бросала вызов тем, кто следил за ней из дома Сеньи Флориды, словно смеясь над случившимся и давая понять чужакам, что им так и не удалось ее унизить.
Аурелия вновь пришла к выводу: очень жаль, что Мануэла так и не вышла замуж за ее сына.
Дон Матиас Кинтеро проснулся на рассвете и очень медленно обвел взглядом огромную спальню, обставленную массивной мебелью, которую его жена когда-то специально привезла из Франции. Мебель была громоздкой и некрасивой и никогда ему не нравилась. Но вначале он ее терпел, дабы не огорчать хрупкую, изящную женщину, которую так сильно любил. При жизни жены он так и не решился избавиться ни от гигантской кровати с витыми столбиками, на которой они столько раз предавались любви, ни от покрытого позолотой комода с высоким зеркалом, перед которым она по нескольку раз в день причесывала свои длинные и густые черные волосы. Теперь же мебель напоминала ему о счастливых годах, когда он мечтал о большом доме, полном детей, о семье, в которой он мог бы безраздельно царствовать.
Наконец, пробежавшись взглядом по картинам и шкафу, по выцветшим портьерам и по широкому балкону, сквозь двери которого в комнату проникал бледный утренний свет, его глаза остановились на удобном большом кресле, в котором крепко спал, опустив голову на грудь, Роке Луна.
— Роке! — позвал он. — Проснись!
Луна подскочил, будто ему подпалили подошвы ног, и растерянно огляделся, как это обычно и бывает с людьми, вырванными из сна.
— Да… Да? — нервно произнес он. — Что случилось?
— Позови Рохелию.
Роке Луна, быстро придя в себя, сообразил, где он находится, в одну секунду вспомнил события минувшей ночи и одним прыжком оказался у кровати.
— Дамиан Сентено здесь, — сказал он. — Он мне велел предупредить его, когда вы проснетесь.
Дон Матиас отмахнулся и поднес руку к голове, которая, как ему казалось, вот-вот расколется.
— Пусть спит. Позови Рохелию.
Роке на какое-то мгновение засомневался и пристально посмотрел на хозяина, пытаясь прочесть его мысли, но в конце концов покорно кивнул и тихо вышел.
Рохелия появилась на пороге спальни спустя десять минут, и выглядела она еще более жалко, чем обычно.
— Как вы себя чувствуете? — спросила она.
— А как бы ты хотела, чтобы я себя чувствовал? Плохо… — Он сделал паузу. — Войди.
Она повиновалась, пытаясь подойти, но дон Матиас жестом указал на дверь:
— Закрой.
Рохелия Ель-Гирре кивнула, однако тут же замерла, услышав новый приказ:
— На ключ.
Она было засомневалась, крепко сжав руками фартук. Казалось, что она не подчинится и вот-вот бросится бежать из комнаты, однако потом все-таки повернула ключ в скважине замка.
— Садись!
Рохелия присела на краешек огромного кресла, нервно разгладила складки на юбке и замерла, чуть наклонив голову вперед и глядя на руки, сложенные на коленях.
— Ты почему пыталась меня убить?
Рохелия тут же вскинулась, дико посмотрела на хозяина, открыла было рот, пытаясь что-то возразить, однако, видимо осознав всю тщетность подобных усилия, снова затихла.
Минуты две и дон Матиас, и Рохелия молчали, погрузившись в собственные мысли, которые сейчас были сродни кошмарам, пока едва слышным, почти неразличимым голосом дон Матиас не заговорил:
— Я помню, как моя мать подобрала тебя, когда ты была нищей, голодной бродяжкой, да еще и больной туберкулезом. От тебя тогда все шарахались, как от прокаженной. Любая другая женщина на месте моей матери отправила бы тебя в богадельню, где бы ты не протянула и четырех месяцев, но вместо этого она поселила тебя в Конилле и постаралась, чтобы всего у тебя было вдосталь. Затем, когда ты выздоровела, она обращалась с тобой почти как с дочерью, она открыла для тебя двери своего дома, верила тебе, а ты вместо благодарности тащила все, что только попадалось тебе на глаза. Когда ты вышла замуж, я позволил тебе привести сюда твоего никчемного мужа, который ничего не умел делать, кроме как пить лучшее мое вино и красть все, что плохо лежит. И вот теперь, когда я состарился, когда меня стали преследовать несчастья, а мой сын, последняя моя надежда, подвел меня, позволив убить себя в пьяной драке таким недостойным образом, ты попыталась меня убить. Ты, человек, на преданность которого я имел право рассчитывать! За что?
Рохелия Ель-Гирре, похоже, поняла, что ответить ей нечего и все, что бы она сейчас ни произнесла, будет выглядеть как жалкие оправдания собственных мерзостей. Все ее доводы, которые до сей поры представлялись ей важными и неоспоримыми, сейчас показались ничтожными. Почти всю свою жизнь она терпела унижения, однако так и не набралась смелости уйти, ибо в душе боялась оставить богатый дом и сытую жизнь, а еще она знала — где бы она ни оказалась, везде с ней станут обращаться так же, а может, и еще хуже. Если всем мужчинам семейства Кинтеро — и, что уж греха таить, многим другим, которые к нему не принадлежали, — удалось вложить ей в рот «цыпленка», то только потому, что ей самой это нравилось. Доставляло удовольствие еще с тех самых пор, когда она была подростком и мальчишки, не боясь заразиться туберкулезом, ночами навещали ее в отдельно стоящем домике в Конилле.
Посему она продолжала неподвижно сидеть, храня молчание, уставившись на свои морщинистые руки, едва прикрывавшие костлявые колени, и подняла она голову лишь тогда, когда хозяин запустил руку под простыню и вытащил оттуда тяжелый пистолет.
Она посмотрела прямо на него, не в силах пошевелиться и произнести хоть слово: черное отверстие дула казалось бездонным и гипнотизировало ее. Она так и сидела, пока на какую-то долю секунды не увидела вспышку, заполнившую черную дыру. Грохота выстрела она не услышала, ибо когда он до нее докатился, пуля уже пронзила мозг.
Дон Матиас Кинтеро лежал так же неподвижно, как и мертвая женщина, которая, словно задремав, откинулась на спинку кресла. Он спокойно ждал, пока Роке Луна и Дамиан Сентено не выбили дверь, не вбежали в комнату и, встав в ногах кровати, наконец-то не заметили труп Рохелии. Все это время пистолет так и лежал под его рукой.
Дон Матиас показал на нее.
— Закопайте ее так, чтобы никто не смог отыскать, — сказал он, а затем обратился к Роке Луна: — Если ты обмолвишься о произошедшем хоть словом, я поклянусь, что это ты убил ее, и тогда будет твое слово против моего. Но если смолчишь, тебе никогда не придется раскаиваться в собственной скрытности. Если кто-нибудь спросит о ней, скажи, что сбежала, украв у меня все, что только смогла найти… Никто этому не удивится… Какие-нибудь проблемы?
— Никаких, дон Матиас.
Тогда старик обратился к Дамиану Сентено.
— Спустись в Плайа-Бланка, — приказал он. — Скажи Абелаю Пердомо, что если через три дня его сын не придет ко мне, то ты убьешь второго его сына, затем его жену и, наконец, его самого. — Он на мгновение прервался и глубоко задышал, словно ему было тяжело говорить. — Скажи ему, что я устал ждать, что я готов потратить последнее сентимо, чтобы только покончить с убийцей своего сына, что мне все равно, закончу ли я жизнь на виселице или в своей постели, но в любом случае умирать я буду с улыбкой на устах, потому что к тому моменту уже увижу Асдрубаля Пердомо мертвым. Скажи все это, Дамиан, и пусть он знает, что я говорю серьезно.
Старик закрыл глаза, давая тем самым понять, что разговор закончен.
Дамиан Сентено и Роке Луна переглянулись, одновременно пришли к выводу, что больше им здесь делать нечего, подхватили тяжелое кресло и вынесли труп Рохелии Ель-Гирре из огромной, заставленной массивной мебелью спальни, где еще долго кислый запах пороха мешался с металлическим запахом крови, а страх плясал рука об руку со смертью.
Дамиан Сентено спустился в Плайа-Бланка на следующий день, в душе он был уверен, что наконец-то настал час раз и навсегда расквитаться с семейством Марадентро, однако умом он понимал, что сейчас следует быть, как никогда, осторожным.
Он понимал, что дон Матиас дал ему последний шанс покончить с Асдрубалем Пердомо, однако он также знал, что после смерти Рохелии дон Матиас Кинтеро уже не является полноправным хозяином виноградников Мосаги, что он стал зависим от молчания двух людей.
И Дамиан Сентено уже назначил цену своего молчания, и Роке Луна с ним согласился.
В то время как они искали укромное место, где можно было бы закопать труп, Дамиан Сентено и Роке Луна обсудили сложившуюся ситуацию, после чего Сентено пришел к выводу, что согнувшийся под тяжестью нелегкой жизни крестьянин был явно доволен ходом событий и не собирался предъявлять претензий хозяину, освободившему его от ворчливой и своевольной женщины, которой доставляло извращенное удовольствие издеваться над ним.
— Она так и должна была кончить… — тихо произнес он, когда они опускали тело навечно умолкнувшей Рохелии в глубокую расщелину. — Она искала такой смерти, я ее предупреждал, но она не слушала… Для простой ключницы она слишком много мечтала. Хотела стать хозяйкой гасиенды… Сумасшедшая!
Роке Луна давно уже подбил свои личные доходы, а также сумел прибрать к рукам то, что они с женой сумели украсть у дона Матиаса и надежно припрятать, а если учесть еще и то, что он сейчас собирался содрать со старика деньги за молчание, он и вовсе становился богачом. Больше ему уже не придется гнуть спину, подправляя разрушенные ветром каменные стены. У него даже останутся деньги на бордель в Таиче, который он теперь станет посещать в два раза чаще.
Он никогда не мечтал стать хозяином чего-либо, кроме своего личного времени, а избавиться всегда хотел лишь от тяжелой работы. Единственное, чего он по-настоящему хотел, так это спокойной и сытой жизни, когда такие влиятельные люди, как дон Матиас, или такие опасные ребята, как Дамиан Сентено, не обращают на него внимания, считая совершенной рохлей.
Дамиан Сентено все понял правильно. Тем более что его главной заботой сейчас был поиск надежного места, где можно было бы поскорее закопать труп. Дальше он собирался вернуться в Плайа-Бланка, где Хусто Гаррига должен был ввести его в курс дела и рассказать, что Мануэла Кихано ни словом не обмолвилась о произошедшем.
— Где Абелай Пердомо?
— Его нет, — ответил Гаррига. — Ни его, ни сына, ни баркаса… Возможно, вышел на путину.
— Ты в этом уверен?
— Кто может быть в чем-то уверен с этими людьми? — зло ответил тот. — Я родился в Аликанте, но ни черта не смыслю ни в море, ни в рыбной ловле. Они уходят ночью и возвращаются днем, а иногда и вовсе поздно вечером. Сегодня сюда, завтра туда… Полная неразбериха! — Он помолчал, а затем, как бы невзначай, спросил: — А что вам известно о Дионисио и Мильмуертесе?
— Ничего. Однако я не дал бы и ломаного гроша за их шкуры, — ответил Сентено и, пожав плечами, добавил: — Может я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что пастух коз их ухлопал.
— Почему?
— Представления не имею. Может, хотел ограбить, а может, повздорили из-за чего… А может, он лучший друг семьи Марадентро.
— Что будем делать с их вещами?
— Деньги поровну подели между ребятами. Остальное, когда вернемся, выброси.
— У галисийца семья. Жена и дети в одном из поселков Виго. В Кангасе, думаю…
Дамиан Сентено пожал плечами, давая понять, что это его не интересует.
— Мы уже не в армии, — сказал он. — Здесь каждый сам за себя. Пойду отдохну чуток, — добавил он. — Как только появится Марадентро, разбуди меня.
Однако Марадентро не появились ни днем, ни ночью. Их дом был заперт и пуст, и сколько бы легионеры ни всматривались в горизонт — они не видели даже слабых очертаний баркаса «Исла-де-Лобос». Дамиан Сентено начал беспокоиться, предчувствуя очередную неудачу.
Он не ложился до позднего вечера, оглядывая притихший поселок; тишина стояла такая, что можно было сойти с ума. Казалось, что даже ветер улетел на другие острова, а вечно худые, длинноногие собаки Плайа-Бланка неожиданно онемели.
Тогда он вернулся в постель, но так и не заснул до тех пор, пока не вышли в море первые рыбаки. Однако с рассветом примчался Хусто Гаррига, чтобы разбудить его.
— Вставай, Дамиан, иначе уйдут! — нервно переминаясь с ноги на ногу, воскликнул он. — Вставай!
— Кто уйдет? — задал Дамиан вопрос, вскакивая на ноги одним быстрым движением.
— Баркасы… Они их выводят в море…
— Идут на путину…
— Все? Уходят все. На некоторые лодки даже поднялись женщины.
Дамиан Сентено мгновенно оделся и поднялся на крышу, откуда воочию убедился, что все до единого баркасы, многие из которых обычно лежали на песке или мерно покачивались на воде прямо напротив пляжа, удалялись на восток, проходя примерно в трехстах метрах от берега.
— Куда они могут идти?
— Кто их знает!
Однако они отошли не очень далеко. Пройдя не более километра и оказавшись как раз напротив мыса Пунта-де-Агила и Кастильо-де-Колорадас, там, откуда вставало солнце, первые баркасы начали убирать паруса и ложиться в дрейф.
Дамиан направил в ту сторону подзорную трубу, и вскоре на утесе у подножия Кастильо — или на самом Кастильо, черт его разберет! — показалась вторая группа людей, которые внимательно всматривались в горизонт с восточной стороны.
Спустя несколько минут из-за далекого мыса Пунта-дель-Папагайо появился форштевень баркаса, затем наполненные ветром паруса и, наконец, корма «Исла-де-Лобос», капитан которого, сказав: «Право руля», обошел последние банки, чтобы взять курс прямо к группе явно поджидавших его в полумиле от берега лодок.
Кусая губы и отказываясь поверить своим глазам, Дамиан Сентено выждал, пока баркас не приблизился. Но когда на нем начали приспускать паруса и человек, стоящий на носу, бросил якорь, он без труда узнал его.
— Асдрубаль Пердомо! — воскликнул Дамиан. — Вон он, сучий сын!
И действительно, стоя рядом с родителями, братом и сестрой, Асдрубаль Пердомо смотрел на дом, с крыши которого за ним следил Дамиан Сентено.
А затем баркас был буквально атакован жителями Плайа-Бланка. Они перескакивали на палубу, перегружали на него бочонки с водой, какие-то ящики, мешки и даже мебель. Асдрубаль же только и успевал, что обнимать односельчан и пожимать тянущиеся к нему руки.
— Тащи винтовку! — приказал Дамиан Сентено одному из своих людей.
— Не сходи с ума! — одернул его Хусто Гаррига. — На таком расстоянии ты добьешься лишь того, что шальная пуля убьет кого-то не того.
— Тогда приготовь машину. Мы подъедем к самому мысу.
— Когда подъедем, они уже уйдут.
— Делай то, что приказываю, и не перечь! — выходя из себя, крикнул впервые за много лет Дамиан. — Эти козлы не смеют насмехаться надо мной!
Хусто Гаррига молча кивнул, и один из легионеров сбежал по лестнице, а Дамиан тем временем неотрывно продолжал следить за происходящим на «Исла-де-Лобос».
— Они грузят столько провианта, что его хватит на то, чтобы обойти полсвета, — заметил он. — Более двадцати бочонков воды и десятки мешков.
— Да, хватит для того, чтобы пройти половину земного шара, — согласился Хусто Гаррига. — Если я не ошибаюсь, они собираются в Америку.
Дамиан Сентено резко выпрямился и непонимающе посмотрел на него.
— В Америку?! — выкрикнул он. — В Америку на этой ореховой скорлупе, которая того и гляди развалится на части? Ты в себе?
— Я-то да, — последовал ответ. — А вот кто лишился ума, так это они.
И тут от задней части дома до них долетел крик:
— Хусто! Хусто! Какой-то сучий сын проколол все четыре колеса и вырвал все провода из мотора! Эта рухлядь уже никогда не поедет!
После этого Дамиан Сентено успокоился, похоже решив, что все кончено. Он уселся на перила плоской крыши и неподвижно застыл, наблюдая за непрекращающейся суетой, которая разворачивалась вокруг старой лодки, пока жители селения не начали постепенно возвращаться на свои баркасы и шаланды, обнимая и целуя на прощание проклятых Пердомо.
Вот якорь вышел из воды, и Асдрубаль рывком установил его на место. Вот поставили один из парусов, и «Исла-де-Лобос» начал двигаться и вскоре отошел от рыбацкой флотилии, взяв кус на пролив, разделявший острова Лансароте и Фуэртевентура.
Дамиан Сентено наблюдал, как баркас прошел в каких-то трехстах метрах от него, он четко разглядел лица пятерых Марадентро, смотревших на дом Сеньи Флориды: Асдрубаль на носу, его отец за штурвалом, а Себастьян, Аурелия и Айза на корме, где они и простояли до тех пор, пока лодка не скрылась из виду. Они хотели увезти с собой память о тех местах, где родились и где прошли их лучшие годы.
Подгоняемый попутным ветром, баркас набрал скорость, и вскоре на его месте остался лишь длинный белый след, который медленно таял в синих морских водах.
Дамиан Сентено безучастно смотрел на океан, не замечая своих людей, стоявших рядом и также хранивших молчание, и задавался лишь одним вопросом: как могло так случиться, что старый баркас, на котором любой мало-мальски нормальный человек не отважился бы обойти и соседний остров, мог отправиться в Америку? Неужели же первая крутая волна не разорвет его на части и вся его команда не пойдет на дно, а вместе с ней в ад отправятся и мечты самого Сентено о богатой и спокойной жизни?
Ему вспомнилась старая, как сами острова, песня, которую, как рассказывал дон Хулиан ель-Гуанче, напевали моряки, провожая в последний путь одного из рыбаков, когда того везли хоронить на большой остров.
Немы и неподвижны, кто уходит в мир иной,
И парус, тенью прикрывая, охраняет их покой.
Стеная, плачет море под изогнутым килем,
Светило на рассвете курс им на «закат»
Прокладывает утренним лучом.
Вам жить бы на земле да наслаждаться счастьем,
Подалее от бурь, от мертвых штилей и ненастья,
Когда нам курс указывают Господа лучи,
Когда от жажды и жары не подают руки.
Молитесь Господу вернуться ради нас,
К нам снизойти супротив всяких правил,
Чтоб так же, как и мы, штурвалом каждый правил,
Когда на «запад» курс возьмем,
Когда пробьет наш час
И поведет, окутав тишиною, траурный баркас.
«Исла-де-Лобос» теперь казался ему «окутанным тишиною траурным баркасом», так как он шел курсом на запад и никто на борту не проронил не единого слова. Каждый старался с уважением отнестись к чувствам других, видя, как постепенно тают вдали вулканы Лансароте.
Было тяжело осознать, что раскаленные на жарком полуденном солнце камни острова, еще вчера бывшие такими реальными, медленно исчезают в утренней дымке; пройдут годы, и они превратятся в прекрасное, но смутное воспоминание.
Тоска постепенно завладевала их душами, и становилась она тем сильнее, чем дальше был от них родной остров. Сейчас настало время, когда каждый член маленькой команды баркаса вел с самим собой жестокую борьбу, чтобы только не развернуть лодку и не бросить вызов судьбе, какой бы тяжелой она ни была, так как ничто уже не казалось им столь ужасным, как разлука с домом.
Конечно же никто и никогда не узнает, пели ли в прежние времена эту песню моряки острова Ла-Грасиоса, провожая в последний путь своих товарищей, тем более что дон Хулиан слыл большим фантазером и знатным выдумщиком. Однако сейчас слова ее так и вертелись на языке, словно Сам Господь когда-то сочинил ее для тех, кого судьба разлучала с самым дорогим, что было в их жизни.
Где еще на этом свете они найдут место со столь же прозрачной водой, как в бухте Бокайна, или такими же рыжими дюнами, как на Фуэртевентура? Где может существовать другая гора Монтанья-Бермеха, другой Ад Тимафайа? Где еще есть такие же белые пляжи и тихие бухты, в которых успокаивается даже дыхание океана? Где еще они почувствуют привычные с детства запахи, услышат знакомые голоса и увидят лица друзей, плакавших с ними в дни печали и смеявшихся в минуты радости?
Немы и неподвижны, кто уходит в мир иной,
И парус, тенью прикрывая, охраняет их покой.
Стеная, плачет море под изогнутым килем,
Светило на рассвете курс им на «закат»
Прокладывает утренним лучом.
Стоящее прямо перед ними солнце начало клониться к закату, указывая курс на запад, в то время как море под килем, казалось, не плескало, а рыдало.
Айза сидела в тени одного из парусов, ловивших неумолимый ветер, что гнал их суденышко все дальше и дальше на запад.
— Не беда! — сказал вдруг Абелай Пердомо. — Меня с детства учили, что солнце и пассаты спят в Америке, а значит, они нас туда все равно что на руках отнесут.
Ну кто бы мог это отрицать, если там, далеко, за мысом Печигера, был только океан, в конце концов разбивавшийся об американский берег.
Не нужно даже компаса. Стоило лишь каждое утро видеть встающее и каждый вечер заходящее за кормой солнце. Им даже не нужны были ни карты, ни секстант, ни хронометр. Путникам достаточно было лишь пассатов, которые бы дули точно так же, как они дули с тех самых пор, когда был создан этот мир. Лишь бы не подвел старый баркас. Остальное было делом веры…
И выдержки, потому что не стоило требовать многого от старика «Исла-де-Лобос», который, если говорить по справедливости, уже давно должен был отойти на покой. Перегруженный бочонками с водой, мешками и утварью, он скрипел точно так же, как скрипели суставы дедушки Езекиеля, когда он усаживался на каменную скамью.
В своих бесконечных фантазиях Айза часто воображала, что в тот день, когда дед Езекиель умрет, его положат в баркас, который он сколотил своими руками, подгоняя доску к доске, отведут в открытое море и там подожгут лодку, как это делали викинги с капитанами своих кораблей.
Возможно, того же самого желал и старик, и даже его сын Абелай, однако послевоенные годы были тяжелы, и никто в здравом уме не стал бы избавляться от крепкой лодки, которая все еще могла спуститься к Тарфуа или к мысу Бохадор и вернуться с трюмами, полными сардин и лангустов.
Теперь же в этих трюмах спали люди.
— Это сумасшествие! — убежденно заявил дон Хулиан ель-Гуанче, когда ему рассказали о плане побега. — Океан слишком велик, а баркас слишком стар.
— Сотни эмигрантов добрались до Америки на подобных баркасах, — отвечал ему Абелай Пердомо.
— Не на таких старых.
— Я хорошо знаю мою лодку. Если не случится ничего из рук вон выходящего, она выдержит.
— А если случится?
— Мы пойдем на дно. Все вместе. Значит, Бог так хотел, такова судьба нашей семьи…
— Никогда я еще не слышал, чтобы ты так говорил о Боге.
— Что ж, все меняется… Наверное, я никогда не нуждался в Нем так отчаянно, как сейчас.
Было тогда четыре часа вечера. Оба кума сидели в тени дома, держа в руках по последней чашке цикориевого кофе и пуская дым из своих старых почерневших трубок. Аурелия рассказала Абелаю о случившемся с Мануэлой Кихано, он же, побывав у дона Матиаса Кинтеро, пришел к заключению, что старик окончательно свихнулся и намерен во что бы то ни стало довести дело до конца.
— Он позабыл о том, что значит быть добрым христианином, — тихо произнес Абелай. — Этот человек упрям, как верблюд во время гона; последнее, что держит его на этой земле, — ненависть. С ней он и сойдет в могилу. Я же не хочу, чтобы моему сыну причинили зло. Так что когда тем вечером я возвращался домой, то твердо решил, что мы едем в Америку.
— И что ты будешь делать в Америке?
— То же, что и другие до меня. Работать. В конце концов, в этой жизни я только и делал, что работал. А мне рассказывали, что там дела идут получше, чем в наших краях. Там даже есть реки и озера, откуда можно брать столько пресной воды, сколько захочется. Даром! Ты думаешь, это возможно?
— Я тоже слышал об этом, — отозвался дон Хулиан. — А еще там дают тебе землю, если ты согласен обрабатывать ее. — Он замолчал и досадливо махнул рукой: — Только вся она заросла деревьями…
— Я не собираюсь работать на земле, — решительно заявил Абелай Пердомо. — Мое дело море. А в Америке море есть. — Он указал рукой впереди себя: — Точно такое же, как и здесь.
Его собеседник раскурил новую порцию табака в трубке, которая, казалось, только и делала, что гасла, а затем, со свойственной ему медлительностью, заявил:
— Ни одно море не похоже на другое, и ты это знаешь. Только люди с материка их путают. Я тебе скажу одну вещь: мы с тобой лучшие рыбаки на этих островах, а это значит, что и лучшие в мире, потому что такие, как мы, живут лишь здесь, на Канарах. Никто лучше нас не может ловить сельдь. Моря, может, и похожи, но рыба-то в них водится разная.
Абелай Пердомо замолчал и глубоко задумался. В правоте кума у него не было никаких сомнений, однако ему было тяжело представить себе море, в котором бы не водилась сельдь. Эту рыбу с белым и нежным мясом достаточно было лишь немного поварить, чтобы приготовить вкуснейшее хареадо, ну а дальше ветер и солнце Лансароте высушивали его, делая еще вкуснее. И этот вкус он помнил с тех пор, как начал помнить себя. Хареадо было главным угощением жителей острова, и он, как ни силился, не мог себе представить, что на свете могут существовать народы, которые никогда не видели сельди, — точно так же Асдрубаль был не в силах поверить, что где-то не едят гофио.
— И чем живет такой народ?
— Чудом, полагаю…
Услышав ответ друга, он не мог не улыбнуться, хотя в глубине души это волновало его. Испокон веку океан отделял Канарские острова от материка точно так же, как камни Рубикона отделяли их поселок от других. Для человека, родившегося на каменистых, засушливых землях Плайа-Бланка, поверить в то, что на земле есть места, где вода замерзает от холода, леса зеленые и густые, пресная вода течет так же свободно, как дует ветер, а дожди идут так же часто, как к берегам Лансароте приходят косяки рыбы, было делом почти немыслимым, все равно что кто-нибудь рассказал бы рядовому американцу о том, что где-то автомобили растут на деревьях, а коровы дают пиво вместо молока.
— Мне не понравится.
— Знаю. Но ты все равно хочешь уехать.
— Речь идет о моем сыне. И о моей семье. И о моем селении. — Абелай выбил трубку о тот же камень, о который выбивал ее уже тридцать лет, и добавил: — Отъезд для нас самый лучший выход, да и жителям Плайа-Бланка будет только лучше. Я знаю, что об этом меня бы никогда не попросили, и поэтому я поступлю именно так. Возможно, когда-нибудь я и вернусь.
— Мне будет не хватать тебя… Тебя всем нам будет не хватать, — вздохнул дон Хулиан. — Тебя здесь все любят.
— И это очень тяжело, — ответил Абелай. — Ты представляешь, что такое жить где-то, где ты не знаешь никого и тебя никто не знает? Это должно быть грустно. Очень грустно.
Айза смотрела на отца, так сильно вцепившегося в руль, что побелели костяшки пальцев. Абелай же глядел прямо перед собой и не бросил ни единого взгляда на сливавшийся с горизонтом остров, с рождения бывший его домом. Она думала, как же, должно быть, приходится тяжело отцу, который вынужден покидать место, где покоились его собственный отец Езекиель, его мать, младший брат Исмаель, умерший в раннем детстве, и все его предки, рядом с которыми он однажды думал лежать и сам, место, где в незапамятные времена пустили корни люди по фамилии Пердомо, самые смелые, самые ловкие и самые отчаянные рыбаки острова, а может статься, что и всего архипелага.
Ей захотелось подойти к отцу и сказать, как ей жаль, попросить за все прощение и объяснить, что она никогда не хотела отличаться от других девушек поселка, на которых никто особенно и не смотрел.
Поставив в маленькую каюту старое зеркало, с которого уже давно стерлась золотая краска, зеркало матери, в которое Аурелия смотрелась, еще будучи невестой, в день собственной свадьбы и с которым так и не пожелала расстаться, Айза впервые посмотрела на себя почти во весь рост и снова задалась вопросом: почему мужчины так на нее реагируют? Почему при виде ее груди и бедер, заглядывая ей в глаза, они превращаются в безумцев, готовых бежать на край света, лишь бы прикоснуться к ней. Все это казалось ей настолько абсурдным и нелепым, что порой она думала, будто происходящее — очередной кошмар, в которых появляются мертвецы, тонут суда или возвещают о своем приходе рыбы.
Но только ни один сон не длится так долго, уж она-то это знала.
Напряженные и печальные лица братьев не были сном, не был сном и отсутствующий взгляд матери, и бешеные глаза отца, когда он, вцепившись в руль, не отрываясь смотрел на нос баркаса, с тоской ожидая того мига, когда остров наконец исчезнет за его спиной.
Они, словно толстенными канатами, были привязаны к Лансароте и тащили его на буксире, зная, что только тогда, когда вершина Огненной горы, Монтаньи-де-Фуего, окончательно погрузится в море, буксирный трос лопнет, они будут свободны и смогут наконец-то подумать о будущем.
После полудня они прошли рядом со стаей дельфинов, куда-то сильно спешащих и даже не остановившихся, как это обычно бывает, чтобы поиграть, поплавать наперегонки или потереться со скрипом спиной о форштевень. Асдрубаль умел подзывать дельфинов свистом, совсем как дрессированных собак, но тут они даже не обратили на него внимания. Все поняли, что дельфины не хотят задерживаться, так как ищут землю, а другой земли, кроме острова Лансароте, с которого они бежали с такой поспешностью, поблизости не было. Вскоре дельфины должны были пройти проливом Бокайна, покружить у берега Плайа-де-Папагайо, возможно, они поднимутся до Арресифе, ожидая появления больших кораблей, выходящих из порта, а на следующий день продолжат путь к богатым бухтам Тарфайа, где наполнят свои брюхи салакой, скумбрией и сардинами.
Когда же дельфины спят?
А может, они и вовсе никогда не хотят спать? Да и к чему ночные грезы самым счастливым созданиям на Земле? У них почти нет врагов, и даже человек, со всей его злобой и жаждой наживы, не охотится на них.
Почему люди любят дельфинов?
Этот вопрос, еще будучи ребенком, Айза задала деду и вот какой получила ответ:
— Потому что дельфин для моряка — лучшая компания, и если какой рыбак вдруг окажется в воде, то дельфины непременно защитят его, отгоняя акул мощными ударами своих острых носов. Рыбак, который убьет дельфина, знает, что вечно будет гореть в аду… — Дед надолго замолчал, а потом продолжил: — Однажды мне рассказали одну историю о дельфинах… Впрочем, о них рассказывают много, очень много историй, и ты должна верить всем, ибо все они правдивы. Или должны быть таковыми. Однако эта история была особенно прекрасной и особенно правдивой… Рассказывают, что в конце прошлого века жил один дельфин, который привык выходить навстречу кораблям, какие проходили опасным Коралловым морем у севера Австралии, и, плывя под форштевнем, он указывал место, где вода была глубокой, а рифов не было вовсе. Он настолько хорошо знал свое дело, что не потерял ни одного корабля. Моряки его обожали, бросали ему еду и даже дали ему имя. — Дед снова надолго замолчал, зная, с каким нетерпением ждала продолжения рассказа внучка. — Но однажды, когда команда была занята своими делами, два пьяных пассажира с пакетбота открыли по нему стрельбу. Дельфин скрылся в глубине. За ним потянулся кровавый след… Капитан был вынужден применить всю свою власть, чтобы матросы не выбросили негодяев за борт. — Дед Езекиель замолчал в который уже раз, ибо был прекрасным рассказчиком и знал, как подогреть интерес к своей истории. — Все порты мира оплакивали дельфина, и за упокой его даже заказывали молебны. А в Сиднее в память о нем был поставлен памятник. Но потом, когда очередной корабль появился в водах Кораллового моря, у его форштевня показался живой и здоровый дельфин. И снова он счастливо провел корабль между рифами. И еще один корабль, и еще… Так он трудился до того самого дня, когда в тех водах снова не появился пакетбот, с которого в него стреляли… — Дед наклонился вперед, будто собирался раскрыть страшную тайну, и понизил голос: — Дельфин, как всегда, выскочил из воды впереди корабля, однако на сей раз он повел его прямиком на рифы, где судно и затонуло. То была месть дельфина, ибо потом он снова продолжил успешно водить корабли, пока не умер от старости.
— Это неправда, — возразила Айза. — Не может быть правдой, так как история твоя похожа на одну из сказок дона Хулиана.
— Нет, малышка, я рассказал тебе святую истинную правду, — отвечал ей дед Езекиель серьезным тоном. — И ты, будучи дочерью рыбака, должна верить в нее, как никто другой, ибо речь в ней идет о дельфинах.
Ей всегда нравились дельфины, однако те дельфины, которых она увидела в этот день, показались ей незнакомыми. Они бежали прочь от «Исла-де-Лобос», будто знали, что Господь, непонятно за какие грехи, изгнал их из рая и теперь им нет прощения.
Айза смотрела им вслед до тех пор, пока не заболели глаза от бесплодных попыток разглядеть их фигурки в безбрежных водах, и только тогда подняла она голову, когда увидела, что острова уже не видно: не видно ни кратера вулкана, ни зацепившегося за него, чтобы отдохнуть, облака. А океан, сменивший прибрежные воды, стал еще более величественным и огромным, еще более устрашающим и намного менее знакомым.
Новость, похоже, не удивила дона Матиаса Кинтеро. Казалось, что он уже давно ждал чего-то подобного, так как во время долгих часов, проведенных наедине с собой в пустом и тихом доме, у него была возможность основательно поразмыслить о привычках и обычаях семейства Пердомо Марадентро.
— Все логично, — сказал он. — И ты должен был сжечь этот баркас в первый же день.
— Вы его не видели. Он разваливается на части, и никому бы и в голову не пришло садиться в него, даже отправляясь в плавание по луже.
— Только не Марадентро, — возразил старик. — Потому-то их так здесь и называют. Они жизнь провели на этом баркасе. Куда именно они направляются в Америке?
— Никто не знает. — Дамиан Сентено пожал плечами. — Туда, куда занесет их ветер, полагаю, хотя им несказанно повезет, если они на этой развалине сумеют пройти хотя бы половину пути. Скорее всего, они утонут.
Дон Матиас лежал на огромной кровати, которая, казалось, становилась все больше и больше по мере того, как тело его все сильнее иссушали тоска и ненависть. Взгляд его темных глаз — единственной части тела, которая, похоже, отказывалась стареть столь стремительно, — буквально пронзал насквозь собесединка, находившегося сейчас точно на том же месте, где в последний раз перед смертью сидела Рохелия Ель-Гирре.
Он едва заметно покачал головой:
— Ты думаешь, что меня устроит провести остаток жизни, размышляя, утонули они или нет? — Он снова покачал головой: — Нет. Меня это не утешит! Я тебе сказал, что хочу видеть Асдрубаля Пердомо мертвым, а не надеяться на то, что его съели рыбы. Нет! — произнес он с нажимом. — Мне этого не достаточно!
Дамиан Сентено молчал, ибо у него было достаточно времени для того, чтобы узнать особенности характера своего бывшего командира, который в подобные моменты предпочитал принимать решения в одиночку, а затем хвататься за это решение как за единственно возможное и во что бы то ни стало доводить дело до конца.
— В Америку! — пробормотал тот, будто говорил сам с собой. — А ведь Америка такая большая!
Он прислонился затылком к изголовью кровати и уставился потухшим взглядом в потолок, хотя большую часть времени лежал с закрытыми глазами: так еще двенадцать лет назад он собирался с силами перед решающей атакой.
Прошло более пятнадцати минут, и все это время Дамиан Сентено, не шевельнувшись, ждал, зная, что лучше в такие минуты не отвлекать шефа, ярость которого до сих пор не знала границ. Наконец дон Матиас склонил голову и посмотрел на него.
— Этим же вечером отправляйся на Тенерифе! — сказал он. — На улице Де-ла-Марина, перед портом, есть бар. Я не помню его названия, но фасад его выкрашен в зеленый цвет, а на стенах висят огромные бочонки из-под вина. Там собираются все камбуйонерос — самые отчаянные плуты острова. Те, что ведут торговлю с экипажами кораблей. Они поднимаются на борт в открытом море и получают контрабандный товар. — Он умолк, чтобы Сентено мог зафиксировать в памяти его указания. — У них есть очень быстроходные катера. Некоторые могут даже плавать из Танжера, под завязку загрузившись пенициллином или табаком, даже без дозаправки. — Он пристально посмотрел на Дамиана, и голос его звучал решительно — как и прежде, капитан не допускал возражений. — Достань такой катер и не возвращайся без головы Асдрубаля Пердомо.
Душу Дамиана Сентено охватила тоска, когда он понял, что ему предстоит искать крошечную лодку в необозримых океанских просторах — ему, кто так ненавидел море. Однако тоска его скоро утонула в радости, смешанной с азартом, — судьба снова подарила ему шанс разбогатеть.
Впрочем, вскоре он испытал чувство, чем-то напоминающее отчаяние, ибо ему предстояло преодолеть пешком каменистый Рубикон по той же самой дороге, по которой ушел Пако-цыган, до сих пор ощущавший, как по его телу скользят насмешливые и ненавидящие взгляды. Они прибыли как победители на двух больших черных машинах, и вот теперь одна из них так и осталась ржаветь на какой-то богом забытой дороге, а вторая стояла на заднем дворе с вырванными, словно выпотрошенная акула-маррахо, внутренностями, по которым хозяйка дома, Сенья Флорида, могла предсказывать будущее.
Найти какой-либо транспорт за пределами Уги в радиусе двадцати километров, на земле, покрытой волнами застывшей лавы и камнями, при жаре, от которой плавились мозги, было невозможно, и ему захотелось лечь прямо на пол и заснуть, признав свое поражение, однако тут был его капитан, отдававший новые приказы, и тут, как всегда, был он — его верный сержант, способный воскресить кулаками мертвого, заставить его взять свой штык, покинуть окоп и вновь броситься в атаку.
— У меня не осталось денег, — только и сказал он.
Старик — а не отцом ли самого капитана Кинтеро был этот старик? — протянул руку к ночному столику, выдвинул ящик, достал ключ и передал его Дамиану, указав на большой сейф, стоящий в углу комнаты.
— Возьми все, что там есть! — сказал он. — А когда закончатся, попросишь еще. — Он улыбнулся, вот только улыбка его больше напоминала гримасу. — Только в тебя я верю, знаю, что ты один меня не обворуешь!
Капитан Кинтеро всегда знал, что Дамиан Сентено был способен на многое — насиловать, убивать, пытать и даже осквернить могилу монашки, — но никогда он бы не взял чужого. Будучи человеком практически лишенным личных вещей, Сентено очень трепетно относился к любой частной собственности.
В Терсио говорили: тот, кому приглянется чужое, пусть держится подальше от полка Сентено, иначе вор рискует раньше срока оказаться в могиле.
Он никогда и никому не говорил, что его мать была воровкой. С четырех лет она таскала его по рынкам, чтобы он отвлекал домохозяек, пока она рылась в их сумках. Поначалу он просто не одобрял занятий матери, однако однажды, увидев бедную обворованную женщину, которая сидела на низенькой ограде и рыдала так горько, что слезы ее растопили бы даже сделанное изо льда сердце, он люто возненавидел материнский промысел.
— У меня отняли все, что у меня было! — бормотала бедняжка. — У меня отняли все, что было! Чем я накормлю теперь своих детей?
Ему тогда не исполнилось и шести лет, однако он решил, что больше никогда не станет воровать, о чем в ту же самую ночь не преминул поставить в известность мать.
— Уж лучше бы ты стала проституткой, чем воровкой, — выпалил он. — Хотя я еще и не очень хорошо понимаю, что такое проститутки, но вижу, что они никому не приносят вреда. Тебя же все повсюду проклинают и оскорбляют, в то время как их все целуют и обнимают.
Загнав воспоминания о детстве как можно дальше, он открыл сейф, положил, не считая, деньги в карман, возвратил ключ хозяину и направился к двери.
— Если я хочу отчалить этой ночью, я должен поторопиться, — сказал он. — Я буду держать вас в курсе дела.
Он уже был готов закрыть за собой дверь, когда дон Матиас жестом остановил его.
— Дамиан! — хрипло произнес он. — Доставь мне его мертвым!
Опершись на штурвал, Себастьян Пердомо рассеянно смотрел на очертания медленно уплывавшего назад острова Тенерифе, увенчанного величественным, почти четырехкилометровой высоты, вулканом Пико-де-Тейде, с вершины которого, как говорили, в ясные дни можно увидеть все шесть островов архипелага.
Солнце едва показалось над набегавшими с кормы волнами, и в его лучах тень горы, которую та отбрасывала на синие воды океана, казалась почти бесконечной. В этот момент она была похожа на нескончаемую волну, вечно следующую сама за собой.
Себастьян сам попросил отца позволить ему нести последние вахты и теперь вот уже который день подряд, стоя за штурвалом, встречал рассвет, самое прекрасное, как он считал, время за весь день, когда океан спокоен и молчалив, а солнце — ласково, и можно было спокойно поразмышлять наедине с собой.
Из всей семьи, пожалуй, лишь ему удалось сохранить выдержку и не впасть в уныние, потому что он меньше всех переживал, что остров Лансароте, Плайа-Бланка и все места, известные ему с самого детства, навсегда теперь остались в прошлом.
Ему скоро должно было исполниться двадцать пять. Еще тогда, когда его внесли в списки призывников, он задался вопросом: а не лучше ли попытаться, как это делали другие, использовать шанс, дабы к лучшему изменить свое будущее?
Мать всегда говорила, что голова у него светлая и ему следует учиться, и он в то время, когда служил на флоте, прошел начальные навигационные курсы. Командование отметило его незаурядные способности, и вскоре Себастьян был назначен рулевым на учебном корабле, стоя на мостике которого он увидел уже совсем другое море, с которым не был знаком раньше.
Отец, научивший его всему тому, что знал сам о рыбах и баркасах, был прирожденным моряком, который ремеслу своему учился у собственного отца, деда Себастьяна, Езекиеля, тоже прирожденного моряка, в свою очередь перенявшего знания у своего отца, а тот у своего… Однако их море — море рода Марадентро — ограничивалось лишь широкой полосой воды, которая тянулась вдоль пустыни Сахара от Агадира до Гуера, едва достигавшей тысячи миль в длину и трехсот в ширину, и дальше одинокого скалистого острова Сальвахес «Исла-де-Лобос» никогда не заходил.
Сомнений нет, их море было бурным. Сотни кораблей пошли на дно из-за суровых штормов или могучими волнами были выброшены на песчаные банки мыса Кабо-Бахадор или Пуерто-Кансадо. А посему семья Марадентро, которая вот уже триста лет как вела промысел в этих водах, не потеряв ни единой лодки, заслуженно прославилась среди рыбаков всего архипелага, считавших, что Пердомо покровительствует сам Виехо-дель-Мар — бог моря.
Абелай Пердомо всегда знал, в какой части их моря он находится, ориентируясь без секстанта по солнцу, но никогда он не умел читать морскую карту и даже представить себе не мог, как именно хронометр может помочь ему точно определить долготу.
Себастьян Пердомо обожал отца, который научил его ходить под парусом, раскрыл все тайны океана и показал, каким должен быть настоящий моряк, однако за время службы он сделал для себя удивительное открытие: оказывается, существует мир, в котором люди не зависят от капризов ветра, приливов, отливов и течений, а море и даже сам Великий Океан превращаются из грозных врагов в верных союзников.
Хороший моряк — не рыбак, а самый что ни на есть настоящий моряк — всегда знает, в какой точке земного шара он находится, и что там у него за кормой или за бортом, и сколько тысяч миль под килем. Один хороший моряк может проложить румб и следовать ему без малейшего страха, преодолевая тысячи и тысячи миль с завязанными глазами.
— Однажды жил на свете слепой моряк, — рассказал Себастьяну как-то утром старший помощник капитана, который частенько ходил в дальние плавания. — Он так хорошо знал свою лодку, что спокойно отправлялся на ней в плавание. Он пользовался специально сконструированным компасом и радиоустановкой, которая передавала сигналы каждые три часа. Ему удалось совершить переход длиной более чем в две тысячи миль, ни разу не отклонившись от курса.
— И что с ним стало?
— Он пропал во время жестокого шторма недалеко от берегов Ирландии. Но в этот день погибло еще много кораблей… Таково море. Когда мы считаем, что покорили его, оно дает нам пинка, чтобы заставить нас вспомнить, кто из нас сильнее. Всем известно, что только дети моря, люди, что родились на маяках, никогда не утонут.
— Мой дед рассказывал мне, что его баркасу удавалось избегать штормов, ибо первым его пассажиром стала девочка, которая только что родилась на маяке. Он вез ее крестить на остров.
Старший помощник капитана был родом из Коруньи и тоже верил в колдунов, в морского бога и во все те странные и страшные истории, что всегда витают над морской гладью. Он согласился с тем, что «Исла-де-Лобос» действительно был спущен на воду в благословенные дни, и ничуть не удивился, узнав, что ни одна буря не смогла догнать баркас.
Однако сейчас, когда уже ничто не напоминало ему о земле и впереди был лишь Атлантический океан, он стоял в одиночестве на палубе и размышлял о маленькой девочке, когда-то отправившейся на лодке Марадентро в свое первое путешествие. С тех пор прошло тридцать лет — и неужели ветра, дувшие все эти годы, не стерли из памяти моря воспоминания о дочери моря, которую взял на борт его дед Езекиель? Неужели по-прежнему и крутые морские волны, и шквальные порывы ветра будут обходить стороной старый баркас?
Себастьян слышал, как он скрипит и жалобно постанывает, словно спрашивая, за какие еще грехи его вынудили покинуть родные воды пролива Бокайна и спокойную подветренную сторону берега, где он знал по имени каждую подводную скалу, и поплыть прямо в открытый океан, где его слабый голос, как ни старайся, никогда не достигнет дна.
— Он боится! — сказал Себастьян. — Впервые в своей жизни «Исла-де-Лобос» боится, и я его понимаю, потому что его далеко увели от знакомых мест.
Пятнадцать лет назад, вскоре после рождения Айзы, Аурелии захотелось отвезти дочь на Тенерифе, чтобы показать ее бабушке. Это было одно из самых прекрасных детских приключений на памяти Себастьяна. Они прошли вдоль подветренного берега Фуэртевентуры до мыса Хандиа, где провели ночь в одной из защищенных от всех ветров бухт, а затем по абсолютно спокойному морю, чья поверхность напоминала зеркало, подошли к Гран-Канариа. На следующий день, не теряя из виду земли, они сделали длинный переход до самого Санта-Круса, в чей порт на полных парусах вошли с наступлением вечера и лихо пришвартовались к рыбацкому причалу.
Но сейчас он был другим. Теперь старый баркас шел груженным по самые борта, поскрипывая под тяжестью раздувшихся парусов, давно пересохших и истрепанных. Себастьян знал, что под днищем его разверзлась бездна, незнакомая и пугающая, бездна, в тишине которой тонут слабые приветствия их старой лодки.
Сейчас баркас их напоминал начинающего пловца, долго не решавшегося отойти от берега, а потом вдруг неожиданно почувствовавшего, что под ногами уже нет дна, и перепугавшегося не на шутку.
— Ты должен сделать это, старина! — тихо проговорил Себастьян, поглаживая рулевое колесо, будто на самом деле верил, что баркас его слышит и понимает. — Ты должен выдержать. Докажи всему миру, что дед был не только прекрасным моряком, но и хорошим плотником.
Дед Езекиель в течение восьми лет каждый раз после того, как отгремит шторм, выходил на берег и собирал древесину, выброшенную морем. Он нашел огромное бревно, из которого вырубил киль баркаса. Понадобилась затем целая флотилия шаланд, чтобы отбуксировать его от Восточного утеса на Плайа-Бланка.
Там, уже на песке, бревно пролежало одиннадцать месяцев, пока как следует не высохло, и только тогда Езекиель, возвращаясь с путины, брался за тесло и начинал — удар за ударом — обрабатывать его.
Его друг, смотритель маяка, тот самый, чью дочь Езекиель однажды повезет крестить в Корралехо, начертил ему чертежи, а его жена, которая умерла, так и не увидев баркаса, сшила первый комплект парусов. Ванты и фалы сплели из хорошо выделанной верблюжьей кожи, которая оказалась крепче железа. Любовь, как смола, пропитала только что родившийся баркас, с которым Езекиель нянчился не меньше, чем с малым ребенком.
Езекиель не вырезал, а гладил дерево, и ни одна еще лодка, должно быть, не знала таких ласк и не слышала так много нежных слов, ни на один баркас еще не возлагалось стольких надежд.
Неудивительно, что даже Себастьян — самый практичный и самый скептичный человек в семье Марадентро — был вынужден согласиться, хотя и против своего желания, со словами Айзы: дух деда не хочет покидать баркас, которому он посвятил большую часть своей жизни.
— Дай бог, чтобы так оно и было! — произнес он по себя. — Ибо нам понадобится помощь всего мира, чтобы эта кучка истертых канатов и гниющих досок добралась до берега.
Остальные же члены маленькой команды считали «Исла-де-Лобос» чуть ли не островком родной земли, где пока еще можно было вести привычный образ жизни. По-настоящему их пугали — вернее даже сказать, ужасали — не волны, ветры и подводные скалы, а чужие берега, где люди живут иначе и где никто и слыхом не слыхивал об обычаях их предков.
Для них и море, и грозный океан были последним прибежищем, однако Себастьяна страшил могучий океан, для которого старый баркас был не более чем бумажным корабликом, пущенным ребенком по луже. Но если только им удастся добраться до Америки… Там их ждет новый, удивительный мир, где трое крепких мужчин и две решительные женщины непременно найдут свою судьбу и заживут свободно и счастливо, не то что в пустынной, выгоревшей на солнце Плайа-Бланка.
Сотни, тысячи семей пытались сбежать от нищеты, и многие нашли убежище в Америке: там исполнились их мечты, и они поверили, что земля обетованная все же существует. Однажды Себастьян уже чуть было не уехал навсегда из Плайа-Бланка, и вернулся в конце-концов лишь потому, что не смог жить в разлуке с семьей. Сейчас же, казалось, Господь услышал его самые горячие мольбы: он плыл в Америку, волшебную страну снов, а рядом с ним была вся его семья.
Его печалило лишь то, что на долю матери, брата и сестры выпадут нелегкие испытания, однако пока грустные мысли из его головы вытесняли другие, и он с утра до ночи просил всех богов на свете лишь об одном — чтобы старый баркас доплыл.
Отец, несколько секунд назад поднявшийся на палубу, помочился через правый борт, старательно вымыл лицо и грудь, обильно поливая себя морской водой, определил направление ветра и внимательно посмотрел на форму волны.
Затем он подошел к сыну, ласково потрепал его волосы и спросил:
— Ну и как дела?
— Все спокойно. Три узла… Нет, три с половиной. Сейчас замедлились. Ветер непостоянен.
— Нужно терпение, — заметил Абелай Пердомо. — Я был бы рад, если бы ветер остался прежним. — Он погладил главную мачту и ощупал ее так, словно хотел оценить силу живого существа, а потом добавил: — Если будем идти медленнее — не дойдем, а если быстрее — баркас не выдержит.
— Попутных ветров не будет до декабря, — ответил Себастьян. — К середине декабря пассаты донесли бы нас до самых берегов Венесуэлы.
— Вполне возможно! Однако сейчас мы должны рассчитывать лишь на августовские ветра!
— Это займет много времени. Да и баркас устал…
Абелай Пердомо ответил не сразу. Он посмотрел на море, на баркас и на далекий конус Тейде, который, казалось, внимательно разглядывал путешественников и их утлую лодчонку, и наконец положил руку на руку Себастьяна, лежащую на руле.
— Послушай, сын, — медленно произнес он. — Я знаю, что баркас устал. И ты это знаешь. Возможно, и Асдрубаль тоже. Однако мы должны сделать все возможное, чтобы ни твоя мать, ни сестра этого не заметили… — Он сделал паузу. — Особенно сестра. Она и так считает себя главной виновницей случившегося. И мне кажется, что, узнай Айза о грозящей нам опасности, она и вовсе сойдет с ума.
Себастьян едва заметно кивнул, соглашаясь с отцом, и поправил курс на один румб, заметив, что направление ветра слегка изменилось и сейчас он уже дует точно на восток.
— Самое главное — не подгонять его, — ответил он. — Нужно приспустить паруса и немного подлатать баркас, пока погода стоит ясная. Скажу маме, чтобы она сделала из старой одежды паклю, и проконопачу его изнутри. А еще несколько досок обшивки мы должны укрепить подпорками.
— Твой брат хорошо знает корабельное дело. От деда ему в наследство достались золотые руки. — Абелай пристально посмотрел на сына. — Что ты думаешь делать, когда мы дойдем?
Себастьян улыбнулся.
— Сперва нужно дойти, — ответил он, — а там уже посмотрим… Самое главное, мы, как и прежде, должны держаться вместе. Мы никогда не боялись работы, а как говорят, там работы вдоволь.
— Мне бы хотелось, чтобы ты пошел учиться, — сказал Абелай. — Если все сложится хорошо, мы с Асдрубалем сможем и дальше тянуть семью, а вы с Айзой, как самые умные, выучитесь чему-нибудь полезному. — Он попытался улыбнуться. — Настало время, когда из тягловых осликов Марадентро должны наконец-то превратиться в людей.
Себастьян с глубокой нежностью посмотрел на отца, сурового, широкоплечего мужчину, чьи руки были похожи на кувалды, а лицо всегда сохраняло решительное, чуть угрюмое выражение. Глядя на этого великана, никто бы не подумал, что в душе этот человек добр и застенчив, как ребенок.
— А тебе бы захотелось учиться? — спросил он.
— В мои времена об этом и мечтать не приходилось. Ближайшая школа была в полутора часах ходьбы от поселка. Никто у нас не умел читать, а старику нужно было выходить в море или строить баркас. До того дня, пока я не познакомился с твоей матерью, я вовсе ни о чем таком не думал. Считал, что все так живут, весь мир… — Он, словно не веря собственным словам, тряхнул головой. — Я до сих пор не понимаю, как мог ей приглянуться, ведь я даже «О» пером не мог написать.
— Говорят, что ты был очень красивым, — произнес сын. — За тобой бегали все девки в поселке. Особенно Сенья Флорида.
Абелай улыбнулся и на секунду прикрыл глаза, вспоминая прошлые дни.
— Была одна… — ответил он. — Да что там говорить, Флорида это и была. У ее отца были лучший дом в поселке, двадцать верблюдов и концессия на доставку соли. Если бы я женился на ней, то, возможно, сейчас был бы настоящим богачом. Однако в тот день, когда я увидел твою мать, забыл и про дом, и про шаланды с солью, и про верблюдов… Боже! — воскликнул он. — Как же трудно поверить в то, что все это уже в прошлом. В мои-то годы все начинать сначала! — Он положил руку на плечо сына и нежно сжал. — Иди-ка спать! Ты, похоже, устал.
Себастьян отрицательно мотнул головой:
— Хочу остаться и побыть с тобой. Мне нравится, когда ты рассказываешь о себе. Расскажи мне о войне…
— О войнах не рассказывают, сынок, — ответил Абелай Пердомо решительно. — Войны устраивают, а потом забывают.
Инмельдо Камбреленг все время хотел стать могильщиком, однако в один из смутных моментов жизни капризная судьба неожиданно сделала вираж и превратила его в плутоватого дельца-кабуйонеро.
Голова у него была огромная, почти лысая, с редкими пучками длинных волос, что рождало подозрения о грязной болезни, глаза большие, подбородок массивный и словно вдавленный в череп, а длинный, горбатый, вечно грязный нос, нависающий над губами, придавал ему сходство с выслеживающим добычу стервятником.
Он всегда одевался в черное, шмыгал каждую секунду носом, а немытыми ногами и потом несло от него так сильно, что у особо чувствительных его собеседников даже начинали слезиться глаза. Некоторые даже полагали, что могильщиком Инмельдо все же успел поработать и на память о любимом деле взял несколько кусочков человеческой плоти, которые так и остались разлагаться в его карманах.
Все вокруг знали, что деловые вопросы Инмельдо Камбреленг решает мгновенно: в первую очередь потому, что человеком он был быстрым и сообразительным, что в «деловом» мире придавало ему лишний вес, а во-вторых — и это главное, — потому, что никто не был способен находиться с ним рядом долгое время.
— Какого класса катер?
— Самый быстрый и самый надежный. Если есть радар — еще лучше.
— Ни у одной посудины, промышляющей у наших берегов, радара нет. На «Мандрагоре» был один, однако давно уже накрылся. Но у меня есть на примете быстроходный военный катер. Похоже, он вам подойдет. Какой груз?
Дамиан Сентено держал рюмку у рта, не сделав пока, впрочем, ни одного глотка. Он предпочел вдыхать запах рома, хоть немного перебивающий исходящий от собеседника смрад.
— Груза нет.
— Нет груза? — Инмельдо Камбреленг шмыгнул три раза носом, но с кончика его все равно закапало — безошибочный признак того, что собеседнику удалось его удивить.
— Нет груза? — повторил он. — Тогда зачем вам нужен катер?
— Чтобы отыскать другой.
— Чтобы отыскать другой? — Он знал, что никогда не избавится от этой привычки повторять чужие слова, потому тут же пояснил: — Объясните мне, в чем дело.
Дамиан Сентено объяснил, как мог, естественно умолчав о том, что конечной его целью был поджог «Исла-де-Лобос»: таким образом он планировал раз и навсегда покончить с проклятым семейством Пердомо, сумевшим обвести его вокруг пальца.
— Когда ваша лодка вышла в море? — задал вопрос кабуйонеро.
— Позавчера на рассвете.
— Позавчера… И вы говорите, что она идет под парусами?
— Под парусами. Это старый, очень тяжелый баркас. Ему понадобилось много времени, чтобы окончательно скрыться из виду.
— Что вы думаете сделать, если схватите мальчишку?
— Передам его Цивильной гвардии, чтобы его припекли за преступление.
— Мне не нравится Цивильная гвардия.
— Мне тоже.
— Вам тоже… Хорошо! Это не мое дело. Я за тысячу дуро сведу вас с капитаном «Мандрагоры». А то, что вы получите, и то, что вы думаете о Цивильной гвардии, — дело ваше.
— Где находится «Мандрагора»?
Несостоявшийся могильщик посмотрел на Дамиана и быстро что-то подсчитал в уме.
— В данный момент она дрейфует примерно в пятнадцати милях от берега. Я переговорю с капитаном по рации через пару часов, чтобы указать место, где они должны разгрузить товар. — Он несколько раз шмыгнул носом. — Если его заинтересует ваше предложение, я встречусь с вами здесь же в полночь. Возьмите с собой только самое необходимое.
— Со мной будет человек.
— Кто?
— Мой помощник. Правая рука. Называйте его так, как вам хочется, но он будет со мной.
Камбреленг нервно погладил лысину, выдернув несколько волосинок из самого густого пучка. Все это время он неотрывно смотрел на собеседника, словно пытался разглядеть за фасадом лжи его истинные намерения.
Наконец он пожал плечами.
— Согласен, — сказал он. — Только не пытайтесь водить меня за нос. Потеряете время. При малейшем подозрении катер смоется. И хочу вас сразу предупредить: даже самый быстрый пограничный катер увидит лишь его корму, пустись он в погоню.
Дамиан Сентено посмотрел тому прямо в глаза и задал вопрос:
— Я что, похож на полицейского? Или на таможенника? — В подтверждение своих слов он отрицательно покачал головой, словно сам был не в силах поверить в такую глупость. — Достаньте мне этот катер, и вы получите еще тысячу дуро, которые вам уж точно не осложнят жизнь.
Инмельдо предложение пришлось по душе. Он протянул руку, взял набитый до отказа кожаный портфель и вытащил из него потрепанную карту архипелага, на ней было так много пометок, что слова уже давно слились в одно, превратившись в странного вида иероглиф.
— В котором часу, говорите, вышел этот парусник из Лансароте?
— На рассвете.
— И какую скорость развил? Три узла?
— Наверное, меньше, хотя я не очень разбираюсь в таких вещах.
— Хорошо! Скажем, от трех до четырех узлов. — Он вытащил карандаш и быстро что-то подсчитал на одном из углов карты. — Посмотрим! Если, как вы говорите, у них на борту убийца, то, вероятнее всего, они пойдут между островов. — Он провел воображаемую линию и очертил широкий круг. — Скорее всего, они находятся вот здесь, чуть севернее острова Ла-Пальма…
Дамиан Сентено запустил руку в карман рубахи и положил несколько банкнот на стол.
— Здесь тысяча дуро! — сказал он. — Чтобы вы видели, что я говорю серьезно, и были заинтересованы убедить капитана в выгодности сделки. А теперь вас предупреждаю я. Не пытайтесь водить меня за нос!
Инмельдо Камбреленг сгреб деньги с той же быстротой, с какой хищная птица проглатывает ящерицу. Он встал и сложил свою потертую карту.
— Приходите сюда же в полночь и оставьте причитающиеся мне деньги, — сказал он. — Капиталом людей моей профессии является слово. Когда мы договариваемся, мы выполняем уговор. Иначе сделка заканчивается, ибо здесь нет ни бумаг, ни адвоката, ни закона. Однажды совершишь ошибку — и тебе уже никто не даст второго шанса. — Он снова шмыгнул носом и улыбнулся: — Единственное, на что ты можешь рассчитывать в этом случае, так это на выстрел в затылок.
Он ушел, оставив за собой шлейф тяжелого запаха потных тог, и Дамиан Сентено вынужден был отвернуться и глубоко вдохнуть, потому как от смрада у него уже комок стоял в горле.
Он выждал некоторое время почти с единственной целью, чтобы прийти в себя и перевести дух. Положив несколько монет на стол, он вышел на улицу и полной грудью вдохнул воздух, насыщенный запахами причала, бензина и смолы, которые ему показались даже освежающими. Затем, не торопясь, он прошелся до бара «Атлантико», находившегося у самого моря перед входом в порт, и встретился с Хусто Гаррига, который поджидал его, читая спортивную газету.
— Думаю, что этой ночью у нас будет катер, — сказал Дамиан. — Я говорил с одним типом. От него воняет так мерзко, что, не будь он человеком слова, его должны были бы уже давно пристрелить. Тебе удалось узнать, что ты хотел?
— Улица Мирафлор. Вон там. В четырех или пяти кварталах… Вся улица буквально кишит проститутками, но мне порекомендовали «Касса-де-ла-Унгара». Кажется, это единственное место, где не подкладывают слабительного.
Они неторопливо зашагали прочь, и, пока они поднимались по широкой площади Канделярия, Дамиан Сентено посматривал на парочки, которые в эту пору попивали прохладительные напитки на террасе кафе «Куатро Насионес». Вдруг он спросил:
— Ты хоть раз спал с женщиной, которая не была бы проституткой?
— А что, разве такие бывают? — Хусто Гаррига расхохотался своей собственной шутке. — Думаю, что да. Когда мы вступили в Мадрид, я познакомился с одной девочкой. Ее жениха расстреляли, а ей подлили столько клещевинного масла, что она и ста метров не могла пройти, чтобы не оправиться. Она, конечно, не была красавицей, впрочем, и уродкой ее назвать было нельзя. А вид у нее был такой, словно она каждую секунду ждет, что ей надают пинков. Мне было ее жалко…
Дамиан Сентено искоса посмотрел на товарища. Во взгляде его плескалось недоверие.
— Тебе?
— Неужели ты думаешь, что я всегда был сучьим сыном?! — ответил Хусто. — Было время, когда я даже помогал слепцам переходить улицу. — Он с досадой прищелкнул языком. — Хотя мне так ни разу и не удалось подвести хоть одного под грузовик…
— Ты мне однажды спас жизнь.
— Это потому, что ты не слепец, и я решил — когда-нибудь ты меня отблагодаришь.
Так же не спеша они прошлись по улице Крус-Верде, останавливаясь время от времени перед витринами магазинов, посматривая на проходящих мимо девчат, словно два старых друга, у которых этим летним вечером и другой заботы не было, как отправиться в бордель.
— Что ты думаешь об этом деле? — спросил Дамиан Сентено. — Тебе не кажется, что над нами подшутили?
— Ни в коем случае, — ответил Хусто Гаррига уверенно. — Да и что еще мы могли бы сделать? Убить кого-нибудь, чтобы тут же примчалась Цивильная гвардия? Гнаться за ними, когда они еще затемно снялись на этом проклятом баркасе? Сколько я ни крутил все это в голове, я не нашел другого выхода. И знаешь, меня радует, что они ушли со своего острова и сейчас находятся все вместе. Теперь дело лишь за тем, чтобы накрыть их.
— Этот океан очень большой!
— Знаю… И очень глубокий. Однако мы найдем их. — Он обвел рукой окружающие их дома: — Посмотри вокруг. Здесь есть улицы и автомобили, и шум города, и электричество. Здесь мир, который нам знаком и в котором мы знаем, как себя вести. Совсем иначе, чем в том проклятом Плайа-Бланка, с его верблюдами, тишиной и странными людьми. Теперь все изменилось.
— Не нравится мне море. Никогда не нравилось! — заявил с кислым видом Дамиан Сентено. — Пока они в море, они в своей стихии.
— Не будь глупцом, — упрекнул его Хусто. — Что старый, полусгнивший баркас может противопоставить современному, быстроходному катеру? Мы их возьмем.
Аурелия Пердомо проснулась на рассвете от странного и неприятного чувства, будто кто-то чужой находится в их маленькой каюте. Когда она повернула голову, то увидела сидящую в углу на корточках дочь, обхватившую колени. Глаза Айзы были широко раскрыты, а немигающий взор устремлен в стену.
Давно ей уже было знакомо это отсутствующее выражение, которое время от времени появлялось на лице дочери. Тогда ей казалось, что ее малышка вдруг превратилась в какое-то странное, чужое этому миру существо. И ей становилось страшно. За все эти годы она так и не сумела к этому привыкнуть.
Аурелия затихла и лишь смотрела на дочь, силясь отгадать, что сейчас происходит у той в голове, да и вообще понять, бодрствует ли она или еще спит.
Так они просидели довольно долго, и Аурелия уже даже перестала слышать тихие стоны старого баркаса, качавшегося на длинных и мягких волнах, и поскрипывания бизани. Ей хотелось, чтобы сон снова пришел к ней на помощь, однако тут ее дочь повернулась и посмотрела на нее в упор, будто знала, что все это время мать наблюдала за ней.
— Это был дедушка, — сказал Айза. — Он боится.
— Чего?
— Человека с татуировкой.
— Дамиана Сентено? Но ведь это глупо! Дамиан Сентено остался на Лансароте.
Айза едва заметно покачала головой:
— Нет. Не остался. Он возвращается. Я его видела. Он летел над морем, словно чайка, которая ищет свою добычу. И дедушка тоже его видел.
Аурелия Пердомо хотела было посоветовать дочери закрыть глаза и попытаться заснуть, позабыв обо всех кошмарах, но не смогла и слова вымолвить, понимая, что слишком уж часто ее предсказания сбывались.
Она села на кровати и погладила руку дочери, зная, что это немного успокоит ее.
— Может статься, тебе все это кажется? В последнее время нам всем пришлось нелегко, и происходящее должно было сильно повлиять на тебя, — сказала Аурелия. — В последний раз тебе приснилось, как умирают двое мужчин, но потом все было тихо и спокойно. Мы не слышали, чтобы в поселке или за его пределами кто-то умер.
Айза никогда и никого не пыталась убедить в правдивости своих видений. Она ограничивалась лишь рассказом об увиденном, и тот, кто хотел, принимал ее слова, со всеми же остальными она никогда не спорила.
— Эти мужчины мертвы, — тихо, почти шепотом, произнесла она. — А вот другой нет. Он идет…
Аурелия ничего не сказала. Она задумалась на какое-то время, не отпуская руку дочери, а затем подняла голову и увидела, как наверху, за трапом, тонкая полоска рассвета пыталась разорвать темноту ночи.
Она встала, погладила дочь по холодному лицу, поднялась на палубу и принялась с тревогой вглядываться в горизонт.
Последние огни острова Ла-Пальма исчезли еще шесть часов тому назад, и теперь она не различала даже больших предметов в пяти метрах от себя.
Она подошла к Себастьяну, который по-прежнему стоял у штурвала, и поцеловала его в щеку:
— Айза утверждает, что Дамиан Сентено приближается.
— Но мама!..
— Что?
В вопросе ее ясно слышался вызов.
— Не собираемся же мы путешествовать по свету и обращать внимание на сны Айзы, — ответил он печально. — Мы похожи на цыганский табор, только наша дорога — это море. Мы похожи на свихнувшийся цыганский табор!
— Ты думаешь, меня это радует? — устало произнесла Аурелия. — С тех пор как начался дождь и родилась твоя сестра, я постоянно пытаюсь убедить себя в том, что все странности, которые происходят с ней, это не более чем фантазии — мои и ее. Однако ты слишком хорошо знаешь, что она редко ошибается. Кто может с этим поспорить?.. — Она взялась за штурвал. — Иди! Иди и подыми отца… Он, кажется, знает, что делать.
Дотронувшись до руля она почувствовала, как он легонько вибрирует, словно где-то в трюме бьется сердце баркаса, а сам он — живое существо. В это всегда верил Абелай, и вот теперь эта вера передалась и ей.
— У всех кораблей есть душа, — сказал ей Абелай, когда она впервые прошла вместе с ним до бухточек Тарфайя. — И биение их сердца лучше всего чувствуется в руле. Дотронься до него!
И руками она почувствовала биение сердца баркаса, спиной — сильное и горячее тело мужа, которого обожала. Она все еще вздрагивала, вспоминая, как он взял ее прямо там, у штурвала, как заставил стонать и содрогаться от наслаждения. Она была уверена, что именно тогда и понесла их старшего сына.
Позже, когда она стала испытывать редкие недомогания, Абелай Пердомо шутил, что она чувствовала бы себя много лучше, если бы в изголовье кровати положила штурвал.
И сейчас, глядя на своего великана мужа, растрепанного со сна, она спрашивала себя: неужели с той ночи, когда она стояла за штурвалом баркаса, прошло уже двадцать шесть лет?
— Ты уверена в том, что рассказал мне Себастьян?
Она пожала плечами и лишь кивнула в сторону каюты:
— Это ей дед сказал… Ты ведь знаешь, что потом бывает.
Абелай Пердомо устало привалился к мачте и глубоко вздохнул. Его первым порывом, как и у Себастьяна, было горячее желание возразить, постараться притвориться, что видения дочери ничего не значат, однако умом он понимал, что не верить в сны Айзы — все равно что не верить в то, что день сменяется ночью, а Земля вертится.
— Не может быть! — воскликнул он наконец. — Не может быть, чтобы этот собачий сын решился пуститься в погоню. Он что, никак не может понять, что проиграл?
— Он не остановится, пока не убьет меня.
Асдрубаль неожиданно возник за спиной отца, его загорелое дочерна, красивое лицо было печально. Помолчав немного, он добавил:
— Я должен был сдаться сразу же. Может быть, меня бы просто посадили, а может быть, и убили, не знаю. Я знаю одно, из-за меня теперь всем вам грозит опасность.
— Что ты такое говоришь?
— Правду. Если Дамиан Сентено настигнет нас в море и убьет меня, он вряд ли захочет оставлять свидетелей своего преступления.
— Не говори так, сын!
Асдрубаль повернулся к матери:
— Мы должны посмотреть правде в глаза. Глупо строить иллюзии. Айза никогда не ошибается, когда кому-то грозит несчастье. Этот мерзавец хитрее, чем мы думали. Он решил догнать нас не для того, чтобы убедить вернуться на Лансароте. Он хочет убить меня, а после он убьет и вас. Думаете, он просто так оставит в живых четырех свидетелей, а сам станет жить спокойно? Сомневаюсь.
— Согласен, — поддержал сына Абелай Пердомо и поднял вверх руки, тем самым завершая спор. — Чего бы на самом деле ни хотел Сентено, мы в любом случае не должны попасть ему в руки.
Аурелия растерянно посмотрела на мужа.
— Но как? — спросила она. — Может быть, у нашего баркаса есть крылья? — Широким движением руки она обвела лодку. — Мы находимся посреди океана…
— Знаю, — согласился с ней Абелай. — Мы находимся посреди океана, а с ним связана вся моя жизнь… — Он сделал паузу, а потом добавил: — И хотя мне не нравится вспоминать об этом, когда-то я был браконьером. — Он посмотрел в ту сторону, где вскоре должно было встать солнце, и рассчитал в уме время, оставшееся до рассвета. — Хорошо, — заключил он в конце концов. — Чем раньше начнем, тем лучше. Нужно убрать паруса, а ты, Асдрубаль, марш на главную мачту и смотри в оба. Думаю, они придут с юга-востока. Будьте внимательны, обращайте внимание на все, что движется.
Все тут же принялись за дело и работали так слаженно, как только могут люди, на протяжении долгих лет трудившиеся бок о бок, и, когда выглянуло солнце, были уже спущены и уложены на палубе главный парус и бизань. Затем, пока Айза и Аурелия готовили завтрак из летучих рыб, которые ночью выпрыгивали на палубу, Абелай и Себастьян спустились в трюм проверить балласт и груз.
Там-то они и услышали голос Асдрубаля:
— По левому борту судно!
Асдрубаль, словно обезьяна с пальмы, в одну секунду спустился с мачты и протянул отцу бинокль. Вскоре тот подтвердил:
— Действительно, вон оно. И идет очень быстро! Через час оно нас догонит! — Абелай повернулся к сыну: — Начинай ослаблять мачты, сперва главную, а затем и бизань.
Задача выбить клинья, вытащить мачты из распорок, опустить их в море крепко связанными прочными концами и снова вытащить на палубу, уложив вдоль корпуса, оказалась не из легких.
Когда все было кончено, Абелай Пердомо снова посмотрел в бинокль и заметил, что катер не идет прямо на них, а отклоняется к северу. Однако, не удовлетворившись сделанным, он приказал:
— Нужно убрать сходные тамбуры.
Аурелия схватила его за руку.
— Ты хочешь наполнить баркас водой? — испуганно спросила она.
Абелай кивнул и обвел рукой вокруг:
— Не беспокойся. Ветер не поднимется, и море до заката будет спокойным. С такой высотой волны я могу погрузить борта на полметра.
— Не опасно?
Он ласково дотронулся до ее лица, желая успокоить.
— Нет, если океан останется таким же, как сейчас. Груз надежно закреплен, а этот баркас уже многое повидал и много пережил, — улыбнулся он. — Мой отец научил меня, как это делать.
— Ты мне никогда не рассказывал, что был браконьером.
— Это было еще до знакомства с тобой, — ответил Абелай. — Были плохие времена, и единственное, что приносило тогда деньги, так это лангусты из Французского Марокко. Патрульные катера постоянно шныряли у берега, и мы были вынуждены работать ночью, а днем маскироваться. — Он снова улыбнулся. — Ты не волнуйся. Баркас к этому привык.
— Но ведь он очень старый!
— Знаю, — согласился Абелай. — Но у нас не остается другого выхода. — Он показал на детей, которые лихорадочно работали, разбирая надстройки. — Когда они закончат, пусть прикроют борта синим брезентом, который найдут в носовом пайоле. Он, наверное, превратился в лохмотья, но все еще может сослужить нам добрую службу, если его как следует закрепить. Я тем временем буду наблюдать за уровнем воды.
Спустя полчаса баркас превратился в пятно синего цвета, плавающее в бескрайнем океане, и выступал над водой всего лишь метра на полтора. Различить теперь его можно было лишь в том случае, если он поднимался на гребень волны, а сами вы находились при этом на расстоянии не более чем в две мили.
— Если человек пустился в погоню за баркасом с белыми парусами, он никогда не станет искать синий плот, — заметил Абелай Пердомо, когда все расселись на кормовой палубе, наблюдая за тем, как катер продолжает удаляться на север. — Даже французским патрульным катерам ни разу не удалось обнаружить нас. Цвет моря опьяняет, посмотрите на воду какое-то время — и вскоре вы поймете, что перед глазами у вас все плывет. — Он подмигнул Себастьяну: — Доставай лесы! Мы все равно стоим на месте, так давайте попытаемся что-нибудь поймать. — Затем он легонько ущипнул жену за щеку: — Веселее, женщина! Мы что, торопимся? Америка останется там же, где была все это время.
Использовав в качестве наживки внутренности летучих рыб и кусочки сушеного осьминога, они вытащили из воды крупную дорадо, которую, в свою очередь, тоже сделали наживкой. Так они рыбачили до самого завтрака, который оказался обильным и очень вкусным. Жарили рыбу на маленьком нефтяном примусе.
Затем, когда подходила к концу сиеста, оставшийся на вахте Асдрубаль снова заметил катер, возвращавшийся с севера и быстро прошедший примерно в шести милях от баркаса на на юго-запад.
— Хороша лодка, если так мчится! — заметил Абелай Пердомо, внимательно следя за быстро удаляющимся катером. — Потому-то он и прыгает по волнам, переваливаясь с кормы на нос. Люди, находящиеся на нем, никогда не смогут хорошенько рассмотреть все в бинокль. — Он показал пальцем вперед. — Нужно было ему остаться там, лечь в дрейф и искать нас. Конечно, на поиски ушло бы немало времени, но через несколько часов он бы нас наверняка обнаружил… — Тут старый моряк улыбнулся: — Впрочем, это проблема людей с материка, сунувшихся в море. Давай! В море! Летают по нему во всю прыть, не беря на себя труд остановиться и подумать, а мы, люди моря, живем океаном и постоянно говорим с ним. — Он замолчал, глядя, как катер продолжал удаляться, и наконец, глубоко вздохнув, встал. — Добро! Думаю, что этим вечером он уже сюда не вернется. Теперь нам предстоит самая сложная работа: снова поставить баркас на ход.
— И куда ты хочешь направиться? — спросил Себастьян.
— Америка все еще на западе…
— Они это тоже знают. И будут, разыскивая нас, тоже плыть на запад.
— Устанут!
— Когда? И как мы узнаем, что они сдались?
Абелай очень внимательно посмотрел на сына, пытаясь понять, что именно тот хочет ему сказать.
— Может, у тебя есть идея получше? — спросил он наконец.
— Муссоны дуют на юго-запад, — заметил Себастьян. — И туда же нас несет течение. Это самый простой путь: отсюда нужно добраться до мыса Кабо-Верде, чтобы затем воспользоваться муссонами и экваториальным течением Северного полушария — они-то и поведут нас прямехонько к берегам Венесуэлы или к Антильским островам. Если мы будем придерживаться этого курса, то они рано или поздно найдут нас и схватят; если же мы каждый день станем повторять этот трюк с брезентом, то никогда не доберемся до берега.
— Что тогда?
— Лучше всего будет отклониться от ранее выбранного курса. Нам нужно идти на северо-запад. Там им никогда не придет в голову искать нас.
— На северо-запад? — Абелай Пердомо покачал головой, словно пытаясь отогнать подальше эту идею. — Послушай, сын, на северо-западе нет ветров. Если мы свернем с пути, где дуют попутные муссоны, то рискуем попасть в мертвый штиль.
— Я знаю, — согласился Себастьян. — Однако штиль много лучше Дамиана Сентено. Ты сам сказал, что мы люди моря, а значит, сумеем выжить в море даже при затяжном штиле. Мы не спешим: когда-нибудь да доберемся до места. Наша единственная проблема — пресная вода, однако рано или поздно, но дождь обязательно прольется.
— В этих краях иногда целый год не бывало дождя.
— На Лансароте — да, но не на море. — Было ясно, что Себастьян абсолютно уверен в своих словах. — Мы привыкли к жажде. Всего-то и надо выдержать пару месяцев.
— Пару месяцев! — ужаснулась Аурелия, оглядываясь вокруг: мысль о том, чтобы провести в море несколько месяцев, да еще и на утлом суденышке, показалась ей поистине ужасной. — Никогда не думала, что это может продлиться так долго.
— Америка очень далеко, мать, — напомнил ей Себастьян. — А этот баркас и без того уже очень долго продержался на плаву. Быстрее он идти не может — мы не в силах требовать от него невозможного. — С этими словами он повернулся к отцу: — Тогда какой мы выберем курс?
— Дай подумать, — попросил отец. — Сейчас главное — откачать воду и поставить мачты, прежде чем наступит ночь. Вперед!
И снова им предстояла работа на пределе человеческих возможностей, так как насосы были старыми и уже успели изрядно проржаветь. Под конец члены маленькой команды работали как сомнамбулы, монотонно поднимая и опуская руки.
Айза и Аурелия помогали мужчинам, вычерпывая воду ведрами, и вот, сантиметр за сантиметром, баркас начал подниматься до ватерлинии. Выцветший синий брезент, наполовину изодранный, вернулся на свое прежнее место.
Солнце быстро клонилось к закату, пытаясь как можно скорее укрыться за горизонт. Катера нигде не было видно, и беглецы наконец-то решили поставить мачты. Закончив работы, они буквально повалились на палубы, пытаясь отдышаться.
— Нам придется делать это каждый день? — спросила Айза, когда наконец-то начала нормально дышать.
— Каждый день, если только этот проклятый катер не уберется восвояси, — ответил отец. — В ясный день мачту могут заметить даже люди, всю свою жизнь проведшие на суше, а я не хочу рисковать.
— Мы так долго не выдержим! — возразила девушка. — Не выдержим… — повторила она. — Сколько весят эти мачты?
Абелай лишь пожал плечами и улыбнулся:
— Не знаю, однако не думаю, что они стали хоть немного легче с тех пор, как мы с твоим дедом каждый день снимали и ставили их. А ведь тогда мы не спасали свои жизни, а всего лишь хотели поймать несколько лангустов. — Он нежно погладил дочь по голове. — Знаешь, теперь я понимаю: старые люди были правы, когда говорили, что новое поколение рождается слабым. Вперед, — велел он, — нужно поставить на место бизани и поднять паруса. Я хочу быть на ходу, когда солнце совсем спрячется за горизонтом.
— Куда мы пойдем?
Абелай Пердомо повернулся к Себастьяну, задавшему этот вопрос. Он несколько секунд поразмыслил и едва заметно кивнул:
— На северо-запад. Любая судьба лучше той, которая сведет нас с Дамианом Сентено.
Они всю ночь шли на северо-запад, подгоняемые капризным порывистым ветром, заставлявшим не спускать глаз с парусов и все время подправлять курс. Ветер кружил вокруг баркаса, и, хотя в основном он дул в борт, никто не мог поручиться, что в следующую секунду он не окажется встречным или не повернет на север, а то и еще куда-нибудь, куда ему захочется, вынуждая входить в крутой бейдевинд, отчего лодка стонала еще сильнее, чем обычно, словно жаловалась на непосильную работу, которую люди взвалили на ее старые борта.
Так как они шли в кромешной тьме, то, естественно, должны были до минимума уменьшить парусность. Но так как они торопились как можно скорее покинуть эти воды, то предпочли идти под всеми парусами. Трое мужчин все время находились на палубе, спали урывками и вскакивали всякий раз, как слышали голос рулевого, отдававшего очередную команду.
Конечно, им приходилось нелегко, но отчаянным они свое положение не считали, ибо привыкли к жизни, полной боли и трудностей, и другой они не знали. Абелай Пердомо, как и любой из его сыновей, мог с закрытыми глазами править старым баркасом, и ночь для них в этом смысле не сильно отличалась от дня.
Легче всего приходилось Асдрубалю, который был не таким образованным, как его брат и сестра, но лучше приспособленным к жизни в море на борту лодки. Он спал точно так же, как и худющие псы Педро Печального: с одним приподнятым ухом и одним открытым глазом, прислонившись к главной мачте и подставив лицо ветру, чтобы знать, когда он переменится. Баркас же словно стал продолжением его собственного тела, и он его чувствовал так, как чувствовал свою руку или ногу.
Айза спала крепким, спокойным сном; Аурелия же металась в полудреме, будучи не в силах определить, где кончается реальность и начинаются видения. Всю ночь она прислушивалась к дыханию дочери, страшась повторения кошмара, и изо всех сил прислушивалась к тишине, надеясь ощутить присутствие деда Езекиеля. Ей отчаянно хотелось, чтобы он с ней поговорил, как всегда говорил при жизни, и хоть немного рассказал ей о будущем, которое с недавних пор представлялось ей ужасным.
Похоже, что только Аурелия не питала иллюзий касательно их будущего места жительства. Она ясно представляла себе жизнь в Америке, и жизнь эта казалась ей далекой от идеальной.
До той проклятой ночи праздника святого Хуана будущее представлялось ей всего лишь продолжением прошлого, время ее жизни текло неспешно, и она надеялась спустя много лет навсегда закрыть глаза в окружении любимых людей и знакомых с юности пейзажей, волновать же ее должны были лишь веселые проделки внуков. И вот вдруг оказалось, что будущим ее стала Америка, страна, которая представлялась ей огромным монстром, пожирающим людские мечты. Она знала, что семьи, туда переезжающие, распадаются так же быстро, как разлетаются песчинки под порывами сильного ветра.
Трое двоюродных братьев отца Аурелии навсегда потерялись в запутанном лабиринте американских городов и больше никогда уже не возвращались на родину. Пропал и Санчо Гера, от которого его брат Руфо за тридцать лет так и не получил ни одного письма.
Она могла понять, почему, ступив на новые земли, люди тут же забывают старые связи, и оттого боялась будущего еще сильнее — ей казалось, что в один прекрасный день Америка отнимет у нее детей.
Когда Асдрубаль несколько месяцев подряд крутился вокруг одной девицы из Фемеса, она уже начала беспокоиться, так как даже мысли допустить не могла, что он может уйти из поселка и обосноваться где-то еще, пусть даже это и будет деревня, отстоящая от Плайа-Бланка всего лишь на десять километров, и то если идти по пляжу по прямой. На континенте жили миллионы мужчин и женщин, и каждый из них мог увести ее детей за десятки, а то и сотни километров от дома, и она ничего бы не смогла с этим поделать.
Или они, не дай бог, уйдут сами.
Может статься, что Себастьян желает другой жизни, никак не связанной с морем и рыбной ловлей, а это значит, что он рано или поздно отдалится и от отца, и от брата. Или Айза, ее маленькая, беззащитная доченька, наконец-то перестанет чувствовать и думать как ребенок, лишится дона и с головой погрузится в ужасный мир больших городов, приносящих людям моря лишь боль и разочарование.
Аурелии всегда была ненавистна мысль, что ее дочь была избрана судьбой, ненавидела она и ее дар и часто вспоминала, как разозлилась, когда Сенья Флорида объявила на всю деревню, что дожди принесла именно Айза и что ей суждено нести людям как добро, так и зло, а всему виной была якобы забытая уже всеми прабабка, которая передала ей способности укрощать зверей, привлекать рыб, лечить больных и ублажать усопших.
Еще больше Аурелия разозлилась, когда убедилась, что зловещие предсказания дочери неизбежно сбываются и что девочка ее, так сильно отличающаяся от сверстников, окутана тайной, словно саваном.
Однако, пытаясь убедить себя в том, что Айза ее на самом деле самый что ни на есть нормальный ребенок, а Сенья Флорида просто-напросто сошла с ума, она обманывала саму себя. Еще будучи беременной, Аурелия чувствовала, что в утробе ее живет существо, наделенное чудесной силой, каковой не было у ее старших детей. Уже тогда она знала, что родится девочка, которая в будущем принесет ей столько же радости, сколько и печали.
Колдунья из Соо покинула свое мрачное каменное логово, чтобы бродить по дороге недалеко от церкви в тот день, когда там крестили Айзу, а за неделю до того, как у дочери ее начались первые месячные, а с далеких берегов прилетела саранча — было ее так много, что не стало видно небо, — и уничтожила все посевы, кто-то подложил под их дверь деревянного мальчика с разрезанным на две части сердцем.
В это же самое утро Аурелия его сожгла, чтобы никто не видел, но все еще помнила, как тот не поддавался огню и как кухню наполнил странный едкий запах, ничуть не похожий на запах дыма. Откуда взялась эта проклятая деревяшка и кто вырезал эту куклу, так похожую на живого младенца, так и осталось неизвестным.
— Дело негров! — сделал вывод Руфо Гера, которому она рассказала о своей находке и связанных с ней страхах. — Я читал, что негры из Дагомеи используют эту древесину и тратят много времени на подобные ритуалы. Это они привезли в Америку вуду.
— Но здесь-то негров нет, — возразила Аурелия. — По-моему, я еще ни разу не видела негра на Лансароте. Кто же хочет запугать меня?
Это был вопрос, который навсегда остался без ответа, так как в то время на острове не было ни одного негра. В конце концов все сошлись на том, что кто-то просто нашел куклу в море и не придумал ничего лучше, как подбросить под двери семьи Пердомо Марадентро.
Но если она приплыла из Африки, то значит, что именно за нею последовала саранча, за четыре дня уничтожившая все посевы до единого росточка.
— Мавританцы ее едят, — кто-то сказал тогда. — Наказывают ее за то, что оставляет их без урожая. Они ее ловят, жарят и едят. Иногда из саранчи они делают муку. Теперь и мы могли бы попробовать гофио из саранчи.
Однако в деревне так и не нашлось смельчака, решившегося бы отомстить саранче подобным образом, да и, по правде говоря, не так уж много она причинила вреда опаленным солнцем камням Рубикона. Потом лишь Сенья Флорида жаловалась, что мерзкие насекомые поели растущую во дворе ее дома мимозу.
Таким образом событие, которое стало бы бедой для любого другого уголка земного шара, превратилось в развлечение для детворы, которая гонялась за насекомыми сломя голову. Заинтересовали насекомые также женщин и стариков поселка, которые могли наблюдать за ними часами, ибо в их размеренной жизни слишком уж редко происходило что-то интересное или хотя бы необычное.
Однако в те четыре дня Айза стала женщиной.
А в ночь, когда у нее прекратилось кровотечение, саранча исчезла, словно по волшебству.
Следовало ли ей уже тогда обеспокоиться судьбою дочери?
Последние события показали, что волновалась она не зря, и теперь страх, и без того мучивший ее уже долгое время, начал шириться и разрастаться и в один прекрасный день стал таким же глубоким, как и океан, качающий на своей огромной ладони их утлую лодку.
Ветер переменился, и она четко различила шаги на палубе. Находясь в своей каюте, она всегда могла сказать, кто именно ходит наверху: тяжелые и широкие шаги принадлежали мужу, легкие и уверенные — Асдрубалю. Ее же старший сын, который в свое время мог бы стать морским офицером или адвокатом, однако решил так и остаться простым рыбаком, ходил тихо, почти неслышно.
Затем вдруг лодка прекратила жалобно стонать, и Аурелия поняла, что ветер снова переменился и теперь дует в правую носовую часть баркаса. Она заснула, будучи уверенной, что все теперь должно быть хорошо, а старый Езекиель никогда больше уже не появится, сколько его ни зови.
Когда все проснулись, то мужчины тут же поспешили убрать паруса, и баркас медленно закачался на больших и гладких темно-синих волнах. Она поднялась на палубу и села рядом с мужем, наблюдая за тем, как с восходом солнца небо окрашивается в красный цвет там, где утонул в океане Лансароте.
— Ты снова опустишь мачты?
— Только если снова появится катер, — ответил Абелай Пердомо. — Этот баркас не рожден для гонок. Тем более что боролся он всю ночь.
— Я слышала.
— Помнишь, когда мы были молоды, он не издавал ни единого скрипа? Казалось, он скользит по воде, словно чайка.
— Мы тоже были тогда молоды. И у нас тогда суставы не скрипели. — Она хитро улыбнулась. — Ну может, только тогда, когда ты обнимал меня слишком крепко.
Он обнял ее за плечи и привлек к себе, затем поцеловал в шею и что-то прошептал ей на ухо, отчего она вздрогнула.
— Может быть, потом, — ответила она. — Во время сиесты, когда дети уснут.
— У руля или в каюте?..
К тому времени уже совсем рассвело, и Асдрубаль крикнул со своего наблюдательного пункта:
— Никого! Похоже, они устали искать нас.
— Не стоит себя обнадеживать, — ответил ему отец. — Но как бы там ни было, иди спать. Разбуди Айзу, пусть сменит тебя. — И снова поцеловал жену. — Я тоже чуток посплю. Ко времени сиесты мне нужно как следует отдохнуть.
— Хочешь, я приготовлю тебе завтрак?
Но Абелай махнул рукой, отказываясь:
— Час назад пожевали немного гофио. Я не голоден. — Он устало поднялся на ноги, держась за поясницу. — Попробуй порыбачить… и не теряй из виду горизонт. Как только заметишь что-нибудь, разбуди меня. Помни, этот проклятый катер очень быстроходный.
На палубу поднялась Айза, и все утро они провели за рыбалкой и уборкой. За все это время только один самолет появился с южной стороны и быстро скрылся на северо-западе, там, где очень далеко протянулись европейские берега.
Возможно, он летел из Америки.
— Ты можешь себе представить, что за несколько часов он проделывает путь, на который мы потратим недели? Иногда я ругаю себя за то, что я такая эгоистка, иначе я бы не пыталась удержать вас вдалеке от мира, в котором бы вам следовало жить. Я по своей воле выбрала Плайа-Бланка, однако вам никто не предоставил выбора.
— У Себастьяна и Асдрубаля он был. И думаю, что я тоже, если бы настал мой час, сделала бы выбор в пользу Лансароте.
— Почему?
— Потому что чужие земли не влекут меня.
Аурелия Пердомо задумчиво смотрела на свою красавицу дочь, стоявшую у борта с лесой в руке, и удивлялась тому, что так и не научилась понимать ее. И она всегда удивлялась тому, что дочь ее никак не хочет принять свое взросление, хотя многие дети мечтают поскорее стать взрослыми.
Иногда она вела себя как взрослый человек, но иногда совсем как малый ребенок.
В молодости Аурелия готовилась сделать карьеру, но судьба распорядилась иначе, и она стала домохозяйкой, все свое время проводившей с детьми, с которыми всегда могла найти общий язык, но эту сказочно красивую девочку, ради счастья которой она отдала бы жизнь, она понять не могла, ибо та, казалось, уже родилась взрослой. Однако в последнее время Аурелии стало казаться, что ее дочь словно сделала шаг назад, и если раньше, будучи ребенком, она своим поведением и суждениями напоминала взрослого, то теперь, став взрослой, она все больше и больше стала походить на ребенка.
Казалось, что Айза, осознав наконец, что стала женщиной, всячески пытается подавить в себе любые проявления женственности.
— Что ты чувствуешь, когда тебя трогает юноша? — спросила Аурелия дочь.
— Меня еще ни один не трогал, — был ее ответ.
— Почему?
— Ты говорила, чтобы я не позволяла себя трогать.
— Забудь все, чему я тебя учила. А что ты чувствуешь, воображая, что тебя ласкает юноша? Артуро, например?
— Он однажды попытался это сделать, но я отвесила ему оплеуху. Ни в одной книге не написано, что мужчины завоевывают женщин подобным образом. Герои романов не лапают своих женщин. — Она замолчала, на мгновение задумавшись. — Они разговаривают о разных вещах, рассказывают о своем прошлом или делятся мечтами о будущем. А в кино некоторые даже поют.
— Но в жизни не всегда бывает так, как в кино или в книгах. И ты не можешь требовать от бедного Артуро, которого я с таким трудом научила читать, чтобы он рассказал тебе интересные истории из своего прошлого. Да и что он может спеть тебе, частушки, которые подвыпившие мужчины горланят в тавернах?
Айзе совсем не хотелось продолжать этот разговор. На какое-то мгновение она затихла, разглядывая горизонт, и наконец произнесла:
— Корабль.
Аурелия посмотрела в ту же сторону, что и дочь, и сердце ее забилось так быстро, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, однако, вглядевшись в горизонт, она поняла, что судно это действительно было кораблем с высокими бортами, ничем не напоминавшим быстроходный катер. Двигалось оно в том же направлении, в котором час назад скрылся самолет.
— Не думаю, что люди с корабля могут нас увидеть, а если и увидят, то решат, что мы просто рыбачим.
— Так далеко от берегов?
— Им даже в голову не придет, что в этом есть что-то подозрительное. В любом случае, будет лучше, если мы позовем твоего отца. Скоро время завтрака.
Абелай Пердомо довольно долго рассматривал корабль в бинокль и в итоге отрицательно покачал головой:
— Не стоит беспокоиться… Это трансатлантический лайнер, он быстро удаляется… — Он слегка улыбнулся. — Запомните его хорошенько, потому что еще не скоро вы снова увидите корабль. Еще немного, и мы выйдем за пределы обычных корабельных путей.
— Ты хочешь сказать, что никто не придет нам на помощь, если с нами случится что-то дурное?
Он повернулся к жене, задавшей этот вопрос.
— Только люди с материка все время ждут, что кто-то придет им на помощь, — ответил он. — Когда ты оказываешься в море, то должен сам с ним справляться, потому что, когда тебе понадобится помощь, скорее всего, некому будет протянуть тебе руку. — Он поправил ей волосы. — Всегда помни об этом. С этого момента и впредь нам не на что будет рассчитывать, кроме как на море и ветер, которые станут нашими наизлейшими врагами. — Он замолчал, засмотревшись на высокую волну, поднявшую на свой гребень баркас, а затем величественно удалившуюся на запад. — Америка очень далеко, — добавил он. — Наверное, даже слишком далеко, однако если мы доберемся туда, то лишь потому, что мы — мы сами! — смогли это сделать.
После того как дон Матиас Кинтеро выслушал историю Дамиана Сентено, он, казалось, стал еще меньше, или же, может статься, это комната, из которой он уже не выходил и в которой даже окна запрещал открывать, стала больше. А может, это все привиделось Сентено, у которого от духоты, стоявшей в спальне, и кислого запаха пыли, пота, немытого ночного горшка и остывшей еды все плыло перед глазами.
Роке Луна превратился в абсолютного хозяина дома, в котором он, похоже, был единственным живым существом, ибо неприкаянный дух, живущий в спальне капитана, уже нельзя было назвать человеком. Луна бродил по длинным коридорам поместья и его комнатам, выходил во двор и каждый день не уставал поражаться тому, как дом меняется вместе с хозяином. Казалось, что годы всей своей тяжестью навалились на некогда прочные его стены и по ним, как морщины по лицу, побежали трещины.
— Ничего не делает, — первое, что произнес Роке Луна, когда Дамиан Сентено спросил о состоянии хозяина. — Дни и ночи проводит в постели, разглядывая стены, и клянусь вам, каждое утро я поражаюсь тому, что он умудрился пережить ночь.
— Что говорит врач?
— Что он здоров, однако скоро умрет от печали. — Роке пожал плечами, будто ему стоило большого труда понять, что происходит. — Не ест, не пьет и даже не оправляется. Я все же не могу понять, как он еще дышит.
И это действительно оставалось для всех загадкой, ибо дон Матиас пожелтел и исхудал так, что стал напоминать скелет, голова его, которую доселе он никогда и ни перед кем не склонял, теперь безвольно лежала на грязной, пропитанной потом подушке, а некогда черные, как вороново крыло, усы пожелтели и обвисли. Слезящимися красными глазами он смотрел прямо перед собой, но, должно быть, не видел ничего дальше спинки кровати.
— Так значит, ему снова удалось ускользнуть? — произнес он едва слышным голосом, каким-то чудом родившимся в его исхудавшем теле. — От моего сына осталось лишь воспоминание, а убийца его все еще живет и, наверное, собирается прожить много лет. Это несправедливо.
— Я думаю, что он уже мертв, — ответил Дамиан Сентено, впрочем, слова его звучали не очень убедительно. — Мы обыскали море пядь за пядью, но нигде не нашли баркаса, а лодка не может испариться, она может только утонуть. Их не было нигде!
Старик согласно кивнул.
— Там их не было, говоришь! — сказал он. — А они были там, под самым вашим носом, только вот вы не смогли разглядеть их.
Он надолго замолчал, устремив взгляд в пустоту, а на лице его застыло так свойственное ему в последние дни отрешенное выражение. Наконец он вскинул руку, и его тонкий, как лоза, костлявый палец нацелился на тяжелый комод, стоящий в самом дальнем углу.
— Открой первый ящик, — приказал он. — Возьми зеленый портфель. Там мое завещание… — Он пристально посмотрел на Дамиана, когда тот возвратился с портфелем в руках. — Я назвал тебя моим наследником, моим единственным наследником, и с этого момента ты владеешь не только этим домом, но и моими банковскими счетами.
— Но, дон Матиас, — попытался возразить Дамиан Сентено, — я же не выполнил…
— Выполнишь! — прервал его старик, поднимая руку. — Ты отправишься в Америку, разыщешь там Пердомо и убьешь Асдрубаля и эту грязную потаскуху, которая во всем этом виновата ничуть не меньше своего мерзкого брата. — Он закашлялся так сильно, что, казалось, его легкие вот-вот вылетят и шлепнутся на пол. — Когда ты их убьешь, я буду уже мертв, а ты станешь богачом. Я тебя знаю. Знаю, что ты не вернешься на остров, если не исполнишь эту работу. Ты клянешься?
Дамиан Сентено задумался над ответом, пристально посмотрел на дона Матиаса и медленно кивнул:
— Клянусь!
Губы дона Кинтеро исказила гримаса, которая лишь отдаленно напоминала улыбку. Он с облегчением вздохнул.
— Я знаю, что ты это сделаешь! — прошептал он. — Меня страшила мысль, что я могу умереть, так и не исполнив обета. Расправься же с ними, Дамиан! А если ты захочешь, чтобы душа моя наконец-то обрела покой, то покончи и с другим братом, чтобы род Пердомо Марадентро исчез с лица земли, как по их вине исчез род Кинтеро из Мосаги… — Очевидно, что каждое слово давалось ему с большим трудом, однако он уже не мог остановиться. — Наверное, люди скажут, что, стоя на пороге могилы, я должен был бы простить обидчиков и не распалять в своей душе ненависть. Но я не боюсь. Если Господь потребует от меня ответа, я предстану перед Ним с гордо поднятой головой. И я спрошу Его, как Он мог допустить подобную несправедливость!
— Вы умираете только потому, что сами этого хотите, — заметил Дамиан Сентено. — Вам всего лишь нужно выйти отсюда, немного поесть и подышать свежим воздухом.
— А для чего?
— Пока вы живы, то можете надеяться, что увидите мертвым Асдрубаля Пердомо.
Дон Матиас едва заметно покачал головой.
— У меня такая болезнь, в которой ни один врач не разберется, — сказал он. — Я не хочу выходить из этой комнаты. Не хочу видеть солнца, не хочу слышать смеха. — Он снова закашлялся, но на этот раз Сентено показалось, что в страданиях своих тот находит извращенное удовольствие. — Мне ненавистна сама мысль о том, что за пределами этих стен продолжается жизнь, словно ничего и не произошло. Здесь же мне кажется, что вместе со мной скорбит весь мир, что он сжался от горя и теперь помещается в этой комнате. Ты, я да семья Марадентро — единственные живые существа, оставшиеся в этом мире. — Он снова замолчал, внимательно рассматривая собственные руки, будто они были чужими и он их не узнавал, а затем добавил: — Я схожу с ума. Душа медленно покидает мое умирающее тело, и я решил составить завещание, пока не стало слишком поздно. Я знаю, что ты никогда не переступишь порога этого дома и ни к чему здесь не прикоснешься, пока не выполнишь клятву. Ты — единственный человек, которому я верю! — Старик устало закрыл глаза. — А теперь уходи! — попросил он. — Посмотри на меня в последний раз, вспомни, каким я был, когда мы познакомились, вспомни, что я был твоим единственным другом и продолжаю оставаться им. Уходи, пожалуйста!
Дамиан Сентено сделал то, что его просили. Он на мгновение задержал взгляд на умирающем, который, казалось, цепляется за края своей могилы, желая как можно быстрее спуститься под землю, и понял вдруг, что кислый запах мочи и пота на самом деле был не чем иным, как смрадом приближающейся смерти. После этого Сентено буквально выбежал из комнаты, стараясь как можно скорее выйти во двор, в сад… куда угодно, только бы на свежий воздух.
Он присел на невысокий каменный заборчик, защищающий от ветра виноградные лозы, и вцепился в зеленый портфель, так и не решаясь открыть его. Сидел он так до тех пор, пока рядом с ним не опустился Роке Луна:
— Ну и как он вам показался?
— Он мертв. — Дамиан покачал головой. — Я познакомился с ним во время войны, и тогда я бы лишь рассмеялся в ответ, если бы кто-то сказал мне, что этот человек, сумевший заставить себя уважать весь Легион, покончит с собой подобным странным образом…
— Иногда мне кажется, что он видит смерть и ему доставляет удовольствие наблюдать за тем, как она постепенно, шаг за шагом, подбирается к его постели, — согласился Роке Луна. — Смерть забрала всех, кто жил в этом доме, и он решил перехитрить ее и умереть добровольно.
— Он не последний, — заметил Дамиан Сентено. — Последний здесь ты.
— Нет, — уверенно возразил Роке Луна. — У меня мало общего с этой семьей. Он остался последним. Раньше еще были его сын и Рохелия. Я же никогда не принадлежал к клану Кинтеро из Мосаги.
— И тебе не страшно после всего того, что ты увидел? Ты спокойно спишь в доме, наполненном мертвецами? Кто его знает, может быть, и привидение Рохелии бродит где-то рядом? И однажды она войдет в твою комнату…
— Меня больше страшат живые, сержант, а не мертвые. — Роке Луна слегка улыбнулся. — Мне нравится этот дом. С мертвецами или без них. Мне нравится спокойно ходить по нему и знать, что больше никто и никогда не станет мне приказывать. Каждый вечер я спускаюсь в кладовую и отрезаю там толстые ломти ветчины, а потом иду на веранду и ужинаю, запивая еду винцом из бочки. Когда я хочу с кем-нибудь поговорить, я спускаюсь в поселок или веселюсь с проститутками в Таиче, но большую часть времени предпочитаю проводить в одиночестве. Мне приятна мысль, что Рохелия больше никогда не покажется мне на глаза и не начнет приставать ко мне со всякими глупостями: например, починить забор, притащить тяжелый мешок или заняться с ней любовью. Мне здесь хорошо, — закончил он. — И хотя жестоко так говорить, но мне все равно, умрет старик завтра или будет чахнуть еще лет двадцать.
— А что будешь делать, когда он умрет?
Роке Луна пожал плечами:
— Я об этом не думал, хотя, если сказать правду, уже должен был бы. Тем более что кое-какие деньжата у меня есть… Наверное, я бы хотел открыть в Мачере таверну. Вы бывали в Мачере? — Получив отрицательный ответ, он продолжил: — Всего лишь несколько домов, однако место мне очень нравится, и там до сих пор нет таверны…
— Оставайся здесь.
Роке посмотрел на Дамиана и удивленно покачал головой:
— Как вы сказали?
— Я хочу, чтобы ты остался в этом доме. — Дамиан показал на портфель, словно этот жест должен был все объяснить. — Я буду здесь хозяином, когда умрет Матиас. Сейчас же я должен уехать, и надолго. Возможно, очень надолго, однако я вернусь и хочу, чтобы ты занялся домом до моего возвращения. И ты не станешь обворовывать меня.
— Откуда вы знаете?
— Потому что Рохелия мертва, а главной воровкой здесь была она. Ну и потому, что ты отлично знаешь: станешь воровать у меня, и я убью тебя по приезде. Знаешь ведь, правда?
Роке Луна согласно кивнул, и Дамиан Сентено показал на сад и виноградники:
— Я тебе оставлю деньги, чтобы ты нанял людей и не дал засохнуть саженцам и развалиться дому. Теперь он мой, а у меня, знаешь ли, никогда еще не было дома. Так что присматривай за ним очень хорошо.
Роке Луна медленно огляделся, надолго задерживая взгляд на виноградниках, деревьях инжира, вспаханных полях, запущенном саде и стареющем доме. Казалось, что он определяет объем работ, которые ему предстоит выполнить, и наконец резко кивнул:
— Согласен! Я поставлю все это на ход. То, что умирало при Кинтеро, может вернуться к жизни при Сентено. Земля здесь хорошая, да и дом солидный. Единственное, что здесь нужно, так это твердая рука хозяина.
Они пожали друг другу руки, тем самым скрепляя договор, и для них обоих подобное действие было сильнее, чем любые подписи и печати под любыми документами. Дамиан Сентено встал и не торопясь направился к автомобилю, чтобы спуститься на нем к Арресифе, а оттуда уже отправиться в долгое путешествие в Америку.
Он знал, что этот дом и эти земли уже принадлежат ему, однако знал он и то, что ему придется дорого заплатить за свое богатство.
Море бушевало от ярости, и казалось, что страшные, чернильного цвета волны вот-вот смоют небо. Шторм налетел с востока и играл с «Исла-де-Лобос» будто с газетным листком, подхваченным ветром на углу одной из улиц. Баркас кидался из стороны в сторону, взмывал вверх и тут же падал вниз, забирая носом воду, он стонал от страха, потому что его собственный руль больше ему не принадлежал, а старые, уставшие за свою долгую жизнь шпангоуты расползались в стороны от мощных ударов, образуя щели в обшивке, через которые в трюмы текла вода.
Насосы не справлялись, и у мужчин, выкачивавших воду, уже опухли руки, а у женщин, беспрерывно черпающих воду ведрами, ноги дрожали и подгибались.
Абелай Пердомо вцепился в рулевое колесо и словно превратился в каменную статую, ноги его, казалось, вросли в палубу, а двигались лишь его руки, поворачивающие штурвал то влево то вправо, в зависимости от того, с какой стороны прилетит порыв ветра или встанет волна. Если бы в эту секунду сторонний наблюдатель взглянул на Абелая, то ему бы непременно показалось, что Марадентро вот-вот взлетит над палубой, так и сжимая в руках штурвал, и поплывет, гордо выпрямив спину, по бушующему океану, в то время как его старый баркас, не выдержав очередного удара волны, разобьется на миллионы щепок и сгинет в морской пучине.
Однако, вопреки всем существующим в мире физическим законам, старый баркас продолжал каким-то чудом держаться на плаву, и каждый раз, когда гигантские волны вот-вот должны были накрыть его, он ускользал из их смертельных объятий. Тогда волны, разозлившись, ныряли ему под киль и поднимали чуть ли не до небес, чтобы в тот же миг яростно бросить вниз, в самую бездну, чтобы там уже его подхватила новая волна и снова подбросила к тяжелым и жестким свинцовым тучам.
Пердомо, привязавшие себя веревками к мачтам, отчаянно сражались с океаном, и им достаточно было только взглянуть на родные лица, чтобы сердца их наполнились отвагой и твердой решимостью вырвать победу. Океан же словно задался целью разделить смертельно усталых людей, разметать их по волнам и так справиться с каждым из Марадентро поодиночке.
Абелай Пердомо уже несчетное число раз бросал вызов океану — и каждый раз выходил победителем из схватки со стихией, способной в один миг поглотить целые острова. Он бился с океаном ради своих жены и детей и не мог себе позволить проиграть. Однако и Аурелия всю свою жизнь сражалась с океаном, даже сама порой того не осознавая. С юности она делила с мужем все его радости и все его беды, и сейчас она, как и прежде, стояла за его спиной, не позволяя ему отступить.
И вот сейчас они снова бросали вызов океану, и он, как и раньше, вызов принял. Он налетал на них жестокими порывами ветра, накрывал волной, рычал… Он играл с ними, словно кот, который без устали подбрасывает мышь лапами, не выпуская, однако, когти и не показывая клыки, потому что, сделай он так, и забаве тут же придет конец.
Два дня и одну ночь длился этот неравный бой, после чего море вдруг успокоилось, устав от своей игры, измотав до предела людей и баркас, который теперь тихо покачивался на спокойной, будто бы маслянистой воде, все еще тяжело дыша, словно пес после долгой гонки.
Плыть…
Плыть…
Они плыли всю долгую ночь, плыли они и тогда, когда высоко поднялось утреннее солнце. Они по-прежнему плыли на своем старом баркасе и были живы, что уже представлялось им чудом. Они, как и прежде, могли смотреть друг другу в глаза, устало улыбаться или, протянув руку, прикоснуться к руке другого.
Абелай, как всегда, первым пришел в себя и, осознав, что ноги снова стали ему подчиняться, спустился в трюм, чтобы проверить, насколько серьезные повреждения получил баркас и до какого уровня поднялась в каюте вода. Он с чувством глубокой благодарности погладил доски обшивки, которые уже много лет назад сам выстругивал и фуговал на берегу. Вспомнил он с нежностью и отца, который не признавал полумер и научил его работать на совесть.
Должно быть, немного на свете нашлось бы баркасов, сумевших в столь почтенном возрасте выдержать такое испытание, однако мало на свете было и лодок, строители которых мечтали передать их по наследству своим детям и даже внукам.
Когда Асдрубаль спустился в трюм, где воды было по колено, Абелай едва заметно улыбнулся, показав в то место на корпусе, откуда била струя.
— Смотри, сопротивляется! — воскликнул он. — Зализывает раны, словно побитая палками собака. Но он держится! Держится!
— Был момент, когда я засомневался: выдержит ли?.. Помнишь, когда мы падали с гребня той волны? Он должен был переломиться… Или развалиться на части.
— Любой другой — да. Но не этот. Только не мой баркас.
— Теперь нам придется немало потрудиться, чтобы вернуть ему прежний вид.
Два дня и две ночи они лежали в дрейфе, позволяя слабому течению сносить их к юго-западу. Сейчас они окончательно уверились в том, что Дамиан Сентено потерял их след, и полностью посвятили себя ремонту баркаса и отдыху.
Казалось, они укротили океан, который из бешеного и неистового в одночасье стал добрым и ласковым, волны улеглись, и на его гладкой, словно озеро, поверхности вскоре начали появляться дорадо, которых чем-то неудержимо привлекал «Исла-де-Лобос». Без малейшего страха они десятками подплывали к лодке, и Айза ловко вытаскивала их из воды, отправляя в кастрюлю или развешивая сушиться на леерах.
Дорадо исчезли лишь тогда, когда рядом с лодкой появилась акула: она спокойно описала несколько кругов вокруг баркаса, словно хотела изучить его и убедиться наверняка, что добыча эта слишком крупная и ее не удастся разорвать на части и полакомиться сочным свежим мясом, что — она чувствовала — скрывалось за досками. Но как только хищная тварь лениво скрылась в бескрайней синеве, дорадо появились снова, и было их так много, что Айзе на какой-то краткий миг показалось, будто это ожила сама вода.
— Мне жалко убивать их, — призналась она отцу однажды, когда красавец дорадо весом около четырех килограммов, выпрыгнув из воды, оказался на палубе. — У меня такое впечатление, что они предлагают мне дружбу, а я предаю их доверие. Море кажется таким пустым, когда они уплывают!
— Дорадо — рыба терпящих кораблекрушение, — ласково ответил Абелай Пердомо. — Бог моря, который сотворил всех рыб и водных тварей и повелевает штормами и штилями, приказал им жить посреди океана, чтобы там они могли составить компанию морякам или стать пищей для терпящих бедствие. Многие моряки спаслись, потому что к ним приплыли дорадо и ценой своих жизней спасли их жизни. Каждый раз, когда ты видишь этих рыб, ты понимаешь, что жизнь сильнее смерти. — Он нежно погладил дочь по волосам. — Ни один истинный человек моря не станет ловить дорадо, если в этом нет необходимости. Иначе он навлечет на себя гнев самого бога моря.
— Ты действительно в это веришь?
— Такая вера еще никому не принесла вреда, — ласково заметил Абелай. — Никто еще никогда не воевал за бога моря, он не рождает в людских сердцах ненависти и не заставляет идти за себя в огонь или прыгать в воду. Что плохого в том, чтобы любить дорадо и дельфинов, уважать бога моря и принимать его таким, какой он есть, со всей его яростью и добротой? Что плохого в том, чтобы благодарить сардин или меро, которые позволяют ловить себя, а потом нести домой и готовить ужин из своих тел? Все это мне представляется не более безумным, чем вера в рогатого дьявола, который живет под землей и ждет не дождется, когда ты умрешь, чтобы насадить тебя на вилы и поджарить на сковороде. — Он показал на рыбину, продолжавшую трепыхаться на палубе: — Единственное, что ты сейчас должна сделать, так это прекратить ее агонию. Как только ты вытаскиваешь рыбу на сушу — тут же убивай ее. Когда же ты станешь ее есть, то знай, что ты ешь частицу океана, который тем самым передает тебе свою силу, чтобы ты и дальше могла продолжать с ним бороться. — Он легонько ущипнул ее за щеку. — Море уступает лишь тем, кто не боится вступить с ним в открытую схватку.
Сказав так, он развернулся и вперевалку, как всегда ходят те, кто на корабельной палубе проводит больше времени, чем на суше, пошел на корму. Айза не сомневалась, что ее отец — красавец великан, который в минуты опасности всегда был решителен и непреклонен, однако, оставаясь наедине с семьей, становился добрым и нежным, — свято верил во все истории, рассказанные рыбаками о дельфинах, дорадо и боге моря.
В другой раз их пришли поприветствовать киты, которые на поверку оказались всего лишь ленивыми кашалотами, не обращавшими никакого внимания на «Исла-де-Лобос», так же как не обратили бы они внимания на плавающий деревянный бочонок. Уверенные в своей несокрушимой силе, они неспешно продолжали путь, с шумом выдыхая воздух и изрыгая фонтаны воды.
— Куда они плывут?
— А почему они куда-то должны плыть? Океан принадлежит им, и они гуляют здесь, как им вздумается.
— Они такие большие!.. И так странно встретить их здесь, далеко от берега. Словно они плывут в пустоте, совсем как солнце по небу. Неужели их не пугает бездна внизу?
— Наверное, все это им даже нравится. Это их жизнь, они ее сами выбрали. В противном случае они родились бы крабами или слонами… Или кто-то из них родился бы в семье Пердомо и его назвали Айзой.
— Какой ты глупый!
— Да нет, это ты глупышка, раз задаешь вопросы, которые больше бы пристали людям с материка. Куда плывут киты? Они просто хотят найти место, чтобы испражниться! Они большие, а бумагой, увы, не пользуются, потому-то, чтобы подмыться, им нужно много, очень много воды.
И вот однажды, рано-рано утром, появились дельфины. Это были не те дельфины, которых они встретили в начале пути, ибо те остались у берегов Лансароте. Айза тогда еще подумала, что ни одному дельфину и в голову бы не пришло добровольно покинуть воды ее родного моря.
Они тоже шли на восток, и она прошептала им вслед:
— Если будете проходить проливом Ла-Бокайна, скажите на Плайа-Бланка, что я когда-нибудь вернусь домой и больше уже никуда не уйду.
После этой встречи в душе ее родилась тоска. Все утро она всматривалась в бескрайние просторы океана и задавала себе один и тот же вопрос: действительно ли это тот же океан, который она видела из окна своей комнаты, в котором мыла ноги во время своих долгих прогулок по берегу?
Аурелия скоро поняла, что дочь грустит, подошла к ней и села рядом, в тени тента, натянутого на корме.
— О чем думаешь? — спросила она.
— О доме. — Айза посмотрела на мать. — Сможем ли мы когда-нибудь вернуться?
— Если мы этого действительно захотим, — уверенно ответила Аурелия. — Матиас Кинтеро вечно жить не будет, и в тот день, когда он умрет, нам уже нечего будет бояться.
— Это не так.
И тут Аурелия Пердомо ощутила, как каждый волосок на ее теле встал дыбом, а по спине пробежал озноб. Голос дочери изменился, а она лучше, чем кто-либо, знала, что означает подобная перемена: сейчас кто-то другой — возможно, духи — говорил устами ее Айзы.
Айза тоже понимала, что слова эти на самом деле ей не принадлежали, что родились они где-то в глубине ее тела и кто-то другой вытолкнул их на свет божий.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Не знаю.
— Когда умрет дон Матиас, наши мытарства закончатся… — твердо произнесла Аурелия, хотя это был скорее вопрос, чем утверждение. — Или нет?
— Повторяю тебе, что не знаю.
— Но ведь ты сама возразила мне!
— Да, — согласила Айза. — Знаешь, мне вдруг показалось, что у дона Матиаса вполне хватит сил преследовать нас, даже если тело его уже будет находиться в могиле. Разве его сын меня не преследует?
— Но это не одно и то же, и ты это знаешь, — возразила Аурелия. — Парень находится там, где ему и должно быть, и он никому уже не сможет причинить вреда. Это старик нас преследует. Хочется верить, что когда он уйдет в мир иной, этот проклятый Дамиан Сентено оставит нас в покое.
Айза посмотрела на море, которое походило на тщательно отполированное зеркало, по голубой поверхности которого лишь изредка бежали трещины — это стремительно проносящиеся мимо дорадо поднимались слишком близко к поверхности, — и попыталась отыскать в глубине души причины, которые вынуждали ее возражать матери. Ничего путного ей в голову не приходило, но одно она знала точно: со смертью дона Матиаса их беды еще не закончатся.
— Не обращай на меня внимания! — взмолилась наконец Айза. — Я так нервничаю, что мне самой не верится, что мы в конце концов будем свободны и счастливы, как прежде. Все произошло настолько быстро!
Мать протянула руку и легонько погладила шею дочери так, как той всегда нравилось, а потом улыбнулась, видя, как Айза закрутила головой из стороны в сторону, словно ласкающаяся кошка. Так они долго сидели, прижавшись друг к другу, не произнеся ни слова.
— Прошлой ночью со мной говорил дедушка, — после долгого молчания произнесла Айза, не глядя на мать. — В самый разгар шторма он мне прокричал, что я не должна бояться ни ветра, ни волн, потому что его баркас выдержит любой шторм. Однако потом он крикнул, что бояться мы должны спокойного океана, так как в такие дни он сам не знает, какие несчастья таятся в воде.
— Дедушка Езекиель всегда любил приукрасить.
— Вряд ли после смерти он захочет напрасно пугать нас… — Девушка показала вперед, на бескрайний и чистый горизонт. — Думаю, что он говорил правильные вещи. Знаешь, мне кажется, что море заснуло.
— Твой отец надеется, что вечером снова подует ветер.
Айза Пердомо лишь покачала головой:
— Не подует.
Педро Печальный вошел в таверну Плайа-Бланка, откуда Марадентро вынуждены были бежать, преследуемые по пятам людьми. Поговаривали, что Пердомо, должно быть, уже стали кормом для акул, а их старый баркас, доверху груженный скарбом, покоится на океанском дне.
Пастух лишь прислушивался к разговорам, переходящим от стола к столу, не вмешивался ни в один из них и ни словом, ни жестом не выказывал своего любопытства, хотя тема эта его очень интересовала. Он тихо сидел в уголке, прислонившись спиной к стене, и вид у него при этом был такой отрешенный, словно он никогда и не слыхивал о Пердомо Марадентро, а потому плевать хотел на их судьбу.
Однако он слышал и запоминал каждое слово.
Когда игроки в домино и кости прекратили болтовню и, охваченные азартом, перешли к односложным восклицаниям, он жестом попросил у трактирщика еще стакан рома и медленно, смакуя, выпил его. Все это время он размышлял над одним вопросом, который мучил его все последние дни: не виновен ли он, хотя бы и частично, в том, что Айза Пердомо — та самая Айза, у которой был дон и к которой он успел привязаться, хотя даже словом с ней не перекинулся, — плывет сейчас на утлом суденышке над самым сердцем океана.
«Если бы она позволила убить брата, больше ничего бы не случилось, — сказал он себе. — Старик отомстил бы за сына и успокоился».
Он ни секунды не раскаивался в том, что оставил Дионисио и Мильмуертеса в пещере большой Огненной горы. Более того, он гордился содеянным — впервые в жизни он дал кому-то отпор, а ведь тот выродок ему еще и угрожал. Однако сейчас, вслушиваясь в крики игроков, он вдруг подумал, что тот его поступок может самым неожиданным образом обернуться против него самого.
— Старый Кинтеро, похоже, серьезно решил с ними разделаться. Он достанет их даже в том случае, если они спрячутся под землей, — заявил один из игроков. — Роке Луна говорит, что он умирает от ненависти, которая выедает его внутренности.
Педро Печальный едва помнил дона Матиаса Кинтеро, хотя и видел несколько раз, как тот проезжал по пыльной дороге, пролегавшей между Тинахо и Мосагой, на огромном «бьюике» вишневого цвета, таком красивом, какого он больше в жизни своей не видел. Его взгляд неизменно приковывали к себе сверкающие хромированные детали автомобиля, а белый брезентовый верх, летом всегда откинутый, нравился намного больше, чем усатый человек в темных очках, прямо сидящий за рулем.
Дон Матиас Кинтеро принадлежал к семье, хорошо в этих краях известной. Он владел домами, землями и виноградниками и получил образование на Полуострове[17], в том далеком и полном загадок месте, о котором Педро Печальный не имел ни малейшего представления, ибо единственное, что ему удалось выяснить, так это то, что там находилось правительство и одно время шла кровопролитная Гражданская война, а еще то, что оттуда на остров иногда приходило добро, но зло оттуда приходило намного чаще.
Дионисио и Мильмуертес родом были с Полуострова, точно так же, как и тот, другой, со страшной татуировкой на плече и со шрамом на груди. В течение всех этих лет, что Педро ходил в таверну и, устроившись в уголке, молча слушал разговоры завсегдатаев, он ни разу так и не услышал что-либо хорошее о чужаках и не знал ни одного из них, кто бы сотворил хоть какое-то добро для Лансароте и его жителей.
Ему лично, правда, чужаки не сделали ничего плохого. Он их вообще представлял очень смутно до того момента, пока двое из них не пришли и не потребовали отыскать Асдрубаля Марадентро. Выражались они всегда туманно и нравом своим мало чем отличались от других чужаков, чья кожа была белой, а волосы по цвету напоминали выжженную солнцем траву. Люди эти, появляющиеся на острове внезапно и так же внезапно исчезающие, одевались всегда неряшливо, а из речи их нельзя было понять ни слова.
Так и дон Матиас Кинтеро был для него чужаком, с которым он и не чаял когда-либо завязать знакомство. И вот теперь этот человек грозил уничтожить то единственно великое, что Педро совершил в своей жалкой жизни.
Поначалу он ничего не хотел предпринимать, однако в воскресенье все же встал пораньше, подоил коз и, заперев загон, свистнул собак. Затем, обвешавшись ловушками и силками, он зашагал по тропинке, извивающейся на толстом боку вулкана Тимафайа.
Шел он быстро, и шаги его были настолько широкими, что, пожалуй, поспеть за ним могли лишь его верные псы. Он пересек обрабатываемые поля, взобрался по склону и вышел в долину, иссеченную лавовыми оврагами, и, прежде чем солнце поднялось к зениту, проник в пещеру-лабиринт, подсвечивая себе маленькой карбидной лампой.
Собаки вскоре забеспокоились и начали рычать, когда же Педро миновал вторую галерею и вышел в высокую залу, до потолка которой свет от лампы так и не смог добраться, он тоже почувствовал вонь от разлагающегося трупа.
Галисиец сидел в углу с разнесенным тяжелой пулей черепом, оставившей царапину на лаве над его головой. Револьвер по-прежнему был зажат в его руке.
Педро взял револьвер и продолжил поиски, однако трупа Мильмуертеса нигде не нашел, ибо собаки потеряли его след у края широкого колодца, который, как уже давно понял Педро, ведет прямиком в ад.
Он пошарил вокруг себя в поисках камня, однако, не найдя его, вытащил из барабана револьвера пулю и бросил ее в черноту колодца.
Как ни напрягал он слух, так и не услышал звука ее падения и в конце концов пришел к заключению, что этому сучьему сыну Мильмуертесу страшно не повезло, ибо свалился он, должно быть, прямехонько на вилы самого дьявола.
Педро вышел из пещеры, отошел метров на двадцать, присел на теплый камень и медленно, с наслаждением достал свой гофио.
Сперва он дал поесть собакам, а затем поел сам. И пока ел, он смотрел на вход, ведущий в пещеру, о которой никому, кроме него, не было ведомо, и спрашивал самого себя: «Может ли так статься, что однажды кто-то набредет на вход, войдет внутрь и найдет в одном из залов человека с пулей в черепе? И станет ли ему интересно, где же оружие, откуда эта пуля была выпущена?»
Могут пройти столетия, прежде чем какой-нибудь охотник настолько потеряет голову от азарта, что решится пройти по морю застывшей лавы, и собаки его проведут своего хозяина по запутанным подземельям и выведут прямиком к скелету бедолаги галисийца.
Педро подумал о галисийце, о Мильмуертесе и обо всем, что произошло за последние дни, и испытал чувство, очень похожее на удовлетворение, ибо он наконец-то четко осознавал, что ради событий последних дней стоило прожить жизнь. Теперь у него была тайна, и он, когда в очередной раз придет в таверну и тихонько сядет в своем углу, станет иначе смотреть на хорохорящихся друг перед другом мужчин.
Наверное, и они бы взглянули на него иначе, если бы только узнали, что жалкий любитель коз, единственная радость которого — напиться допьяна в одиночку, оказался способным избавиться от двух отъявленных головорезов и спокойно лицом к лицу встретиться с третьим. Однако рассказывать об этом Педро никому не собирался, так как ему казалось, что к тайне его никто не должен прикасаться, иначе она потеряет добрую половину своей прелести.
Если бы он рассказал кому-то о произошедшем, то опустился бы до уровня невежественных крестьян, всегда готовых почесать языком по делу и без.
А ведь он не был обычным человеком, ведь он знал о сердце Земли, чье биение слышалось у Тимафайа, кратер которого напоминал ему открытую рану. Только он один во всем мире, лежа на лавовой плите на самой вершине вулкана, мог часами говорить со Вселенной. Только он понимал, что Айза Пердомо наделена волшебным даром, всю силу которого сама до сих пор не могла осознать. А теперь он единственный из всего поселка сумел дать отпор чужакам, убив двоих из них.
Возможно, кто-то бы задумался над тем, что же именно подтолкнуло тихого и в общем-то безобидного пастуха из Тинахо к подобному поступку. Всегда ли в нем жил дух убийцы или в тот момент он впал в экстаз и наконец-то нашел в себе силы разорвать тонкую нить своей монотонной жизни, когда он не знал большего счастья, чем в одиночестве бродить по острым камням, погоняя коз? Теперь же события того дня были навечно записаны, словно огнем выжжены, в его памяти. Он с удовольствием вспоминал каждую деталь случившегося и повторил бы все в точности, если бы представилась ему такая возможность.
Посему в тот самый вечер, когда он услышал, что дон Матиас Кинтеро не успокоится до тех пор, пока не покончит со всеми Пердомо Марадентро, Педро решил устроить все так, чтобы старик никогда не смог исполнить своей угрозы. От одной лишь мысли, что он лишит жизни этого богатого, всегда носившего белые костюмы человека, который, сидя за рулем своего вишневого «бьюика», так часто жал на клаксон, что пугались козы, Педро охватывало радостное волнение. А потом он снова придет в таверну в Тинахо, сядет в своем углу и будет с притворно безразличным видом наблюдать за ни о чем не догадывающимися посетителями.
Завершив тем временем свой более чем скромный завтрак, он положил в торбу тяжелый револьвер, ласково погладив по голове одного из псов, встал и снова отправился в путь, однако на этот раз он свернул на крутые и обрывистые тропы, ведущие к Мосаге.
Он прекрасно чувствовал время, и, когда солнце клонилось к закату, за его спиной уже вырос величественный дом, венчавший вершину холма, у подножия которого уже совсем стемнело. Педро удостоверился, что никто не заметил его появления.
Он хладнокровно ждал, когда окончательно стемнеет, время от времени бросая взгляды на дом, в окнах которого горел слабый, едва различимый свет. Собак своих он оставил на обочине, зная, что стоит кому-то лишь ступить на дорогу, как они громким лаем возвестят его о появлении нежеланного свидетеля.
Наконец он двинулся вперед и, пройдя между каменных заборчиков, защищавших виноградные лозы, пересек сад и затаился в тени смоковницы в десяти метрах от крыльца.
Дверь, ведущая в дом, была полуоткрыта. Вокруг, насколько хватало глаз, никого не было видно. Роке Луна, которого Педро прекрасно знал, тоже нигде не появлялся, однако он все так же неподвижно продолжал стоять в густой тени дерева, прислушиваясь к малейшему шороху, который мог бы донестись из дома.
Наконец четырьмя размашистыми шагами он пересек двор и вошел в дом. Остановившись в большой гостиной, он снова прислушался, однако услышал лишь стук своего сердца. Подождав, пока глаза не привыкнут к темноте, он открыл тяжелую, жалобно скрипнувшую створку двери и направился к широкой и высокой лестнице, со стесанными, немного кривыми ступенями.
Он остановился перед длинным коридором, свет в который попадал лишь из небольшого окна в самом его конце, и стал внимательно вглядываться в ряд закрытых дверей, гадая, за какой из них спит старик.
Наконец он заметил слабый лучик света, пробивавшийся в щель одной из дверей.
Желтый, слабый свет прикрытой салфеткой лампы был не в силах разогнать темноту, клубами вившуюся в углах мрачной, заставленной массивной мебелью комнаты, посреди которой на кровати, слишком большой для такого худого тела, лежал дон Матиас Кинтеро, напоминавший теперь узника концентрационного лагеря, что были открыты по всей стране во время последней войны.
От некогда всемогущего касика[18] Мосаги теперь остались лишь глаза, почти уже выкатившиеся из орбит, отчего он напоминал одновременно и шута, и покойника. Впечатленный увиденным, Педро Печальный тихо стоял в дверном проеме. Конечно же он не раз слышал разговоры в таверне Тинахо, где подвыпившие завсегдатаи спорили, когда наконец дон Матиас отойдет в мир иной, однако Педро и представить себе не мог, в каком плачевном состоянии находится его жертва.
Он медленно приблизился к ложу, пока не уперся животом в изножье кровати, и посмотрел на человека, который в свою очередь внимательно его разглядывал, за все это время так ни разу и не пошевелившись и не выказав ни малейшего удивления.
Так они довольно долго смотрели друг на друга, пока едва различимым хриплым голосом дон Матиас не произнес:
— Кто ты?
— Педро Печальный.
— Любитель коз? — Однако, не получив ответа, которого, впрочем, и не ждал, дон Матиас Кинтеро вскоре добавил: — Зачем пришел?
— Убить тебя…
Было видно, что подобное заявление не застало дона Матиаса врасплох. Медленная смерть от истощения или от рук голодранца пастуха — не все ли равно?
Педро на миг показалось, что Кинтеро задумался, однако тот вдруг произнес как ни в чем не бывало:
— За что?
На это у Педро Печального ответа не нашлось. Он развернулся, держась за один из столбиков кровати, а потом присел с той стороны, где лежал дон Матиас.
— Я убил двоих твоих людей, — сказал он, словно этот ответ ему казался наиболее логичным. — А Айза мой друг… — И он тут же расстроился, потому что сказал то, чего не было на самом деле. — Нет, не мой друг, — добавил он. — Однако у нее есть дон… У моей матери тоже был дон.
— У твоей матери дона не было, — ответил дон Матиас, мало-помалу приходя в себя и обретая способность ясно выражаться. — Твоя мать была всего лишь жалкой сводницей, которая бегала за моим кузеном Томасом, словно сука во время течки. — И в подтверждение сказанного он несколько раз тряхнул головой. — Я хорошо помню, как Руфа по вечерам крутилась в виноградниках, ожидая, когда Томасу захочется вскочить на нее. Ведь ее звали Руфа, не так ли?
— Никогда этого не знал…
— Никогда не знал? — удивился старик, едва повернув голову, чтобы посмотреть на собеседника. — Нет! Уверен, что знал. Однако предпочел забыть со временем. Она была Руфа, я в этом уверен. Руфа, потаскуха из Тинахо. Выдавала себя за знахарку, но на самом деле была всего лишь потаскухой, сходившей с ума от «петушка» Томаса. Впрочем, говорили, что у него самый большой член на всем Архипелаге, так что ее можно было понять. — Он попытался усмехнуться, но тут же затрясся в приступе кашля. — Действительно, у Томаса даже Рохелия не могла взять в рот, — наконец, откашлявшись, выдавил он. — Твоя мать была от него без ума, а ее крики слышали даже в Масдаче. — Он покачал головой, как будто сам не верил тому, что говорил. — Кто знает, возможно, мы с тобой родственники. Если у тебя огромный член, то ты, без сомнения, сын Томаса. Всем своим сыновьям он передал по наследству свое мужское достоинство, хотя особой радости им это не принесло, так как все они погибли на войне.
— Это вы сын потаскухи!
— Что, и я тоже? — усмехнувшись, спросил дон Матиас. — Слишком много для одной комнаты, тебе не кажется? — Тут вдруг тон его изменился, и голос снова зазвучал безжизненно. — Хорошо! — прошептал он. — Ты пришел меня убить. Сын моего племянника Томаса пришел меня убить. Чего же ты ждешь?
— Я не спешу.
— А ты думаешь, я спешу? — Старик закрыл глаза, словно он остался в комнате один, а нежданный гость был всего лишь бесплотным призраком. — Да… Я, кажется, тороплюсь. Хочу, чтобы все кончилось сразу и я поскорее бы встретился со своей семьей. Некоторые ждут меня так давно, что я уже даже и не знаю, вспомнят ли они меня. Бенжамин, например. Он утонул, когда мне еще и пятнадцати лет не было. Как меня может вспомнить Бенжамин? И как может вспомнить меня она? Ведь последний раз она видела меня молодым и полным сил… — Он снова закашлялся, чуть не захлебнувшись мокротой. — Какое, должно быть, испытывают разочарование умершие, когда видят нас, живых, постаревшими, потерявшими былые радость и красоту? Как же предусмотрительно поступают те, кто умирают молодыми! Если бы у меня было чуть больше ума, сейчас я был бы избавлен от горя и страданий…
Педро Печальный протянул руку и впился пальцами в горло старика, но дон Матиас даже не шелохнулся, ничем не выдав страха перед неминуемым концом. Педро медленно, очень медленно, начал сжимать пальцы, не встречая никакого сопротивления. С полуоткрытых губ умирающего не сорвалось даже стона. Слова же превратились в едва слышное, неразборчивое бормотание.
Он не открыл глаз, у него не дрогнул ни один мускул. Он дважды, сам того не сознавая, попытался вдохнуть, а потом вдруг ослаб и затих, пока смерть, которая столько времени составляла ему компанию в этой мрачной, пропахшей кислым запахом пота и горя комнате, не завладела окончательно его измученным телом и жалкой, истерзанной душой.
Море спало, спал и ветер. Спало небо, не потревоженное ни единым облачком. Казалось, что весь мир спит или умер и бодрствовало лишь одно злое солнце, заполнившее собой все небо.
Паруса на мачтах печально обвисли и не отбрасывали больше даже крошечной тени, а расшатанный корпус старого баркаса, казалось, вот-вот раскроется и лопнет, как перезревший гранатовый плод или брошенный в огонь каштан.
Десять дней прошло с тех пор, как утих шторм, и только едва заметное течение сносило баркас на запад.
— Нас прихватил мертвый штиль, — признал Абелай Пердомо. — Взял нас в плен, и только один Господь Бог знает, когда решит нас отпустить.
— Это была моя вина, — произнес Себастьян.
— В этом никто не виноват, сын, — возразил Абелай. — Мы знали, что рискуем, и по крайней мере мы сейчас живы. Рано или поздно ветер подует вновь.
— А если нет?
— Верь, он подует. Ты вычислил, где мы можем сейчас находиться?
Себастьян открыл старый школьный атлас своей матери и показал на точку, отмеченную красным крестиком:
— Мой хронометр неточен, однако я почти уверен, что мы находимся здесь: примерно в пятидесяти милях к северо-востоку от Антигуа и Гваделупы.
— Пятьдесят миль! — воскликнул Абелай Пердомо, и плечи его от отчаяния опустились. — Боже милостивый!
— Если в ближайшее время снова не подует ветер, то мы никогда уже не доберемся…
Асдрубаль вышел из носового трюма, присел на борт рядом с братом и, ни на кого не глядя, заметил:
— Нужно будет поднять доски палубы и ими укрепить корпус, или мы рискуем пойти на дно в любой момент.
— Если мы это сделаем, то первый же шквал или порыв ветра — и трюмы затопит.
— Первый же шквал — и мы камнем пойдем на дно, снимем мы доски или нет, — заметил юноша. — Этот баркас уже отдал нам все, что у него было, и теперь он больше похож на картонную, чем деревянную, лодку.
— Мне твоя идея не по душе, — высказался отец. — Выглядит это все как-то глупо.
— Еще более глупо выглядит баркас без корпуса, — ответил Асдрубаль. — И если мы немедленно не примем мер, несчастье может произойти в любой момент. При таком спокойном море мы можем спуститься за борт и работать снаружи. Раскроив и отрихтовав жестяные банки и бидоны, мы укрепим борта, если только обшивка выдержит гвозди.
— Стоит попытаться.
Попытались, хотя у Абелая Пердомо и болела душа при взгляде на баркас, превращающийся из гордой и прекрасной лодки в жалкую, залатанную со всех сторон посудину, борта которой украшали бесконечные жестяные заплатки, на которых все еще можно было различить названия торговых марок.
Они кое-как натянули навес, сшитый из кусков потрепанного брезента. Иногда на него набрасывали только что выстиранную одежду, которая быстро просыхала на солнце. Впрочем, жара стояла страшная, к тому же они все время работали, вычерпывая воду или ставя заплатки, поэтому из одежды надевали самый минимум. Так «Исла-де-Лобос» уже через несколько дней превратился в нечто странное, и нечто это не тонуло лишь потому, что море было спокойно и ласково.
— Теперь мы действительно похожи на цыган, — согласилась Аурелия, вспомнив слова сына. — Хотя у цыган есть хотя бы земля, по которой они могут ходить, не опасаясь каждую секунду провалиться в бездну. Мы же лишены даже этого.
Теперь они спали все вместе, тесно прижавшись друг к другу, на кормовой палубе. Часть досок они сняли, чтобы укрепить борта, и ходить теперь приходилось, балансируя на перекладинах, некоторые из которых прогнили настолько, что в любой момент грозили разломиться пополам.
«Исла-де-Лобос» умирал.
Сцепившись с бурей, баркас выиграл свою последнюю битву, и, хотя ему удалось выйти из сражения с честью, море уже не отпускало его. Теперь его тело напоминало размокшую буханку хлеба, которая могла расползтись в стороны в любую секунду.
Порой казалось, что акулы, которые в эти спокойные дни постоянно нарезали круги вокруг баркаса, могут пробить доски лишь одним ударом головы и из этой пробоины навсегда утечет жизнь, что еще каким-то чудом теплилась в сердце старой лодки.
Перемены, произошедшие за последние дни с баркасом, который Абелай Пердомо так любил, подорвали его боевой дух, и он даже начал сомневаться в успехе затеянного предприятия. Океан словно решил отыграться за все свои предыдущие неудачи, и теперь, что бы Марадентро ни делали, он посылал им все новые и новые испытания.
Марадентро были рождены для борьбы с водой и ветрами, которые то становились их союзниками, то превращались в злейших врагов. С тех пор как Абелай себя помнил, он боролся с ветром, бросаясь на него со всей своей яростной силой, которой так щедро одарила его природа, и ветер всегда сдавался, наполнял паруса его лодки и нес ее к банкам с тунцами и сардинами.
Жизнь теплилась на Лансароте во многом благодаря пассатам, без которых остров превратился бы лишь в причудливое нагромождение скал. Но потом налетал сирокко, накрывал остров плотной пеленой песчаной пыли, приносимой им из пустыни, и остров превращался в самый настоящий ад. Ветер бушевал и утихал, менял свою силу и крутился так, как ему вздумается, он мог принести зло, но мог подарить и радость, однако сейчас, в самом центре океана, паруса баркаса обвисли, чем-то напоминая похоронные венки из искусственных цветов.
Старик баркас к такому не привык: его паруса всегда трепетали, что-то ему нашептывали, стонали, откликались на порывы ветра, сейчас же они хранили молчание, словно страшная тишина, воцарившаяся, казалось, во всем мире, навсегда заглушила их голоса.
Абелай любил океан, любил так же сильно, как и своего отца, который в его сознании навсегда был связан с переменчивым и прекрасным морем: в один миг Езекиель пылал от гнева, а в следующий его душу уже переполняла любовь, он был то эгоистичным, то великодушным, то жестоким и грубым, то добрым и веселым. Однако сейчас океан, застывший, превратившийся в массу синей, вязкой, равнодушной воды, больше не напоминал ему отца, и в душе его уже не рождалась любовь, смешанная с уважением.
Море Пердомо было переменчивым. У континентального шельфа оно менялось несколько раз в течение года, и весной поверхностные течения, которые порядком остывали за зиму, становились более плотными и начинали медленно погружаться, вытесняя на поверхность воду со дна, хорошо к тому времени прогретую.
Большое количество минеральных солей, медленно накапливавшихся под действием разлившихся рек, в свою очередь поднималось на поверхность, чтобы стать пищей для водорослей, которые с приходом теплых вод просыпались от долгого зимнего сна и с неистовством начинали размножаться. И этот взрыв жизни порождал в итоге картину невиданной красоты: тысячи и тысячи миль морской поверхности окрашивались чуть ли не во все цвета радуги, и все из-за смешавшихся друг с другом микроскопических пигментных частичек, содержащихся в этих самых водорослях.
И не было, пожалуй, на этом свете ни одной рыбы или морской твари, которую бы не привлекли богатые водорослями и планктоном воды. Океан здесь всегда напоминал огромный бурлящий котел, где одни создания поедали водоросли и мелких рачков для того лишь, чтобы самим потом стать пищей хищников — сам Создатель в незапамятные времена вдохнул жизнь в воды Мирового океана и повелел, чтобы жизнь в нем кипела до самого окончания времен.
В середине лета рыба возвращается на глубину, чтобы осенью серые, с металлическим отливом волны вспыхнули фосфоресцирующим светом, словно рождались они не на Земле, а на какой-то иной, далекой от нашей планете.
К зиме в водах уже почти совсем не остается водорослей, и большие косяки рыб уходят на глубину, туда, где еще сохраняется тепло. Там некоторые из них впадают в спячку, совсем как некоторые животные. Тогда океан становится серым и холодным, и кажется, будто он умер, но впечатление это обманчиво. Если зимой стряхнуть с ветки снег, то, приглядевшись, можно заметить на ней почки, готовые набухнуть и раскрыться с первыми лучами весеннего солнца. Также и в зимнем океане дремлет жизнь, отдыхая перед очередным весенним, радостным буйством.
Однако люди, плывущие над сердцем океана, которое бьется у самого центра Земли на глубине в тысячи метров, были не в силах заметить изменений, происходивших с океаном. Они ускользали даже от глаз таких опытных моряков, как Марадентро. Вода, бездушная и бесчувственная, казалась им во время штиля всего лишь водой, на которой иногда плавали обломки и какие-то вещи и по которой ходили корабли. Жуткое, всепоглощающее ее спокойствие нарушали время от времени лишь голодные акулы или ленивые киты, стремительные дельфины или золотистые дорадо, созданные Богом моря специально для тех, кто терпит кораблекрушение.
А посему неудивительно, что маленькая команда «Исла-де-Лобос» уже поддалась страху и тоске, а ее решительность и вера в успех таяли с катастрофической скоростью.
Абелай Пердомо наконец-то понял, почему Сантос Давила, узнав, что чахотка навсегда прикует его к берегу, отвел свой баркас в одну из укромных бухт, где никто бы его не увидел, и, сделав в борту огромную пробоину, затопил лодку, чтобы больше никто и никогда ее не потревожил.
— Зачем?
— Затем, что твой верный друг, который выручал тебя изо дня в день на протяжении долгих лет, заслуживает достойной смерти, — ответил Сантос Давила. — Однажды чахотка сведет меня в могилу, но я отправлюсь в мир иной намного раньше положенного мне срока, если узнаю, что какой-то сукин сын по щепкам растащит мой баркас, словно обгладывающий труп стервятник.
Сантос Давила так и не умер от чахотки, и когда четыре года спустя возвратился из санатория, то нанял водолаза, который работал на причале Арресифе, чтобы тот помог ему спуститься под воду и навестить баркас.
— Он ласкал его так, как ласкают любимую женщину, — рассказал позже впечатленный увиденным водолаз. — Он дрожал, как ребенок, снова и снова прикасаясь к штурвалу и мачте. И хотя он отрицал, я-то видел, что он плачет… — Водолаз надолго замолчал, прекрасно, однако, понимая, с каким нетерпением завсегдатаи таверны ждут продолжения рассказа. — Баркас казался целым. Он был точно таким же, как в тот день, когда затонул. Создавалось впечатление, будто он ждал возвращения своего хозяина… Знаете, на какой-то миг мне показалось, что сейчас из глубины поднимется сам Бог моря и вернет лодку к жизни. И снова Сантос Давила будет выходить на ней в море…
Спустя три месяца Сантос Давила неожиданно умер. То, что не удалось сделать туберкулезу, сделала тоска, и кому-то пришла в голову мысль похоронить его в его же собственном баркасе. Однако кюре решительно воспротивился этой идее, а водолаз отказался указывать место, где и по сей день покоится лодка, ибо эта тайна принадлежала лишь усопшему, и никому более.
«Исла-де-Лобос», как никакая другая лодка на этом свете, заслуживал подобного конца, чтобы не стать посмешищем уснувшего океана, который, казалось, презрительно насмехался над баркасом, не желая послать ему навстречу даже самую маленькую и безобидную волну или дохнуть ветром ему в борт.
— Меня мало что пугает в этой жизни. Но при мысли о том, что мы пойдем на дно без борьбы, мое сердце сжимается от ужаса, — признался как-то ночью Асдрубаль, выразив тем самым общее отношение к происходящему. — Я человек моря, а не макаронина в супе.
А океан теперь действительно был похож на мутный и теплый суп, в котором отражалась огромная луна с такой четкостью, будто на самом деле она рождалась в его глубинах, а не в необозримом черном пространстве, усыпанном звездами.
Ночью маленькая команда баркаса собиралась у штурвала, ибо ночью спадала изматывающая жара и не видно было унылого, сводящего с ума своей однообразностью горизонта, при взгляде на который они чувствовали себя такими же ничтожными, как пена, образующаяся на волнах и потом исчезающая в никуда.
— Дедушка говорил со мной, — произнесла Айза, чье лицо было неразличимо в тени бортового навеса. — Баркасу штиль не нравится. Его всегда пугали штили.
— Баркас боится штиля, мы боимся ветра… — печально произнес Себастьян. — Достаточно одного дуновения ветерка, чтобы баркас камнем пошел на дно. Настало время бояться всего на свете.
— А я все еще надеюсь…
Аурелия единственная, пожалуй, сохраняла присутствие духа, в то время как ее мужа и детей — прекрасных моряков, вся жизнь которых была связана с морем и баркасом, — постепенно охватывало отчаяние. Казалось, что чем печальнее они становятся, тем сильнее готова сопротивляться Аурелия. Настроение у нее день ото дня делалось лучше, она постоянно болтала о всяких глупостях и отпускала шуточки, а потом вдруг начинала петь своим нежным и глубоким голосом.
— У нас достаточно еды, ведь дорадо следует за нашей лодкой по пятам. А воды, если ее расходовать разумно, хватит еще дней на пятнадцать, — сказала она как-то, заметив, что родные бросают на нее недоуменные взгляды. — Возможно, мы и надорвем спины, откачивая воду из трюмов, однако течение неумолимо нас толкает в сторону Америки, которая с каждой минутой делается все ближе и ближе. Когда-нибудь да доберемся!
Было бы жестоко объяснять ей, что этому течению понадобятся недели на то, чтобы дотянуть «Исла-де-Лобос» до американского побережья, и было бы глупо верить в то, что за все это время океан так ни разу и не проснется и одним-единственным ударом не покончит с изрядно уже ему надоевшей старой лодкой.
— Есть люди, которым удавалось продержаться на простом плоту, — не унималась Аурелия. — А наш баркас — это не какой-то там жалкий плот, а самая лучшая лодка на свете.
— Но мама!..
Она посмотрела на Себастьяна, который не выдержал первым.
— Твои возражения ничего здесь не стоят! — резко ответила мать. — Сократим рацион и начнем думать над тем, как построить плот, потому что, можешь быть уверен, я не стану сложа руки наблюдать за тем, как тонет этот баркас!
— Идет какой-то человек…
Все четверо повернули головы в сторону Айзы, которая все это время с отсутствующим выражением лица смотрела на отражение луны.
— Идет человек, а за ним следуют две собаки, — повторила девушка. — Он идет и высоко задирает ноги, совсем как цапля. Он хочет что-то сказать, но никак не может дойти…
Она показала на воду перед собой, однако ни ее родители, ни ее братья так ничего и не увидели, кроме бескрайнего притихшего океана.
— Кто он? — спросил Абелай Пердомо, которого уже давно не удивляли странные выходки собственной дочери. — Ты его знаешь?
— Мне не удается рассмотреть его лицо. Он пытается подобраться к нам поближе, но с каждым шагом оказывается все дальше и дальше. Сейчас он кричит.
— О чем?
— Что-то о доне Матиасе Кинтеро, однако мне не удается разобрать. — Она на мгновение замолчала. — А теперь он ушел. Он понял, что никогда не сможет догнать нас, и возвратился на Лансароте. — Она снова сделала паузу, а затем добавила так, будто сама была удивлена произошедшим: — Он не был мертвым и умрет еще не скоро, очень не скоро. Со мной впервые говорит живой…
— Мы сходим с ума! — воскликнул вдруг Себастьян. — Мы все сошли с ума! Сидим на корме тонущего баркаса, как куры на насесте, и обращаем внимание на видения. — Он глубоко вздохнул. — Если нам и удастся добраться до Америки, я не удивлюсь, что нас отправят назад. Там психи не нужны… — Потом он, устыдившись своей вспышки, протянул руку и нежно сжал плечо сестры: — Извини! Я знаю, что ты не виновата, однако подобные вещи меня выводят из себя. Ты и вправду видела человека, который шел в нашу сторону?
— Так же ясно, как вижу тебя. Это был человек высокого роста, худой, длинноногий. За ним по пятам следовали две собаки.
— Педро Печальный! — воскликнул Асдрубаль.
— Какое отношение ко всему этому имеет Педро Печальный? — задал вопрос Абелай.
— Не знаю, — пожал плечами Асдрубаль. — Однако описание совпадает. Когда я прятался на Тимафайа, то издалека видел его в сопровождении двоих человек. Вначале мне показалось, что они ищут меня, но потом они куда-то исчезли.
— Если бы Педро Печальный хотел тебя найти, он бы это сделал, — возразил Абелай Пердомо. — Не думаю, что он искал тебя, и полагаю, что Айза видела кого-то другого.
— Тогда кто же это был? — спросила Аурелия.
— Кто бы это ни был, он уже далеко. Не стоит ломать над этим голову. Ну шел и ушел, пусть его. Чем меньше мы будем вспоминать о нем, тем спокойнее мы будем. У нас и так достаточно проблем, и нам тут не нужны никакие незнакомцы, да еще и с собаками.
Дамиан Сентено и Хусто Гаррига решили тряхнуть стариной — во время службы в Легионе они частенько веселились с проститутками — и провести последнюю ночь в доме венгерки «Касса-де-ла-Унгара», что на улице Мирафлорес.
На следующее утро Сентено первым поднялся на палубу «Монтсеррат», следовавшего в Ла-Гуайру, а двумя днями позже то же самое проделал и Хусто Гаррига на «Вилья-де-Мадрид», шедшей курсом на Кадис, а потом следовавшей до Сеуты и Тетуана. Гаррига уже давно соскучился по Марокко, где провел большую часть своей жизни.
Пути старых товарищей на этот раз разошлись. Гаррига не собирался остаток жизни провести в дороге, преследуя неуловимых Марадентро, к тому же ему претила сама мысль об убийстве девушки, чья единственная вина была в том, что она слишком рано повзрослела и похорошела.
Дамиан Сентено тоже не жаждал компании, так как давно уже пришел к выводу, что работа, некогда казавшаяся самым простым делом на свете, постепенно превратилась в личные счеты между ним и семейством Пердомо, которое он собирался преследовать даже в аду.
Потерпеть столь сокрушительное поражение в его возрасте, да еще и от семейства неотесанных рыбаков, значило для бывшего сержанта потерять веру в самого себя и упустить шанс — а жизнь его, надо сказать, не баловала — стать кем-то большим, чем наемным убийцей, который закончит свои дни либо сутенером в публичном доме, либо жалким нищим, просящим подаяния у церкви, либо и вовсе будет валяться под забором с перерезанным горлом.
И сейчас Сентено был полон отчаянной решимости во что бы то ни стало добраться до Америки, найти там Пердомо и убить их. Сделать он это собирался один, ибо чувствовал, что напарник в этом деле станет всего лишь досадной помехой. Ему требовалось одиночество, чтобы спокойно проанализировать сложившуюся ситуацию и принять решение, не слушая пустой болтовни и никчемных указаний. Ему нужно было спокойствие, которого может достичь только охотник-одиночка, изо дня в день выслеживающий дичь, ибо охота уже не увлекала Сентено и он стремился как можно скорее покончить с делом, покончить с ним раз и навсегда.
Деньги Матиаса Кинтеро были в полном его распоряжении. Во время своей последней встречи со стариком он понял, что тот уже отчаялся дождаться того благословенного дня, когда его месть свершится. Также Сентено осознавал, что в тот день, когда он вернется на Лансароте, дона Матиаса уже не будет в живых, а потому ему не перед кем будет отчитываться в своих тратах.
Только в одном Сентено был твердо уверен: никогда он не предаст доверия своего старого капитана и не покинет Америку до тех пор, пока дети Абелая Пердомо не упокоятся навеки. За свою уже не столь короткую жизнь он успел привыкнуть выполнять приказы, порой абсолютно бессмысленные. Сейчас же желание дона Матиаса покончить с убийцей сына казалось ему более чем справедливым, а потому последний этот приказ он выполнял даже с удовольствием.
— А если ты его никогда не найдешь? — задал ему вопрос Хусто Гаррига во время ужина. — Останешься навсегда в Америке?
— Пока не знаю, — признался Сентено. — Но можешь быть уверен, если я приду к выводу, что никогда не найду их, то откажусь от всего и вернусь к прежней жизни. — Он обреченно развел руками и улыбнулся: — Уговор есть уговор, а ты, как никто другой, знаешь, что я всегда держу свое слово.
— Представь, что все они погибли! — не отставал Хусто Гаррига. — Представь, что это старое корыто не выдержало плавания и вся семейка уже давным-давно пошла на корм рыбам. Как ты сможешь их найти? Скитайся ты хоть сто лет, вряд ли на пути тебе встретятся пять призраков. Об этом ты не подумал?
Дамиан Сентено не торопясь прожевал, согласно кивнул, медленно отпил вина и ответил:
— Да. Я об этом подумал. И все как следует взвесил. Если по прошествии десяти лет я не получу ни единого твердого доказательства того, что они находятся в Америке, я сделаю заключение, что они все же утонули, и вступлю в наследство.
— Десять лет! — удивился Хусто Гаррига. — Ты станешь ждать десять лет для того, чтобы забрать то, что уже принадлежит тебе? Ты, случаем, с ума не сошел?
— С ума я не сошел, Хусто, — тихо ответил Сентено. — Просто таким я родился на свет. Я всегда был человеком слова, и капитан Кинтеро это очень хорошо знал, потому-то он и доверился мне при жизни и станет верить мне после смерти. Другие считают меня конченым мерзавцем, но и у меня есть понятия о чести и долге, может, не такие, как у большинства, но есть. — Он снова отпил вина и осторожно поставил перед собой рюмку, словно речь шла о самой драгоценной вещи в его жизни. — Старик скоро умрет. Сколько ему осталось — пятнадцать, двадцать дней? А может, чуть больше — не важно. Мне нужно было бы лишь выждать, а потом возвратиться в Лансароте и зажить припеваючи в его доме и на его деньги. Однако я не сделаю так, потому что для меня такой поступок будет равнозначен воровству, а ты знаешь, как я отношусь к ворам.
— Да, знаю. Однако не понимаю, как ты сможешь, убив невинных людей, потом спокойно жить в этом доме и гулять по этим проклятым виноградникам. Убей Асдрубаля, но не трогай девчонку. Она тут ни при чем!
— Это совсем другое дело, и ты это знаешь Хусто, — заметил Дамиан. — Я убил сотню людей. Кое-кто из них тоже был молод и невиновен. Но никогда я не поступался своими принципами, даже если какой-нибудь недоумок генерал отдавал приказание, полностью с ними расходящееся. Слишком много было войн, Хусто! Слишком много! И если кто и погибал в этих войнах, так это солдаты. Так неужели меня испугают еще три трупа? Неужели для меня важно, молоды эти люди или стары? Я лично знаком со смертью, я не боюсь ее, и мне трудно понять, почему кого-то она пугает. Потому я могу убить с легким сердцем, но никогда не украду и сантима, лежи он даже у меня под рукой. — Он пожал плечами, будто ему самому трудно было понять себя. — Знаю, что мало найдется людей, которые сумеют меня понять. Однако так я живу. И какое мне дело до всех остальных сучьих детей, которые шатаются по свету?! Я останусь таким, каким родился, даже если мне придется расплатиться жизнью за свои принципы. Ты это понимаешь?
Хусто Гаррига закончил ужин и, закурив сигарету, выпустил толстую струю дыма. Затем он потушил спичку и скорчил гримасу, которая могла означать что угодно.
— Пытаюсь понять… — произнес он. — И знаешь, я даже понимаю, но, клянусь тебе, мне это стоит огромного труда! — Он весело улыбнулся. — В конце концов, кого это волнует? Это твоя жизнь, и ты делаешь с ней что хочешь. Сейчас же я хочу только одно: встретиться с четырьмя лучшими проститутками в городе и закатить оргию наподобие той, что мы устроили, когда нам дали целую неделю отпуска в Рифиеме. Ты помнишь?
Дамиан Сентено тоже улыбнулся, слегка распахнул свою зеленую, военного покроя рубаху, с которой не расставался с тех самых пор, как покинул Легион, и провел пальцем по глубокому шраму.
— Ну как не помнить? — ответил он. — Это первое, что я вспоминаю каждое утро. Как же ловко управлялся с ножом этот тип из Сеговии! Если бы я не изловчился, он бы доставил мне много неприятностей. И все из-за одной шлюхи, которая даже не умела сосать! Интересно, что с ней?
— Полагаю, что сейчас она уже продает карамельки у дверей какого-нибудь колледжа. Или сигареты на каком-нибудь углу. Они всегда так заканчивают.
— Если бы кто-то сказал мне, что такой человек, как тот парень из Сеговии, позволит убить себя из-за грязной потаскухи, в жизни бы не поверил, — ухмыльнулся Дамиан Сентено. — Впрочем, сколько наших товарищей позволили убить себя в каких-нибудь дурацких стычках, о которых мы с тобой уже и не помним. Сейчас, по прошествии лет, это все кажется таким глупым.
— Намного глупее всю свою жизнь ломать спину, таская кирпичи на стройке, а потом в один далеко не прекрасный день сверзиться с лесов и разбиться насмерть. Или заложить заряд в шахту, а потом задохнуться под завалами. Мы выбрали Легион, и знали, что, скорее всего, нас убьют в какой-нибудь никому не нужной войне или зарежут во время драки в публичном доме. Наверное, нам не очень хотелось воевать, но еще меньше мы хотели грузить кирпичи или надрываться в шахте… — Он подозвал официанта и заказал два бокала вина. — А мне та жизнь нравилась! Она мне нравилась даже тогда, когда мы умирали от холода в России или когда нас выкашивало артобстрелом на Беро. — Он с наслаждением отпил коньяку. — Или когда те проклятые снайперы нас подстерегли в засаде. Сейчас, по крайне мере, мне есть что вспомнить. У меня, знаешь ли, полно воспоминаний, которые украсят мою старость, а плохи они или хороши — неважно. Если бы не это, вся моя жизнь превратилась бы в череду разочарований.
— Но ведь у тебя были жена и дети. Как там поживает твоя семья?
— Воспоминания о семье — не лучшие мои воспоминания, — сознался Хусто Гаррига. — Мой дом был адом, откуда я сбежал, чтобы не сойти с ума и не пойти по стопам родителей. — Он улыбнулся. — Только бык хорошо лижет. Мы же — ты и я — одинокие волки. Единственное, о чем я сейчас мечтаю, так это о добром друге, с которым можно было бы поболтать по душам, да о хорошенькой проститутке, которую можно было бы топтать пару раз в неделю. Все остальное — сплошное дерьмо.
— Хорошо! — воскликнул Дамиан Сентено. — Но хватит болтать по душам, давай наконец перейдем к проституткам!
Девиц действительно было четыре, и были они самые умелые и самые прожженные проститутки во всем городе. Сентено и Гаррига уединились с ними в огромной комнате, потолок и стены которой украшали зеркала, а на полу лежал одинокий матрац. Настежь открытые двери вели прямиком в небольшой бар и в ванную.
Дамиан Сентено заплатил вперед, строго-настрого наказав разбудить его на следующий день ровно в два часа и поднять на борт «Монтсеррат» живым или мертвым, одетым или голым, трезвым или пьяным. После этого он повесил свою одежду на вешалку, громко скомандовал: «Вперед, Легион!» — и прыгнул, словно в воду головой упал, на четверых проституток. Хусто Гаррига с не меньшим энтузиазмом последовал за своим товарищем.
Утопая в ласковом море объятий, упругих задниц, высоких грудей и ладных бедер, они понимали, что видятся, должно быть, в последний раз, а потому двумя часами позже напились до такого состояния, что едва могли узнать друг друга.
Конечно, они уже не были теми бесшабашными юнцами, какими были в ту далекую пору, когда веселились в Рефиеме. Тогда худой и жилистый Дамиан Сентено был способен кончить шесть раз подряд, ставя лишь одно-единственное условие, чтобы ему хотя бы пару раз поменяли женщин, а бесстрашный Хусто Гаррига держался с эрекцией целых три часа, выиграв тем самым спор с проституткой, которая, как ни старалась, так и не сумела заставить его кончить, пока он сам того не захотел.
Теперь они уже были не те, и после полуночи все четыре потаскухи отправились восвояси обслуживать других клиентов, оставив приятелей храпеть на старом матраце.
Утром хозяйка и помогавший ей в ее нелегком деле гомосексуалист кое-как одели бывшего сержанта и почти волоком дотащили до такси. Ла-Лока — а именно так звали хозяйку заведения — проводила Сентено до самого трапа парохода, где передала его прямо в руки женоподобного стюарда, пришедшего в восхищение от одной только мысли, что на протяжении всего их долгого путешествия он станет прислуживать настоящему мачо, чью грудь украшали такие сексуальные шрамы.
Наступила вечерняя пора, пылающие лучи солнца плясали на скалах острова Ла-Гомера, который проплывал сейчас по левому борту и медленно тонул в океане, когда Дамиан Сентено появился на палубе и, удобно устроившись на перилах, глубоко вдохнул свежий, ароматный воздух, изгнавший из головы его последние пары алкоголя. Потом он еще долго сидел, вглядываясь в голубой, бескрайний океан, где-то на просторах которого затерялись его враги, ставшие единственным препятствием на пути к богатству.
Когда солнце уже спряталось за чистым горизонтом, ему вспомнился другой вечер, когда он сидел на веранде гасиенды в Мосаге и то же самое солнце заходило за грядой кратеров, рассыпаясь тысячами бликов по заборам из черного камня, по виноградникам, по финиковым рощам и таким красным, что было больно глазам, бугенвеллеям.
Когда он впервые увидел Лансароте, тот ему совершенно не понравился. Все там было чужим: и однообразные, каменистые пейзажи, и странные, словно не от мира сего, люди. Сейчас же он поймал себя на мысли, что остров проник в его душу, опутал невидимыми щупальцами его сердце и память и теперь тянет назад.
Впрочем, мысль о том, чтобы провести остаток своих дней в имении на холме, наслаждаясь тишиной и навеки позабыв о войнах и авантюрах, казалась ему более чем привлекательной. В глубине души он считал, что жизнь его, начавшаяся в доме рыночной воровки, должна была закончиться тихо и спокойно. И сейчас в роскошной каюте огромного трансатлантического лайнера плыл не нищий наемный убийца Сентено, а дон Дамиан, владелец гасиенды, нескольких винных погребов, трех домов на Арресифе и одного прекрасного «бьюика» вишневого цвета.
Оно появилось после полуночи, и было почти таким же большим, как баркас, который оно толкнуло одним метром ниже ватерлинии, да так, что обшивка затрещала, а лодка закачалась на волнах, переваливаясь с носа на корму. Затем оно ушло на глубину, однако появилось вновь спустя всего несколько минут. В темноте было невозможно рассмотреть тварь и точно определить ее размеры, однако одно можно было сказать наверняка: она была достаточно велика для того, чтобы при желании пробить тонкую обшивку.
Пердомо зажгли палубные огни и самодельные факелы, которые они смастерили из обломков рей и обрывков одежды, однако, осветив море так ярко, словно это было местом народного гуляния, они так и не увидели чудовище. В конце концов они пришли к выводу, что это были не кит, и не касатка-убийца, и даже не огромная акула, так как последняя, поднявшись к поверхности, обязательно бы показала свой спинной плавник.
Наконец, опираясь скорее на тень, чем на абрис чудовища, Пердомо решили, что столкнулись с громадным угрем или превосходящей все возможные размеры муреной. Конечно же они не единожды слышали истории дона Хулиана ель-Гуанче о смертоносном морском змее, кальмарах почти двадцатиметровой длины, живущих на самом океанском дне, осьминогах, чьи щупальца были толщиной с человеческое тело, но никогда не верили, что кто-то в действительности может столкнуться с подобными тварями.
Пердомо всегда считали, что все эти бесконечные сказочные истории лишь плоды чьей-то не в меру разбушевавшейся фантазии, а люди, которые их рассказывают, стремятся лишь произвести впечатление на односельчан, а не уберечь их от реальной опасности. Однако Марадентро всегда признавали и то, что в древности, когда и родилась большая часть этих невероятных историй, люди по-настоящему хорошо знали океан, и даже сейчас, когда человек начал плавать по морям на гигантских пароходах и перестал зависеть от течений и ветров, мало кто мог посоревноваться с предками в морском деле.
— Если оно ударит в нос баркаса, то мы потонем, — сказал Абелай. — Однако не похоже, чтобы оно было настроено агрессивно. Скорее оно просто испытывает нас на прочность и пытается понять, представляем ли мы опасность.
— А почему бы нам его не прогнать! — предложил Асдрубаль. — Мне уже не терпится всадить в него гарпун, каким мы били акул.
— Думаю, что это лишь разъярит чудовище, — возразил брат. — Лучше всего оставить его в покое, хотя бы до утра. Тогда мы наконец-то поймем, с чем столкнулись и как вести себя дальше. А пока нам придется спуститься в каюту. Такая большая тварь может подбросить лодку и столкнуть нас в воду.
То было самое разумное решение, и Абелай согласился. Им пришлось изрядно потесниться, чтобы поместиться всем вместе в одной тесной и душной каюте. Тварь тем временем все настойчивее била в корпус, пока не затрещали доски обшивки, а баркас не начал раскачиваться так сильно, словно им играла чья-то невидимая рука. В конце концов некоторые доски поддались. Баркас грозил вот-вот развалиться на части.
— Закрой! — взмолилась Аурелия, показав сыну на дверь. — Если нас топят, то я лучше пойду на дно, чем увижу, как нас пожирают одного за другим. Закрой, пожалуйста!
— Мы умрем от жары!
— Пусть, только бы не оказаться в зубах у этой твари.
Асдрубаль уже начал вставать, чтобы исполнить просьбу матери, однако сидевшая в углу Айза, которая, казалось, дремала все это время, вдруг открыла глаза и жестом остановила брата.
— Не стоит, — сказала она. — Дедушка говорит, что тварь скоро уйдет, а утром поднимется ветер.
Мать бросила на дочь строгий взгляд, однако, увидев выражение ее лица, смутилась.
— Ты его видела? — спросила она.
— Он со мной говорил. Он там, снаружи. Отпугивает чудовище.
Наверное, никто бы из Пердомо не признался в этом, но после слов Айзы в их душах расцвела надежда, они тут же уверовали в ее предсказание и, затаив дыхание, принялись ждать следующей атаки чудовища, которое упорно билось в борта лодки и с каждым разом наносило все более и более мощные удары.
— Вам не кажется, что он не очень-то обращает внимание не деда, — сказал Себастьян, и в голосе его послышалась нескрываемая ирония. — Похоже, что морские змеи не верят в привидений.
— Он уйдет! — уверенно произнесла Айза. — Когда подует ветер, он уйдет.
До рассвета оставалось почти три часа. И если бы кто-то спросил Марадентро, что им тяжелее всего было пережить во время плавания, они бы все, как один, ответили — эти проклятые три часа. Чудовище нападало с пугающим упорством, и «Исла-де-Лобос» уже давно превратился в огромную неваляшку, которой капризный ребенок постоянно отпускает подзатыльники.
Айза была единственной, кто до конца верил в пророчество, потому она, устав сидеть, свернулась клубочком на голых досках и приготовилась было спать, но тут же, не успев еще как следует устроиться, неожиданно открыла глаза и, не глядя ни на кого, хрипло прошептала:
— Уже идет! Ветер уже возвращается!
Все остальные напряглись и замерли в тревожном ожидании.
И вот вдруг до ушей их донесся слабый шепот, показавшийся им самой прекрасной музыкой на свете. По мертвенно-спокойной поверхности океана вдруг побежала рябь, и тут же ветер ударил в спящие паруса, а те радостно захлопали и затрещали, словно приветствовали своего старого доброго друга.
— Вот он! — чуть не рыдая, воскликнул Абелай Пердомо. — Мой бог, наконец-то! Вот он, ветер!
Пердомо, сталкиваясь в дверном проеме, побежали на палубу. Там был ветер. Он гладил их лица и весело играл волосами. Чудовище кинулось в атаку, что есть силы ударив в истрепанный корпус, а потом, словно испугавшись солнца и разыгравшегося ветра, бросилось в бездну.
Марадентро так никогда и не узнали, что за чудовище в ту ночь поднялось из океанских глубин и почему оно решило на них напасть. Впрочем, нельзя сказать, что они вообще задавались подобными вопросами в то время, когда единственной и самой главной их заботой было ловить дуновения ветра, натягивать такелаж и ставить паруса, нервно перекладывать штурвал, чтобы благословенный восточный ветер подхватил баркас под корму и принес его прямо к далеким берегам Америки.
Аурелия не смогла сдержаться и бросилась к дочери, целуя ее словно умалишенная. Впервые в жизни она благодарила небеса за дон, который они даровали ее малышке.
— Не меня благодари, — ответила на ласки матери девушка, как всегда едва слышно. — Деда благодари!
— Тогда ты передай ему, потому как мои слова он, похоже, не слышит! — воскликнула счастливая мать. — Отблагодари его и скажи, что я его люблю. Что я всегда его любила.
— Он это знает.
Ветер оказался как раз тот, что нужно: силой от четырех до пяти баллов, ровный, без порывов, которые были так опасны для уже порядком потрепанной лодки. И старый баркас, давно уже превратившийся в призрак себя прежнего, воспрянул духом и рассекал волны с былой стремительностью, свойственной ему в юности, когда он проходил проливом Бокайна, а на борту его была родившаяся на маяке девочка, которую местный священник спустя немного времени окрестит Маргаритой.
— Дойдем! — уверенно заявил Абелай Пердомо. — Ох, Боже, если Ты и дальше станешь посылать нам этот ветер, то нам всем удастся добраться до берегов Америки.
— Берег этот еще очень далек.
Он повернулся в сторону Себастьяна, который и сказал эти слова.
— Как далеко?
— Более трехсот миль.
Абелай Пердомо окинул взглядом море, бросил с носа баркаса обломок доски и засек время, когда тот пройдет вдоль борта.
— Пять узлов! — сказал он. — Если будем откачивать воду из трюма, разовьем до шести, а может, и до семи… Сколько нам понадобится времени, если ветер будет оставаться прежним, а в пути ничего не случится? Ну-ка, сынок, посчитай.
— Дней шесть, может, восемь.
— Хорошо! Я сделаю так, чтобы этот баркас во что бы то ни стало продержался на плаву неделю. Айза! — позвал он. — Встань у руля. А вы все давайте вниз, за мной! Будем откачивать воду. Аурелия! Выбрасывай за борт все лишнее: мебель, бочонки, литеры, зеркало. Все!
— Нет, только не зеркало! — взмолилась она. — Ты мне обещал, что зеркало всегда будет со мной. Это единственная память о матери, которая так меня любила…
Абелай Пердомо хотел что-то сказать, однако, похоже, изменил мнение и улыбнулся. Он ласково похлопал жену чуть ниже спины и кивнул:
— Хорошо! Храни пока зеркало и литеры, но, клянусь, если этим вечером не наберем шести узлов, выброшу его за борт, чтобы напавшее на нас чудовище собой полюбовалось.
Он прыжками пробежал по носовым перекладинам и принялся освобождать трюмы, где его сыновья уже рьяно качали рычаг насоса.
— Смелей, ребята! — подбадривал их он. — Покажем этому океану, кто такие Марадентро и почему нас так прозвали.
И они поднажали. Со всей силой, которой наделил их Господь и которая сейчас, в этих поистине нечеловеческих условиях, удвоилась, а то и утроилась. Они твердо решили выжить и спасти жизни тех, кого любили всем сердцем.
Спустя четыре часа, когда трюм баркаса еще на две четверти был заполнен водой, а они уже готовы были свалиться от усталости, Абелай Пердомо выпрямился, глубоко вздохнул и, осмотревшись вокруг, словно искал кого-то, громко произнес:
— Помоги, старина! Не делай вид, будто тебя это не касается. Я знаю, что ты всю ночь отгонял чудовище от баркаса. Ты же всегда был крепким малым, только ты, охотясь на тунцов, мог без сна провести целых три ночи подряд.
Себастьян, присевший ненадолго отдохнуть, вытер рукавом кативший со лба ручьями пот и весело улыбнулся:
— Ты и впрямь веришь, что дед следует за нами?
— Твой дед, зная, через что нам предстоит пройти, не мог нас просто так бросить! Он остался на земле, — твердо ответил Абелай. — И если твоя сестра говорит, что он здесь, значит, он здесь. В этом мире есть много вещей, мне неведомых, но одно я знаю совершенно точно — эта малышка никогда не ошибается. Где бы мы теперь были без нее?
Себастьян хотел было ответить, что тогда они бы и по сей день спокойно рыбачили в проливе Бокайна, однако сдержался, отчасти потому, что слова эти ему самому показались жестокими и несправедливыми, а отчасти потому, что в этот момент к ним подошла Айза.
— Хотите воды? — спросила она. — Мама ее делает. Идите, посмотрите.
Действительно Аурелия была занята работой. Она перегоняла морскую воду при помощи дистиллятора, сделанного из отрезка медной трубки и чайника, похожего на тот, что Асдрубаль взял с собой в Ад Тимафайа.
— Я тут подумала, что просто так выбрасывать мебель глупо, — сказала она поучительно. — Мы ее сожжем и добудем еще немного воды.
Вот уже больше недели, как они испытывали нехватку пресной воды, ибо, вопреки словам Себастьяна, дожди так и не пошли, и теперь жажда стала еще одним их спутником, наравне со страхом и усталостью.
Склонившись над очагом, они смотрели, как капля за каплей пресная вода медленно льется в бутылку, поставленную Аурелией в конце куба. Набралось уже чуть больше половины.
— Сколько тебе потребовалось дерева? — спросил Абелай.
— Ножки от комода из нашей спальни. Если повезет, то наша лучшая мебель превратится литра в три воды.
Абелай, желая утешить жену, нежно погладил ее по щеке.
— Думаю, ни одна другая мебель о таком и мечтать не может, — сказал он. — Когда ты ее сожжешь, то мы возьмем рулевой портик, перегородки между каютами, снимем борта и даже мачты… Пока в море плавают дорадо, а у нас есть дерево, которое можно бросить в огонь, мы будем живы.
— Да, будем живы, если продержимся на плаву, — заметил Асдрубаль.
— Продержимся, сынок, — заверил его Абелай. — Продержимся на плаву, если даже надорвемся, откачивая воду.
С того самого момента, как в лицо его дохнул ветер, Абелай Пердомо воспрянул духом, снова став самим собой — отважным моряком, всегда достигающим своей цели.
— Мы прошли почти три тысячи миль, — продолжил он. — А насколько я помню, никто в Лансароте не верил, что нам удастся пройти и половину этого пути. Многие из тех, кто проходил этой дорогой раньше нас, терпели неудачу, мы же сейчас ближе к концу, чем к началу. Мы дойдем!
Его вера в успех явно заразила всю семью… Всю семью, за исключением той, что говорила с животными, подзывала рыб и веселила мертвых, предсказывала будущее и говорила со старым Езекиелем так, словно он и по сию пору был еще жив. Айза сидела в стороне, и голова ее была низко опущена. Она знала, что время радости еще не наступило.
Дамиан Сентено не испытал ни малейшего желания тащиться в Каракас. Ведущая туда извилистая дорога, проходящая мимо гряды холодных, суровых гор, бежала вдоль пропасти и занимала не меньше трех часов. Сентено уже давно бросил считать повороты и теперь молча страдал от качки.
То, что больше всего его интересовало, находилось не в Каракасе, а в жарком, шумном и грязном порту Ла-Гуаира, где в один из душных полдней наконец-то причалил «Монтсеррат» после, казалось бы, бесконечного перехода через океан.
Сентено подыскал приличный отель, находящийся всего в трех улицах от порта, и остаток дня провел в номере, утирая пот и пытаясь привыкнуть к удушающей влажности тропиков. Из-за жары и ни на секунду не смолкающего даже по ночам уличного шума он почти совсем не спал, однако на следующее утро все равно поднялся спозаранку и отправился в портовое управление.
Первое, что он сделал, так это положил две банкноты по двадцать боливаров перед служащим, который при появлении посетителя нехотя оторвался от чтения газеты.
— Я хочу кое-что узнать об одном судне.
Служащий как ни в чем не бывало сунул деньги в карман рубахи, после чего выказал намного больше внимания и заинтересованности в посетителе.
— Какого класса судно? — спросил он.
— Небольшой баркас. Рыбачий. «Исла-де-Лобос». На нем идет моя семья.
— Откуда?
— Из Лансароте. Канарские острова. Они эмигранты.
— Когда вышли?
— Двадцать второго августа.
Темнокожий мужчина с заостренным лицом, на котором выделялся огромный, похожий на картофелину нос, присвистнул от удивления:
— Они что, идут на веслах?
— Под парусами.
— Навскидку я не могу вспомнить ни одной лодки с таким названием, — признался он. — Но если вы подождете, я просмотрю списки.
Он скрылся в соседней комнате и вскоре возвратился с толстой папкой бумаг, начав быстро перебирать их, проводя пальцами вдоль указателя страниц.
— «Исла-Бланка»… «Исла-де-Сал»… «Исла-де-Борнео»… — закончил он читать и покрутил головой. — Нет. Я вам сочувствую, но здесь не значится никакого «Исла-де-Лобос». Вы уверены, что он идет в Ла-Гуаира?
— Так мне сказали.
— Возможно, они передумали. Или, может, ветрами их отнесло к другому порту. Как бы там ни было, у нас оно не зарегистрировано.
— Вас не затруднит сообщить мне, если оно все-таки прибудет или вы узнаете, что оно зашло в другой порт?
— Это зависит… — многозначительно протянул служащий.
— Пятьсот боливаров вам помогут?
— Думаю, что помогут! — воскликнул он радостно. — За пятьсот болас я вам проверю все порты побережья. Где я вас смогу найти?
Дамиан Сентено положил банкноту в пятьсот боливаров на стойку и попрощался, помахав рукой:
— Через пару деньков я вернусь. Это вам на расходы. Договорились?
Выйдя на улицу, Сентено словно бы нырнул в горячую, густую реку. Однако на этот раз он был доволен, так как верил, что мулат перевернет землю и небо, но выяснит, прибыл ли «Исла-де-Лобос» к венесуэльским берегам.
Америка была очень большой, и он это прекрасно знал, однако, как следует поразмыслив, пришел к выводу, что именно Венесуэла станет конечным пунктом в путешествии Пердомо, и прежде всего потому, что здесь говорят по-испански, а семье лансаротеньос не было никакого резона останавливаться в месте, языка которого они не знали. Вообще же Венесуэла всегда была заветной мечтой эмигрантов с Канарских островов, таких же нищих рыбаков, как и Пердомо Марадентро, желавших начать новую жизнь на континенте.
Таким образом, Дамиан Сентено давно решил сделать своим «штабом» порт Ла-Гуаира, однако многолюдный город угнетал его своими нестихаемым шумом и адской жарой, поэтому он в тот же самый вечер взял напрокат большой, зеленого цвета автомобиль и принялся объезжать близлежащие пляжи. Буквально через двадцать минут он наткнулся на небольшую рыбацкую деревушку, название которой — Макуто — ему очень понравилось. Сентено решил, что нашел то, что искал.
Он выбрал маленький деревянный домик, выкрашенный в яркий красный цвет. Его большие окна, затянутые тонкой металлической сеткой, были открыты всем ветрам и смотрели на океан и небольшую пальмовую рощу. Время от времени спелые кокосы с глухим стуком падали на крышу дома и скатывались прямо во двор.
Ближайший сосед обитал в пятистах метрах от дома, однако, несмотря на свою удаленность, в бунгало было проведено электричество, стоял прекрасный, с ледяными боками холодильник, а прямо под потолком шелестел лопастями большой вентилятор. Из мощного радиоприемника лилась веселая музыка, при звуках которой так и тянуло пуститься в пляс.
Но главное, что понравилось здесь Сентено, так это запах, плотный и насыщенный аромат только что смоченной дождем лесной земли, йода, буйной растительности, смолы и красок, который, казалось, был таким густым, что прилипал к одежде и коже. И от запахов тропических джунглей и моря — моря теплого и бурного, самого шумного из всех, что ему приходилось слышать до настоящего времени, где огромные волны возникали у самого берега, неудержимо росли, словно кто-то надувал их снизу, а затем обрушивались с глухим рокотом на песок — кружилась голова. Казалось, что здесь, как нигде больше, можно почувствовать пульс Земли и ощутить ее медленное, размеренное дыхание.
С самого начала место, где в яростной битве сталкивались два мира — море, так навсегда и оставшееся для Сентено загадкой, и сельва, в которой до сего момента он ни разу не бывал, — очаровало его.
Он ощутил себя заново родившимся в ту же ночь, когда медленно покачивался в кресле-качалке и глядел на волны, которые выбегали из тьмы только затем, чтобы потом с хриплым шепотом тут же в ней и исчезнуть.
Едва различимые огни рыбацких шаланд мерцали в двух-трех милях от берега. В сельве, раскинувшейся за его спиной, в этот час ночи царствовали цикады, и посоревноваться с ними могли лишь лягушки, чье оглушительное кваканье нет-нет да и перекрывало их несмолкаемые трели. Кокосы все так же с глухим стуком падали на крышу, скатившись с которой зарывались в белый песок.
В Ла-Гуаира он купил три коробки прекрасных длинных гаванских сигар и теперь не спеша курил, попивая крепкий и ароматный ром из высокого бокала. Пожалуй, впервые в жизни Сентено почувствовал себя довольным и спокойным. В конце концов он пришел к выводу, что нашел идеальное место, дабы спокойно поразмышлять над тем, как расправиться с семейством Пердомо Марадентро.
Владелец дома, огромный, жирный негр, который хотел как можно быстрее получить деньги и убраться подобру-поздорову, подписал счет за аренду жилья, не спросив даже имени постояльца, сказал, что его можно найти в близлежащей таверне, где он, судя по всему, ошивался постоянно, и, оставив Сентено связку ключей, исчез. Правда, перед уходом он посоветовал ему не очень-то увлекаться морем, так как отливом его может унести далеко от берега, где акулы пообедают им быстрее, чем спасатели успеют отправить на его поиски лодку.
— А вот рыбалка здесь отменная, — заверил негр. — В задней комнате вы найдете удочки и снасти.
У Дамиана Сентено никогда не было своего дома, так как вся его жизнь протекала в военных лагерях — не считая, конечно, тех лет, когда он сидел в тюрьме, — и от мысли, что он может переходить из одной комнаты в другую, выходить на веранду, готовить себе яичницу на кухне и оставаться при этом в совершенном одиночестве, ему становилось так радостно, что даже кружилась голова. Потом его даже разобрало любопытство: что сказал бы Хусто Гаррига, увидев его, полуголого, в кресле-качалке на веранде, в тени кокосовых пальм, чьи огромные толстые листья мерно колышутся на ветру?
— Он подумал бы, что я сошел с ума, — пробормотал он и улыбнулся. — Полностью лишился рассудка, хотя я, говоря по правде, никогда еще не чувствовал себя столь благоразумным, как сейчас.
Ему доставляло удовольствие иногда думать о Хусто Гаррига, единственном своем друге, в котором он, впрочем, не очень-то и нуждался. Оба они были одиночками, и Сентено ни с кем не хотел делить эти волшебные дни, проведенные на берегу с удочкой и снастями, это теплое море, в котором можно было купаться до одурения, эти белые пляжи с горячим и шершавым песком и эту веранду, на которой так приятно было посидеть с наступлением темноты в компании бутылочки рома и настоящей гаванской сигары.
— Ни следа! — сказал мулат с носом-картошкой, когда Сентено вернулся, как и обещал. — Я проверил все порты на побережье, но никто и слыхом не слыхивал об этом баркасе. Вы уверены, что он называется именно так?
— Совершенно уверен.
— Знаете, я истратил все мои сбережения на телеграммы. — Служащий вытащил из ящика стола стопку бумаг: — Здесь квитанции.
Дамиан Сентено окинул их взглядом, подсчитал расходы и выложил на стойку точно вдвое больше затраченного.
— Продолжайте искать, — велел он. — Мое предложение по-прежнему в силе.
Он покинул причал, сел в автомобиль и направился в ближайший аэропорт Майкетиа, где навел справки о всех рейсах до Барбадоса, Мартиники, Гваделупы и Тринидада.
— Этим вечером вылетает рейс на Мартинику, — ответила ему рыжеволосая красотка, на лице которой солнце оставило яркие веснушки. — Там вы сможете купить билеты на другие острова.
Пока Сентено сидел развалившись в удобном кресле, созерцая в окно голубые воды Карибского моря, начинавшегося совсем рядом со взлетной полосой, и прислушиваясь к рычанию работающих на пределе двигателей в ожидании, когда пилот отпустит тормоза и самолет бешено помчится, чтобы затем подняться над морем, он вспомнил тихоходные и шумные немецкие «юнкерсы», на которых их перебрасывали на русский фронт. Тогда они вплотную сидели на металлических скамьях, протянувшихся вдоль всего фюзеляжа, тряслись от холода и с ужасом смотрели на проплывавшие под ними заснеженные земли, которые потом отпустили лишь его да Хусто Гаррига.
Остальные легионеры, с кем они дрались бок о бок, а потом от усталости падали прямо на землю, навсегда остались в холодных русских степях, и у него все еще возникало ощущение, что сам Господь смилостивился над ним и подарил ему еще немного времени, потому что шанс выбраться из той заварухи был один на тысячу.
Он неоднократно подозревал, что судьба его выбрала, чтобы сделать примером для других, примером врожденной жажды жизни и умения выживать в любых обстоятельствах. В то время как товарищей его косила смерть и они падали, словно сорванные осенним ветром листья, он оставался в строю, цепляясь зубами и ногтями за ветвь жизни, не поддаваясь даже ураганным порывам ветра. И смерть щадила его: своей костлявой рукой она отводила от него ножи, закрывала от пуль и осколков разорвавшихся бомб. Теперь о пережитом напоминали лишь едва различимые шрамы на теле и памяти.
«У него жизней больше, чем у кота», — говорили о нем легионеры, хорошо знавшие, что сержант Сентено никогда не расстается со своим вещмешком и готов в любой момент сняться с места, чтобы пуститься в длинный переход или броситься в атаку, а на передовой он побывал столько раз, что и сосчитать уже нельзя.
Он родился в тот же год, что и новый век, а это значит, что ему уже давно исполнилось пятьдесят. В этом возрасте многие уже успокаиваются и наслаждаются нажитыми благами, он же по-прежнему боролся за жизнь и куда-то бежал, бежал, бежал… Сейчас он летел над голубыми, прозрачными водами моря, которого никогда не понимал и даже порой боялся, и в очередной раз разыскивал врагов, которых давно уже приговорил к смерти. Разница была лишь в том, что на этот раз это были не испанские красные повстанцы, не французские маки, не поляки и не русские, против которых он бился вслепую. Это были его личные враги, заслуживающие смерти, как никто другой.
Дамиан Сентено уже давно забыл, почему начинались те или иные войны, в которых он принимал участие, однако он готов был поклясться, что никогда не забудет Лансароте и проклятого Асдрубаля, так как на карту были поставлены его честь и будущее счастье.
Ветер не утихал пять дней. Ни разу. Даже на час. А потом наутро шестого дня Себастьян, стоявший у руля и напряженно вглядывавшийся в горизонт в надежде увидеть наконец-то землю, обратил внимание на то, что снасти уже не поют так весело, как в последние дни, а паруса постепенно слабеют и вяло, словно погибающая птица, трепещут на ветру, чтобы вскоре окончательно повиснуть.
— Отец! — позвал он.
Абелай Пердомо вскочил одним махом на ноги, Асдрубалю же, постоянно спавшему лицом к ветру, нужно было лишь взглянуть на брата, чтобы осознать происходящее.
— Нет! Будь ты проклят! Снова!
Однако он прекрасно знал, что ничего уже не может сделать. Океан снова засыпал, и вдруг наступившая тишина накрыла их, словно одеялом. «Исла-де-Лобос» мерно покачивался в такт дыханию океана.
След за кормой исчез; баркас в конце концов замер, а вокруг стало так тихо, что зашумело в ушах.
Ударом кулака, громовым эхом пролетевшим над спокойными, равнодушными водами, Абелай Пердомо проломил одну из прогнивших досок кормовой обшивки. Та скользнула по воде и почти тут же замерла.
— Ну, почему?! — воскликнул он. — Почему, господи, когда мы подошли так близко?! Еще бы два дня, и мы были бы у цели!
Встревоженные его криками, Аурелия и Айза поднялись на палубу и тут же поняли, что баркас не движется. Они стояли и смотрели на солнце, медленно выползающее из океана, который стал похож на гигантскую лужу темно-синего масла.
— Боже милостивый…
За кормой блеснула спина дорадо, словно Бог моря хотел им дать понять, что ветер в ближайшее время уже не поднимется и из отважных покорителей океана они снова превратились в людей, терпящих бедствие. В какой-то момент Айза испытала острое чувство ненависти к этим рыбам, которых за время путешествия успела даже полюбить, ибо она прекрасно знала, какой бедой обернется для них их появление.
Абелай Пердомо обратился к старшему сыну:
— Попытайся вычислить наше местонахождение. Времени тебе на это столько, сколько хочешь. Но только постарайся быть как можно более точным.
Лишь спустя полчаса, несколько раз подряд все проверив и перепроверив, Себастьян произнес:
— Восемнадцать градусов северной широты и девять — западной долготы… — Он печально покачал головой. — Это говорит о том, что мы находимся в ста милях к северо-востоку от острова Антигуа.
Абелай повернулся к Аурелии.
— Как у нас с водой? — спросил он.
— Около пяти литров. И та, что мы еще можем перегнать. — Она сделала широкий жест, показывая на окружающие их воды. — Только не очень-то много осталось дерева, которое можно сжечь. Все насквозь отсырело.
Абелай показал вверх:
— А вот мачты нет. Сожжем одну мачту, а если снова подует ветер, в чем я сомневаюсь, нам хватит и главной. — Он бросил обломок доски в воду и все внимательно проследили за ним. — Есть течение, — сказал он наконец. — Нас сносит к западу.
— Какой силы? — спросила жена.
— Трудно сказать, однако если нам повезет, то сможем пройти миль десять в сутки.
Аурелия быстро подсчитала в уме и хотела что-то добавить, но передумала и, закусив губу, снова спустилась в каюту, где принялась демонстративно убирать валявшиеся на полу матрацы.
Айза попыталась было пойти за матерью, но отец жестом остановил ее.
— Позволь мне, — сказал он.
Абелай Пердомо никогда не видел жену плачущей. Аурелия была женщиной сильной, стойко переносившей многочисленные испытания, щедро посылаемые ей жизнью, однако сейчас тщательно возводимая в течение многих лет стена дала трещину и грозила рухнуть в любое мгновение. Не сумев с собой справиться, Аурелия опустилась на маленький кусочек свободного от матрацев пола с железной уверенностью в том, что это единственное, что осталось у нее в жизни.
— Не подводи меня, — прошептал Абелай, слегка улыбнувшись. — Мальчики нуждаются в тебе, как никогда. Помни, что пока мы вместе, мы продолжаем жить. Не отчаивайся!
— Но ведь это так тяжело! Ты их убиваешь, заставляя откачивать целый день воду, которой с каждым днем становится все больше и больше. Теперь наша затея мне кажется совершенно бессмысленной!
— Жизнь вовсе не бессмысленна! — ответил он. — На самом деле это единственная по-настоящему важная штука на земле. Мы не для того родили детей и не для того вынудили их отправиться с нами в путь, чтобы затем признать себя побежденными. Нужно продолжать!
— Но что продолжать, Абелай? Что? Без ветра мы ничто! Бессилие меня доводит до отчаяния. Мы ничего не можем поделать! Ничего!
— Мы будем продолжать плыть. Этого достаточно. Однажды ты сказала, что некоторые люди месяцами плавали по морю на плоту. А этот баркас больше, чем плот.
— Уже нет, — твердо ответили она. — Уже нет, и ты это знаешь. На плоту не нужно постоянно откачивать воду. Посмотри на себя! И посмотри на мальчиков! Вы все время стоите по колено в соленой воде, и ваши ноги покрылись язвами! Себастьян, так тот уже даже ходить не может, и я понимаю, как он страдает, несмотря на то что ни разу не пожаловался… А жажда! Вы работаете как сумасшедшие и умираете от жажды! — Она с силой сжала руку мужа и заговорила чуть слышно, а голос ее стал еще более хриплым, чем был. — Мне умереть не страшно, Абелай! Меня не это пугает! Но от одной мысли, что я увижу смерть своих детей, у меня темнеет в глазах и голову словно сжимает железный обруч. И я уверена, ты чувствуешь то же самое!
— Да, — признался он. — Я тебя понимаю. Они и мои дети тоже, и одна мысль о их смерти приводит меня на грань отчаяния… Айза так ослабла! И Себастьян, похоже, сдался. Только Асдрубаль еще держится…
— Нет! — возразила она. — Не обманывай себя. Асдрубаль сдаст в любой момент, потому что чувствует себя виноватым в произошедшем. А вот Айза выдержит.
— Дед ей больше не является?
— Иногда мне кажется, будто она что-то знает, но не хочет сказать. И это меня пугает.
— Ты говорила с ней?
— Когда она замыкается в себе, из нее невозможно вытянуть и слова… — Аурелия пожала плечами. — Хотя, может, мне все это кажется, и ее поведение — лишь следствие страха и усталости… Или, может статься, она тоже чувствует себя виноватой. — С этими словами она указала наверх: — Иди к ним. Ты им нужен больше, чем я. Мне было плохо, но сейчас уже все в порядке. Ты прав: нам нужно держаться вместе и жить дальше. Мы прошли три тысячи миль! Ты хоть мог когда-нибудь представить, что эта старая скорлупка окажется способной на подобный подвиг? — Несмотря на дикую усталость, Аурелия попыталась улыбнуться: — Обещай мне: если баркас дотянет до земли, мы сохраним его навсегда, чего бы это нам ни стоило.
Он нежно похлопал ее по руке, давая понять, что разговор окончен, и снова поднялся на палубу, где их дети тихо сидели, отрешенно глядя на неподвижный океан.
— Асдрубаль, неси топор! — хриплым голосом приказал отец. — Будем валить мачту и рубить ее на части. Если удастся, сделаем пресной воды, которой хватит на пару дней. Ты, Айза, займись рыбной ловлей! Нам необходимо сохранить силы, и дорадо единственная рыба, которая может прокормить нас, ибо, как мне кажется, здесь не живут даже летучие рыбы. Ну, вперед! Будем шевелиться!
Рубили мачту, словно рубили руку старому другу, у которого и так уже отняли все, что только могли. Сейчас у баркаса отнимали саму его гордость, ибо лишить парусник мачты — все равно что лишить его смысла существования.
«Исла-де-Лобос» жил за счет ветра и для ветра, но сейчас его высокие мачты, выдерживавшие гордые паруса, превратились в жалкие обломки, которые временами можно встретить в море.
Как теперь управлять лодкой? Как заставить ее продвинуться хоть на милю после того, как у нее забрали мачту? А как можно заставить бегуна пробежать марафон, если отрезать ему ногу?..
Ни бортов, ни палубы, ни надстроек… и вот, наконец, без мачты! Не лучше было бы с достоинством пойти ко дну, как это из века в век происходило со многими кораблями?
Проиграть сражение в борьбе с морем было делом вполне обыденным, и ни один корабль не стыдился своего крушения, ибо силы океана всегда будут превосходить силы человека, но цепляться за жизнь, постепенно отрезая куски от тела баркаса, и все это лишь для того, чтобы раздобыть несколько глотков грязной воды… Это было страшно и больно.
Потому Абелай Пердомо, для которого баркас долгие годы был все равно что часть собственного тела, испытывал не только грусть, стиснув в руке топор, но и стыд, будто каждый удар он наносил самому себе, своей жизни и своему прошлому. Когда мачта упала на жалкие остатки палубы, у него на глазах чуть было не выступили слезы. Он вспомнил, с какой любовью отец выбирал тот ствол, который они потом вместе выстругивали и смолили, чтобы в конечном счете установить его там, где он только что находился.
Годы, море и ветер превратили дерево, которое более трех десятилетий выдерживало нагрузку парусов, в камень. Эта высушенная солнцем мачта победила в сотнях схваток с ветром, помогла «Исла-де-Лобос» пройти тысячи и тысячи миль в поисках тунцов, лангустов и сардин, а ясными ночами щекотала мириады рассыпавшихся по небу звезд. В тени этой мачты выспались три поколения Пердомо Марадентро, под ней же был зачат Абелай, ставший теперь главой семьи. И вот теперь он велел срубить ее, хотя и знал, что она по-прежнему была крепка и, если бы ветер оставался попутным, могла бы провести баркас хоть вокруг света.
Смотреть на то, как баркас медленно превращается в щепки, которые, одна за другой, постепенно исчезают в грязной черной пасти проржавевшей печки, было невыносимо. Абелай всегда боялся огня, считая его единственным своим настоящим врагом и понимая, что столкнись он с ним один на один — и огонь обязательно одержал бы над ним верх.
Но вот наконец-то добыли воду.
И человек, который когда-то выстругивал и шлифовал доски баркаса, пил воду, которой посвятил всю свою жизнь.
Абелай Пердомо с тоской думал, что пожирает свою лодку, давно уже ставшую частью его тела, и тем самым он обрекает себя на вечное проклятие.
С наступлением ночи рядом с ним присела Айза и нежно погладила его по плечу.
— Не грусти, — сказала она. — Он знал, что никогда не сможет достичь берегов Америки. Он принадлежит другим землям.
— А каким землям принадлежим мы?
Айза, которая, казалось, за время путешествия стала старше лет на двадцать, лишь пожала плечами, признавая свое неведение.
— Кто знает? — ответила она. — Мы, люди, можем привыкнуть к любым переменам… А лодки нет… — И улыбнулась. — Нет, не могут, особенно если они такие старые и уставшие, как наша.
— Я тоже стар. И очень устал. Думаешь, что я смогу привыкнуть к другому берегу?..
Айза, с самого первого дня своего рождения умевшая говорить с животными, подзывать рыб и веселить умерших, ничего не сказала, так как давно уже знала, что на этот вопрос ответа не существует. Она положила голову на плечо отца, как это обычно делала в детстве, пока еще собственное тело ее не предало, и притихла, прислушиваясь к стуку отцовского сердца.
— Я тебя люблю, — прошептала она.
Абелай Пердомо опустил взгляд, с нежностью посмотрел на дочь и слегка улыбнулся:
— Я тоже, дочка. Я тоже…
— Но только никогда об этом не говоришь.
— Потому что ты уже женщина.
— Ну и что с того? Сейчас я больше всего нуждаюсь в твоих ласковых словах. Остальным я не верю.
— Почему?
— Потому что другие уже не любят меня по-прежнему, а ты любишь.
— Не жди от людей, что они станут относиться к тебе так же, как в те времена, когда ты была ребенком, — предостерег он ее. — Подобные ожидания свойственны трусам, а ты доказала, что трусихой не являешься. А вдобавок ты ведь еще и моя дочь, одна из Марадентро.
Айза едва заметно покачала головой:
— Марадентро всегда были мужчинами. Помни, что я первая девочка, которая родилась в семье за последние четыре поколения.
— Пусть так, но ты все равно остаешься одной из Марадентро. В тебе течет моя кровь, кровь деда Езекиеля и многих других отважных мужчин, от начала времен бросавших вызов морю. А ты знаешь, что твой прадед Захариас проложил путь в Китай вокруг Огненного мыса и прошел им восемнадцать раз?
Айза уже не раз слышала об этом. Она знала на память все истории о прадеде Захариасе, потому что его приключениями до сих пор бредили все мальчишки семейства Пердомо. Однако она так ничего и не ответила отцу и позволила ему повторить свой рассказ, по большей части выдуманный, потому как историю эту вот уже несколько поколений подряд передавали из уст в уста и она неминуемо обросла необычайными подробностями. Айзе же было просто хорошо сидеть вот так, прижавшись к плечу отца, которого она всегда безгранично любила и считала своим самым храбрым защитником, чувствовать сильную руку, обнимавшую ее за плечи, и слышать глубокий, хрипловатый голос, которым он, сколько она себя помнила, отдавал распоряжения в доме.
И так, прижавшись к отцу, она задремала, а за нею сон сморил и его, и ни один из них не мог сказать, сколько времени они проспали, грезя о больших стаканах с водой, о холодном пиве и о бурных реках, пока с каждой минутой нарастающий шум, в какой-то миг превратившийся в вой трубы ангела Апокалипсиса, не заставил их проснуться и закричать от ужаса.
Он оказался огромен. Неимоверно, немыслимо высокий, длинный и мощный. Он сиял миллионами огней, протянувшихся от носа до кормы, и надвигался со скоростью курьерского поезда, готовый раздавить маленькое суденышко, каковому по злой воле случилось оказаться на его пути.
Он шел прямо на баркас, и уклониться от столкновения было невозможно, а высоченный и острый форштевень был занесен словно карающий меч божий, который одним ударом покончит с лодкой и ее маленькой командой.
Они кричали что есть мочи, но крики их, заглушаемые грохотом судовых машин и шумом винтов, вязли в ночной мгле. Они с ужасом смотрели, как чудовище из стали и света наваливается на «Исла-де-Лобос», чтобы одним-единственным толчком отправить его в пучину. Однако в самый последний момент, то ли по капризу судьбы, то ли по воле деда Езекиеля, который слегка отвел руку рулевого, прекрасный корабль «Монголия» отклонился от курса вправо на один-единственный градус и прошел мимо в каких-то пятнадцати метрах.
Захваченный бешеным водоворотом, оставленным огромными винтами, баркас содрогнулся всем корпусом от носа до кормы, захватывая воду; его обшивка затрещала, в любую минуту готовая обнажить киль. Его бросало из стороны в сторону, от чего Марадентро крепко вцепились друг в друга, чтобы не вылететь в море. Баркас собрал все оставшиеся у него силы, чтобы в последний раз дать отпор пробудившемуся от глубокого сна океану, и, смертельно раненный, закачался на постепенно затихающей волне.
Это была его лебединая песня, и он это знал.
Немы и неподвижны, кто уходит в мир иной,
И парус, тенью прикрывая, охраняет их покой.
Стеная, плачет море под изогнутым килем,
Светило на рассвете курс им на «закат»
Прокладывает утренним лучом.
Теперь «Исла-де-Лобос» был мертв. Окончательно и бесповоротно. Он потерял способность бороться, когда винты «Монголии» разбудили океан и он, разозлившись, вспенил волны, захлестнувшие борта лодки. Хрупкое равновесие, которое до сих пор каким-то чудом удавалось удерживать баркасу, было нарушено.
После того как из его тела жестоко вырвали мачту, баркас превратился в агонизирующего буйвола, которого теперь нужно было добить, чтобы закончить наконец его мучения. От него беспрерывно отваливались доски, словно куски мяса от костей разлагающегося трупа, и никакая сила не могла уже вернуть его к жизни.
Как однажды сказал Абелай Пердомо, настроение баркаса, его чувства лучше всего передавались посредством руля. И вот теперь душа покинула старую лодку, и руль ее превратился всего лишь в деревянное колесо, которое уже не реагировало на команды.
В движении сломанного ствола дерева, ветки или пустой бутылки было теперь больше смысла, чем в движении «Исла-де-Лобос», давшего крен на левый борт и слегка притопившего нос.
Пердомо теперь пришлось спустить главную мачту, которая из помощницы превратилась во врага, угрожающего потопить останки баркаса. И эту мачту они изрубили и сожгли в печке, получив еще немного драгоценной пресной воды.
В трюмах уже не было щелей, которые можно было бы заткнуть изнутри или залатать снаружи, рискуя наткнуться на голодную акулу. На сей раз вода поступала через каждое соединение обшивки и даже текла ручьями сквозь проломленные доски.
Пассажиров мертвого баркаса, чей труп медленно тонул в море, охватило чувство обреченности. Они лежали на палубе, в тени одного из больших парусов, который растянули на обрубках мачт, и вновь и вновь задавали себе один и тот же вопрос: почему судьбе было угодно бросить их ночью на пути огромного корабля?
— Тремя часами раньше он бы нас увидел. Всего лишь три часа, и мы были бы спасены!
— Не думай больше об этом.
Аурелия повернулась в сторону Асдрубаля, произнесшего эту фразу.
— Почему? — спросила она. — Почему я не имею права проклясть судьбу хотя бы один раз в жизни?
— Потому что лишь еще больше расстроишься, а этим баркас назад не вернешь. Если бы не тот проклятый штиль, сейчас мы были бы уже в Америке.
— Нет такого права! Нет! Нет права, чтобы Господь так играл с нами. Какое преступление мы совершили?!
— Убили человека. Юношу. Почти мальчишку.
Аурелия строго и пристально посмотрела на сына.
— Я не согласна с твоими словами! — ответила она. — Я не считаю, что все наши беды — это наказание. Это несправедливо!
— Наверное, это все же справедливо… — Асдрубаль сделал паузу, а потом, не глядя в глаза матери, продолжил: — Позволь мне считать это все карой Господней, ибо если бы мы спаслись, то я бы решил, что искупил вину. — Он поднял голову и посмотрел на мать. — Не думаю, что кто-либо еще на земле заплатил столь дорого за то, что вышло случайно. — Он показал на брата, дремавшего в нескольких метрах от них. — Он в первую же ночь сказал мне, что та смерть касается не только меня. Что это проблема всей семьи. Так что же, он был прав?
Ответ пришел двумя днями позже, когда в полдень послышался крик. Подняв головы, они увидели в небе фрегата, который очерчивал круги над останками «Исла-де-Лобос». Внимательно разглядев дорадо, он наконец решил, что они для него слишком тяжелы, и, издав прощальный клекот, устремился на запад.
От нахлынувших эмоций никто из них поначалу и слова произнести не мог, и они лишь недоуменно переглядывались. А потом у всех на глазах появились слезы радости, так как любой человек моря с детства знал, что означает появление этой птицы.
Если она покинула свое гнездо поутру, а потом летала часа три, скорее всего не по прямой линии, то какое расстояние она могла преодолеть за это время?
Сколько времени она потратит на то, чтобы вернуться домой?
— Что тебе известно о фрегатах?
Себастьян, которому и был на самом деле задан этот вопрос, пожал плечами.
— Откуда я могу знать! — ответил он. — Думаю, что у них у всех разные привычки и возможности, оттого и расстояния они пролетают неодинаковые. Все будет зависеть от того, насколько в этих краях море богато рыбой. Ну и от времени года. Когда они мигрируют, то могут пролетать сотни миль.
— Когда они мигрируют, то делают это стаями, а не поодиночке. — Абелай Пердомо внимательно осмотрел поверхность воды, словно пытаясь отыскать на ней ответы на свои вопросы, но, так ничего и не найдя, тряхнул головой и взглянул на сына: — Могу поклясться, что бездна осталась позади. Пожалуйста, сын, определи наше местонахождение. Или я жалкий сухопутный червь, или мы находимся менее чем в шестидесяти милях от берега. И течение продолжает нас сносить туда.
Когда Себастьян завершил свои подсчеты, он посмотрел на отца и улыбнулся.
— Все наконец-то идет хорошо, — произнес он. — Мы в восемнадцати градусах северной широты и почти в шестидесяти западной долготы… Если этот атлас не врет, то мы находимся здесь, примерно в ста километрах от Гваделупы. А это значит, что нас сильно снесло к югу за эти дни.
— Это хорошо, — согласился отец. — Все хорошо… А ты как думаешь, Асдрубаль? Выдержит баркас три дня?
— Нет.
Его ответ не удивил Абелая Пердомо, и так прекрасно осознававшего положение дел.
— Сколько?
— Будет чудом, если завтра к ночи вода не достигнет колен… — Асдрубаль сделал паузу. — А настолько отяжелевший баркас будет сносить намного медленнее. С каждым часом все медленнее…
— Понимаю. — Абелай задумался на несколько мгновений, а затем показал вперед. — Хочу, чтобы этим вечером на носовых траверсах, на всех реях и на носу баркаса были сложены все паруса, матрацы и сухая одежда. Больше уже мы не сваляем дурака и, если увидим приближающийся корабль, подожжем их… Может, они увидят огонь и подойдут к нам?..
— А если сгорит баркас?
Абелай Пердомо улыбнулся Айзе, задавшей столь несуразный вопрос.
— Малышка, — ответил он, — чтобы поджечь этот баркас, не хватит и тысячи литров бензина. Он так же пропитался водой, как алкоголик водкой.
Настал вечер, а за ним и ночь. Пердомо пристально вглядывались в горизонт, надеясь заметить хотя бы слабое шевеление, однако усилия их так и не увенчались успехом — ночь продолжала оставаться такой же темной, душной, безлюдной и тихой, какой была с самого начала их путешествия.
Но вот с рассветом на западе появилась облако. Оно было большим и темным. Но что было самым важным, так это то, что оно держалось на одном месте. С одной стороны, в этом не было ничего удивительного, так как стоял полный штиль, но с другой, если бы это облако зацепилось за вершину горы, оно бы все равно рано или поздно хоть немного, но сместилось.
— Наверное, земля.
Никто не ответил. Рты у всех пересохли, а губы потрескались от жажды и солнца. Аурелия, приказав всем не двигаться и хранить молчание, установила дневной рацион воды: наливала на донышко черпака воды на три пальца — не больше. Теперь все время они проводили в тени навеса, не пытаясь уже откачать воду и даже не задавая себе вопрос: видят ли они впереди землю или это лишь иллюзия, рожденная их больным воображением?
Ночь оказалась длинной.
Провели ее без сна, снова пытаясь разглядеть в темноте огонек, а днем, сонные, старались прятаться от непереносимой жары, которая с каждой минутой лишь усиливалась. Тяжелые лучи тропического солнца грозили вспороть ветхий брезент, проломить черепа и выжечь мозги людей, изнывающих от жажды, жары и усталости.
В этот день не появился ни фрегат, ни какая другая птица, и только вездесущие дорадо, летучие рыбы, выпрыгивающие из воды, да огромная акула, чертившая своим плавником по днищу баркаса, составляли им компанию.
Если бы эта зубастая тварь что-нибудь понимала в лодках, то, наверное, решила бы не уплывать слишком далеко от мертвого баркаса. Однако к полудню она устала кружить на одном месте и вскоре исчезла из виду.
Они не ели. Они просто не ощущали голода, так как жажда заглушала любое чувство и ощущение, а когда солнце спряталось за горизонтом, увенчав красными бликами далекое облако, они бок о бок неотрывно смотрели в ту сторону, страстно желая разгадать загадку неподвижного облака.
— Это земля, — тихо произнес Абелай Пердомо. — Я уверен, что это земля.
В ту ночь Айза начала бредить. Она закричала, ясно увидев старого Езекиеля, который пришел попрощаться. Потом ей явились Сенья Флорида, с которой она не встречалась вот уже три года, и еще двое мальчишек, которые утонули у мыса Хуби в сорок шестом, когда на море разыгрался страшный шторм.
В эту ночь на горизонте опять не появился ни один корабль, а «Исла-де-Лобос» стало заливать водой так сильно, что уже не было никакой возможности стоя удержаться на палубе.
— Он тонет, отец, — прошептал Себастьян, почти вплотную прижавшись к его уху. — Будет лучше, если мы спустим ботик. Айза и мама будут спать в нем. Мы привяжем его к корме концом, который в последний момент сможем обрубить.
— Твоя мать не согласится, — ответил Абелай уверенно. — Я ее хорошо знаю, и знаю, что она не захочет.
— Но мы обязаны спасти ее!
— Я знаю, сын, — ответил Абелай, похлопав того по ноге. — Ты не переживай. Баркас этой ночью ко дну не пойдет. Он способен продержаться еще несколько часов.
— Я боюсь…
— Я тоже, сын… Я тоже.
Еще никогда с таким нетерпением они не ждали рассвета. И солнце, медленно выбирающееся из своего дома на дне океана, еще никогда не казалось им таким нерасторопным. Утренняя заря еще никогда так медленно не снимала покрывало ночи, словно и она страшилась вдохнуть этот неподвижный, душный воздух и увидеть крепко спящее, будто мертвое, море, по водам которого медленно плыл завалившийся на правый борт баркас.
Солнце словно щадило отчаявшихся людей, которые в его лучах должны были увидеть крах своих надежд.
Однако не взойти оно не могло. Солнце быстро погасило свои первые лучи в воде, ударило жаром и… осветило землю, раскинувшуюся под темным облаком.
Но, боже, как же эта земля была далеко!
Им казалось, что она находится еще дальше, чем в тот день, когда они покинули Плайа-Бланка на борту еще живого баркаса, которого толкал вперед его верный друг — ветер. Так две скалы, по воле Господа не способные двинуться с места, никогда не доберутся друг до друга. В ту проклятую ночь, когда погиб сын дона Кинтеро, Америка была от них бесконечно далека, сейчас же так бесконечно далек от них был родной Лансароте.
«Исла-де-Лобос» не двигался.
Недвижим был воздух, недвижимым было море, совсем не колыхался густой туман, с которым они спутали облако, скрывающее неизвестный остров.
— Что это за остров?
— Без сомнения, Гваделупа. Или, вероятно, небольшой остров Ла-Десираде[19], который находится справа от него.
— Ла-Десираде! — воскликнула Ауериля, вспомнив французский, который учила когда-то в колледже. — Ла-Десираде. Какое удачное название! Наверное, тот человек, что дал ему имя, точно так же плыл когда-то по океану…
Абелай Пердомо, весь предыдущий вечер о чем-то сосредоточенно думающий, окинул долгим взглядом баркас, убедился, что тот дал еще больший крен и морская вода, не встречая уже никакого сопротивления, заполнила его почти до самого шкафута. Он мысленно подсчитал, сколько тот еще может продержаться на плаву, почти лишенный палубы, под которой в трюмах еще могли бы сохраниться карманы с воздухом… Часы его были сочтены. Достаточно было одного резкого толчка, чтобы он перевернулся и, показав свой киль, камнем ушел на дно.
— Спусти ботик на воду! — приказал Абелай Асдрубалю. — И привяжи его вот этим концом.
Двухметровая лодчонка с плоским дном, около метра в ширину, использующаяся для переправки с якорной стоянки на берег, тихо закачалась на спокойной воде, словно тарелка в раковине мойки. При взгляде на утлое суденышко, отважившееся потревожить могучий океан, они в очередной раз осознали собственное ничтожество перед лицом стихии.
Абелай Пердомо жестом руки подозвал Айзу:
— Айза, садись на нос и постарайся не двигаться…
Девушка ухватилась за протянутую руку, так ничего и не сказав в ответ. Она опустила глаза, очень осторожно перебралась на нос лодочки и села на указанное ей место, напоминая испуганного зверька.
— Себастьян, ты на правое весло! Асдрубаль — на левое. А мать сюда, на корму.
Они переглянулись.
Вопрос казался бессмысленным, но, несмотря на это, Асдрубаль все же решился задать его:
— А ты?
— Я остаюсь.
Пока Абелай придерживал за борт лодочку, остальные разместились в ней. Борта лодочки едва на четверть выступали над водой, и было видно, что такой крупный мужчина, как Абелай, реши он забраться внутрь, тут же отправит ее на дно.
— Если ты остаешься, останемся и мы, — решительно ответила ему Аурелия. — Мы семья.
— А я глава семьи. А еще я капитан этого баркаса и тот, кто отдает приказания. Вы должны уходить! — Он посмотрел на детей, притихших и с отчаянием смотрящих на него, и снова заговорил голосом, который не допускал возражений: — Вы должны грести весь день, а если понадобится, то и всю ночь! Ваше спасение в ваших руках. Когда вы доберетесь до земли, то сможете позвать помощь и отправить сюда людей. Гребите медленно, дети! У вас есть время, да и море спокойно. Возьмите воду! Не спорьте! — опередил он жену, которая попыталась было возразить. — Вам она нужна больше, чем мне. — Он попытался улыбнуться. — Не бойтесь! Мне не впервой тонуть… Если повезет, баркас перевернется, а если в трюмах остался воздух, то продержусь пару дней… Я взберусь на киль… Гребите! — охрипшим голосом попросил он. — Наши жизни зависят от того, как быстро вы доберетесь до берега. — Он освободил конец веревки и подтолкнул лодочку, которая отплыла на несколько метров от мертвого баркаса. — Не говорите ничего! Не тратьте времени. Гребите!
Сыновья повиновались.
Медленно и ритмично они принялись грести, так, словно они находились сейчас в проливе Бокайна или поблизости от острова Исла-де-Лобос, куда ходили на поиски отмелей.
Они медленно плыли к берегу, размеренно взмахивая веслами, но взгляды их, точно так же, как взгляды сестры и матери были прикованы к отцу. На мертвом баркасе, с накренившейся палубы которого на них также пристально смотрел отец, навсегда оставались их сердца.
Никто не проронил ни слова, да и что бы они могли сказать? Разве что кричать от боли, вгрызающейся в их души, но даже крик комом застревал в горле, а слезы застилали глаза, и мертвый баркас постепенно превращался в размытое пятно.
Асдрубаль и Себастьян гребли стиснув зубы. Айза кусала губы, чтобы не разрыдаться, а Аурелия, повернув голову, смотрела, как человек, которого она любила всем сердцем, постепенно сливается с океаном. В голове ее стремительно проносились воспоминания об их совместной жизни, словно она спала наяву.
В какое-то мгновение она была готова соскользнуть в воду и вернуться вплавь, чтобы, как и много раз до этого, разделить с ним его судьбу, но тут же отринула от себя эту мысль, решив, что дети могут последовать за ней. И тогда она всеми силами постаралась не думать о муже, а сосредоточить все свое внимание на крошечной лодочке, которая медленно ползла в сторону туманного берега, но сердце ее осталось на борту мертвого баркаса, и она знала, что душа ее погрузится в мутные воды отчаяния в то же самое время, когда Абелай упадет в объятия океана.
Океан же со дня сотворения мира повидал уже много таких трагедий, а потому оставался безмолвным и безучастным.
— Говорят, что негр убил белого в честной драке — защищал свою жизнь. Однако власти не учли этого обстоятельства и приговорили негра к смерти. Они бросили его на самое дно глубокой и темной ямы, где он должен был ждать публичной казни. Они хотели преподать урок всем черным, которые возомнили себя равными белым. — Старик глубоко затянулся своей перекрученной и искусанной трубкой-качимбой, сделал паузу, чтобы слушатели осознали всю важность его слов, а потом, выпустив густую струю дыма, продолжил тем же монотонным голосом: — Я хорошо помню жену того негра, или его любовницу, или супругу перед Богом, но не перед законом, ибо в те времена у нас, негров, не было вообще никаких прав, даже на женитьбу. Она была девушкой высокой, красивой и всегда веселой. А какой у нее был звонкий голос… Она очень ловко управлялась с глиной, лепила разные фигурки, делала тарелки и кувшины, которые потом продавала на рынке. Покупателей она зазывала песнями, да такими задорными, что все дамы города и даже многие мужчины, которым вовсе не нужны были ее кувшины да тарелки, сходились послушать ее пение.
Он поднял голову, обхватил рукой пустой стакан, и Дамиан Сентено тут же понял намек. Он подал знак камареро, чтобы тот подошел с бутылкой темного и густого рома бребахе, который попивал рассказчик.
— Та негритянка любила своего мужа. Она любила его больше всего на свете. Она ходила к судье, в полицию и к властям Сен-Пьера. Выпрашивая для него прощения, она стучалась во все двери, умоляла вынести справедливый приговор. — Он снова сделал паузу и отпил рому с таким наслаждением, как будто это было единственным, что у него оставалось в жизни. — Однако перед ней закрывались все двери, вот так-то, сеньор. Белые ее не слушали, а черные насмехались над ней, и особенно злобствовали те, кто хотел овладеть ею, предлагая защиту, а она не соглашалась. Они пытались затащить ее в постель силой, так как знали, что в хибарке своей, стоящей на отшибе на берегу моря, жила она одна. А хибарка эта находилась как раз в том месте, которое вы можете отсюда видеть. Никто не посочувствовал ей, не разделил ее боль и тоску. Никто не посочувствовал и ее мужчине, заживо гниющему в яме в ожидании ужасного конца.
Дамиан Сентено внимательно посмотрел на негра, и взгляд его заблудился в тысячи морщин, которые изрезали его лицо, настолько грустное, что, казалось, будто горечь, словно пот, стекает по его лбу и щекам. Сентено обратил внимание на то, с каким восхищением слушал негра мальчуган, приводивший того в таверну. Без сомнения, он слышал эту историю уже сотни раз, однако она по-прежнему пленяла его.
— Какой ужас, сеньор! Какой ужас! Сен-Пьер был тогда столицей Мартиники: прекрасным городом с большими проспектами, дворцами, отелями, театрами и удивительно красивым причалом, к которому швартовались корабли, прибывающие из всех уголков мира. Говорю вам, сеньор, не было на земле второго такого красивого города, где даже мы, негры, жили с удовольствием… конечно, когда белые нам разрешали. — Он с отрешенным видом покачал головой. — Но та женщина возненавидела город, который так жестоко с нею обошелся. А вы должны знать, сеньор, что значит ненависть женщины, когда она доходит до крайности от отчаяния. — Негр прищелкнул языком. — И она призвала Элегбу! «Элегба, Элегба! — вскричала она. — Заклинаю тебя, прокляни этот бессердечный город, который хочет отобрать у меня того, кого я люблю больше жизни, и который так жестоко насмехается надо мною…»
На этот раз негр более страстно приложился к стакану, ибо по мере того, как события в его рассказе развивались, он возбуждался все больше и больше.
— И богиня Элегба услышала ее, сеньор! Не спрашивайте меня как, только из самых глубин джунглей Дагомеи Элегба услышала голос красавицы негритянки, чьи предки столетие тому назад жили с ней бок о бок, и ответила. И спящая гора Мон-Пеле зарычала, рассказывая белым и черным о неотвратимости наказания, если они и дальше будут гнать слугу Элегбы.
Старый негр снова покачал головой, и его взгляд на сей раз был устремлен в сторону бескрайнего моря, среди волн которого были едва различимы маленькие лодочки рыбаков.
— Какой ужас, сеньор! Какой ужас! Никто не пожелал внять предупреждению. И тогда негритянка пригрозила, что пойдет дальше и попросит гору явить всю свою мощь. Белые вышвырнули ее из дворца правосудия, а черные — мужчины и женщины — стали преследовать на улицах, бросая в нее камни и грозя повесить ее на той же самой виселице, где вскоре должен был болтаться ее муж, если она снова появится в городе… Это произошло восьмого мая. Восьмого мая тысяча девятьсот второго года. И день этот будет проклят до скончания веков. — Он сделал новую паузу. — Мой хозяин отправил меня в Форт-де-Франс, чтобы я передал лошадей, которых продал один из плантаторов. Довольный выполненной работой, я возвращался домой, однако вскоре я услышал рычание горы и почувствовал запах серы…
Допив наконец-то свой ром, старик, чье лицо прорезали тысячи морщин, перевернул стакан вверх дном и громко стукнул им по столу, словно желая показать, что у него больше нет желания ни пить, ни рассказывать.
— Взойдя на вершину, вон там, на тот хребет, что за горой, я остановился на минутку, чтобы посмотреть на гору, которая не прекращала грохотать, и вскоре, сеньор, клянусь моими детьми, что погибли в тот день, я увидел, как Мон-Пеле открыла свою гигантскую красную пасть. Оттуда высунулся огненный язык и туча пепла, вращаясь и извиваясь, поплыла прямо в сторону Сен-Пьера. Она пронеслась по склону и накрыла весь город, долетела до порта, поглотила корабли и, скользя над водой, превратилась в огненный шар, который прокатился по морю и скрылся за горизонтом. Оглянувшись вокруг, города, сеньор, я не увидел. Все дома, от первого до последнего, превратились в груду почерневших развалин, из которых едва заметно поднимались в воздух столбы дыма, а от тридцати тысяч людей, что там жили, сеньор, остались лишь обгоревшие останки. Над этим проклятым местом еще долго витал тошнотворный запах горелого мяса…
Гора затихла. Элегба показала свою силу, но никого так и не простила. Я помчался в Форт-де-Франс, чтобы рассказать о том, что видел, но мне не захотели верить, решив, что я либо пьян, либо сошел с ума. Но потом до властей Форт-де-Франс стали доходить и другие свидетельства произошедшей катастрофы. В город отправили спасателей, но там уже не было ни одной живой души.
Сентено показалось, что у старика на глаза навернулись слезы.
— Ни одного живого существа, сеньор! Ни одного мужчины, женщины или ребенка. Никого, за исключением того проклятого негра, из-за которого все и началось и который по прихоти Элегбы остался жив. Он сидел тогда в своей яме и оказался единственным, кто смог избежать огненного дыхания горы, которое расплавило толстые засовы и замки его одинокой камеры… Так умер, сеньор, город Сен-Пьер, самый красивый город из всех, когда-либо существовавших на земле.
— А что сталось с негритянкой?
— Она потеряла разум, сеньор. Точно так же, как и ее муж, которого мы вытащили из темницы уже сдвинутым. Он сошел с ума от страха, а она — осознав, что совершила. Одно время они бродили вместе по острову, а потом однажды ночью бросились в пропасть. Как страшно, сеньор! Какая ужасная трагедия!
Позже, гуляя по разбитым улицам некогда красивого и веселого города и разглядывая обломки почерневших от копоти массивных колонн, Дамиан Сентено согласился, что здесь действительно произошла страшная трагедия, возможно равная бомбардировке Хиросимы.
Сентено был человеком, знающим толк в разрушениях. На своем веку он повидал немало стертых с лица земли городов, потому, когда он уходил из разрушенного почти до неузнаваемости Берлина, не испытывал ни малейшего сожаления по этому поводу. Ничто уже не могло удивить или опечалить его. Однако при виде города, в считанные секунды превратившегося в груду обугленных обломков, и все из-за проклятия одержимой жаждой мести негритянки, его охватила гнетущая тоска. Он вдруг понял, что далеко еще не все повидал на этом свете и что существуют силы, недоступные его пониманию.
Солнце начало склоняться над морем, окрашивая в красный цвет воды Карибского моря, и тени покрыли тревожные очертания горы Мон-Пеле, грозя вскоре дотянуться до скелета разрушенного города. Мысль о том, чтобы провести ночь в Сен-Пьере, пришлась ему не по душе. Он сел в автомобиль и не торопясь возвратился в Форт-де-Франс — в Париж Антильских островов, — где должен был ждать еще два дня перед тем, как продолжить путешествие, потому что и на Мартинике никто ничего не знал об «Исла-де-Лобос».
— Если он идет под парусами, то не придет никогда, — заверил его щеголеватый и надменный морской офицер. — На море такой штиль, какого уже полвека не было. И как только им взбрело в голову выбрать это время года для перехода через океан? Могли бы дождаться декабря. Извините, что говорю вам это, сеньор, но ваши родственники, должно быть, не совсем в своем уме. Только сумасшедший решится выйти в море в этих числах.
— У них не было другого выхода.
При этих словах офицер явно оживился, и в глазах его вспыхнул интерес.
— Может быть, они бежали по политическим мотивам? От диктатуры?
— Скорее, они бегут от голода, сеньор.
Офицер закивал, выражая тем самым понимание.
— Хорошо! Я обещаю вам сделать все от меня зависящее, — заверил он. — Я проконсультируюсь с моими товарищами из Гваделупы, может статься, они причалили там. Однако, повторяю вам, что при таком штиле не стоит слишком сильно надеяться на благоприятный исход. Хотя, возможно, им удалось пристать к берегам Барбадоса или Тринидада. В четверг туда идет судно.
Дамиан Сентено использовал свободное время для знакомства с островом, и, хотя он не верил в легенды и плевать хотел на чужие фантазии, прогулка произвела на него гнетущее впечатление. Почему-то он не сомневался, что старый негр сказал правду. Без сомнения, он оказался одним из немногих людей, которым на своем веку довелось увидеть, как разверзлась земля.
Он подержал в руках связку ключей и горсть монет, которые в тот день были в кармане какого-то мужчины. В жарком дыхании вулкана они расплавились и теперь представляли собой единой слиток. Дамиан Сентено невольно задумался над тем, насколько же сильно должна была подняться температура воздуха.
Он все еще продолжал думать об этом, когда увидел вдалеке первые огни Форт-де-Франс. Тогда он решил, что должен навсегда забыть о Сен-Пьере, и посему той же ночью отправился к проституткам.
Марко Замбрано никогда не считал себя трусом, однако большую часть своей жизни провел в бегах.
В двадцать два года он ушел из дому, не в силах больше терпеть постоянные ссоры родителей, братьев и их дядьев. В ту весну тысяча девятьсот тридцать шестого года дом семьи Замбрано, что в Гранаде, превратился в настоящий ад, в который спустя всего несколько месяцев свалится вся Испания.
Словесные стычки и даже случаи физической расправы между членами одной и той же семьи, раздираемой политическим разногласиями, перешли уже всякие пределы, потому в один из несчастных дней Марко Замбрано бросил учебу в Высшей школе искусств, собрал то немногое, что у него было, и сел на поезд, следовавший в Париж, где, как ему казалось, он будет жить в окружении прекрасных произведений искусства, которыми всегда восхищался. Он был уверен, что, как бы ни были сильны революционные ветры, туда они все равно не долетят.
Его не удивило, что вскоре Испанию захлестнула Гражданская война. Это была та война, которую он ждал со дня на день, наблюдая за тем, как люди одной и той же крови никак не могли договориться и выбрать наконец-то ту или иную форму правления.
Считая себя испанцем до мозга костей, он решил, тем не менее, полностью отстраниться от вызывавшей у него отвращение кровавой бойни и в течение последующих трех лет не читал газетных статей, в которых рассказывалось бы о его стране. Он также был очень привязан к своей семье, но безжалостно рвал все приходящие ему письма, даже не распечатывая их. Его страшила мысль о том, что из этих писем он узнает, что один брат поднял руку на другого брата или, что еще хуже, на родного отца. Он не хотел лить слезы по погибшим и презирал живых, а потому предпочел жизнь в мире иллюзий и фантазий, где все были живы и здоровы и никто не жил по принципу «кровь за кровь».
Несколько лет спустя, когда ему удалось продать кое-какие картины, снять небольшую студию и обзавестись друзьями, с которыми он прекрасно проводил время, веселясь и беседуя о живописи, он ощутил, что пространство вокруг него начало сгущаться и политика снова вползает в его жизнь. В конце концов любимая женщина заявила, что он испытывает симпатии к коммунистам и «поганым жидам».
Марко Замбрано, которого, признаться, совершенно не интересовали ни коммунисты, ни расовые вопросы — да и вообще ничего, что было бы так или иначе связано с чужим вероисповеданием и происхождением, — природа наделила отменным чутьем. В этот день он почувствовал, что окружавший его мир снова начал разжижаться, и, недолго думая, бежал в поисках спокойного места, где бы никто не говорил о политике и где было бы достаточно света, чтобы можно было писать картины.
Покой он обрел в чудесном домике, стоявшем на вершине холма, что напротив древней крепости Ричепансе, у маленького порта Васе-Терре на подветренном берегу острова Гваделупа. С тех пор он рисовал лишь море, жаркое тропическое солнце и прекрасных темнокожих женщин.
И там на протяжении долгих четырех лет он не прочитал ни одной газеты и даже слышать не желал о войне, в огне которой, должно быть, погибли его родные. Он хотел рисовать, а они — убивать друг друга. Каждый сделал свой выбор.
Он жил рыбалкой, огородничеством, одно время даже управлял небольшим ресторанчиком. Деньги он получал, продавая кое-какие картины и сдавая внаем старую, купленную из четвертых рук шаланду редким туристам, которых, при желании, мог сам отвезти на близлежащие острова или указать место, где клевало лучше всего.
Когда война закончилась, он решил не возвращаться в охваченную печалью полуразрушенную Европу, которой понадобились долгие годы на то, чтобы зализать свои многочисленные раны. Марко Замбрано предпочел навсегда остаться на Гваделупе, с единственной лишь разницей, что на сей раз он жил в прекрасном доме на проспекте Виктора Гюго в городе Пуэнт-а-Питр, где моряки и прекрасные, экзотические женщины продавали себя с относительной легкостью и он мог недурно устроиться на вырученные деньги.
Иногда, вспоминая о Гранаде или о Париже, он испытывал нечто, очень похожее на ностальгию, однако чувство это не имело ничего общего с реальностью, ибо тосковал он о мире иллюзорном, в котором на самом деле и не жил никогда. В действительности же он не хотел думать о тех местах и людях, которых оставил, так как понимал, что сейчас, возможно, нет уже больше тех улиц, по которым он ходил, и нет больше тех людей, которых любил.
Посему, хотя он и жил долгие годы на одном и том же месте, можно было сказать, что Марко Замбрано все еще продолжал бежать, на этот раз от самого себя, от своей неспособности страдать. Он презирал эпоху, в каковой ему довелось родиться и жить, и единственным приемлемым для него способом борьбы с действительностью было полное ее игнорирование.
Однако никто не может бежать от собственной судьбы вечно, и в то солнечное, жаркое ноябрьское утро, когда Марко Замбрано столкнулся посреди улицы с комендантом Клодом Дувивьером, чутье его подвело.
— ¡Buenas días! Замбрано! — вскричал Дувивьер. — Вот вы-то как раз мне и нужны!
— Зачем?
— Не могли бы вы оказать мне одну маленькую услугу? Проводите меня до госпиталя, а по дороге я вам все объясню.
В просторной, светлой палате главного госпиталя Пуэнт-а-Питра Марко Замбрано увидел девушку необычайной красоты, портрет которой мечтал бы написать любой художник. Ее огромные и чистые зеленые глаза неотрывно следили за ним, пока он садился рядом с ее матерью, напротив вытянувшихся во весь рост на кроватях, крепко спящих братьев.
— Я сожалею, что приходится сообщать вам плохие новости, но комендант порта попросил меня поговорить с вами, так как сам он не знает испанского. Он просил сообщить вам, что спасательные команды на катерах и самолетах в течение недели обследовали то место, где пропал ваш отец, но так и не нашли его. — Он повернулся в сторону Аурелии, словно пытаясь укрыться от горячего взгляда Айзы. — Верьте мне, нам очень жаль, но уже отдан приказ прекратить поиски.
Если бы реакцией на сообщение стали крики и слезы, то Марко Замбрано признался бы себе, что со всем перестал разбираться в людях. Еще при первом взгляде на женщин он понял, что они уже знали обо всем и надежда их была сродни вере в чудо, о котором так сладостно мечтать, но даже и помыслить нельзя о том, что оно может произойти в реальности. Еще тогда, уплывая от мертвого баркаса, они знали, что старший в роду Пердомо разделит судьбу своей верной лодки.
В тот страшный день чем ближе их лодчонка подходила к берегу и чем дальше уплывали они от баркаса, который вначале превратился в расплывчатое пятно, а потом в крошечную точку, в какой-то миг проглоченную горизонтом, тем сильнее была их уверенность в том, что они больше никогда не увидят своего доброго отца, человека, вокруг которого их жизни вращались, как планеты вокруг Солнца.
Когда даже Асдрубаль не смог различить очертания баркаса, который словно растворился в океане, став его частью, они сильнее стиснули зубы и еще яростнее налегли на весла, прекрасно осознавая, что сейчас еще не наступило время печали. Они должны спастись, иначе жертва отца будет напрасной.
Никто уже не мог сказать, каким чудом им удалось добраться до берега, однако все они старались изо всех сил, пока не наступил момент, когда руки словно бы зажили своей жизнью, отказываясь им повиноваться. А потом им показалось, что их спины от нечеловеческого напряжения стали размягчаться, превращаясь в бесформенную массу.
Однако сейчас, когда страшные слова были произнесены вслух, души их снова стала пожирать тоска, и Аурелия, стараясь хоть как-то ослабить изматывающую боль, от которой хотелось выть в голос, тихо произнесла:
— Спасибо.
— Нам бы очень хотелось, чтобы вы поблагодарили от нашего имени всех, кто помогал нам, — добавил Себастьян. — Как бы там ни было, но они оказали нам неоценимую помощь.
— Они сделали все, что было в их силах, пытаясь найти баркас, — сказал Марко Замбрано. — Однако это океан, и он очень большой.
— Мы это знаем, — ответила Аурелия, пытаясь улыбнуться. — Мы знаем это, как никто другой.
— Что вы думаете теперь делать?
Мать и дети переглянулись. Казалось, будто никто из них не мог отважиться ответить на этот вопрос.
— Не знаю, — наконец тихо ответила Аурелия. — Это мой муж принимал всегда решения. А мы еще не привыкли к его отсутствию… — Она сделала короткую паузу, которая лучше слез и стенаний демонстрировала ее подавленное состояние. — Мы никогда не думали, что окажемся в стране, где нас никто не понимает, и что баркас наш утонет, ведь лодка — это все, что у нас было.
— У вас есть деньги?
Аурелия опустила руку в карман своего простенького черного платья и показала несколько смятых банкнот.
— Восемьсот песет, — произнесла она. — Последние годы были не очень-то легкими.
При взгляде на жалкие бумажки, лежавшие на ладони женщины, чутье Марко Замбрано, которое помогало ему избегать самых страшных неприятностей, наконец-то проснулось, и он ясно ощутил запах опасности. Он принюхался — в воздухе витал легкий аромат, почуяв который он всегда бежал куда глаза глядят, лишь бы скрыться от готовых на него обрушиться проблем. В какой-то момент он уже был готов уйти, посчитав на этом свою миссию законченной. Больше ему в госпитале делать было нечего.
Но взгляд бездонных зеленых глаз девушки по-прежнему был устремлен на него, и он вдруг почувствовал себя птицей, столкнувшейся со змеей.
— И куда вы собираетесь дальше? — произнес он, сам удивившись своему вопросу.
— В Венесуэлу.
— У вас есть там родственники?
— У нас здесь нет ни родственников, ни друзей. Все остались на Лансароте.
— В таком случае вам следовало бы вернуться. Консульство обязано заняться вами и открыть визы.
— Мы не можем вернуться на Лансароте.
Марко Замбрано едва заметно кивнул:
— Понимаю. Комендант Дувивьер решил пока ничего не говорить консулу. Он подумал: вдруг вы не захотите, чтобы тот знал о вас? Нам известно, что испанское правительство сейчас ставит палки в колеса эмигрантам, но многие все равно бегут от режима. Полагаю, вы хотите, чтобы консул так и оставался относительно вас в неведении.
— Да, вы правы.
— Тогда Дувивьер все уладит. — Марко на секунду замолчал. — И надеюсь, он поможет вам раздобыть нужные документы, чтобы вы какое-то время пожили здесь, на острове. В конце концов, вы потерпели кораблекрушение, а местные власти традиционно испытывают симпатию к потерпевшим кораблекрушение и беглецам. — Он коротко вздохнул. — Проблема в том, что вы не можете и дальше оставаться в госпитале. Здесь нет лишних коек.
— Мы это понимаем.
— Вам есть куда пойти?
Аурелия в очередной раз показала деньги, которые все это время держала в руках:
— Вы думаете, что мы сможем где-нибудь устроиться с этими деньгами?
Марко Замбрано быстро произвел в уме нехитрые подсчеты и печально покачал головой:
— Пуэнт-а-Питр — город дорогой. Он быстро растет, но люди приезжают сюда еще быстрее — отсюда и вечная нехватка жилья. — Девушка по-прежнему не спускала с него пристального взгляда. — В моем доме есть свободная комната… — Он чертыхнулся про себя, так как в ту же секунду пожалел о своем щедром предложении, но потом все-таки продолжил, будто это был совсем не он, а кто-то другой, кто говорил вместо него: — А молодые люди могут спать на баландре. — Он вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, сразу же отметая возможные возражения. — Это всего лишь на несколько дней, пока Дувивьер не выправит вам документы и не подыщет способ переправить вас в Венесуэлу. — Он чуть заметно улыбнулся. — Я не предлагаю вам милостыню. Вы люди моря, а значит, прекрасно разбираетесь в лодках. Может быть, за это время вы поможете мне привести в порядок мою шаланду. — Тут он впервые за весь разговор решился посмотреть девушке прямо в глаза. — А я буду очень счастлив, если вы послужите мне моделью для картины. Я художник.
Спустя час они уже готовы были отправиться в дорогу. Аурелия сидела рядом с Марко Замбрано, а ее дети — на заднем сиденье старого «ситроена», который не спеша покинул окраины Пуэнт-а-Питра и устремился по извилистому шоссе, проложенному через густой тропический лес, к Баса-Терре.
Ехали почти не разговаривая. Марадентро размышляли о будущем, которое не представлялось им безоблачным, а Марко сосредоточил все свое внимание на узкой опасной дороге, на которой время от времени ему встречались мчащиеся с сумасшедшей скоростью автобусы, словно призраки, появлявшиеся из-за поворота и тут же исчезавшие за следующим.
К месту назначения прибыли уже затемно. Пердомо, отказавшись от ужина, тут же отправились спать. Когда в доме стало совсем тихо, Марко сделал себе бутерброд, налил в бокал пива и вышел на террасу, откуда открывался прекрасный вид на крепость и полусонный город. Он смотрел на огни и задавался вопросом, как он, человек, всегда с легкостью ускользающий от проблем, позволил втянуть себя в эту странную историю.
— Наверное, я старею, — пробормотал он, пока раскуривал трубочку-качимбу. — Или во всем виновата девчонка. Она даже рта не раскрыла, а я готов был уже предложить ей весь мир…
Подумав немного, он пришел к выводу, что девчонка все это время и рта не раскрыла, тем не менее у него было стойкое чувство того, будто он узнал о ней за этот день гораздо больше, чем когда-либо знал о всех своих женщинах.
Он начал размышлять о картине, которую собирался начать писать уже на следующий день. В качестве фона он использует последнюю башню крепости «Ричепансе», синие воды моря и роскошный, поросший изумрудной зеленью холм… И тут вдруг его как громом поразила мысль: а хватит ли его таланта на то, чтобы передать все глубину и красоту зеленых глаз этой молчаливой девушки?
— Если мне это удастся, — тихо произнес он, прежде чем окончательно уснуть, удобно устроившись в широком гамаке, — я войду в историю.
Однако он прекрасно понимал, что, возможно, никогда не сможет проникнуть в тайну души самой младшей из семьи Марадентро.
«Грасиела» была шаландой, уже давно лишенной собственного лица, за свою долгую жизнь она так часто переходила из рук в руки и попадала в такое количество передряг, что уже давно перестала быть похожей на нормальную лодку.
Она пропахла плесенью, стонала даже тогда, когда качалась на спокойных волнах гавани, и демонстративно отказывалась подчиняться каким бы то ни было командам, словно ее паруса, корпус и штурвал давно решили разорвать друг с другом всяческие отношения.
«Грасиела» была тем судном, которое строилось серийно, по уже устаревшим чертежам, и мастера, ее сколачивающие, думали лишь о том, чтобы побыстрее закончить работу, впарить лодку какому-нибудь простачку, мечтающему о славе морского волка, и заработать на этом деле деньжат. Она родилась мертвой и мертвой плавала, потому-то ни один из ее многочисленных хозяев не испытывал к ней ни единого доброго чувства и думал лишь о том, как бы ее побыстрее продать. Такой она и попала в руки Марко Замбрано, который с ее помощью в трудные времена добывал себе хлеб насущный, а затем, когда дела его пошли в гору, бросил в ближайшей гавани, а она даже не пыталась оборвать якорь и выбраться на волю.
Себастьян и Асдрубаль не могли заставить себя лечь спать в ее мрачной каюте, где витал запах тлена, и предпочли скоротать ночь на палубе. Вдалеке, на севере, светились портовые огни, а над их головами жались друг к другу беленькие домики, чьи плотные ряды то тут, то там прорезали тоненькие речушки, пробивающие себе дорогу через тропические леса и убегающие к океану.
— Любая из этих речушек сбрасывает воды в день больше, чем потребляет все население Плайа-Бланка за год, — произнес Асдрубаль, когда утреннее солнце осветило горы и пляж и они смогли как следует рассмотреть место, в котором оказались. — Нет никаких сомнений, что Господь умеет творить добро, но не умеет распределять его.
— Возможно, у Него просто руки не дошли до Плайа-Бланка. Других дел было по горло.
— Как это?
— Да кто его знает!
Они замолчали, глядя на розовеющий горизонт, разноцветные суда, выходящие в море, и редкие автомобили, проносящиеся по огибающему береговую линию шоссе.
— Что будем теперь делать?
— Работать, полагаю, — просто ответил Себастьян. — Зацепимся за что-нибудь, а там постараемся добраться до Венесуэлы. С нами обошлись по-доброму, но французы мне не нравятся. Они мне никогда не нравились… И думаю, я никогда бы не смог понять их. — Он сделал паузу. — Венесуэла дело другое. Я знаю многих, кому удалось пробить себе там дорогу. Но не здесь! Если этот тип не появится, то этой ночью нам придется, похоже, спать под мостом.
— Ему Айза нравится.
— Айза нравится всем! До того дня, пока она не выйдет замуж, она будет, хотим мы того или нет, нашей главной проблемой, брат. Найди она себе хорошего парня, всю ответственность за нее можно было бы переложить на его плечи, а так… Еще и поэтому меня беспокоит этот Замбрано. Похоже, он действительно хочет нарисовать ее.
— Это только вначале. Затем он захочет большего. Вот дерьмо! — воскликнул Асдрубаль в порыве злости. — С тех пор как эта соплячка стала женщиной, все вокруг недовольны. Даже друзья стали вести себя не так, как раньше. Только и говорят, что о Айзе, и когда приходят в дом, то уже не для того, чтобы сыграть партию, а для того, чтобы увидеть ее и сказать ей какую-нибудь пошлость.
— То же самое происходило с тобой и с сестрой Чепа. А у той только и достоинств, что похожий на барабан зад. — Он махнул рукой. — Такова жизнь! Разница в том, что Айза слишком хороша собой, а потому может рассчитывать на что-то получше.
— Не хнычь! Ты же хотел перебраться в Америку. Хорошо! Мы уже в Америке. — Асдрубаль с горечью ухмыльнулся. — На Лансароте мы были бедны, а здесь вообще будем вынуждены просить подаяние.
Себастьян решительно возразил:
— Я соглашаюсь на помощь, но не на подаяние. Для начала превратим это корыто в лодку или хотя бы в то, что на нее отдаленно похоже. Так мы заработаем себе на еду. Ты хоть раз в своей жизни видел такой кусок дерьма?
— Нет, да и не думаю, что в мире найдется вторая такая развалина. На нашем побережье она бы пошла ко дну от одного порыва ветра… — Он необычайно пристально посмотрел на Себастьяна: — Ты старший брат и среди нас самый умный. Полагаю, что теперь настала твоя очередь стать главой семьи и начать принимать решения. Хочу, чтобы ты знал: отныне я буду делать так, как ты скажешь. Если ты решишь, что маму и Айзу нужно забрать из того дома, значит, так тому и быть. Самое главное — мы по-прежнему вместе, если же мы расстанемся, то превратимся в ничто… Итак, с чего начнем?
— С того, что вытащим на берег эту шаланду, ибо море сейчас не лучшее для нее место. Мы переберем ее от киля до клотика и превратим в настоящий корабль, такой красивый, что владелец глазам своим не поверит. Мы покажем, почему нас прозвали Марадентро, и не посрамим памяти отца и деда!
Его брат положил руку на канат, обвязанный вокруг кнехта, и весело рассмеялся:
— А еще мы правнуки Захариаса, который восемнадцать раз ходил в Китай, огибая мыс Горн.
Когда солнце взошло над холмом и, ударив прямо в глаза, разбудило Марко Замбрано, первое, что он ощутил, был аппетитный запах кофе и только что поджаренного хлеба, затопивший весь дом. Он перегнулся через балюстраду и с удивлением увидел, что шаланду его вытащили на песок и поставили на крепкие киль-блоки.
Он тут же бросился на кухню, где застал Айзу и Аурелию за приготовлением завтрака.
— Что делают ваши сыновья? — не поздоровавшись, спросил он.
— Ремонтируют вашу лодку. Разве вы не этого хотели?
— Да, конечно! — рассерженно воскликнул он. — Но к чему такая спешка? Им же нужно отдохнуть!
— Они почти три месяца провели без действий, и у нас нет времени на отдых, если мы хотим добраться до Венесуэлы. Не желаете ли глазунью и кофе?
— Спасибо, не нужно. Мне достаточно поджаренного хлеба… — Он обвел вокруг рукой: — Послушайте! Я хотел, чтобы вы немного помогли мне — и все. Я не собираюсь эксплуатировать вас. Совсем нет нужды принимать столь близко к сердцу все мои проблемы. Такой чистой эта кухня, по-моему, вообще никогда не была.
Аурелия едва заметным движением указала на стол, приглашая его сесть, и, пока Айза накрывала, сама устроилась на соседнем стуле.
— Послушайте! — сказала она. — Мы вам очень благодарны, ведь вы приютили нас в своем доме, хотите нас кормить и поить. Но мы не привыкли просить милостыню, и нет нужды нас жалеть. — Она слегка улыбнулась, пытаясь тем самым смягчить строгость своих слов. — Нам необходимо понимать, что на все это мы зарабатываем сами. В противном случае мы вынуждены будем уйти. Вам понятно, о чем я говорю?
Марко Замбрано кивнул, соглашаясь, и показал на Айзу, которая в этот момент наклонилась, чтобы подать ему нож.
— Мне достаточно, если она станет позировать мне. Вот это как раз то, что действительно для меня важно. А чистота на кухне меня, по правде говоря, вообще не беспокоит.
— При всем уважении, ваша кухня — это настоящий свинарник, по которому свободно гуляют тараканы, причем самые нахальные из всех, что мне только доводилось видеть. А я вам клянусь, что повидала я многое. Да и остальная часть дома выглядит не лучше. Я понимаю, вы человек творческий и на многие вещи не обращаете внимания. Но поверьте, мне приятно сделать для вас хоть что-то в благодарность за оказанную помощь.
Марко Замбрано пристально посмотрел на Аурелию, отпил кофе, провел кончиком языка по губам и, пожав плечами, ответил:
— По мне, так вы можете делать что угодно, если только ваша дочь сядет на этой террасе и станет мне позировать. И хотя я, признаться, ненавижу тараканов, крыс и летучих мышей, учтите, что без них я буду чувствовать себя одиноко.
Аурелия протянула руку, слегка похлопав ладонью по его руке, и подмигнула, словно скрепляла таким образом соглашение:
— Не беспокойтесь. Моя дочь в вашем распоряжении. Я же вам обещаю, что не стану выживать из дома ваших квартирантов.
Ровно в полдень Айза, закутанная в скромную, желтого цвета тунику присела на край балюстрады. За спиной ее открывался головокружительный вид на море и древнюю крепость. Марко Замбрано устроился напротив, установил свой мольберт, зажал в пальцах карандаш и вскинул руку, которая впервые в его жизни задрожала — он понял, что не в состоянии передать и толику той гаммы сложных чувств, что охватили его при виде серьезного и невинного лица модели.
— Расскажи что-нибудь о себе, — попросил он, надеясь успокоиться таким образом. — Расскажи что-нибудь, чтобы я мог понять твою душу, потому что хорошая картина — это не только похожее лицо и красивый вид. Твой портрет должен говорить без слов, раскрывать твою суть… — Он посмотрел на девушку: — Тебе понятно, что я хочу сказать? — Она молча кивнула. — Тогда расскажи. Я еще не слышал твоего голоса.
— В тот день, когда я родилась, начался дождь. Никогда еще на Лансароте не было такого сильного дождя. — Голос Айзы был нежен и низок, а выражение лица — отстраненное, словно она рассказывала о ком-то другом. — Когда я была совсем маленькая, кто-то сказал, что я могу укрощать животных, подзывать рыб, лечить больных и веселить мертвых. Потом, став старше, я поняла, что еще и навлекаю беду. Вначале прилетела саранча. Потом мальчишки селения стали ссориться и драться из-за меня, и один из них даже упал в расщелину в Аду Тимафайа. Затем был развод Аделы и Бруно, который ходил за мной по пятам, а ее снедала ревность. И наконец, мертвые…
Она пристально посмотрела на Марко, который, заслушавшись, был не в состоянии и линии провести.
— Если бы я не родилась, — продолжила она, — мой отец был бы жив, да и многие другие тоже. — Айза глубоко вздохнула, и было очевидно, что она не хочет больше говорить на эту тему. — Это все. И мне совсем не хочется, чтобы ваша картина все это рассказывала.
— Почему?
— Потому что это принадлежит только мне. И как бы дорого ни продали вы свою картину, ни у кого нет права вешать на стену мои чувства. Мой отец мертв, моя мать гоняется на чужой кухне за тараканами, а мои братья ломают спину, пытаясь отремонтировать чужую шаланду. И все это из-за меня. Вы думаете, мне доставит удовольствие, если кто-то, кто меня совершенно не знает, узнает об этом?
— Нет, — согласился Марко Замбрано. — Полагаю, что нет.
— Тогда мне бы хотелось, чтобы вы нарисовали меня такой, какой видите. Ведь вам все равно, не так ли?
Что он мог ответить, когда понял, что проклятый капкан, которого он избегал столько времени, все-таки захлопнулся на его ноге и ему уже никогда не освободиться.
В тот самый миг, когда Марко Замбрано увидел эту девушку с прекрасными зелеными глазами, он понял, что она может накликать беду, а своим предчувствиям Замбрано доверял, так как те еще ни разу его не обманули. И вот сейчас она сидела перед ним, закутанная в простую желтую тунику. Если бы он протянул руку, то мог бы до нее дотронуться, однако с каждой минутой у него все крепло и крепло ощущение, будто их разделяют десятки, если не сотни метров. Всего этого было достаточно, чтобы он ощутил себя не в своей тарелке. И он почувствовал себя несчастным, по-настоящему несчастным.
«Каким будет мужчина, который однажды полюбит эту девушку? — спросил он сам себя, пока набрасывал очертания крепости, избегая смотреть на Айзу, которая теперь волновала его не на шутку. — Что можно почувствовать, когда подобное создание отдается тебе, когда она позволяет ласкать свое тело и смотрит на тебя иначе, чем на других мужчин?»
Марко Замбрано знавал многих женщин и чувствовал себя абсолютно удовлетворенным, ибо большинство из тех, кого он желал, отдавались ему добровольно. Ему было хорошо со всеми. Он не тяготился ни одной, так как строил отношения на взаимности: он не делал ничего такого, чего бы от него ожидали, и не просил более того, чего мог бы предложить сам. В этом, как и во всем остальном, Марко Замбрано всегда оставался верен себе и старательно избегал конфликтов. Но в это утро, сидя на террасе своего уютного домика на склоне холма, он смотрел на Айзу Пердомо, которую совсем еще не знал, и чувствовал, как старательно возводимые стены готовы вот-вот рухнуть. Он понимал, что она никогда не посмотрит на него иначе, как на любезного господина, предложившего свою помощь и желающего ее нарисовать, он же готов был ради нее изменить своим принципам и стать другим человеком.
— Сколько тебе лет?
— Шестнадцать.
— Оставила жениха на Лансароте?
Он тут же раскаялся в том, что задал дурацкий вопрос, и под ее пристальным взглядом почувствовал себя глупым мальчишкой.
— Извини, — попросил он. — Я забыл, что тебе не хочется говорить о себе.
— Поговорим о вас.
— Обо мне? — удивился он. — Что может быть интересного во мне? — Он улыбнулся. — Я предполагал, что ты никогда не решишься позировать мне.
— Возможно, вы были правы. Но потом я увидела ваши картины, и некоторые мне понравились. — Она сделала паузу. — На чьей стороне вы были во время войны?
— Я на войне не был.
Было видно, что ответ удивил Айзу. Она посмотрела на него с большим вниманием:
— Я думала, что все мужчины воевали. Сколько вам лет?
— Тридцать пять.
— В таком случае если вы испанец, то должны были быть на чьей-то стороне.
— Я уехал из Испании еще до войны. Я ненавижу войны…
— А если бы вы остались там, то на чьей бы стороне были?
— Ни на чьей.
— Вас бы заставили.
— Я бы отказался.
— Тогда вас бы расстреляли.
— Возможно, — согласился Марко. — Полагаю, что меня бы расстреляли тут же, причем и те, и другие. — Он улыбнулся. — Но я оказался хитрее, чем они, и вовремя смылся.
Айза замолчала, погрузившись в свои размышления.
— Вы знаете, — наконец заговорила она, — когда я увидела вас в госпитале, то мне показалось, будто вы были на войне. Потому-то ваш ответ меня и удивил. Обычно я не ошибаюсь в подобных случаях.
— Увы, на этот раз ты ошиблась.
Она не ответила и снова погрузилась в молчание. Но можно было с уверенностью сказать, что сейчас ее мысли занимает что-то другое.
Возможно, она думала, что, уплыв с родного острова, она постепенно лишится своего дара, унаследованного от прабабушки.
И мысль эта не могла ее не обрадовать. В конце концов, она с детства мечтала избавиться от проклятого дона.
Дамиан Сентено два дня провел с изящной пуэрториканкой, дочерью какого-то заезжего китайца и мулатки. В борделе она работала не более полугода, но уже хвасталась тем, что, переходя из рук в руки, за день может оказать не менее двенадцати «услуг».
Муньека[20] Чанг отличалась от остальных проституток, каковых знавал бывший легионер, не только прекрасными формами тела и гладкой темной кожей, но и тем, что за все это время не рассказала ни одной печальной истории об измене или унижении. Напротив, она с гордостью заявила, что пошла работать в бордель потому, что чувствовала в этом свое призвание, ибо уже в четырнадцать лет испытала «величайший оргазм», и это несмотря на то, что уже тогда спала она с бессчетным количеством незнакомых ей мужчин.
Кроме того, Муньека прекрасно говорила по-английски, по-французски, в совершенстве владела испанским, немецким и китайским языками, и это обстоятельство не могло не удивить Дамиана Сентено.
— Если ты приедешь на Барбадос и станешь работать у меня переводчицей, я тебе буду платить вдвое больше, чем ты зарабатываешь сейчас, — предложил он ей на вторую ночь, проведенную вместе.
— А что ты должен делать на Барбадосе?
— Отыскать кое-каких родственников.
— Вчера ты сказал, что в этом мире у тебя нет никого, ни единой живой души, что у тебя нет родственников.
— А их у меня и нет, — заметил Сентено, не теряя спокойствия. — Это очень длинная история, связанная с наследством.
— Много денег?
— Достаточно.
Она хитровато рассмеялась, одновременно покусывая его грудь в том месте, где проходил длинный шрам.
— В таком случае я поеду с тобой, — сказал она. — Но ты должен будешь платить мне в три раза больше, чем заплатил за эти дни.
— Согласен.
— В котором часу отходит корабль?
— В три. Мне придется уйти пораньше, чтобы достать тебе билет.
Поиски билета помешали в этот день Сентено выкроить время для того, чтобы пойти в портовое управление и официально навести справки у начальника, прежде чем уйдет патрульное судно.
Вероятно, если бы он лучше говорил по-французски или рядом с ним была бы Муньека, сержант, который замещал временно отсутствующего начальника порта, рассказал бы ему, что тот срочно отбыл на соседнюю Гваделупу, где вот уже несколько дней как искали терпящий бедствие баркас.
Дамиан Сентено даже предположить не мог, что в то время, как они с Муньекой отплывали на Барбадос, на аэродроме Форт-де-Франс поднимались в воздух два самолета военно-воздушных сил, у пилотов которых было то же задание, что и у него самого: определить местонахождение старого баркаса, который вышел из Плайа-Бланка три месяца тому назад.
Плавание было недолгим и приятным, ибо в путь они отправились на роскошном трансатлантическом лайнере, а море после продолжительных штилей по-прежнему оставалось спокойным. Муньека же, стоило ей лишь ступить на палубу, тут же превратилась из дешевой шлюхи в восхищенную, воспитанную туристку, отправившуюся в захватывающее путешествие.
— Кто тебя не знает, сказал бы, что ты всю жизнь провела среди светских людей, — заметил Дамиан Сентено. — Ты знаешь так много языков и так хорошо держишься, что я рядом с тобой кажусь жалким деревенщиной.
Она весело кивнула, одновременно опустила руку и крепко сжала в ладони его торчащий, словно подпорка в баре первого класса, член.
— А ты он и есть, милый, — ответила она как ни в чем не бывало и вежливо, словно не делала в эту самую секунду ничего предосудительного, улыбнулась второму помощнику капитана, который ответил ей такой же улыбкой. — Мой муж был послом, и я первые четыре года провела на балах и приемах, но пришла к выводу, что сношаться со всем дипломатическим корпусом, аккредитованным в Лондоне, очень скучно, о чем тут же поставила в известность мужа. Он был очень расстроен, так как любил меня по-настоящему. А потом я сбежала с одним из сутенеров, который заставил меня работать там, где ты меня и нашел.
— Где же сейчас этот сутенер?
— Думаю, разыскивает нас. — Она еще раз с силой сжала его член, заставив Дамиана Сентено согнуться вдвое, чтобы не выдать себя. Она же, по-прежнему сохраняя невинный вид, будто говорила о погоде или о превосходном качестве мартини, добавила: — Однажды я решила посвятить себя одному клиенту — шоферу грузовика. Мой сутенер, когда узнал об этом, так разозлился, что избил меня чуть ли не до смерти, а бедному шоферу изрезал все лицо. — Она покачала головой и закончила: — Этот дурак из Марселя очень груб. Очень груб, но меня такие вещи только развлекают.
— Тебе было весело, когда он бил тебя или когда полосовал ножом лицо того типа? — Получив на свой вопрос утвердительный кивок, Сентено не мог не спросить: — Почему? — И тут же жестом руки остановил ее. — Не торопись отвечать. В Легионе я знавал много шлюх, похожих на тебя. Хотя они, конечно, принадлежали к другому классу.
Муньека Чанг смешно скривила губки и одновременно ослабила хватку, давая тем самым понять, что игра окончена, и выражая удовлетворение его реакцией.
— Все мы, закоренелые проститутки, одного поля ягоды, каково бы ни было наше происхождение, образование или возможности, дарованные нам жизнью, — сказала она. — Нам это нравится! Мы шляемся по миру, охотясь за сказочным оргазмом, который однажды, будучи еще подростками, выдумали себе. Теперь мы верим в то, что он нас где-то ждет. Ничто на земле — ни социальное положение, ни богатство, ни любовь, ни уважение людей — не может заставить нас забыть о нем. Каждую ночь после очередной неудачи мы пытаемся убедить себя в том, что в следующий раз обязательно его поймаем, ибо в нашей жизни вот-вот должен появиться мужчина, который вырвет его из самых наших внутренностей… Потому что даже мы не знаем, где на самом деле находится этот проклятый оргазм.
— И что, он никогда не наступает?
— Естественно, нет. Никогда не наступает, потому что его не существует. Но стоит нам это осознать, как все — нам крышка. Мы падаем бесконечно низко, разрушаем собственную жизнь, но отказываемся до конца признать, что все это время гонялись за призраком. Мы говорим, что его не существует, но в душе все равно продолжаем надеяться на чудо… и обычно заканчиваем свою жизнь на углу, прося милостыню.
— Так значит, и ты из таких?
— Выходит, так.
— Считаешь, что это твоя судьба?
— Конечно.
— А у тебя есть силы, чтобы отказаться от этого?
— Да, — ответила она серьезно. — Однако я не хочу отказываться. Мы словно наркоманы или алкоголики. Можем избавиться от недостатков, но как только это делаем, тут же приходим к выводу, что такое существование и ломаного гроша не стоит. Думаю, ты со мной согласишься, что лучше быть живой проституткой, чем раскаявшимся мертвецом. По крайней мере, мы помогаем людям разрядиться.
— Невероятно! — Дамиан Сентено глубоко вздохнул от удивления. — Совершенно невероятно! Если бы я не встретил тебя в грязном борделе, я бы поклялся, что ты одна из этих экзальтированных дамочек, которая пытается шокировать меня, чтобы вызвать к себе интерес.
— Послушай! — весело воскликнула она. — «Экзальтированных»… Какие, оказывается, слова ты знаешь. Где ты этому научился?
— Думаю, там же, где ты научилась своему ремеслу: в борделе. — Он отпил большой глоток из своего бокала, облокотился на стойку и посмотрел на нее так, словно видел впервые: — Скажи мне одну вещь — думаешь, что со мной ты сможешь достичь этого волшебного оргазма?
— Почему вы всегда спрашиваете одно и то же? — спросила Муньека. — Нет. Я так не думаю. Я тебе уже сказала, что это недостижимая мечта. Только однажды один тип, один из атташе посольства, был очень близок к тому, чтобы воплотить мою мечту в жизнь.
— И что особенного в нем было?
— Он чуть не умер. — Она коротко хохотнула и чуть не захлебнулась мартини. — Я сидела на нем, занимаясь тем, чем надо, и вдруг у него случился сердечный приступ. Он умирал между моих ног. Мысль о том, что эякуляция будет последним делом в его жизни, возбудила меня до крайности. — Она с отвращением прищелкнула языком. — Тем не менее, когда я уже было подумала, что сейчас достигну своей мечты, он влепил мне такую затрещину, что я полетела на пол. Я была готова придушить его, чтобы достичь своего, а он взял и не умер.
— Это жутко. Ты настоящая скотина.
— Великий оргазм, как древнее божество, требует жертв. И если ты умер ради того, чтобы кто-то его достиг, то, значит, смерть твоя наступила не зря.
— Ты сумасшедшая!
— Возможно, — согласилась она. — Но не более, чем ты, человек, который провел всю жизнь на войне, из-за пустяка или из-за денег убивая людей. В конце концов, я никому, кроме самой себе, моего бедного мужа и того полудурка, которого чуть не угробила в ту ночь, зла не делала. — Она снова весело улыбнулась. — Кто бы мог подумать. Мы оба здесь, в новых нарядах, такие все из себя утонченные, элегантные. Если нас кто увидит, то примет за парочку зажиточных буржуа.
Она поставила свой бокал и не спеша зашагала между столиков, чтобы выйти на палубу, где, опершись на перила, стала любоваться огромной яркой луной, взбиравшейся на горизонт.
Дамиан Сентено по-прежнему сидел за стойкой бара и пил, наблюдая за тем, как мужчины невольно поворачивали в сторону его спутницы головы. Он не сомневался, что Муньека Чанг женщина, без сомнения, привлекательная.
Она ему нравилась. Ему нравилось ее тело, маленькое и упругое, ее удивительного оливкового цвета кожа, ее утонченное и одновременно жестокое лицо, наглый взгляд и поистине дьявольский характер.
В ту же самую ночь старший помощник капитана, белобрысый и надоедливый голландец, лез из кожи вон, чтобы привлечь внимание Муньеки, большую часть ужина буквально пожирая ее глазами и отпуская различные комментарии на немецком языке, дабы ее «муж» ничего не мог понять. Дамиан Сентено все это время наслаждался, представляя себе выражение лица проклятого голландца, если бы тот узнал, что всего лишь день назад он мог прийти в бордель Форт-де-Франс и овладеть ею, заплатив лишь несколько франков. Однако Дамиан Сентено вскоре вошел во вкус и старательно изображал довольного жизнью женатого мужчину. Они даже потанцевали, тесно прижавшись друг к другу.
Час спустя он повел Муньеку прогуляться по палубе и вскоре заметил, что возбужденный старпом подглядывает за ними в морской бинокль.
— Жаль, что такая женщина, как ты, тратит свою жизнь на бордель, — произнес он задумчиво, засмотревшись на море, когда они остановились на носу судна. — Ты могла бы далеко пойти.
— Я и пошла далеко, — как ни в чем не бывало ответила она. — Это в той, прежней жизни мне казалось, что я размениваюсь. — Она прижалась к нему, и его тут же охватило возбуждение. — Но я больше не хочу говорить на эту тему. Завтра мы сойдем на одном из самых прекрасных островов в мире и устроимся в самом восхитительном отеле из всех, какие я знаю. Единственное, чего я хочу, так насладиться этим сполна. И тобой, кстати, тоже.
Дамиан Сентено не мог не согласиться с Муньекой в том, что отель на Барбадосе был одним из самых красивых и удобных на всем Архипелаге. Здание в викторианском стиле было выстроено у живописного, поросшего пальмами пляжа с кораллового цвета песком, а окна его смотрели на темно-синие воды моря.
В салонах царил приятный полумрак, слуги носили ливреи, а в огромном зале ресторана под потолком летали обрывки светских разговоров. Все это контрастировало с бездонным голубым небом, крикливыми нарядами местных жителей, их громогласным смехом и неприличными танцами.
Казалось, что здесь, на этом островке Британии, каким-то чудом выросшем в самом сердце Карибского моря, Муньека Чанг, которая вела себя как самая настоящая леди, наконец-то оказалась на своем месте.
На следующий день они спустились в Бриджтаун, где надменный портовый служащий, весь из себя англичанин, сообщил им, что он, конечно, неизмеримо сожалеет, но у него нет информации об испанском паруснике под названием «Исла-де-Лобос». Однако он с превеликим удовольствием, в рамках служебных полномочий, отправит запрос во все порты, принадлежащие Британии, и, возможно, разыщет пропавший баркас.
Остаток утра они провели, гуляя по шумному городу, где чернокожие, словно уголь, малыши изо всех сил пытались продать им всевозможные сувениры, а вечером обошли неописуемо сказочный остров, занявшись любовью на одном из уютных, скрытых от посторонних глаз пляжей.
Дамиан Сентено впервые прикоснулся к жизни богатого человека, о которой он мечтал все пятьдесят с лишним лет лет, что жил на свете.
По завершении ужина он вышел подышать свежим ночным воздухом, держа в одной руке пузатый бокал с коньяком, а в другой — толстую гаванскую сигару. Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что эта охота приносит ему ни с чем не сравнимое наслаждение и что, если бы это было возможно, он убил бы Пердомо не один, а сотню раз, тысячу раз подряд он бы содрал с них шкуру, чтобы только не заканчивать своего путешествия.
Затем, прежде чем удалиться в свою роскошную спальню и снова заняться любовью с Муньекой Чанг, он попросил служащего, чтобы тот отправил телеграмму в портовый офис Форт-де-Франс на Мартинике с просьбой: любые сведения об «Исла-де-Лобос» пересылать в этот отель.
Он даже в самом кошмарном сне не мог себе представить, что спустя двадцать четыре часа уже получит ответ.
— Ночью ко мне приходил дон Матиас.
Аурелия прекратила подметать густой щеткой из свиной щетины грязный кухонный пол и посмотрела на дочь, которая гладила брюки Марко Замбрано, подаренные им Асдрубалю:
— Что он тебе сказал?
— Ничего. Ничего не сказал. Он тихо стоял у кровати и пристально смотрел на меня, как обычно смотрят мертвецы.
— Ты уверена в том, что он мертв? Ведь это не может быть простым сном.
— Я не спала. Начинало светать, и ты дважды повернулась в кровати, будто тоже увидела его.
— Я ничего не видела. И мне ничего не снилось.
— А я вот видела. Он был мертв. Но вот только умер он не сам. Его кто-то убил.
— Кто?
Девушка пожала плечами и снова сосредоточилась на глажке:
— Не знаю. Я же тебе сказала, что он просто смотрел на меня, и все.
— Может быть, его убил Дамиан Сентено?
— Не знаю.
Аурелия села на стул, будто внезапно лишилась сил, и провела тыльной стороной ладони по лбу, все еще держа щетку в руке:
— Возможно, это сделал сам Дамиан Сентено. Или Рохелия и ее пьяница муж. Ты уверена в том, что он мертв?
— Уверена.
— Боже милостивый! То, что я говорю, плохо, но его должны были бы убить еще три месяца назад. Твой бедный отец был бы тогда по-прежнему с нами, и нам не пришлось бы бежать из дому. — Она на секунду замолчала. — Если дон Матиас мертв, мы сможем вернуться домой, когда все утихнет…
— Нет. Не сможем.
— Почему?
— Не знаю. Но мы не сможем.
Она повесила брюки на спинку стула, присела на подоконник и принялась внимательно разглядывать море, время от времени бросая взгляды на мать.
— Я никогда не видела дона Матиаса, — произнесла Айза. — Я не знаю, как он выглядит, но знаю, что человек, который приходил ко мне ночью, был именно он. И он не был похож на тихого мертвеца… У мертвых совсем другой вид. Они будто знают, что все закончилось, хотя в большинстве случаев не понимают почему и гадают, что же будет дальше. Хотя они и задают вопросы, но не надеются на ответ. Но дон Матиас Кинтеро другой. Он стоял у моей кровати, будто чего-то ждал.
Аурелия Пердомо подошла к мойке, отставила наконец в сторону щетку и стала мыть руки. Стоя спиной к дочери, она упавшим голосом произнесла:
— Когда ты перестанешь звать мертвецов? Ты снова меня растревожила. Разве мало того, что с нами уже случилось? Разве мало смерти твоего отца? Неужели есть еще что-то? — Голос ее усилился и теперь звучал почти что угрожающе. — Что еще?!
Айза смотрела вдаль.
— Если ты хочешь, я больше не буду тебе рассказывать.
— Нет. Не это. — Аурелия вытерла руки платком и, не кладя его на место, подошла к дочери и взяла ее за подбородок, вынуждая посмотреть себе в глаза. — Я чувствую, когда ты что-то пытаешься скрыть от меня, потому что слишком хорошо тебя знаю. И это меня больше всего нервирует. Как и твоего отца. Ты ведь знала, что он погибнет, правда? Я это поняла еще там, на баркасе. Ты с самого начала знала все о нашей судьбе, однако ничего не сказала. — Она легонько погладила дочь по волосам. — Я люблю тебя, моя хорошая. Люблю, как никого на этом свете, однако проклинаю твой ужасный дон и ту, что тебе его передала. Пока ты не избавишься от этого дара, твоя жизнь будет адом.
— А что я могу поделать? Может, тебе известен способ, как можно избавиться от дона или передать его тому, кому он действительно нужен? Ведь на свете есть люди, которые мне завидуют. Я бы с удовольствием отдала им свои способности. — Она уткнулась в материнскую грудь и зарыдала. — Мы были так счастливы, когда стояли на берегу и смотрели, как возвращается наш баркас, а братья знаками показывали, что путина удалась! Мы были так счастливы, когда по вечерам усаживались в кружок во дворе. Папа закуривал трубку, а я садилась к нему на колени и слушала выдумки дона Хулиана.
— Что-то случилось?
Обе женщины оглянулись и посмотрели на Марко Замбрано, появившегося в дверном проеме. Волосы его были взъерошены, и вид он имел человека плохо выспавшегося.
Аурелия поспешила успокоить его:
— Воспоминания.
Замбрано подошел к плите, взял кофеварку и ею показал на девушку.
— Я не позволю тебе грустить! — предупредил он. — Когда модель грустна, картину словно покрывает вуаль…
— Но ведь это все глупости! Единственное, что покрывается вуалью, так это фотографии…
— Это не глупости, деточка! В живописи вообще нет ничего глупого! Тебе известна «Джоконда»? Так вот, «Джоконду» накрыла вуаль потому, что натурщица была грустна. Но да Винчи был самым настоящим волшебником и сумел все исправить.
— Вы сегодня уже с утра какой-то странный.
— Почему бы и нет? На рассвете подняли возню крысы, а летучие мыши подрались на чердаке. Разве вы их не слышали? Я готов поклясться, что в доме побывал зомби. Только нечисть может так растревожить этих тварей.
— А кто такой зомби?
— Мертвец, способный ходить… Чем-то он похож на меня с утра, когда я мучаюсь с похмелья, только он очень худой и кожа у него черная. — Он улыбнулся, помешивая ложечкой кофе. — Ты готова к работе?
— В любой момент.
— Тогда быстрее переодевайся. Ты должна уже быть на месте, когда я закончу завтракать. У нас есть только два часа. Я должен ехать в Пуэнт-а-Питр и выяснить, как идут дела с вашими документами. Надеюсь, что Дувивьер их уже подготовил.
Когда Айза вышла, Марко Замбрано кивнул в сторону двери, вызывая на разговор жарившую гренки Аурелию:
— Правда, ничего не произошло? Если хотите, мы отложим сеанс. Спешки нет.
Аурелия возразила:
— Она все еще очень расстроена из-за смерти отца. Айза родилась слишком чувствительной, а отца всю жизнь боготворила. Она не скоро придет в себя.
— Но вы всегда ей помогаете, поддерживаете ее… — Он покачал головой. — Я спрашиваю себя: почему судьба решила разрушить такую прекрасную семью, как ваша? Что до меня, так я никогда не любил клетку, в которую превратился наш дом. Там все ненавидели друг друга, все время ругались… Да, такой была моя семья.
— Потому-то вы и не решились завести свою? Из-за того, что в вашей все ненавидели друг друга?
— Возможно. Или, может быть, потому, что так и не встретил женщину, с которой захотел бы прожить всю жизнь. — Он посмотрел на Аурелию и улыбнулся: — Хотя еще есть время. Мне всего лишь тридцать пять лет.
— Ну жениться все же следует пораньше, — заметила Аурелия. — Только так можно быть уверенным, что увидишь, как вырастут твои дети. Мой Абелай казался братом своих сыновей.
Марко хотел что-то сказать, но его прервал стук в дверь кухни. По другую сторону металлической противомоскитной сетки стояла задорно улыбающаяся негритянка.
— Можно войти? — спросила она по-французски.
— Мама Ша! — воскликнул Марко Замбрано удивленно. — Что вас привело сюда в такую рань? Мне думается, в такой час вы должны еще находиться в постели. Проходите, проходите!
Негритянка открыла дверь, в проем которой ей пришлось протиснуться боком, дабы ни ее огромная грудь, ни гигантский зад не остались за порогом.
Марко Замбрано встал и принес с террасы громадное плетеное кресло с высокой спинкой. Это было единственное кресло в доме, в котором негритянка могла с удобством устроить свое необъятное тело.
— Спасибо, сынок! — тут же ответила та. — Ты всегда был обходительным мальчиком. А кто эта прелестная сеньора? Модель или новая невеста?
— Ни то и ни другое, мама Ша. Это одна моя подруга из Испании.
— Это хорошо! — заключила мама Ша. — Всю жизнь мучаюсь, когда говорю по-французски с этими тупыми «мосье». Я доминиканка, — поведала она с гордостью, обратившись к Аурелии. — Из Пуэрто-Плата, самого красивого города на острове.
Глубоко вздохнув, чтобы восстановить дыхание, она покопалась в своей огромной потрепанной сумке, сшитой из занавесок, достала толстую гаванскую сигару и сунула ее в рот, а затем беспокойно огляделась вокруг.
— Что-то произошло? — спросила она.
— Что вы имеете в виду? — спросил Марко Замбрано, протягивая ей коробок спичек.
— Произошло что-то необычное и очень интересное… Для меня интересное, — с нажимом произнесла она. — И кое-что, что имеет ко всему этому отношение, по-прежнему находится в доме. — Она раскурила пахучую сигару, кончик которой был похож на артишок, и, сделав глубокую затяжку, добавила: — Вот уже три дня, как я постоянно думаю о твоем доме. — Она внимательно посмотрела на Аурелию, будто хотела в ее лице найти ответы на все свои вопросы, а потом наконец спросила: — Вы бы не могли сварить еще немного этого прекрасного ароматного кофе для бедной негритянки, которая еще не завтракала?
— Ох! Да, конечно!
Аурелия тут же поспешила поставить перед гостей тарелку с поджаренным хлебом и последним кусочком бисквита, приготовленным прошлым днем.
— Сахару?
— Нет. Я и без того слишком толстая. — Она рассмеялась собственным словам, вот только ее внимательные глаза не улыбались. — Вы уверены, что ничего не произошло? — обратилась она уже к Марко Замбрано.
— На рассвете?
— На рассвете, — подтвердила мама Ша.
— Я проснулся… — сознался Замбрано. — И знаете, я готов поклясться, что здесь побывал зомби.
— Зомби тупы и ничего не понимают в географии, — возразила негритянка. — Потому-то они и не путешествуют. — Она широким взмахом руки обвела комнату и пристально всмотрелась в клубы растекающегося в воздухе дыма. — Нет! Зомби здесь не было. Здесь было что-то другое…
— И что это такое? — весело спросил Марко Замбрано.
— Ты, испанчик, не смейся! Не шути, — предупредила негритянка, на удивление серьезно. — Я свое дело знаю. Когда мои собаки и кошки просыпаются, значит, им есть из-за чего… — Она сделала короткую паузу. — Этот бисквит очень хорош. Вы должны дать мне рецепт. Кто-нибудь еще есть в доме?
— Моя дочь…
— Белая?
— Естественно.
— Почему естественно? — удивилась толстуха. — Разве у нее не могло быть черного отца?
— Наверное, мог быть. — Аурелия немного растерялась. — Но там, откуда мы родом, черных почти нет. Только если какой забредет случайно. Не так, как здесь.
— Понимаю, — кивнула мама Ша. — Послушайте! Этот бисквит действительно чудесный. Вы клали в него корицу?
— Щепотку.
— Мне так и показалось.
Она внезапно замолчала, устремив взгляд на дверь, в проеме которой только что появилась Айза. Рука мамы Ша, державшая сигару, неожиданно задрожала, словно по телу ее пробежала неконтролируемая судорога.
— Боже великий! — воскликнула она. — Господи, слышишь ли Ты меня? Неужели Ты опять явил мне чудо Свое!
Она резко поднялась, что было удивительно для человека подобной комплекции, и покорно склонила голову, не отрывая взгляда от Айзы.
— Благослови меня, дочка! — чуть не плача попросила она. — Благослови меня, чтобы благодать пребывала со мной в течение моей жизни и чтобы ее даже немного хватило на время после смерти.
Айза застыла от удивления, не зная, что сказать и что сделать, и лишь неотрывно смотрела на маму Ша, а та, схватившись за край стола, неловко повалилась на колени и завопила с безумным видом:
— Благослови меня, о избранница Элегбы, любимица богов, та, в ком мертвые ищут утешения.
Со стороны все это выглядело и комично, и жутко одновременно: невероятно толстая женщина, похожая на гигантскую каракатицу, ползала по кухонному полу, что-то крича и отбиваясь от Аурелии, пытавшейся ее поднять.
Наконец она доползла до Айзы, бросилась к ее ногам и обхватила их с таким отчаянием и страстью, с какой утопающий хватается за соломинку.
— Благослови меня! Благослови меня! — завыла мама Ша в исступлении.
От всех пережитых волнений месячные у Айзы начались на пять дней раньше. Аурелия же чуть не лишилась чувств: впавшая в неистовство негритянка, которая, очевидно, чего-то хотела от ее дочери, стала последней каплей для и так уже смертельно усталой и морально опустошенной женщины.
Тогда ситуацию спас Марко Замбрано. Каким-то чудом он уговорил маму Ша отпустить ноги Айзы и помог той вернуться в кресло. Затем он, как мог, постарался успокоить Аурелию, которая, желая защитить дочь и вооружившись сковородкой, готова была уже броситься на маму Ша.
— Но разве вы не понимаете? — отдышавшись, спросила наконец мама Ша. — Не понимаете? Эта девочка избрана Элегбой. Этого нельзя не увидеть, нельзя не почувствовать. Только один раз более двадцати лет назад я видела нечто подобное. Только один раз в жизни я видела человека, которого отметили боги. Но та девушка не обладала и половиной той власти, которая есть у вашей дочери. — Она простерла руки над столом. — Хотя бы к моей руке прикоснись, маленькая! Прикоснись, чтобы я могла спокойно умереть.
Однако вместо нежного прикосновения Айзы она получила шлепок от Марко Замбрано, который грубо перехватил ее руки.
— Пойдемте! — громко сказал он. — Разве вы не видите, что напугали их? И не рассказывайте никому о ней, хорошо? Вряд ли ей понравится, что люди будут при ее приближении бросаться на колени.
— Но она должна к этому привыкнуть! — возразила мама Ша как ни в чем не бывало. — Или нет?
Айза лишь молча покачала головой.
— Но как это возможно? — не унималась мама Ша. — Разве тебе никто не говорил, что ты избрана богами?
— Прекратите нести чушь! — закричала Аурелия. — Что за ерунду вы несете?! Какие еще боги, какое еще избрание?! Мою дочь никто и никуда не выбирал! Она просто чересчур развита для своего возраста, вот и все!
— Как вы можете такое говорить? Вы с ума сошли!
— Да нет, это вы сумасшедшая!..
— Мама Ша! — вклинился в перебранку Марко Замбрано. — Почему вы позволяете себе вести себя подобным образом в моем доме? Почему оскорбляете мою гостью, называя ее сумасшедшей? Я никогда не думал…
— Да, нужно быть сумасшедшим, чтобы отвергать благословение небес! И только сумасшедшая станет утверждать, глядя на избранницу богов, что она всего лишь развита не по годам! — прервала его мама Ша. — Да это заметит даже самый бестолковый… — Она снова пристально, с осуждением посмотрела на Марко Замбрано: — Разве ты не видишь?
Замбрано было нечего возразить. Впрочем, даже Аурелия никогда не понимала до конца свою дочь, поведение которой, положа руку на сердце, часто считала странным. Мама Ша, в ответ на свой вопрос получившая лишь настороженное молчание, поняла, что победила, и продолжала с еще большим напором:
— В моей стране тебя бы сделали царицей, а на Гаити тебе бы поклонялись как богине. Но гаитяне люди плохие, дочка. Держись от них подальше, потому что они превратили кристально чистые воды магии вуду в кровавую реку, отделив ее от природы и заставив служить себе. Ты свет, а они захотят превратить тебя во владычицу тьмы. — Она бросила на Айзу полный обожания взгляд. — Когда ты прибыла на Басе-Терра, дочка?
— Три дня назад.
— Три дня! — возбужденно воскликнула мама Ша. — Мое сердце меня не обмануло. Вот уже три дня, как мои мысли неотступно связаны с этим домом. Что ты здесь делаешь?
— Позирую дону Замбрано.
Мама Ша подскочила, будто змея впилась ядовитыми зубами прямо в ее необъятный зад, и закричала так, что все присутствующие невольно вздрогнули.
— Нет! Никто не имеет права тебя рисовать! — Она резко повернулась в сторону Марко Забрано: — И ты тоже сумасшедший! Она не может быть нарисована! Иначе на тебя обрушится гнев Элегбы.
— Вы меня, конечно, извините, но я уже по горло сыт вашими глупостями, мама Ша, — последовал весьма неучтивый ответ. — Не вынуждайте меня быть грубым! Или вы ведете себя прилично, или я буду вынужден попросить вас уйти.
— Прилично! — презрительно выплюнула мама Ша. — Что знаешь ты о приличиях? Что знаешь ты о жизни вообще, если не можешь даже разглядеть на лице девочки божественную печать? Ты все равно не сможешь передать на картине ее суть, так зачем тогда стараешься? Знаешь, что бы у тебя в итоге получилось? Жалкая карикатура! Вот так! Да, сеньор. Ты бы написал карикатуру на дочь Элегбы, и люди бы после этого разочаровались в твоем таланте. Они бы смотрели на нее и не видели в ее глазах божественного света! — Она обвела руками контуры тела Айзы, которая, как зачарованная, слушала ее. — Разве ты можешь ощутить ауру, которая ее окружает? А если да, скажи, как ты собираешься передать все это на полотне… — Она несколько раз мотнула головой, словно прогоняя наваждение. — Ты не должен рисовать ее. Никогда не рисуй, ибо в противном случае тебя настигнет проклятие Элегбы.
Говорила мама Ша с такой убежденностью, что присутствующие стали впадать в странное, похожее на транс состояние и в конце концов даже поверили ей. Первой пришла в себя Аурелия. Она тряхнула головой, сбрасывая оцепенение, и воскликнула:
— Хватит! Мы пересекли океан и перенесли столько бед не для того, чтобы теперь выслушивать глупости. Мы хотим жить нормальной жизнью. Мы хотим покоя, хотим работать и зарабатывать на жизнь честным трудом и никого, слышите, никого не бояться. Большего нам и не надо! Почему вы пристали к моей дочери? Она не хочет быть ни избранницей богов, ни хозяйкой дона! И она не желает говорить с мертвыми. Она хочет лишь одного, чтобы ей позволили оставаться нормальным человеком, таким, какой и должна быть девушка ее возраста.
Мама Ша попыталась было что-то сказать, однако Марко Замбрано жестом прервал ее и взялся за спинку кресла, чтобы помочь ей встать.
— Я прошу вас, пожалуйста, уходите! — сказал он тоном, не терпящим возражения. — Умоляю вас, не говорите ничего больше. Приходите завтра или когда еще захотите. Тогда все успокоятся, и мы сможем нормально поговорить.
Мама Ша, похоже, поняла, что настаивать дальше бессмысленно. Она долгим, тяжелым взглядом окинула Айзу, у ног которой ползала несколько минут назад, подобрала свою сумку и нехотя, тяжелой походкой двинулась к выходу. Было видно, что ей стоило неимоверных усилий уйти из дома.
В течение нескольких минут, показавшихся Аурелии, Айзе и Марко Замбрано бесконечными, они не могли произнести ни единого слова. Наконец Марко налил себе остывший кофе и печально произнес:
— Я сожалею…
— Вы не виноваты.
— Я всегда знал, что она немного эксцентрична, но раньше ее болтовня доставляла мне удовольствие. Я не мог себе и представить всю степень ее безумия.
Он допил кофе и встал. Было видно, что ему совсем не хочется уходить из дому.
— Мне нужно идти, если я хочу успеть сегодня все то, что запланировал. К ужину меня не ждите, — сказал он. — Похоже, мне придется остаться ночевать в Пуэнт-а-Питр.
Аурелия и Айза так и стояли, молча, опустив руки, пока с улицы до них не донесся рокот мотора старого «ситроена», спускавшегося по склону холма. Наконец Аурелия глубоко и с облегчением вздохнула и задумчиво покачала головой:
— Я надеялась, что все наши кошмары останутся на Лансароте, но теперь мне кажется, что все будет только хуже. Намного хуже!
Пришедшие на завтрак Асдрубаль и Себастьян сразу же поняли, что в доме произошло что-то нехорошее. Они неустанно задавали вопросы, пока Аурелия не сдалась и не рассказала им о произошедшем.
— Не спрашивайте меня, почему она бросилась к ногам вашей сестры, как только увидела ее, — закончила она. — Однако так оно и было. И клянусь вам: на какой-то момент мне показалось, будто мне явился призрак, и я даже испугалась.
— Я ничего не сделала, — прошептала Айза. — Ничего.
Асдрубаль ласково посмотрел на нее и успокаивающе улыбнулся:
— Я знаю. Тебе не за что извиняться. Тем более что ты наверняка напугана больше всех. Что ты думаешь обо всем этом?
— Что у нее не все дома.
— Нет! — резко оборвала Аурелия. — Теперь я уже не думаю, что все так просто. Какой бы безумной она ни была, вряд ли бы она стала бросаться в ноги первой встречной, прося у нее благословения. Здесь что-то не так. Вот только что?
— Я тебе тысячу раз говорила, что не знаю! — вдруг пронзительно закричала Айза, которая, судя по всему, уже находилась на грани истерики. — И знать не хочу! Я сыта всем этим по горло! Сыта!
— Знаете, мне кажется, что все мы ведем себя неправильно, — спокойно сказал Себастьян, не обращая внимания на крики сестры. — Думаю, сейчас самое время признать, что Айза далеко не обычная девушка, нравится нам это или нет. Так почему бы нам не изменить свое отношение к происходящему? Почему бы во имя благих целей не воспользоваться ее даром?
Аурелия, которая все это время не отходила от плиты, строго посмотрела на сына:
— Ты хочешь, чтобы твоя сестра превратилась в базарного фокусника?
— Нет! — Асдрубаль встал на защиту брата. — Я думаю, он говорит совсем не об этом. И я с ним согласен. На Лансароте мы всегда шли за рыбой туда, куда указывала нам Айза, и не видели в этом ничего дурного. Мы частенько спрашивали ее, не приснилось ли ей еще что-то, просили вспомнить. Это было похоже на игру. И мы очень гордились своей сестрой, когда говорили людям, что через три дня будет хороший улов, и рыба действительно подходила к нашим берегам. Почему сейчас мы этого так боимся?
— Потому что умерли люди. Слишком много людей! — ответила Аурелия. — Если бы люди не стали болтать о ее даре, те мальчишки никогда бы не пришли смотреть на нее и не подрались… — Она начала расставлять тарелки, и ее резкие движения говорили о крайней степени раздражения. — Я не хочу, чтобы и по эту сторону океана история повторилась. Айза красавица. Хорошо! Она очень красива! Так тому и быть! Но не будем подливать масла в огонь. Я хочу, чтобы моя семья была нормальной! — И тут вдруг она вздрогнула, словно внезапно вспомнила что-то страшное. — Кстати! Ваша сестра уверяет, что прошлой ночью к ней приходил дон Матиас Кинтеро и что он был мертв. Может, кто-нибудь из вас знает, кто его убил?
Марко Замбрано возвратился из Пуэнт-а-Питр намного раньше, чем планировал. Он пришел, когда все еще сидели на веранде, любуясь красавицей луной, восходящей над спокойным, кристально чистым океаном. Она подглядывала за людьми сквозь резные ветви пальм, растущих на юго-западном мысе острова, а ее отражение плескалось в теплых волнах.
Замбрано был весел, и первое, что он сделал, так это бросил на стол бумаги, которые держал в руке.
— Ваши документы! — торжественно произнес он. — Все улажено! У вас есть разрешение на трехмесячное пребывание, и вашему родственнику сообщили, что вы находитесь здесь, живые и здоровые.
— Родственник? — тут же встревожилась Аурелия. — Что за родственник? У нас нет родственников.
Марко Замбрано удивленно посмотрел на нее.
— Да, действительно… Похоже, раньше вы говорили мне об этом, — согласился он. — Но Дувивьер утверждает, что в Гваделупе у вас есть родственник, который интересуется вами.
— Как его зовут?
Марко растерялся, явно не понимая, почему сообщение о родственнике вызвало такой переполох среди его гостей.
— М-м-м-м… Я не знаю. Кажется, он говорил мне, но я не запомнил его имени…
— Дамиан Сентено?
Этот вопрос задала Айза, и Марко Замбрано вдруг охватило неприятное, тоскливое чувство.
— Да… Да, думаю, именно это имя мне и назвали. В данный момент этот человек находится на Барбадосе, и морское ведомство Мартиники отправило ему телеграмму. — Он посмотрел поочередно на каждого из присутствующих и нерешительно спросил: — Вы сделали что-то нехорошее?
Он не сразу дождался ответа. Себастьян первым нарушил молчание, решив, что человек, столь любезно предложивший им приют, заслуживает правды. Он подробно рассказал ему обо всем, что произошло за последние месяцы, начиная с той самой проклятой ночи на острове святого Хуана.
— Айза утверждает, что дон Матиас умер, — сообщил Себастьян. — Однако даже смерть хозяина не смогла остановить Дамиана Сентено. Святые небеса! Америка казалась нам такой большой и такой далекой, но мы ошибались. Мы еще и доплыть не успели, как он нашел нас!
— Но здесь не Лансароте, — возразил Марко Замбрано. — Здесь он вам ничего не сможет сделать. Полиция…
— Для Дамиана Сентено полиции не существует, — вступила в разговор Аурелия. — Он пересек океан, чтобы убить моего сына, и полиция не сможет его остановить. Он найдет способ сбежать.
— Дувивьер сделает все возможное, чтобы помешать ему высадиться на острове.
— Как? Он станет наблюдать за всем побережьем? Проверять все лодки, яхты и корабли, которые подходят к берегу? А если ему это все удастся каким-то чудом, как долго он сможет держать оборону? Уверяю вас, Дамиан Сентено сумеет добиться своего. На самолете, морем, вплавь или даже пешком по океанскому дну, но он доберется до острова. Я не знаю почему, но для этого человека убить Асдрубаля, похоже, дело принципа. И как только можно так далеко зайти в своей мести? Неужели дон Матиас думает, что после смерти Асдрубаля его несчастный сын обретет покой на том свете?
— Он ничего не думает, мама, — возразила ей Айза. — Дон Матиас уже знает, что покоя не будет ни для него самого, ни для его сына. Но сейчас он уже не сможет остановить Дамиана Сентено, даже если очень этого захочет.
— Почему?
— Потому что он мертв, а Дамиан Сентено жив.
Айза надолго замолчала, размышляя над чем-то, ведомым только ей.
— Ты помнишь татуировку, которая была у Сентено на плече? — заговорила она наконец. — Сердце, пронзенное штыком. Прошлой ночью я видела такую же татуировку у дона Матиаса, когда он опирался о спинку моей кровати. — Она повернулась к братьям и спросила: — Что она может означать?
Но на вопрос ее у них ответа не было, только лишь смутные догадки и предположения. Впрочем, ее на самом деле волновал не сам рисунок, ее волновал человек, его носивший, — его она хотела понять, в его душу жаждала заглянуть.
— Он будет один?
Все знали, что на Лансароте к нему присоединилось еще шесть головорезов, а это значит, что кто-то из них вполне мог управлять катером, который они видели во время своего нелегкого перехода по океану. Возможно, все они по-прежнему следуют за своим предводителем. Хотя может статься, что Сентено оставил подле себя лишь одного из них, самого преданного человека, или вовсе решил пуститься в путь в одиночку, подгоняемый лишь мстительной яростью.
Впрочем, сейчас им было все равно, путешествует ли он один или в сопровождении своих дружков-убийц. Дамиан Сентено был страшен сам по себе. Это был человек, который нес на своих плечах беду, а значит, причинял зло легко, словно играючи, не нуждаясь ни в чьей помощи.
— Что будем теперь делать?
— Уходить. Что еще нам остается?
— Найти и покончить с ним!
Аурелия с ужасом посмотрела на Себастьяна, произнесшего эту фразу:
— Как? Убить его? Ты знаешь, что этого человека остановит только смерть, а я не хочу, чтобы моя семья купалась в крови. Мы найдем способ бежать с острова и незамеченными добраться до континента. Америка все еще очень велика. Там он наверняка потеряет наши следы. Да и как можно найти человека среди всех этих городов и дорог?
— Пока что ему это удавалось, — заметил Асдрубаль.
— Это потому, что он знал имя нашего баркаса. Мы об этом не подумали и допустили ошибку. Тогда нам казалось, что нас не станут преследовать. Мы верили, что оставь мы Лансароте, и все наши беды закончатся. Однако все вышло совсем наоборот. — Аурелия была печальна. — Впрочем, судьба многому научила нас за это время. Теперь мы станем более тщательно заметать следы.
— Нет! — Себастьян вскочил на ноги и принялся мерить шагами просторную комнату, в которой они все собрались. — Не обманывай себя, мама. Как бы далеко мы ни забрались, за нами по пятам будет следовать страх. Дамиан Сентено станет нашим проклятием на всю оставшуюся жизнь. Этот человек решил идти до конца, а нюху его может позавидовать любая ищейка. Нет! — упрямо повторил он. — Я не хочу провести остаток своей жизни, постоянно оглядываясь по сторонам и вздрагивая от каждого шороха. — Он посмотрел на брата: — А как же Асдрубаль? Какое будущее ждет его? Сентено избрал его своей жертвой, а мой брат еще даже не видел своего преследователя в лицо. Как он будет жить, зная, что любой человек, встретившийся ему на пути, может оказаться убийцей? Это не жизнь, это ад! Разве ты не понимаешь?
— Понимаю, — согласилась Аурелия. — Но неужели вам будет легче жить, зная, что на вашей совести еще одна смерть? Асдрубаль убил того юнца, потому что у него не было другого выхода. Это было все равно что несчастный случай. И он уже сполна за все заплатил. Все мы заплатили… Давайте не забывать жертву, которую принес ваш отец! А теперь вы собираетесь убить еще одного человека! Сколько же тогда мы будем вынуждены заплатить?
— Жизнь такого человека, как Дамиан Сентено, не стоит и ломаного гроша. Тот, кто убивает ради денег, рано или поздно будет убит сам. — Себастьян остановился у перил и посмотрел на плывущую по ночному небу огромную пузатую луну. — Можешь быть уверена, что я не стану испытывать вины, если убью его. Наоборот. Я буду испытывать гордость, зная, что мир теперь, без этого мерзавца, стал намного лучше.
— А я не хочу, чтобы мой сын гордился тем, что убил человека! — Аурелия была непреклонна. — Даже если этот человек Дамиан Сентено. Если он останется в живых, то однажды устанет искать нас. Если же умрет, то станет преследовать нас вечно, до тех пор, пока мы сами не сойдем в могилу. Нет! Мы уходим. Решено!
— Как? — Асдрубаль говорил так тихо, что голос его можно было спутать с шумом ветра, перебирающего пальмовые листья. — Я согласен с тобой, мать. Я знаю, что чувствует человек, который был вынужден убить. Все это время мне было очень тяжело. Никому бы я не пожелал пройти через тот ад, через который прошел сам. Но Себастьян прав. Мы не можем скрываться вечно. Подумай сама: в карманах у нас всего лишь восемьдесят песет, куда мы пойдем с такими деньгами, что будем делать?
— Боже! — Аурелия уже чуть ли не рыдала. — До каких пор Ты будешь подвергать нас испытаниям? Почему Ты пытаешься превратить моих детей в убийц? Что Ты от нас хочешь? Скажи сразу! Чего Ты хочешь?
— Вы можете уплыть на шаланде.
Все посмотрели на Марко Замбрано, на протяжении всего разговора хранившего молчание.
— Как вы сказали?
— Очевидно, что вы умеете обращаться с лодками и море вас не пугает, а это значит, что с острова вы можете уплыть на шаланде. Отсюда до Венесуэлы всего лишь четыреста миль. Если вы мне потом напишите, где оставили лодку, я кого-нибудь отправлю за ней или приеду сам. — Слова почему-то давались ему нелегко, но он, собрав все силы, продолжал: — Как только вы окажетесь в Венесуэле, то сможете затеряться на континенте. Там никто, даже этот самый Дамиан Сентено, не сможет найти вас.
Все это время Марко Замбрано видел только сияющие глаза Айзы, которая неотрывно смотрела на него.
— Почему вы это делаете для нас? — спросила наконец девушка.
— Потому что мама Ша была права. Я никогда не смогу написать твой портрет. А еще я не хочу, чтобы вы кого-нибудь убили. Уходите! На лодке достаточно еды, и я дам вам денег, немного, но на первое время хватит. Я уверен, что вы их мне вернете, когда сможете. Спускайте на воду эту грязную шаланду и бегите отсюда. Если она поможет вам добраться до Венесуэлы, то значит, я прожил свою жизнь не зря — сумел кому-то помочь, сделал что-то хорошее. Пожалуйста! Как можно быстрее бегите с этого острова, который может стать для вас западней.
Все четверо переглянулись, а потом посмотрели на Замбрано.
— Сможете заставить ее плыть? — спросил он.
Себастьян склонил голову в знак согласия.
— Если на «Исла-де-Лобос» мы прошли три тысячи миль, то я вам гарантирую, что на этой шаланде мы буквально пролетим оставшиеся четыреста.
— А я вам гарантирую, что не позже чем через шесть месяцев вы получите свои деньги назад, — сказала Аурелия тоном, не допускающим возражений, и пристально посмотрела на Замбрано. — А еще мы обязательно возместим вам расходы на еду. Я надеюсь, вы мне верите?
— Безусловно, — улыбнулся Марко Замбрано и встал. — А теперь, если всех все устраивает, предлагаю не терять времени даром и начать сборы. Я буду чувствовать себя намного спокойнее, если с рассветом вы выйдете в море.
Шаланда начала двигаться как бы с неохотой, свойственной кораблям, которые на самом деле терпеть не могут море. Впервые в своей жизни Марко Замбрано смотрел на нее с берега, чувствуя себя при этом глубоко несчастным, так как проклятая лодка уносила прочь единственную девушку, к которой он испытал нечто большее, чем простое физическое влечение. Правда, к грусти его примешивалось и чувство удовлетворения. Всю свою жизнь он старательно бежал от трудностей и проблем и сейчас, глядя на удаляющуюся «Грасиелу», понимал, что ему снова удалось сбежать.
А еще он был совершенно уверен, что даже на смертном одре не забудет удивительные зеленые глаза Айзы, девушки, на лице которой лежало покрывало тайны. Понимал он и то, что мечтать о близости с ней было глупо, а потому хорошо, что она уехала сейчас, пока он не начал страдать по-настоящему.
Ему была ненавистна та тоска, которая овладела его душой в тот момент, когда он впервые увидел Айзу в больничной палате. Он стремился как можно скорее вернуться к прежней размеренной жизни, где не было места тревогам и волнениям, а были лишь живопись, неспешные прогулки по пляжу, коротенькие интрижки с моделями и легкомысленными туристками и веселые вечера в портовой таверне, где можно было забыться за стаканчиком-другим ароматного рома.
Он помахал рукой, отвечая на прощальные взмахи женщин, стоящих на корме. Потом он просто наблюдал за Асдрубалем, который в свою очередь следил за маневрами шаланды, и Себастьяном, крепкой рукой сжимавшим штурвал, и любовался восходом солнца. Море, покрытое мелкой рябью, было зеленым, когда легкий бриз, налетевший с суши, наполнил красный парус шаланды и она, заскрипев, закачалась, набирая скорость.
Внезапно раздался крик, и Марко Замбрано испуганно оглянулся. В конце пляжа появилась вдруг необъятная фигура мамы Ша. Она, продолжая кричать, бежала что есть сил, крепко вцепившись в свою огромную полотняную сумку, полную всякого барахла.
Она махала левой, свободной, рукой в тщетной попытке остановить набирающую скорость лодку. В какой-то момент ноги ее подкосились, и она рухнула прямо на песок, но тут же тяжело поднялась на колени, а потом, продолжая рыдать и выкрикивать какие-то невнятные слова, поднялась. Остановилась она только тогда, когда вода намочила подол ее длинной широкой юбки.
— Не уходи, дочка! — выла она. — Не уходи, дочь Элегбы, любимица богов, моя госпожа. Не оставляй меня здесь! Пожалуйста, не оставляй!
Марко Замбрано подбежал к ней. Он взял ее за руку и заставил отступить, дабы новая волна, которая вот-вот должна была накатить на берег, не свалила ее с ног.
— Пойдемте, мама Ша! — попросил он. — Ну хватит уже! Успокойтесь!
Она же, не обращая на него никакого внимания, неотрывно смотрела на удаляющуюся фигурку Айзы, замершей на палубе.
— Что же будет со мной, если ты уйдешь? — прокричала она. — Как я буду жить, если твой бог покинет меня! Моя королева! Моя богиня! Вернись!
— Она не может, мама Ша, она вынуждена уйти.
— Почему?
— Кое-кто желает ей зла.
Мама Ша наконец-то повернулась к нему, и лицо ее было безумным.
— Зла? Да кто решится причинить зло любимице богов?
— Это долгая история. Пойдемте домой!
— Нет! Я не двинусь с места, пока она не вернется и не возьмет меня с собой.
— Она не вернется, мама Ша!
— Вернется.
Марко Замбрано лишь пожал плечами.
— Как хотите, — сдался он. — По мне, так можете оставаться здесь хоть до Страшного суда.
Шаланда набирала ход и с каждым мигом становилась все меньше и меньше. Замбрано бросил на нее прощальный взгляд, еще раз помахал рукой и, развернувшись, зашагал к вершине холма.
Когда он вернулся домой, то сразу же вышел на веранду, откуда открывался прекрасный вид на пляж. Мама Ша по-прежнему сидела у воды, устремив взгляд на лодку, которая к тому моменту превратилась в чуть различимую точку на горизонте.
— Ну и идиоты они все, — тихо произнес он. — Я тоже чуть с ума не сошел.
Замбрано посмотрел на картину, все еще стоявшую на мольберте. Он почти ничего не успел нарисовать, и на полотне просматривались лишь легкие, едва различимые контуры тела Айзы. И тут вдруг он почувствовал неистовую радость — все кончено, теперь не нужно будет мучиться, пытаясь сделать невозможное, теперь ему не о чем думать, не из-за кого страдать… Улыбаясь, он развернулся и пошел на кухню, чтобы приготовить себе кофе. Там он подумал о маме Ша: пожалуй, та действительно была права, говоря о том, что суть Айзы невозможно передать с помощью красок.
Поставив воду кипятиться, он закрыл глаза и попытался представить, что она по-прежнему находится в доме, сидит здесь, на краю длинного, грубо сколоченного деревянного стола, или гладит у окна белье. На какой-то момент ему даже показалось, что среди несвежих запахов кухни он уловил ее тонкий аромат.
— Да что за дерьмо происходит! — воскликнул он. — Я должен выбросить ее из головы или сойду с ума!
Он протянул руку, взял с полки бутылку рому, налил себе в высокий стакан и стал медленно, смакуя каждый глоток, пить, пока кофе не заварился. Затем, со стаканом и бутылкой в одной руке и с чашкой кофе — в другой, он снова вышел на веранду и, уютно там устроившись, принялся разглядывать горизонт, за которым только что исчезла «Грасиела». Очень скоро он был пьян.
Спустя полчаса появилась мама Ша и уселась в большом кресле с плетеной спинкой. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, словно их объединяло сейчас общее горе.
— Почему? — наклоняясь вперед, спросила она наконец. — Почему?
— Кое-кто хочет причинить ей зло. Один человек. Они пересекли океан, чтобы скрыться от него. Но похоже, он их все-таки нашел. И теперь они думают, что всю оставшуюся жизнь проведут в бегах.
— Элегба их защитит! — громко произнесла мама Ша. — Никто не сможет противиться воле Элегбы.
— Интересно, почему ваша богиня до сих пор им не помогла? — усмехнулся Марко Замбрано, в крови которого бурлил алкоголь. — Если таким образом она хотела преподать своей избраннице пару жизненных уроков, то я буду молиться, чтобы она никогда не обратила на меня внимание.
— Ты никогда не сможешь узнать, что это такое — быть избранным богами. Никогда!
Марко Замбрано скорчил смешную гримасу.
— Хочу за это выпить! — воскликнул он. — Хочу выпить за то, что я по-прежнему несчастный эмигрант, которому позволено наслаждаться теми немногими радостями, что еще остались на земле: ромом, женщинами да красками. — Он надолго приложился к стакану. — Я не верю в богов, — сказал наконец он и показал в ту сторону, где исчезла шаланда. — Хотя, когда она сидела передо мной, я готов был поверить в то, что ангелы существуют, ибо один из них сошел ко мне с небес. — Состроив горестную гримасу, он криво улыбнулся: — Хотите я вам признаюсь кое в чем, мама Ша? Я влюбился, влюбился как последний дурак в эту девчонку. И это всего за четыре дня. Да что я говорю, каких там четыре дня! Я влюбился в нее в первый же день. Я вошел вон в ту комнату, увидел ее, а она посмотрела на меня, и… паф! Я попался!
Мама Ша принялась охлопывать себя по бокам и копаться в своих многочисленных карманах, пока не выудила на свет божий одну из своих вонючих недокуренных сигар. Прикурив, она мощно затянулась и выдохнула струю дыма, которой могли бы позавидовать фабричные трубы.
— Боги ревнивы, — ответила она, откинувшись на спинку кресла. — Им не нравится делиться теми, кого они любят. Часто они подвергают своих избранников испытаниям, чтобы убедиться, что сделали правильный выбор. И да, эта девчонка не разочаровала Элегбу! С тех пор, как она взошла на борт твоей проклятой шаланды, у меня сердце болит! Но я счастлива оттого, что увидела ее, говорила с ней, а она прикоснулась ко мне. Это значит, что моя жизнь прошла не напрасно. — Она закрыла глаза, будто перебирая в памяти воспоминания, и, не прекращая курить, продолжила: — Иногда, в моменты сомнений, меня охватывает страх: а вдруг всю свою жизнь я лишь теряла время и ничего из того, во что я так верила, не существует? Неужели все мои видения — всего лишь бред выжившей из ума негритянки? И это ужасно, ибо ничего на этом свете так не пугает верующего человека, как сомнения! — Она открыла глаза и, улыбнувшись, посмотрела на Марко. — Но сейчас все по-другому! Сейчас я знаю, что все эти годы я жила не зря. Теперь я верю, верю слепо, безоговорочно, в мир богов, способных создавать и уничтожать миры, играть людскими судьбами, дарить жизнь и посылать смерть.
— А я спрашиваю себя: кто из нас двоих на самом деле пьян? — заключил Марко Замбрано. — Или кто из нас более безумен. Я, со своей страстью к рому и любовью к бросившей меня девчонке, или вы, когда, накурившись своих отвратительных сигар, рассказываете о богах и их избранниках.
Мама Ша ответила не сразу. Она была занята, вытаскивая из кармана вязальные спицы и моток пряжи.
— Я ни в чем тебя не пытаюсь убедить, — наконец сказала она. — Однако, каким бы бесчувственным ты ни был, даже ты не сможешь отрицать, что твой дом изменился, ибо дух этого создания по-прежнему с нами. Здесь все пропиталось ею, и как бы далеко ни ушла шаланда, она тоже здесь. — Мама Ша в упор посмотрела на Замбрано, и взгляд ее был почти умоляющим. — Ты ведь разрешишь мне приходить чаще? Мне так хочется быть рядом с ней.
— А потом я проснусь однажды утром и увижу толпу ваших приятелей, которые бродят по моему дому. Мне не по душе вуду и все, что с ним связано. — Марко Замбрано плеснул в стакан еще немного рому. — Раньше вы и ваши штучки меня забавляли, но сейчас мне страшно.
— Никто ни о чем не узнает, можешь быть уверенным. — Мама Ша улыбнулась, показав ряд белейших зубов. — Эта тайна принадлежит только нам. И знаешь… Не бойся вуду. Люди несправедливо считают нас чудовищами. Вина здесь лежит на гаитянцах и бразильцах, которые превратили древние ритуалы в карнавальные пляски. Если же ты возьмешь за труд получше узнать вуду, то вскоре осознаешь всю его красоту и величие.
— Предпочту остаться в неведении, как и прежде.
— Ты боишься знаний?
Марко Замбрано встал, перевернул бутылку и потряс ее, желая убедиться, что допил ром. Когда из бутылки не упало ни капли, он поставил ее на стол, заваленный тюбиками с краской, кистями и флаконами с маслом и растворителями, а затем подошел к перилам, облокотился на них и долго и пристально всматривался в море, на просторах которого затерялась шаланда.
— Я еду в порт, — произнес он, не оборачиваясь. — Думаю, если останусь, то в конце концов брошусь в море.
— Пьянством ты ничего не добьешься, сынок. — Мама Ша печально покачала головой. — Ты не должен пытаться забыть ее. Сражайся за память о ней, и однажды ты встретишь девушку, похожую на нее. Это принесет тебе добро.
— Вы смотрите на все совсем с другой точки зрения и не можете понять то, что я чувствую.
— На самом деле я все очень хорошо понимаю, сынок. И знаю, что все случилось так, как и должно было быть. Все это к лучшему… — Она переложила клубок из одной руки в другую и снова покачала головой: — Рядом с ней ты бы никогда не стал счастливым. Ты жил бы в постоянном страхе, зная, что она родилась не для тебя. Как только тебе снова станет грустно, тут же представь, во что бы превратилась твоя жизнь, если бы она была рядом с тобой.
— А я никогда и не думал, что она может принадлежать мне, мама Ша! По крайней мере, не так, как думаете вы. Вы же мне верите?
— Да, сынок. Я тебе верю. Но со временем ты бы стал другим. Если ты кого-то полюбишь, то рано или поздно захочешь, чтобы этот человек принадлежал тебе без остатка. Она же принадлежит всем. Всем и никому… — Мама Ша тяжело вздохнула. — Такова ее судьба. Она слишком хороша, слишком идеальна для простых людей…
Марко Замбрано продолжал разглядывать горизонт. Потом он наконец-то повернулся и направился к маленькой лестнице, которая спускалась прямо к извилистой дорожке, ведущей к пляжу.
— Вы остаетесь? — спросил он.
— Если ты не против! — Мама Ша чуть заметно улыбнулась. — Мне хорошо здесь. Нравится чувствовать ее присутствие… — И тут вдруг тон ее резко изменился. — Знаешь, такое чувство, будто мне что-то мешает уйти отсюда. Я знаю, она никогда не вернется, но я также знаю, что должна остаться здесь.
Марко Замбрано в недоумении посмотрел на маму Ша, покачал головой, словно признавая собственное бессилие перед произошедшим, и, едва заметно покачиваясь из стороны в сторону, зашагал по крутой тропе.
Как только мама Ша осталась одна, она бросила прощальный взгляд на горизонт, словно все еще надеялась увидеть там шаланду, а потом откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Лицо ее было совершенно спокойно, на губах играла легкая улыбка.
Руки же ее словно жили своей собственной жизнью: спицы так и мелькали в воздухе, не останавливаясь ни на мгновение.
Муньеке Чанг на Барбадосе нравилось.
Отель был уютным и красивым, погода — теплой, но без изнуряющей жары, да и мужчина ее был довольно страстным, всегда готовым ответить на ее желания, хотя ей после первого же раза стало понятно, что и с ним ей не суждено испытать того великого оргазма, о котором она мечтала всю жизнь. Эта поездка стала для нее наградой за все те бесконечные мытарства, которые ей пришлось пережить в последнее время, когда клиенты в ее постели сменялись с такой быстротой, что она уже даже не пыталась запоминать лиц. А посему она почувствовала страшное разочарование, когда явился посыльный с телеграммой, прочтя которую Дамиан Сентено тут же переменился.
— Я вынужден уехать, — сказал он.
— Ох, нет! Как мне было хорошо…
— Да, мы прекрасно провели время, но мое дело не терпит.
— Задержись еще хотя бы на пару дней.
— Сожалею. — Казалось, что сейчас с ней говорит человек, которого она видит впервые. Было очевидно, что мыслями он далеко от острова. — Ты можешь остаться, если хочешь. Я постараюсь управиться как можно быстрее, но сказать наверняка, сколько буду отсутствовать, не могу.
— Я не хочу возвращаться в бордель. Пока нет.
— Тогда оставайся. — Он положил на ночной столик пачку банкнот. — С этими деньгами ты можешь провести здесь две недели. А теперь сделай мне одолжение, пожалуйста: узнай, как быстрее всего добраться до Гваделупы.
— Ты не хочешь, чтобы я поехала с тобой?
— Нет. Хочу, чтобы ты меня дождалась здесь и вела себя как хорошая девочка. — Он показал на телефонный аппарат: — Позвони, пожалуйста.
Муньека Чанг взялась за телефон, быстро поговорила с администратором и, уже опуская трубку, сообщила:
— Рейс послезавтра, но если тебе очень нужно, то они предлагают взять напрокат самолет.
— Пусть самолет ждет меня завтра в восемь утра в аэропорту. И будь повеселее, так как я хочу сводить тебя в самый лучший ресторан на острове.
И правда, то была удивительная ночь. Они ужинали и танцевали при свете свечей на берегу спокойного Карибского моря. Это была ночь, достойная миллионера. Прекрасная женщина, прижавшаяся к его груди, лучшее шампанское, роскошный ресторанный зал… Деньги Кинтеро из Мосаги утекали, как вода, и предки ныне покойного дона Матиаса, должно быть, не раз перевернулись в своих гробах. Не для того они из года в год возводили свой дом, упорно кладя камень на камень, не для того ухаживали за виноградными лозами, поливая их своим потом и кровью, чтобы те принесли сочные плоды, из которых потом можно было бы сделать вино, слава о котором в один прекрасный день разнеслась по всему Архипелагу. За свой успех они заплатили дорого и теперь, должно быть, на том свете скрежетали зубами от злости.
Однако на земле уже не осталось ни одного из Кинтеро, щедро напоивших землю своей кровью. Им на смену пришел бывший легионер, жестокий убийца, сын неизвестного отца и матери-воровки, проводящий время в компании проститутки.
Негры в красных рубахах рьяно били в обрезанные бидоны, выбивая немудреный мотив. Когда же ансамбль уставал, из темноты пляжа тут же возникали три гитариста и одна мулатка, которые играли с не меньшим энтузиазмом.
— Если бы ты не была законченной шлюхой, я бы взял тебя на Лансароте, — прошептал ей Дамиан Сентено, когда гитаристы заиграли что-то нежное и танцующие еще сильнее прижались друг к другу.
Веселый смех Муньеки Чанг звездами рассыпался по спокойной глади ночного моря.
— А что, на Лансароте шлюх не пускают или там своих хватает с избытком?
— Дело в том, что я не похож на твоего мужа. Я бы влепил тебе пулю в ту же секунду, когда бы увидел, как ты кувыркаешься с кем-то из работников моей гасиенды.
— И насколько велика твоя гасиенда?
— Пока не знаю.
Она слегка отстранилась и посмотрела на него удивленно и весело:
— Пока не знаешь? Как неожиданно! У тебя что, действительно есть гасиенда или ты водишь меня за нос?
— Есть гасиенда, — ответил Дамиан Сентено, вид у него при этом был чрезвычайно серьезный. — Я только что получил наследство, и теперь мне нужно лишь уладить небольшое дельце, чтобы стать ее полноправным хозяином. Тогда-то я и узнаю, насколько большая гасиенда мне досталось и как много денег лежит у меня на счету.
Муньека Чанг хитро улыбнулась:
— И что за дельце ты должен уладить? Грохнуть другого наследника?
— Вовсе нет. — Он сильно прижал ее к себе. — Когда-нибудь — если решу все-таки взять тебя с собой на Лансароте — я тебе обо всем расскажу.
— А кто тебе сказал, что я собираюсь ехать на Лансароте? — спросила она как ни в чем не бывало. — Я не знаю, где он находится, но мне кажется, что мне там не понравится. — Она легко укусила его за ухо и прошептала: — Мне с тобой хорошо. Но не знаю, дождусь ли твоего возвращения. Возможно, дня через три я встречу мужчину, а может, и женщину — кто знает? — и уеду куда глаза глядят. Я всегда была такой и хочу оставаться такой и впредь.
— Неужели ничто не заставит тебя измениться?
— Возможно, будь у меня ребенок, я бы и переменилась, но у меня никогда не будет детей. Да мне и не хочется, честно говоря, привязываться к малышу. Мне нравится таскаться из постели в постель и из борделя в бордель.
Она взяла его за руку и повела к столу, где наполнила его бокал шампанским, а потом подняла свой:
— Выпьем за нас. За эту ночь, за твое возвращение и за то, чтобы мы все-таки встретились.
Когда Дамиан Сентено поднимал бокал, он уже знал, что никогда больше не вернется на Барбадос, потому что Муньека Чанг никогда не станет дожидаться его здесь. Очарование момента развеялось; их короткая совместная история подходила к концу, и в тот момент, как он покинет остров, каждый из них пойдет своей дорогой.
Всю эту ночь они неудержимо предавались любви, будто действительно любили друг друга, но были обречены судьбою на расставание. Муньека Чанг снова молилась, желая испытать великий оргазм, но снова ее ждало разочарование.
Затем с первыми проблесками рассвета, еще пока едва различимого, Дамиан Сентено молча оделся, взял свой саквояж и вышел из отеля. Шумный сине-белый двухместный самолет разогревал двигатели на краю взлетной полосы. Пилот — толстый бородач в надвинутой на уши зеленой фуражке — перехватил багаж Сентено, швырнул его куда-то назад и знаком предложил ему садиться.
Уже через десять минут они летели над океаном. Самолет отчаянно тарахтел, его трясло и подбрасывало, словно автомобиль на ухабах, а в крови Сентено еще бежало шампанское, однако ему каким-то чудом удалось уснуть.
Проснулся он в тот момент, когда шасси врезались в землю в аэропорту Пуэнт-а-Питр. С этого момента он уже ни разу не вспомнил о Муньеке Чанг и о проведенных с ней счастливых часах, полностью сосредоточившись на том, что волновало его по-настоящему. Он твердо намеревался разыскать семейство Пердомо Марадентро, как можно скорее покончить с ним и исчезнуть без следа.
Когда самолет остановился и был заглушен мотор, он вытащил из внутреннего кармана жакета пачку банкнот и протянул ее бородачу в зеленой фуражке.
— Жди меня здесь до завтра, — сказал он. — Если к полудню не вернусь, можешь улетать.
Пилот пересчитал деньги, секунду поколебался и наконец едва заметно кивнул, а потом произнес:
— Согласен. Буду ждать вас до двенадцати. Потом мне нужно будет улететь. Меня ждут клиенты на Тринидаде.
— От самолета не отходи.
— Не беспокойтесь.
Такси его доставило прямо к портовому офису, где комендант Клод Дувивьер сообщил ему неутешительную новость: его родственник, Абелай Пердомо, исчез в море и поиски уже прекращены. Однако остальных членов семьи он может найти живыми и здоровыми в доме испанского художника по имени Марко Замбрано, что живет на Баса-Терре.
— Вы не заблудитесь, — завершил он свой пространный рассказ. — Это белый дом с большой галереей, выходящей на море. Стоит как раз на вершине холма, напротив старой крепости. — С этими словами он протянул ему руку. — Передайте вашим родственникам от меня привет. Они должны ждать вас. Вчера я рассказал Замбрано, и он должен был рассказать вашим родственникам о вас. Теперь они вас, должно быть, ждут не дождутся.
Спустя полчаса Дамиан Сентено сидел в портовом ресторанчике перед аппетитным лангустом и бутылкой белого вина «Чес-Феликс» и размышлял о том, как лучше всего будет расправиться со своими жертвами, а потом по-тихому покинуть остров. Он был совершенно спокоен, и его не смущала осведомленность Марадентро. Конечно, он бы предпочел, чтобы те думали, будто он уже давно прекратил все поиски, однако теперь, когда глава семьи мертв, а баркас пошел ко дну, дело представлялось ему и вовсе легче легкого. Теперь ему предстояло иметь дело с женщиной, девчонкой и двумя юношами. Сентено подумывал о том, что расправиться нужно со всей семьей, чтобы избежать проблем в будущем. Он совсем не знал Аурелию Пердомо, лишь видел ее несколько раз издалека, однако он готов был поклясться, что она будет пытаться мстить за смерть своих детей.
«Мне бы не хотелось провести остаток жизни, ожидая ее появления, — сказал он себе. — Я должен избавиться и от нее».
Намерение его расходилось с заданием, которое дал ему дон Матиас, однако это его ничуть не тревожило. К смерти он уже давно научился относиться равнодушно. Тем более что в глубине души Сентено считал себя не более как жертвой времени и обстоятельств, которым ему приходилось подчиняться. Детство и юность он провел в нищете, а значит, и выбор у него был небогат — превратиться в бандита или вступить в Легион. Он выбрал второе и по достижении двадцати лет убивал уже без малейшего сожаления. Было бы глупо надеяться на то, что после всех тех ужасов и зверств, свидетелем которых ему довелось стать, он научится отделять смерть хотя бы отчасти естественную, наступившую вследствие войны или несчастного случая, или же смерть неестественную — следствие чьей-то ненависти, жадности или подлости. Он отправил к праотцам столько молодых людей — одно время он даже служил в расстрельной команде, — что эти четыре жизни были для него не более чем галочками в его уже почти бесконечном списке. Конечно, они были людьми, у них были имена и фамилии, были мечты и привязанности, но разве всего этого не было у тех, кто уже много лет гниет в своих безымянных могилах?..
Проблема, таким образом, заключалась не в том, чтобы убить четырех человек, а в том, чтобы сделать это как можно аккуратнее, а потом смыться. Со дна своего чемодана он достал тяжелый револьвер, который на протяжении многих лет был ему добрым другом. Каждый раз, пряча его за рубаху, он чувствовал его ласковые прикосновения, которые успокаивали и возбуждали одновременно. Он попытался подсчитать, сколько «счастливых» пуль вылетело из его ствола, однако вскоре сбился. И если бы кто-то попросил его подсчитать, сколько человек он убил понапрасну, то он бы тоже наверняка не смог сосчитать, ибо им счета не было. Однако он вряд ли бы испытал угрызения совести, даже если и задумался бы над собственной жизнью. Скорее всего, он пришел бы к выводу, что довелось ему жить в жестокое, не знающее жалости время, когда смерть частенько из злейшего врага превращалась в друга, избавляющего человека от тягот поистине невыносимого существования.
Он, не торопясь, закончил свой завтрак, попросил кофе, раскурил последнюю гаванскую сигару из коробки, купленной в Ла-Гуаире, и, не вынимая ее изо рта, вызвал такси, попросив, чтобы его доставили в форт Ричепансе в Баса-Терре. Свой чемодан он оставил в камере хранения в аэропорту и взял с собой только оружие, деньги и паспорт, так как собирался, если запахнет жареным, скрыться в одну секунду.
Он, словно обычный турист, прогулялся по территории форта и с его северной башни внимательно осмотрел дома, разбросанные на холме. Под описание коменданта подходили два дома. Тогда он нашел удобное место, устроился там и принялся следить за домами, но даже по прошествии изрядного количества времени не заметил ничего интересного. Затем очень медленно он спустился к морю и нашел тропинку, которая взбиралась по холму.
Он остановился примерно в тридцати метрах от первого дома, укрылся в густых зарослях и стал выжидать. Судя по всему, искал он именно этот дом, так как его действительно окаймляла широкая галерея, а окна его смотрели прямо на крепость. Так он простоял полчаса. Вокруг царила тишина: не было слышно ни голоса, ни звука. Еще раз убедившись в том, что оружие заряжено, он наполовину расстегнул рубаху, чтобы при необходимости было удобней выхватить револьвер. Начинало темнеть, и он наконец-то решился бегом преодолеть расстояние, отделяющее его убежище от дома.
Рассохшиеся деревянные ступени заскрипели под его ногами, и ему показалось, что этот громкий звук обязательно переполошит всех обитателей. Сентено замер и прислушался — по-прежнему было тихо. Тогда он поднялся до широко раскрытого окна, выходившего прямо на море, и пригляделся — казалось, что в доме нет ни души.
Он вошел внутрь. В темноте различил контуры типовой мебели, а на стенах картины, в сумерках превратившиеся в пятна. Он продолжил свой неспешный подъем, добрался до галереи и оттуда разглядел часть стола, заваленного флаконами и кистями. Совершенно бесшумно он отступил в угол и, прислонившись к стене, снова прислушался, еще раз ощупал револьвер, в очередной раз сказав себе, что в доме никого нет, сделал два шага вперед и оказался посредине террасы.
Темнело стремительно, но он тут же различил фигуру огромной негритянки, которая дремала в высоком плетеном кресле. Сентено замер в нерешительности, гадая, стоит ли ее разбудить или нужно вернуться обратно, пока она не проснулась и своими криками не переполошила всю округу. Однако почти тут же он пришел к выводу, что необходимо действовать, и действовать стремительно, если он хочет сегодня закончить свое дело и не опоздать завтра на самолет. Он нажал выключатель, и прямо перед спящей женщиной зажглась электрическая лампочка.
Но даже яркий свет не разбудил ее, и Дамиан Сентено, отыскав табурет, уселся напротив нее и потряс скрещенные на подоле руки, все еще державшие разноцветную шаль, которую она вязала.
— Эй! — позвал он. — Эй! Послушайте! Просыпайтесь.
Мама Ша медленно, словно ей это стоило колоссальных усилий, открыла глаза и ошарашенно уставилась на незнакомца, сидящего напротив.
— Что происходит? — спросила она наконец. — Что вам нужно?
— Я ищу Марко Замбрано. Он здесь живет?
— Да. Живет здесь. Но он ушел.
— И куда он ушел?
— Спустился в поселок.
— Когда вернется?
Мама Ша внимательно посмотрела на своего собеседника, будто хотела по его лицу прочитать все его мысли и намерения, и после недолгого молчания уверенно ответила:
— Понятия не имею. Все зависит от того, сколько выпьет… или от подружек, которых встретит. Если он схлестнется с Женевьевой или с Ла-Грингой, может провести там целых три дня.
— Три дня! — Подобная перспектива ужаснула Дамиана Сентено. Он окинул пристальным взглядом террасу, словно надеясь в дальних ее углах найти решение своей проблемы. Он не хотел впутывать негритянку в это дело, но у него не оставалось выбора. — Послушайте! На самом деле я ищу родственников, которые совсем недавно прибыли из Испании. Мне сказали, что они находятся здесь, в доме сеньора Замбрано. Вы их не видели?
Мама Ша задумалась. Она снова внимательно посмотрела на Сентено, чью руку украшала жуткая татуировка, а грудь — не менее жуткий шрам, и едва заметно качнула головой:
— Да. Я их видела.
— Где же они?
— Уехали.
— Уехали? — повторил Дамиан Сентено, который пока не мог до конца осознать услышанное. — Когда уехали?
— Этим утром. На рассвете.
— Куда?
Мама Ша пожала плечами:
— Не знаю.
— Как не знаете? Вы должны знать! На чем уехали?
Она показала рукой в ночную темноту, в которую до утра закуталось Карибское море:
— На лодке. Марко дал им свою шаланду… Они и уехали. Мне кажется, что на Кубу.
— На Кубу? — воскликнул Дамиан Сентено, который все еще отказывался верить в происходящее. — Вы уверены?
— Они так сказали, — ответила мама Ша. — А может, в Мексику или в Панаму… Кто их знает. — Она посмотрела в сторону, противоположную той, куда ушла «Грасиела». — Совсем недавно их еще можно было рассмотреть на горизонте…
С этими словами она потянулась и взялась за свое вязание, давая тем самым понять, что разговор окончен. Клубок выскользнул из ее рук и упал на пол к ногам. Она подалась вперед, пытаясь его поднять, однако тут же остановилась: еще бы, с ее-то внушительными формами не так легко будет проделать такой фокус. Тогда она пристально посмотрела на Дамиана Сентено, словно прося его о помощи.
Погруженный в раздумья, Сентено не сразу сообразил, чего от него хотят, а когда наконец понял, то наклонился вперед и протянул руку к клубку.
В первый момент он даже не понял, что произошло, и лишь вздрогнул от пронзившей его тело боли. Выпрямившись, он поднял руку к плечу и нащупал над лопаткой, в каком-то сантиметре от основания шеи, плоскую головку длинной вязальной спицы. Бесконечно удивленный произошедшим, он попытался было что-то сказать, однако голос его осекся. Мама Ша в ту же секунду вытащила из-под шали вторую спицу и быстрым, резким движением, подавшись вперед всем своим огромным телом, воткнула ее в грудь Сентено, там, где билось его сердце. Дамиан Сентено отшатнулся и, в напрасной попытке удержать равновесие на закачавшемся табурете, схватился за стол. Тот опрокинулся, на пол полетели кисти, краски и тюбики с растворителем.
Потом Сентено понял, что лежит на полу, и тут боль, адская, нечеловеческая, наконец-то настигла его. До конца не осознавая происходящего, он попытался вытащить вторую спицу, которая едва выступала над его грудью. Наконец, тяжело и прерывисто дыша, он прохрипел:
— За что?.. Почему?..
Мама Ша, неподвижная, страшная, совсем не похожая на себя прежнюю, смотрела на него немигающими глазами, в глубине которых разгорался адский огонь.
— Потому что она — избранница богов, а ты — зло… Потому что она — дочь Элегбы, а я — самая преданная из ее слуг. Потому что она должна сделать то, что предначертано ей судьбой, а я обязана ее защищать. Как же ты, мерзкая свинья, решился поднять руку на создание, любимое небесами? Глупец! Я как только открыла глаза, поняла, кто ты есть. Еще до того, как ты здесь появился, я знала, что ты явишься, потому что Элегба приказала мне остаться здесь и защитить ее дочь… — Она покопалась в сумке, вытащила одну из своих огромных сигар и, прикурив, не стала гасить спичку. — Отправляйся в ад, гнусное отродье! Убирайся туда, откуда ты выполз на свет божий!
Дамиан Сентено только тогда понял, что вся его одежда пропиталась растворителем и покрыта краской. В тщетной попытке защититься он попытался опереться на правую руку, вытянув вперед левую…
— Нет! Пожалуйста! — взвыл он. — Не делайте этого!
Но мама Ша его не слышала. Она выпустила в воздух струю густого дыма и бросила спичку ему между ног, туда, где разлилось огромное масляное пятно.
Превратившись в живой факел, Дамиан Сентено по-звериному взвыл и покатился по полу просторной террасы. Докатившись до края, он с трудом поднялся, перегнулся через перила и рухнул в пустоту, провожаемый безразличным взглядом мамы Ша.
С первыми утренними лучами на горизонте показалась темная линия высокого берега, где длинная горная гряда упиралась прямо в бледно-голубое небо. Себастьян, стоявший у руля, сразу же предположил, что самый большой из пиков — это, должно быть, гора Авила, за которой должна раскинуться долина Каракаса.
— Америка… — тихо произнес он, и хорошо знакомое слово застряло у него в горле, будто бы остров Гваделупа, населенный французами, не принадлежал той самой Америке, куда они так стремились. Настоящая Америка, та, о которой он мечтал столько времени, была для него высоким и зеленым берегом огромного, полудикого материка, где убийцы со всего света заметали свои следы.
Переход от Баса-Терре оказался долгим. Долгим и нелегким, потому что шаланда была непослушна и строптива. Однако, несмотря на все ее выходки, они наконец оказались у берегов Нового Света, где им предстояло начать новую жизнь. Вскоре «Грасиела» доберется до спокойного порта…
А потом?
На этот вопрос ответ могло дать лишь время. Его задавали себе миллионы эмигрантов, впервые узревшие землю обетованную. И если стольким из них удавалось потом хорошо здесь устроиться и жить в достатке, а порой даже и в богатстве, то Себастьян Пердомо был уверен, что и ему это удастся.
— Мне нужно только одно, — сказал он себе. — Хочу, чтобы Айза избавилась от своего проклятого дона и перестала усложнять нам жизнь.
Но он прекрасно знал, что этого не произойдет никогда. Сестра его была человеком исключительным, которая по-прежнему умеет подзывать рыб, говорить с животными, поднимать на ноги больных и веселить мертвых.
А еще ей суждено сводить с ума мужчин.
И почему это вздумалось Создателю одарить одного из своих детей столь щедрыми дарами, которых было так много, что они со временем превратились в самое настоящее проклятие? Этого Себастьян так никогда и не поймет. Однако он осознавал, что такова ее судьба, а значит, и судьба всего рода Марадентро, ибо все они были связаны друг с другом от начала времен.
Он знал, что красота и очарование Айзы до конца их дней будут отбрасывать тень на всех членов семьи; как бы далеко они ни забрались, скрываясь от Дамиана Сентено, везде люди будут смотреть на нее и видеть чудо. Возить ее за собой было равносильно тому, чтобы бродить по дорогам, размахивая набитым монетами мешком, чей звон не привлек бы внимание разве что только глухого…
Тут он заметил, что Асдрубаль, все это время тревожно спавший на палубе, открыл глаза и теперь внимательно на него смотрит. Себастьян движением головы показал вперед, на полоску скалистой земли. Брат утвердительно кивнул, однако остался лежать неподвижно, прислонившись спиной к кнехту, глядя на море и на неровные контуры берега, поросшего буйной зеленью.
Лодка шла медленно, слегка подгоняемая свежим бризом, налетавшим с носовой части правого борта, и казалось, что он гладит упрямую шаланду, неровно плывущую по волнам, словно пьяный, который, шатаясь, бредет по ухабистой дороге. Вскоре на палубе появилась и Аурелия, в руках у нее были две чашки кофе и тарелочка с сыром, который ее сыновья съели с аппетитом, пока она ненадолго встала за руль.
— А что Айза? — спросил Себастьян.
— Она плохо спала, — ответила Аурелия. — Я чувствовала, как она все время ворочается то ли от неприятного запаха, которым пропитался весь трюм, то ли от этих своих проклятых кошмаров — один Бог ведает. — Она показала вперед: — К которому часу мы придем?
Асдрубаль, по-прежнему кутаясь в одеяло, поднялся на ноги и пожал плечами:
— С таким ходом сложно сказать что-то определенное. Лодка то вдруг начинает бежать и без всякой причины набирает скорость, то вдруг замирает, словно что-то держит ее за днище. Скажу тебе так, это самая бестолковая шаланда из всех, какие я когда-либо знал!
— Скучаешь по «Исла-де-Лобос»?
— А ты разве нет? То была настоящая лодка. Временами казалось, что она умеет чувствовать и думать, совсем как человек. Когда наш баркас был в хорошем настроении, он пел песни, смеялся вместе с дельфинами, a временами плакал как ребенок. Когда дедушка умер, он страдал несколько месяцев, словно пес, потерявший своего хозяина.
— Что ж, сейчас он, должно быть, рассказывает морские байки вашему отцу…
Себастьян положил ладонь на руку матери, которая крепко сжимала штурвал, и все трое замолчали. Все это время мысли об отце, пожертвовавшем жизнью ради их спасения, неотступно их преследовали, где бы они ни находились, что бы ни делали, о чем бы ни говорили. И если сейчас они с каждой минутой все яснее и яснее различали берега Венесуэлы, так это лишь потому, что так захотел отец…
Молчали они до тех пор, пока на палубу не поднялась их красавица сестра. Она вдохнула свежий морской воздух, а потом резко выдохнула, словно пыталась выгнать из легких спертый и зловонный воздух трюма, и пристально посмотрела на неровные очертания горной гряды. Затем она подошла к матери и братьям и поцеловала каждого:
— Добрый день! Похоже, что мы наконец-то добрались.
— Это только Венесуэла, — заметил Себастьян. — Начало пути. Нам нельзя здесь задерживаться, если мы хотим сбежать от Дамиана Сентено.
Айза медленно покачала головой.
— Нет! — хрипловатым голосом произнесла она. — Теперь уже не нужно бежать. — И тихо, словно стыдясь саму себя, она добавила, отвечая на недоуменные взгляды матери и братьев: — Дамиан Сентено ночью приходил ко мне. Он был мертв.
«Грасиела» резко рванулась вперед, к берегам Венесуэлы, будто сам Господь потянул ее за нос.
Зеленое море было, как никогда, спокойно, солнечные лучи плясали на его волнах и смеялись, торопясь к новым берегам.
Лансароте. Январь 1984
1
Марадентро — прозвище, образованное от слов mar — море, и adentro — внутри или внутрь. Перевести его можно как Открытое море. — Здесь и далее примеч. пер.
2
Галета — тип двухмачтового судна.
3
То же, что и день Ивана Купалы.
4
Испанская жандармерия.
5
Крупная, зеленовато-бурого цвета рыба, как правило обитающая в тропических широтах и весом достигающая до 100 кг. Ее мясо считается деликатесом.
6
Chamela (исп.) — «чамела» — один из вариантов игры в домино для четверых игроков, где, в случае одного отсутствующего, его роль исполняет один из троих, при этом его выигрыш или проигрыш умножается на два.
7
Подразделение гражданской гвардии.
8
Жительница поселений, находящихся у лагун. Здесь речь идет о бывшей жительнице селения Ла-Лагуна.
9
Congrio (исп.) — угорь.
10
Блюдо из риса с мелко нарубленным птичьим мясом и моллюсками, сродни плову.
11
Guirre (исп.) — вентилятор.
12
Urraca (исп.) — сорока.
13
Что-то вроде густой манной каши, которую готовят из мелко перемолотых злаков.
14
Мильмуертес означает тысяча смертей. Мильуна — тысяча и одна. Мильдос — тысяча и две смерти.
15
Божий дар.
16
Большой складной нож.
17
Жители Канарских и Болеарских островов материковую часть Испании называют Полуостровом.
18
Так испанцы когда-то называли вождей индейских племен. Сейчас же касиками называют влиятельных политиков местного масштаба или именитых персон.
19
La Desiree (фр.) = La Deseada (исп.) — «Желанный»
20
Муньека — кукла, куколка.