Книга: Амулет Паскаля. Последний бриллиант миледи (сборник)
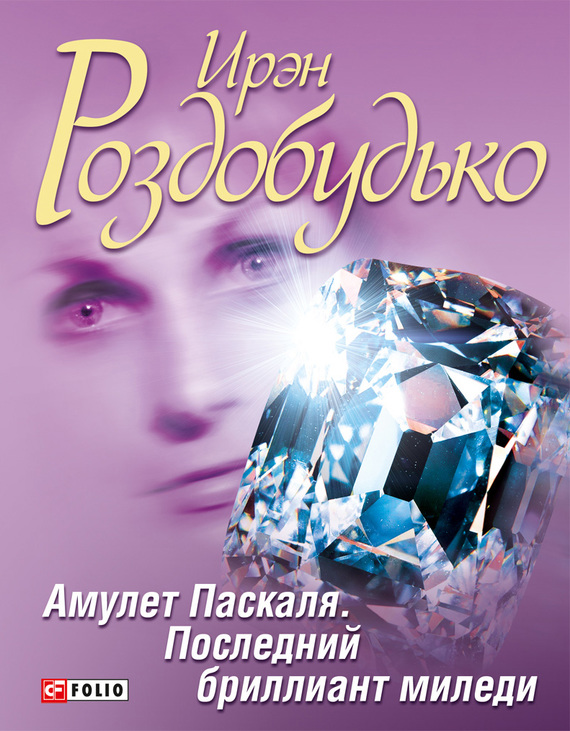
Амулет Паскаля. Последний бриллиант миледи (сборник)
Кирпич, лежащий на краю крыши
1
Когда люди остаются сами с собой наедине, им свойственно делать какие-то довольно интимные вещи. Скажем, чесать спину, запустив руку под свитер. И это еще не такая уж крамола по сравнению со многими другими! Какими – можете себе сами представить. Тем более что нет в мире человека, который бы порой не наблюдал за собой со стороны и не ужасался тому, ЧТО он делает, когда его никто не видит. И ничего такого в этом нет. Но иногда меня охватывает необыкновенный ужас, когда представляю себе такую ситуацию: я с наслаждением чешу спину, полностью отдавшись приятным ощущениям, и вдруг передо мной распахивается занавес, который до этого надежно ограждал меня от другого измерения, и у меня появляется куча зрителей.
Все они – в вечерних нарядах, с бокалами шампанского в руках… Они стоят вокруг дивана, на котором лежу я – в домашних шерстяных носках, запустив руку под свитер! Я замираю. Они – тоже. Немая сцена…
Нам не дано знать, кто находится рядом – на расстоянии вытянутой руки или еще ближе: на расстоянии вздоха, кто дышит нам в затылок или в какое невидимое лицо мы посылаем струйку выпущенного из губ дыма…
Пространство вокруг нас плотно заполнено. Это даже не коммуналка, а скорее – тюрьма или тамбур поезда, в котором стоят призраки. Или наоборот: ты сам – призрак в кругу нарядных людей. Занавес раздвигается лишь на миг, и ты попадаешь в это измерение, как пришелец с другой планеты.
Кто хоть однажды не представлял себе такое? Тот, с кем никогда не случались подобные неприятности.
В детстве мне хотелось опровергнуть все законы физики и астрономии. На рисунках в учебнике для пятого класса четко было представлено устройство Вселенной: планеты кружат по своим орбитам вокруг Солнца. А я иногда думала, не крутимся ли все мы… в кабине огромного лифта? Лифт этот – в доме, дом – в городе, город – в стране, страна – на планете, которая несоизмеримо больше песчинки нашей Вселенной. Двери могут неожиданно открыться (ведь кто-то куда-то едет в этом лифте!), и тогда сквозняк сметет пригоршню планет, нарушит круги этой Солнечной системы, и вся наука полетит к чертям.
А еще я думала: может быть, вот эта система, со знанием дела описанная в учебнике, всего лишь клеточка на теле великана? Или – его глазное яблоко?
Мне казалось, что мир устроен, как матрешка: меньшая вкладывается в бо́льшую. И так – до бесконечности… Точно так же и измерение вкладывается в измерение.
Когда я начала рисовать, учителя говорили, что мои рисунки слишком «засорены», ведь даже небо я рисовала заселенным разными существами. Ну что тут поделаешь, я так чувствовала. Поэтому меня и выставили из художественной школы…
Ощутив эту вселенскую перенасыщенность, я стала думать, где бы найти место, чтобы побыть там одной. Довольно странное было желание. Монастырь? Но во мне было слишком много плотского. К тому же там нужно вставать в четыре утра…
Позже – почти что сейчас! – я поняла, что могу жить и наслаждаться только в… своей голове, то есть – в воображении. По крайней мере, туда не проберутся люди с бокалами шампанского в руках. Конечно, если я сама их туда не впущу!
Все мои действия и участие в активной общественной жизни заканчивались бегством. Возможно, поэтому я попадала во все западни, которые встречались на моем пути. Я давно обратила внимание на такой вот парадокс: те, кто пытаются сбежать, всегда оказываются пойманными именно на тот крючок, от которого пытались уберечься!
И все же, я думаю, этот дом не западня. Хотя очень на это похоже.
Он расположен на окраине маленького предместья, за ним – чудесный лес, а чуть в отдалении возвышаются горы с вечно белыми вершинами.
Когда я думаю о том, как очутилась тут – в этой стране, в этом доме, у этого леса, – именно тогда и приходит в голову то, о чем я уже говорила: лифт открылся, ход планет нарушился, самая маленькая матрешка упала, разбилась, из нее вылетел гусь, из гуся выпало яйцо, из яйца – иголка. Иголка упала в стог сена.
Все просто.
Иголка – это я…
На верхнем этаже, в моей комнате есть все необходимое: туалет и ванная, кухонный уголок со всеми техническими прибамбасами, которые сами варят кофе, моют посуду, разогревают ужин (если, конечно, я не ем внизу), спальня с огромной кроватью и окном во всю стену, из которого видны лес и горы. Моя обитель – единственное современное, что есть в этом доме. Мсье Паскаль организовал все это для меня, как только увидел, что я приехала в рваных джинсах, с одним чемоданом в руках и с тремя колечками в ухе. Мне не пришлось ему ничего объяснять. Это меня вполне устраивает, иначе бы не выдержала и снова сбежала.
Иногда он говорит: «Откуда вы взялись на мою голову?» Это значит, что он уже не может без меня обходиться. Я быстро усвоила, что все его слова нужно воспринимать шиворот-навыворот. Думаю, что это ему во мне и нравится. И мне в нем тоже. Я не люблю прямолинейных людей. Или тех, кто считает себя таковыми. Порой их «Вы хорошо выглядите» означает, что у меня синяки под глазами, а «Вы такая порядочная женщина!» красноречиво свидетельствует о том, что я настоящая курва, которая спит и видит, как мсье Паскаль подписывает завещание в ее пользу. Еще устраивает то, что в мои обязанности не входит мытье посуды, что мне не нужно драить полы и пылесосить ковры.
Мсье Паскаль встает в три часа то ли утра, то ли ночи. Разве я могу просыпаться так рано? Он это понимает и не зовет меня, даже если у него выкручивает суставы. Хотя в такие ночи я и сама это чувствую (у меня невероятное чутье!) и спускаюсь, чтобы принести таз с горячей водой и достать из аптечки едкую зеленую мазь. «Убирайтесь прочь…» – стонет он, опуская руку на мою склоненную над его коленями голову. Я изо всех сил втираю мазь, и его ноги постепенно становятся теплыми, а мои ладони просто-таки горят огнем. Когда боль становится невыносимой, он глубже запускает пальцы в мои волосы и треплет их так, что утром мне трудно расчесываться.
Если бы наши гости, которые, собственно, бывают у нас не так уж и часто, отвели в сторону занавес своего измерения и на миг оказались здесь – о, что бы они подумали!
Однажды, представив себе это, я рассмеялась.
Утро наступает для меня примерно в девять. Я отправляюсь в ванную, наполняю джакузи, выливая в него полфлакона пены с лавандой, надеваю наушники и слушаю свою любимую мелодию Мишеля Леграна. Какую – не скажу.
Потом пью кофе с круассанами. Я ненавижу круассаны! Терпеть не могу всякие булочки и пирожные, которыми пропах весь центр города. Но круассаны – это ритуал. И я его исправно соблюдаю – а вдруг у меня за спиной окажется та добрая женщина, которая встает ни свет ни заря, печет их для такой шушеры, как я, и заставляет своего сына-школьника развозить в плетеной корзине по адресам, указанным в визитках.
Мне уютно. Я нажимаю на пульт плазменного экрана и вслед за диктором прилежно повторяю все слова. С каждым днем незнакомых становится все меньше. Впрочем, мсье Паскалю очень нравится мой акцент. Я пытаюсь сохранить его. Поэтому слушаю не только Леграна, а еще один диск, который привезла с собой:
…Моя дівчинко печальна,
моя доле золота.
Я продовжую кричати…
Ніч безмежна і пуста…
Когда мсье Паскаль попросил рассказать, о чем эта песня, я ответила, что она про курву, которая отравила старого и очень больного мужа-миллионера, завладела его кредитными карточками, а потом, не вынеся угрызений совести, пошла на высокую кручу, прыгнула с нее в глубокое море и утонула, а потом…
Мсье Паскаль покачал головой и сказал, старательно произнося незнакомые слова: «Моя дьивчьенко пьечьяльна… – это курва?»
В десять я одеваюсь. Вернее – раздеваюсь, то есть снимаю махровый пушистый халат. На мне только длинная шифоновая накидка. Такой вот квадрат с дырой посередине… Честно говоря, я бы могла ходить по этому дому вообще голая, но это не входит в планы мсье Паскаля. В отличие от меня, он человек довольно-таки целомудренный. Да и никаких планов относительно меня у него нет. И это мне тоже нравится, ведь когда я со своим чемоданом ввалилась в этот шикарный дом на окраине, подумала, что мне здесь придется пылесосить не только ковры…
Хорошенько завернув остатки круассанов в туалетную бумагу, я незаметно кладу их в мусорный пакет. Я закрываю дверь своей комнаты и окунаюсь в романтический полумрак, среди картин, развешанных на стенах вдоль отполированных перил длинной лестницы, каждый поворот которой отмечен присутствием львиной или лошадиной головы. На портретах – люди в средневековых одеждах, некоторые – в белых или черных париках. Кружевные воротники, золотые пряжки. Неровный свет, шорохи, выразительная тишина… Я раскланиваюсь с каждым портретом, и тело мое становится невесомым под их взглядами. Я – призрак. Мы играем в игру, кто из нас живее. Каждый мой шаг вниз – шаг в прошлое, каждая ступенька измеряется годами. Шаг – и сразу минус пятьдесят! Порой мне кажется, что, спустившись с последней, я окажусь в райских кущах и положу начало жизни на той песчинке, что бессмысленно вращается внутри лифта!
Преодолев ступени, оказываюсь в холле, через который тоже должна проплыть, как невидимая лодчонка среди айсбергов старины – резного комода начала XVI века, такого же бюро с канделябром в виде грифона, клюющего печень у несчастного Прометея, кресел и стульев, обитых выцветшими тканями ручной работы. Тут совсем темно – окон нет.
Я раздвигаю тяжелые двери и вхожу в так называемую столовую. Она – огромная. Все ее пространство занимает длинный стол. Такой длинный, что я не могу поздороваться с мсье Паскалем, который как маленький паучок сидит в торце, – он меня все равно не услышит! Он долго наблюдает за тем, как я иду, как развевается моя накидка. Он улыбается. Перед ним – чистая белая тарелка с крошечной горкой какой-то каши, тарелка такая большая, что на ней уместился бы двухгодовалый поросенок (то есть – почти что свинья!), и пустой хрустальный бокал на толстенной ножке. Вот с этого бокала и начинается моя работа!
Если бы я отсюда написала кому-то письмо (чего никогда не стану делать!) и сообщила, в чем заключается мой «тяжкий труд», бывшие знакомые решили бы, что письмо это отправлено из местного сумасшедшего дома!
Я подплываю к мсье Паскалю, бережно беру со стола графин с красным вином и лью вино в бокал. Оно такое густое, что льется долго. Что-то опять происходит со временем! Почти так же, как и когда я иду по лестнице. С той только разницей, что в первом случае – время идет вспять, а во втором – останавливается. У меня даже немеет правая рука, которой я держу графин. От хрусталя, который постепенно приобретает красный оттенок, по стенам скачут «зайчики».
Я лью вино лет сто. С меня можно лепить статую, назвав ее «Женщина, наливающая вино». Порой я подумываю о том, что стоило бы заказать себе именно такое надгробие. Но сделать уточнение: эта неизвестная женщина наливала вино лишь одному мужчине в мире – мсье Паскалю. Когда бокал наполнен, я ставлю графин на место и сажусь в соседнее кресло. Работа выполнена. Я могу положить локти на стол, скрестить ноги.
– Как спалось, госпожа Иголка? – спрашивает мсье Паскаль.
И мы улыбаемся друг другу.
2
Похоже, этот учтивый вопрос задается неспроста. По ночам в приоткрытую дверь я вижу разные чудеса. Например, мимо нее проходят серебристые звери, с трудом переливаясь, как ртуть. Среди них – единорог, верблюд, волк, большой баран, а потом снова – единорог. А однажды в щелку ткнулся мордой белый конь…
…Это все – из-за воздуха, утверждает мсье Паскаль. То есть здесь он особенный, насыщенный кислородом, и поэтому в мозгу происходят разные благоприятные для фантазий процессы. Возможно, поэтому и время здесь течет как-то странно. Хотя, я знаю, бывают такие дни, месяцы или даже годы, когда живешь в остановившемся времени. А потому следует знать, что по сравнению с другими временными измерениями эти дни или годы – всего лишь мгновения. И в эту мизерную частичку секунды не нужно совершать глупостей. Например, глотать небезопасные таблетки, или намыливать веревку, бежать к реке, сунув в карманы пальто по два кирпича, или стоять на перилах балкона, или открывать на кухне конфорки. Лучше подумать о… размазанных по асфальту мозгах, вываленном в петле языке и вообще о неэстетичной позе, которую можешь бессознательно принять. Бр-р-р…
Когда подумаешь о таком, сразу услышишь, как часики снова начинают тикать: тик-так, тик-так… Сначала кажется, что это скребется мышь или под обоями копошатся тараканы – это опять нагоняет тоску и навевает мысли об асфальте под окном. Но когда прислушаешься – понимаешь, что это пошло время… О! Тогда серебряные звери собираются под твоим окном, рыбы заплывают в твою реку, на конфорке в сковороде шипит отбивная с кровью, а на веревочке нежно шелестят китайские палочки из бамбука… Тик-так!
Время – удивительная вещь.
Если бы мы относились к нему серьезнее, могли бы избежать множества проблем. Если бы время было рекой, а мы относились к нему серьезнее и были легкими, как перышко, – не было бы ничего лучше, чем просто лечь на волны.
Если бы время было рекой, а мы относились к нему серьезнее и были легкими, как перышко, – мы бы не гребли, не размахивали руками, не боялись захлебнуться и не звали бы на помощь.
А плыли бы по течению. И оно обязательно вынесло бы нас туда, куда нужно. Например, в эту обитель…
…Так вот, мсье Паскаль говорит, что здесь, на окраине нашего города, – удивительный воздух. Из него можно выхватывать фантазии. По правде говоря, у меня их всегда было столько, что я вишу в этом воздухе, как кристаллик соли в перенасыщенном растворе. Помните этот опыт из уроков химии?
Мсье Паскаль об этом знает. Он это проверил довольно странным образом. Когда я с одним чемоданом в руках и тремя колечками в ухе приехала сюда (конечно же, была готова мыть, стирать, убирать), он завел меня в кухню, расположенную на нижнем этаже… Сказать, что это – кухня, значит не сказать ничего. Мне показалось, что это спортивный зал. Только вместо скамеек и матов по его периметру расположилась всякая утварь для стряпни, включая очаг для запекания туш, а на стенах висели медные сковороды и кастрюли разных конфигураций и размеров. Несколько столов посередине: один – для нарезки овощей, второй – для мяса, третий – для рыбы, четвертый – для теста, и еще один – для приготовления смесей. Так вот, на железном столе лежали опаленный вепрь, кролик, курица…
– Через два дня у меня будут гости, – строго сказал мсье Паскаль. – Вы должны с этим что-то сделать (тогда он еще не дал мне того прозвища, на которое я сейчас откликаюсь с удовольствием).
Он позвал четверых – кухарку и трех помощников.
– Они будут делать все, что прикажете! Ужин устраивается в честь одного из Людовиков – вам не обязательно знать, которого из них, – но все должно быть вкусно. Вы когда-нибудь стряпали?
Я могла бы сказать – никогда, взять чемодан, развернуться и уйти. О, я запросто могла бы это сделать. Я ненавижу стряпать! А точнее – ненавижу застолья. Считаю их бессмысленной тратой времени, а тосты – это вообще полный бред. Собаки меньше брешут. Но я посмотрела на сухопарую фигуру мсье Паскаля, на его тапочки, халат и смешной ночной колпак на голове (я приехала слишком рано)… В глубине его глаз, которые в тот момент вернее было бы назвать маленькими буравчиками, таилось нечто такое… нечто такое…
Нечто очень подобное тому, что было и во мне. И я сказала, что стряпать – это страсть всей моей жизни. Если бы он завел меня в гостиную и предложил сыграть на органе фугу Баха – я бы тоже не отказалась!
Итак, он довольно кивнул головой и вышел из кухни, смешно шаркая своими шерстяными тапками.
Кухарка (впоследствии – «матушка Же-Же») и трое помощников смотрели так, будто на мне был скафандр водолаза и рыбья чешуя под ним. В их глазах так же во всю мощь работали тысячи буравчиков. А я смотрела на убитую живность, живописно возлежащую на столе, словно на полотнах голландских художников. Меня поташнивало. Что мне нужно было сделать? Кое-как нарезать из окорока вепря отбивные. Стушить кролика. Сварить из курицы бульон. Пускай обожрутся. Чем богаты – тем и рады!
Но надо знать, какая я упрямая.
Я окинула взглядом стены с полками. Там стояло множество баночек с надписями – «базилик», «кориандр», «хмель» и еще куча названий, которых я не знала. В голове всплыло множество воспоминаний – что-то о маринаде, тушении в вине, запекании в тесте и шпиговании пряностями. Я засучила рукава. Потравлю всех к чертям, подумала я, и буду хозяйничать в этом доме – по крайней мере до тех пор, пока сюда не наведается полиция.
Вот мой рецепт. Вепря, вычищенного до состояния новорожденного поросенка, мы положили в чан, и я тщательно натерла его всеми пряностями, которые были в этих баночках. Потом залили все это бочкой вина, которое по моему приказу принесли из подвала. Когда помощники лили его в чан, кухарка умывалась кровавыми слезами, бормоча что-то о трехсотлетней выдержке и моем безумии. Может быть, она говорила что-то и похуже, но я тогда еще плохо понимала местный диалект.
Потом я уже действовала, как настоящий художник! Мясо кролика перекрутила в электрической мясорубке вместе с кучей зелени – лука, свежего перца, помидоров, чеснока, корня сельдерея, укропа. Потом взялась за курицу. Вспомнила, как одна деревенская повариха, которую пригласили обслуживать свадьбу моей родственницы, осторожно подреза́ла кожицу и снимала ее с несчастной курицы, как чулок. Главное в этом деле – вдохновение, говорила она. Мое вдохновение имело другое название: упрямство, поэтому «чулок» вышел превосходным! Что теперь? Я начала переодевать кролика в курицу: пустую кожицу я осторожно наполнила кроличьим фаршем. В глазах кухарки будто выключились буравчики: я заметила, что она наблюдает за всем этим безобразием с немалым интересом. Когда я зашивала брюшко курице-кролика толстыми нитками, надо мной с уважением склонились все четверо и смотрели, как на Бога.
Короче говоря, сутки прошли в трудах праведных… А я никогда еще не трудилась сутки кряду! Даже не заметила, как настало утро, как оно перетекло в день. Мсье Паскаль ни разу не заглянул к нам. Наверное, думал, что я сбежала. Днем мы вынули из чана вепря, благоухающего, как цветущий сад, и положили его на огромный медный поддон. Я слегка обжарила тушку курице-кролика и с нежностью уложила его во чрево кабана. Но там еще осталось место. Помощники с вопросительным уважением смотрели на меня. Мне уже было все равно! Я стала вбрасывать в ненасытное чрево содержимое плетеных корзин, стоящих в углу, – зеленые яблоки, чищеный лук, зубчики чеснока. Я так разошлась, что, как щедрый сеятель, всыпала туда вишни, груши, орехи, чернослив, зерна горчицы. Вышла дикая смесь, которую я к тому же хорошенько перемешала с медом. Ароматное ложе для гибрида кролика с курицей было готово. Недоставало какого-то штриха.
Интересно, каким был последний мазок на полотне Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте», подумала я. Наверное, настоящее искусство начинается тогда, когда ты, окончив работу, начинаешь ее тихо ненавидеть… Если бы я была настоящим поваром в ресторане у себя дома, то есть – богом для желудков респектабельной публики, – я, наверное, точно попала бы в тюрьму, потому что не выдержала бы и всыпала в какое-нибудь «фондю бланш-манже» щепотку крысиного яда! Ведь нет ничего горше, чем когда твой труд, твое произведение искусства пожирают под пошлые тосты, посвященные какому-нибудь «Ивану Ивановичу».
Я молча стояла над вепрем, внутри которого в курином тельце был зафарширован кролик, и послушная паства затаилась у меня за спиной. Учитесь, дети, пока я с вами, подумала я и сняла с пальца серебряное кольцо.
– Серебро – дезинфицирует! – авторитетно заявила зрителям и вбросила кольцо во чрево. – А теперь зашивайте!
Я все время мысленно обращаюсь к живописи. И поэтому в этот миг представила себе удивительное полотно, которое могла бы создать, – «Зашивающие упрятанного в вепре кролика». Кстати, это невообразимое блюдо – мое доказательство того, что мир устроен как матрешка, и все довольно-таки гармонично вкладывается друг в друга.
Итак, завершив работу, мы вставили лист с вепрем в печь. Потом несколько часов мои помощники поливали тушу соком, образовавшимся вокруг нее.
А я, обессиленная, сидела у огня и думала, этого ли я хотела, отправляясь в путь?
Одежда моя испачкалась, хотя на мне и был большой фартук из брезента. Мне не указали на какую-либо комнату, где я могла бы помыться, расположиться и отдохнуть. Мои помощники будто забыли обо мне и уже суетились, нарезая салаты, разливая вина в графины и поднимая все это наверх с помощью специального лифта.
Последним на него положили вепря на громадном блюде. Все это уже меня не касалось. Даже есть не хотелось. Кухарка перекрестила кабанчика, как родного сына перед дальней дорогой, и нажала кнопку подъемника. Вепрь, из которого ароматными струйками испарялась его несчастная душа, медленно, как царица Клеопатра при въезде в Рим, поплыл вверх. Я подумала, что стоило бы раздеться и сесть на него верхом. Вот это был бы настоящий сюрприз для гостей мерзкого старикашки! Хотя хватит с него и колечка, о которое он сломает свой последний зуб! Тьфу!
3
Дня два я провела в чулане рядом с кухней, решая, что делать дальше, пока кухарка не принесла весточку от моего хозяина. Оказывается, мсье велел составить список необходимых мне вещей и всего такого – короче говоря, всего того, что мне будет необходимо для дальнейшего пребывания в его обители. О, как я была зла! Трое суток без ванны! Трое суток под вонючей простыней в кухне на нижнем этаже!
Без тапочек, без ночной сорочки, в компании мешков с чищеным луком. Я уже однозначно решила разорвать контракт. И поэтому ничуть не дрогнувшей рукой вывела на листке бумаги по меньшей мере десять абсурдных пунктов. Чувствовала себя так, будто составляю брачный контракт. Итак: джакузи и завтрак в постель, плазменный телевизор, кровать три на четыре (метра, конечно же), окно с видом на горы, шелковое белье, шампунь фирмы Проктер энд Гембл, зубную пасту Лакалут-актив, радиотелефон, сто пар белых носков из ангорки (у меня всегда ледяные ноги), набор косметики от Живанши, платья, новые джинсы, два хрена собачьих…
Про хрены я, конечно же, дописала в «постскриптуме».
Следующим утром, когда я пыталась хоть как-то отчистить от кабаньей крови свои единственные джинсы, чтобы иметь приличный вид, когда выйду на улицу, та же кухарка, мадам Же-Же (то есть ее имя, как она сказала, Женевьева), вошла в кладовую без стука и пригласила меня следовать за ней.
– Мсье Паскаль просит прощения за проволочку и временные трудности, – сказала она. – Но столько пар шерстяных носков, да еще определенного цвета, пришлось выписывать из столицы. У нас городок маленький, и такого количества в лавке не нашлось…
– Это беспокоит… Паршивый у вас городишко, если в нем нет носков… – пробормотала я, но все же поплелась за ней – по той лестнице, о которой я уже рассказывала.
Собственно, мне было все равно, что меня там ждет – железный крюк для пыток, «испанский сапожок» или оркестр духовых инструментов. Но, признаюсь, поглядывая на картины, поглаживая деревянные перила и вдыхая запах освещенных тусклым светом апартаментов, я чертовски хотела, чтобы наше медленное восхождение длилось вечно. Наверное, я уже тогда ощущала вкус времени, разлитого в этом пространстве…
Женщина распахнула дверь в конце коридора и учтиво кивнула:
– Прошу. Располагайтесь. Мсье Паскаль сегодня очень занят. Он сам вас позовет. Обед – в три. Ужин – в семь.
И, притворяя за собой дверь, добавила:
– Мсье был очень доволен вашим блюдом. Это случается нечасто…
Черт побери! Черт! Черт! Сто миллионов жареных крыс! Я не могла прийти в себя. За окном (во всю стену) высились горы. Застеленная белым пушистым покрывалом кровать напоминала аэродром! В шкафу – все, что нужно, чтобы не ходить в заляпанных джинсах.
Я решила, что, наверное, за мной кто-то наблюдает через глазок скрытой камеры, и поэтому, сохраняя невозмутимый вид, толкнула дверь ванной.
Джакузи…
Лакалут-актив…
Махровые полотенца…
Уйма соблазнительных пузырьков с духами. Это точно какое-то «реалити-шоу» с участием дикаря из «третьего мира»!
Интересно, сколько этот господин за него получит?! Я скрутила кукиш в громадное зеркало и вернулась в комнату.
Среди всего барахла не хватало хренов собачьих.
Посредине круглого стеклянного столика лежало мое серебряное кольцо…
…Так я оказалась в этом доме. Так состоялось мое знакомство с мсье Паскалем…
Я знаю, что в моем рассказе нет того, что можно было бы назвать «правдой жизни». Но до этого, поверьте мне, мы еще дойдем. Хотя меня ужасно воротит от этой формулировки. Правда жизни – в запахе жареного лука, гречневой каши, она кистью художника-иезуита написана на лживых лицах политиков, она лежит в шляпе уличного аккордеониста, она хрипит и кашляет в промерзших водопроводных трубах, она скрывается под брюками женщин в виде заштопанных колготок… Я наелась ее досыта! Меня тошнит от одного воспоминания об этих колготках.
Точно так же мне тошно писать письма своим бывшим приятелям. Конечно, я сразу, как неофит, оказавшийся на другом конце света, в первый же вечер написала письмо своей подруге. Оно было примерно такого содержания: «Доехала хорошо. Устроилась. Жарила вепря. Вижу в окно чудесные горы. У меня есть личное джакузи. И сто пар носков из ангоры… Они – белые».
Потом я скомкала эту писанину.
Представила себе, что могла бы ответить подруга. Она бы спросила про объем работы, про зарплату и о том, что значит «жарила вепря», не идет ли речь о сексе? А еще бы она сделала приписку о зиме…
Кстати, там, в моем городе, зима тянется долго-долго, почти бесконечно, и все разговоры только о погоде. Каждый день, где бы ты ни был – все говорят о холодах. Вчера было намного теплее, чем сегодня! А какой прогноз на завтра? Когда же это закончится? Все ходят бледные и прячут руки в рукава…
Но дело не в этом. И даже не в запахе «правды жизни» – жареного лука. Дело в том, что там, в моем городе, где долго тянется зима, я и сама говорила и думала только о холодах…
И всегда выгрызала весну зубами. Так яро, будто ела твердое зеленое яблоко! С вами такое бывало? Хоть с кем-то одним – обязательно. Я выгрызала весну. Я так безумно желала ее, что порой мне казалось, будто она приходила лишь благодаря моим усилиям. В лютые морозы, стоящие в конце января, я упрямо надевала под шубу короткую юбку. Ветер и стужа хватали меня за все запретные для их длинных щупальцев места. Но под моей кожей распускались цветы, проступали на ней, как татуировки…
С этими цветами, прущими изнутри, я могла бы жить где угодно. Но я не люблю застоя. Какой смысл консервировать эти цветы в себе? Нельзя жить будущим, ждать и полагаться на него. Ведь можешь напланировать всякого на год вперед, а завтра на голову свалится кирпич – и прощайте, Карибские острова!
Мысль об этом проклятом кирпиче, лежащем на самом краешке крыши, прямо над моим подъездом, не давала мне покоя. Кто-то живет на бочке с порохом, кто-то – «от зарплаты до зарплаты», кто-то – «от субботы до субботы» (была такая развлекательная радиопередача), я же всем нутром ощущала этот чертов кирпич, который в любой момент может сдвинуться с места. Гадкое, гадкое чувство…
А еще последнее время, перед отъездом, во мне засели строки, вычитанные в повести моего любимого Маркеса «Рассказ не утонувшего в открытом море»:
«Лежа на своей койке – верхней, я думал о родном доме, о предстоящем рейсе, и не мог заснуть. Подложив руки под голову, я прислушивался к едва слышному шелесту моря и спокойному дыханию моряков. Подо мной была койка Луиса Ренхифо, он храпел, будто дул в тромбон. Не знаю, какие он видел сны, но уверен, что он не спал бы так безмятежно, если бы мог предположить, что через ВОСЕМЬ ДНЕЙ будет лежать мертвый на дне моря…»
Вот эти ВОСЕМЬ ДНЕЙ волновали меня не меньше, чем мысли о кирпиче, висящем над головой. Если бы мне поставили такие условия, думала я, что бы я должна была сделать? С ума сходила от этого вопроса. И не могла спать.
Точно так же, как выгрызала весну, я начала выгрызать для себя тоннель в этих холодах.
А когда увидела эту комнату – такую, как и загадывала в своей бессоннице, – испугалась. Я подумала, что яростно вгрызаться в лед и считать дни – в этом и есть цель и смысл, а засесть в джакузи с видом на горный пейзаж – начало конца. Мышеловка… Такой вот парадокс.
4
Жизнь нужно воспринимать, как кино. И меньше размышлять над тем, что будет в следующей серии. Это, кстати, сказал мсье Паскаль спустя два дня, когда наконец пригласил меня к себе.
– Представь себе, что где-то там, на небе, высоко, откуда аисты приносят на землю души младенцев, ты стоишь у кассы в длиннющей очереди. Толпа. Шум. «О чем этот фильм? – спрашивают друг у друга будущие зрители. – Это – комедия, драма или боевик?» «Комедия!», «Мелодрама!», «Вестерн!» – звучит в ответ. Ведь каждый пришел смотреть СВОЕ кино. Эти ответы лишь сбивают тебя с толку, и ты сгораешь от нетерпения – поскорей бы попасть в кинозал. Прыгаешь на одной ножке, считаешь часы, минуты и секунды. И наконец – получаешь билет… Заходишь в темный зал. Слепнешь от темноты и не видишь тех, кто скрипит стульями рядом, твое внимание приковано к белому экрану. На нем пока ничего не происходит. Просто – темнота. А ты – первый зритель первого фильма в синематографе братьев Люмьер. С той лишь разницей, что поезд съедет-таки с экрана…
…Двое суток я усердно крутила дули в каждое зеркало и в каждый угол потолка, переодевалась за шкафом и с головой накрывалась одеялом, хотя утром все равно просыпалась раскрытая и голая (я привыкла спать, как Мэрилин Монро, которая, по ее же словам, на ночь надевала лишь одну каплю духов «Шанель»).
По телефону матушка Же-Же приглашала меня на кухню – поесть. Я вела себя, как партизан. Жилье и еда меня вполне устраивали. Я даже смирилась с тем, что участвую в этом шоу. В конце концов, все происходящее вокруг – тоже шоу. Только бери камеру и снимай! Но здесь я отоспалась и, как говорит моя подруга, – «отпустила ситуацию». Настолько, что перестала делать неприличные жесты, стоя перед зеркалом, и заглядывать время от времени под кровать.
Именно тогда матушка Же-Же сообщила, что мсье Паскаль освободился от своих срочных дел и готов поговорить со мной. Я должна была явиться перед ним во всей красе! Что бы ему могло понравиться? Шелковое платье, висевшее в шкафу? Туфли под цвет платья на высоких каблуках? Гладенькая опрятная прическа? Да, пожалуй…
Я вынула из аптечки пузырек с зеленкой и тщательно смазала ею волосы по всей длине. Надела джинсы, в которых работала на кухне, – от них сильно несло засохшей кровью. Поверх белой футболки натянула черную майку. Получилось довольно стильно. Когда матушка Же-Же пришла за мной, чтобы проводить в кабинет хозяина, ее мой вид задел так, что она на миг даже прижалась к двери и чуть не выпала из нее в коридор.
Мы спустились по лестнице, потом свернули направо, потом – налево. Из стен этого крыла торчали оленьи рога, улыбались кабаньи рыла, печально поблескивали искусственными зрачками нежные косули…
Матушка Же-Же почтительно приоткрыла дверь и кивнула мне: «Можно войти!»
Я человек не очень стеснительный, хотя помню времена, когда в самых разных ситуациях мои щеки заливал предательский румянец. Я доказывала себе и другим, что это – особенность кожи, под которой сосуды расположены слишком близко, но это было неправдой! Я краснела потому, что не имела навыков общения. Мне всегда казалось, что люди должны воспринимать друг друга на уровне жестов, находить единомышленников по… стилю одежды, по книге, лежащей в их сумке, по коротким, но метким фразам и даже по тем блюдам, которые они любят. Когда эти иллюзии развеялись, я начала слишком много болтать, открывать любые двери ногой и вообще вести себя так, чтобы больше никогда не краснеть. Чем раскованнее поведение, тем меньше интересуются, от чего у тебя пылает физиономия. У наглых людей она всегда красная и всем довольная.
Так вот, перед тем как войти в кабинет мсье Паскаля, я почувствовала давно забытый укол застенчивости. Будто я вернулась на десять лет назад в свое прошлое, которое терпеть не могу. Но я знала, каким должно быть противоядие этому уколу, вызывающему пробуждение совести.
Я вошла в кабинет.
Мсье Паскаль, как я себе и представляла, сидел за широким письменным столом, позади него – полки с книгами под самый потолок, окна зашторены зеленым бархатом (очень гармонирует с моими волосами, подумала я). Не хватало «мраморного» дога у ног хозяина, камина, еще чего-нибудь в этом роде – возможно, «философского камня», который стоял бы на столе, или глобуса в резной оправе. Но на тумбе стоял допотопный репродуктор, а возле него были разбросаны вещи, место которым в прихожей, – потертые кожаные перчатки, зонтик, надтреснутая пепельница и телефонная трубка – без аппарата.
Я вошла в кабинет.
Я вошла в кабинет, с острейшим уколом совести.
Я вошла в кабинет с уколом совести и предательским чувством – когда «Бобик» попадает в гости к «Барбосу», он всегда должен вилять хвостом. А изо рта пускать слюни.
Итак, я вошла в кабинет, прошлась, села на стул напротив стола и сказала:
– Привет, папик!
Я знаю, когда ведешь себя именно так, необходим еще один мелкий, но очень существенный нюанс: смотреть в глаза собеседнику.
Иначе вся твоя храбрость быстро улетучится. Я посмотрела. Собственно, за эти несколько дней я забыла, как он выглядит. Передо мной сидел пожилой мужчина, сухопарый, с большими темными глазами и массивным носом, его лоб бороздили благородные морщины. На нем была мягкая клетчатая кофта. Зеленый платок на шее, белая рубашка. Из всего увиденного я бы выделила только глаза. Интересные глазки – слегка навыкате, с разноцветными крапинками. Такое впечатление, будто в зрачки вставлены два маленьких глобуса с параллелями и меридианами. Итак, дух земного шара все же витал в этом полумраке. Интересно, обозначена ли на нем точечка моей родной страны?
Вдруг мне почудилось, что лицо мсье Паскаля неожиданно… помолодело. Скорее всего, мой взгляд рассредоточился, как это бывает, когда долго смотришь на свет, и лицо мсье Паскаля расплылось перед моими глазами. Оно было гладкое, как яйцо. И по нему поплыли другие носы, губы и брови – так, как это бывает, когда в милиции составляют «фоторобот» преступника (когда-то я принимала участие в таком эксперименте у себя в городе – тогда один тип попросил меня спрятать в доме маковую соломку, а потом выяснилось, что он мафиози местного масштаба). Это было похоже на ускоренную эволюцию в пределах одного лица.
– Что с вами? Вы переутомились? – услышала встревоженный голос и открыла глаза. Мсье Паскаль стоял передо мной со стаканом вина в руке. – Выпейте!
Я действительно переутомилась. Сначала от приготовления той чертовой еды, а еще больше – от ожидания. Я все-таки не железная. Я взяла стакан и сделала глоток.
Мсье Паскаль снова уселся на свое место.
– Хорошо, – сказал он. – Вы красиво пьете. Интересно было бы посмотреть, так же ли красиво вы умеете наливать вино…
– Никогда не думала, что можно обращать внимание на такие незначительные вещи… – сказала я.
– А как же. По тому, как человек ест, пьет, готовит или раскладывает еду, можно судить обо всем остальном…
«Эге… – подумала я. – Например, о том, как он будет удовлетворять такого старикашку, как ты…»
– Смотря каким образом… – будто отозвался на эту мысль хозяин. – Итак, в такую даль отправляются в двух случаях. Когда вы несчастны там, где родились. Или когда вы слишком счастливы, чтобы не позволить себе новых впечатлений.
– Есть еще третье: подзаработать деньжат! – добавила я и подумала, что, имея ТАКОЙ дом, он, конечно, не может представить себе ситуацию, в которой сорвется и помчится жарить вепря на другой конец света.
– У вас острый язычок, – сказал мсье Паскаль. – Я буду называть вас – Иголка. Госпожа Иголка.
«Конечно, зачем тебе знать, как меня зовут, – подумала я. – Думаешь, что за сто пар носков я готова откликаться даже на кис-кис?»
– Но если вам это не нравится… – продолжал мсье.
– Нет, – поспешила успокоить его я (ведь мне вовсе не хотелось возвращаться к своему настоящему имени). – Замечательно! И очень метко. Мне нравится.
– Мне тоже. Поэтому продолжим разговор. Вы приехали сюда заработать, как говорите, деньжат… Сколько же вы планируете их получить? И на что потратите свой первый миллион?
Я подумала, что это, наверное, какой-то тест, которым обычно проверяют новых работников. Однажды я уже проходила подобное тестирование на фирме, куда пыталась устроиться еще там, на «большой земле». Мне сказали, что это будет тест на IQ, но поскольку тогда еще никто не знал, что это такое, пришлось отвечать на дурацкие вопросы, вроде: «На дереве сидят два ворона. Один смотрит на север, другой – на юг. «У тебя на клюве – пятно!» – говорит один. «А у тебя на крыле перьев не хватает», – говорит второй. Вопрос: как они видят друг друга, если смотрят в разные стороны света?» Поэтому не удивилась. И потом, разве не интересно поразмыслить над тем, на что вывалить такую сумму? Кто же об этом не думал, хотя бы раз в жизни!
– А что бы вы сделали, если бы узнали, что до конца вашей жизни осталось восемь дней? – спросила я. Мне кажется, это был достойный ответ, хотя я и не люблю отвечать вопросом на вопрос.
Мсье Паскаль засмеялся.
– Не ищите подвоха в моих словах, госпожа Иголка! – сказал он. – Я понимаю, что многое в этом доме вам кажется странным. Но я – человек старый, одинокий, почти маразматичный. Мне много не нужно. Так, кое-какие мелочи…
«Ага…» – подумала я и только собиралась нарисовать эти «мелочи» в своем воображении, как мсье Паскаль прервал мое занятие:
– Действительно мелочи. Обычные бытовые мелочи. О них мы еще поговорим.
– Хорошо. – Я решила больше не фантазировать на тему всяких извращений. – Но это немного странно. Почему вы не выбрали для этих, как вы говорите, мелочей более достойную кандидатуру, какую-нибудь местную барышню?
– О, на самом деле у меня был довольно богатый выбор! – улыбнулся мсье Паскаль и указал рукой на кипы бумаг и папок, лежащих у него под столом. Их было так много, как писем Деду Морозу в Лапландию, которые зимой пишут дети всего мира.
На меня сошел священный трепет:
– И из всех этих кандидатур вы выбрали меня? Почему?!! С вашими доходами вы могли бы нанять выпускницу Сорбонны. Или Кембриджа. Или… царицу Савскую. Уверена: они так же красиво распивают вино… И не только это.
– Возможно, – пробормотал мсье Паскаль. – Но они… не видят коридора…
Я оглянулась на дверь. Она была закрыта – в ней не было видно никакого коридора. Разве что я отчетливо представила себе, что за ней, прильнув ухом к замочной скважине, стоит матушка Же-Же.
Мое движение разозлило старого мсье. Он заговорил энергичнее, будто втолковывая урок, который я давно заучила и вдруг забыла. К тому же он перешел на «ты».
– Знаешь, что такое открытый вход? Что такое коридор? Порой там (он указал глазами на потолок) двери открываются именно в тот момент, когда ты озвучиваешь свое желание. Ты, конечно, об этом и не догадываешься. Просто в этот момент произносишь что-то вроде: «Господи, я так хочу модный зонтик!» Это, надеюсь, понятно? (Я покорно кивнула, ведь довольно часто беспокоила небесную сферу подобными крамольными мелочами.) Конечно, зонтик у тебя появляется – так или иначе. Но в этом случае он появляется быстрее, чем ты планировала. Но! – Мсье Паскаль поднял палец вверх. – Если бы в тот момент человек знал, что ДВЕРИ ОТКРЫТЫ, разве просил бы он о таких незначительных вещах? (Я отрицательно покачала головой.) Так-то вот…
«А при чем здесь я?» – очень хотелось спросить мне, но мсье Паскаль продолжал, и меня уже не удивляло, что он будто читает мысли, хотя это было не сложно:
– Вы? Вы не впадаете в крайности. Ведь есть две категории: те, кто обращается по мелочам (обычно они забавные и совершенно безопасные), и те, кто внимательно следит за тем, когда дверь открывается… Конечно, им не дано знать об этом миге, но они настырно, ежедневно, ежеминутно требуют СВОЕГО. А я не люблю настырных людей… И фанатиков не уважаю.
Он закашлялся и умолк.
Потом мы еще немного поговорили о моих обязанностях. Честно говоря, я мало что поняла.
Когда я уже стояла на пороге, мсье Паскаль окликнул меня:
– Еще одну минутку, госпожа Иголка. Я забыл у вас спросить: а что в вашем списке означает «хрены собачьи»?.. Мы этого не нашли…
5
Той ночью я спала спокойно. Почувствовала, что эта шикарная комната – моя, и уже не присматривалась к углам и зеркалам. Первое, что сделала, когда вернулась после собеседования с мсье, разбросала вещи, поменяла местами вазоны и стулья, выложила на стол весь свой скарб из косметички и раздвинула шторы, которые висели слишком аккуратно. Этим я «пометила» свое место, как кошка. То, что я здесь задержусь, само собой разумелось. Лишь бы не заставили носить черное платье с белым передничком и накрахмаленный чепец на голове!
Ближе к вечеру мсье Паскаль позвал меня к себе снова.
– Я почти не выхожу из дома, – сказал он. – А если куда и отправляюсь – только в ближайшее бистро, через дорогу. Но не для того, чтобы поесть. Время от времени там собираются мои друзья. Или те, кто имеет шанс вскоре ими стать. Сегодня вы будете сопровождать меня. Я хочу, чтобы вы увидели их, и потом, когда они придут ко мне, – не пялили на них глаза. Ну и, конечно же, попробуете местные напитки, освоитесь… Я ведь не собираюсь держать вас взаперти. Встречаемся внизу в шесть. И если можно… очень прошу, смойте эту зелень с головы. Не хотелось бы, чтобы обо мне судачили в городе…
Старик, оказывается, боится сплетен.
– А что у вас здесь надевают в таких случаях? – поинтересовалась я. Мне очень захотелось как-то угодить ему.
Мсье Паскаль пожал плечами:
– М…м…м… Я не обращал внимания. Кажется, то же, что и в других местах… Посмотрите в окно.
Я посмотрела в щелку между бархатными шторами его кабинета. Там легкой пеленой дрожал мелкий дождик.
В шесть я ждала его в прихожей и имела довольно пристойный вид. Решилась надеть черное платье, висевшее в шкафу. Волосы, конечно же, вымыла и уложила в аккуратный узел.
Идти было недалеко.
Я держала над мсье Паскалем большой черный зонт, который мне сунула в руки матушка Же-Же, хотя дождя уже и не было.
Я столько дней просидела в этом доме, что успела забыть, как выглядит городок. Помню только, что автобус довез меня до самого дома, а в окне, словно нарисованные, висели одни и те же пасторальные пейзажи – опрятные коттеджи, стриженые газоны, клумбы. Сейчас туман клубился в конце длинной улицы, больше ничего не изменилось: коттеджи, клумбы. Ни одного прохожего. И это понятно, ведь что делать на этой игрушечной улице, где нет пивного ларька или игрового автомата?!
Бистро действительно было в каких-то десяти шагах от дома мсье. Не знаю, из чего оно было выстроено – пожалуй, все-таки из кирпича, но снаружи было обшито деревом, как настоящая деревенская забегаловка или стилизованный под простую охотничью избу ресторан. Я люблю деревянные строения, люблю сидеть без скатерти и выцарапывать ножом на поверхности стола узоры. От металла и пластика меня тошнит и во рту появляется кислый привкус.
Итак, это бистро мне сразу понравилось. И изнутри – тоже. Ведь оно было таким, как я себе и представляла. Длинные отполированные локтями столы, тяжелые стулья на толстенных ножках с вырезанными сердечками на спинках. Стойка – тоже цельное потемневшее дерево. За спиной пышнотелой барменши – батарея бутылок. Она приветливо кивнула мсье Паскалю и показала глазами на меня:
– Новенькая?
Мой хозяин ответил: «Да» и повел меня за дальний столик у камина.
– Что она будет пить? – крикнула ему вслед барменша. Вкусы самого мсье она, видимо, знала.
– Шардоне-совиньон-пинаколада-абсент-малибу-мартини-кампари-кровавая мери-дом-периньон-брют-гавайский ром-чинзано-мартель?.. – Мсье Паскаль еще минуты три перечислял то, из чего мне следовало выбрать напиток, достойный моего нового платья и прически.
– Пожалуйста… – степенно сказала я. – Если это, конечно, возможно… Я бы выпила того вина, название которого, извините, сейчас не припомню… Того самого, что делают из винограда, собранного… в Альпийских горах, когда термометр опускается ниже семи целых и девяти десятых градуса по Цельсию…
Я сказала это и скромно опустила глазки долу.
– Айс блу! – одновременно воскликнули оба. – Достойный выбор!
Пока барменша возилась с нашими напитками (мсье предпочел обычное темное пиво!), я огляделась. В кафе было пусто, ничего интересного. Правда, уютно и очень хорошо пахло древесиной…
– Еще слишком рано… – сказал мсье Паскаль, заметив, что я немного заскучала.
Передо мной уже стояла рюмочка – стеклянная, утопленная в маленький деревянный бочонок. Вино было прохладное и терпкое – настоящий подмороженный виноград.
Пока я рассматривала странный бочонок, крутила его в руках – а длилось это минуты две, – бистро заполнилось людьми. Такое впечатление, будто в пустой невод попала стая рыб! Или… Или мимо проходила какая-то демонстрация и все гурьбой завалили сюда. Мгновение – и все вокруг загудело, задымило, пришло в движение, откуда-то донеслась музыка. Нормально! Можно жить. Публика была довольно разношерстная, но такая себе… обычная для маленького городка. Парочки в джинсах и толстых свитерах, жавшиеся друг к другу за отдельными столиками, компании мужчин, которые сразу же выложили на стол карты или шахматы. В углу – какой-то волосатый типчик с ноутбуком, несколько старичков с раскрытыми вечерними газетами в руках… Барменша сновала между ними, выставляя на столы графины и бутылки, и недовольно сопела в адрес одного-единственного официанта, который весело переговаривался с девушкой у стойки.
Вот с этой публикой мне предстоит жить и знакомиться ближе, подумала я, ведь было понятно, что все они местные. Я вопросительно посмотрела на мсье Паскаля.
– Я и сам не всех знаю, – сказал он. – Иногда здесь оказываются совершенно новые люди. Сижу здесь и пытаюсь представить себе, кто они такие. Иногда попадаю в «яблочко». Но многие тут – мои приятели.
– Те, кто любит экзотические блюда из вепря? – не удержалась я, чтобы не съехидничать.
– Ну, должен же я чем-то их удивлять время от времени. А вообще, они неприхотливы… Им нужно совсем немного. Разве что – полмира в кармане (тут мсье Паскаль улыбнулся). Вон тот (он указал на темноволосого парня в клетчатой рубашке) – вы будете называть его Фед – ходит сюда ради нашей барменши. Посмотрите, как он на нее смотрит!
И правда, чернявый типчик поедал дородную мадам глазами. Ее грудь и ягодицы были настолько самодостаточными, что, казалось, существовали отдельно от всего прочего, что составляло ее тело, и танцевали при каждом движении зажигательное фламенко.
– …а женится на крошечной женщине… И прославит ее, – задумчиво продолжал мсье Паскаль. – А этот (он кивнул в сторону парня за ноутбуком) Джон, по-вашему – Иван. Как видите, пытается стать писателем. И что вы думаете? Станет-таки…
– Откуда вы знаете?
– Знаю. Это мой друг.
– А этот? – Я указала на парня, который как раз сейчас расшнуровывал свои старые промокшие кроссовки и подвигал их ближе к огню.
– А… Этот парень – голова! Переводчик Шекспира. У него всегда проблемы с одеждой… И… с миром.
Я видела, что мсье подсмеивается надо мной. Особенно это стало заметным, когда из него, как с последней страницы какой-нибудь «желтой» газетенки, полезли дальнейшие сведения о присутствующих. Женщину с короткими темными волосами, сидевшую в компании мужчин, он назвал «первой женой Эжена Гренделя», седого бородача – «самоубийцей», волоокого красавца с платком на шее – «гениальным художником, который погибнет на улице и будет похоронен на кладбище для бродяг»… Горемычные жители! Они, видимо, и не предполагали, какую судьбу им уготовил мой чудаковатый хозяин. Наверное, хорошо сидеть вот так, в крошечной забегаловке, имея собственный дворец через дорогу, и навешивать на людей ярлыки, подумала я. А что ему еще делать?
Во время нашего разговора многие из посетителей кивали мсье Паскалю, поднимали руки с бокалами, посылая таким образом приветствие, и с интересом разглядывали меня. Я чувствовала себя неловко в своем черном платье…
– Наверное, нечто подобное вы скажете когда-то и обо мне? – спросила я.
– М-м-м… Возможно, возможно… – равнодушно пробормотал мсье Паскаль.
Очевидно, я была ему не интересна, несмотря на то что он выбрал мое резюме из тысячи других. Я снова заскучала.
– Сейчас начнется живая музыка, – мгновенно отреагировал мсье Паскаль. – Они приходят в половине седьмого.
Действительно, спустя несколько минут в углу на небольшом круглом подиуме стали настраивать свои инструменты молодые люди в линялых футболках.
– Они хорошо играют! – оживился мсье. – Вам понравится.
Мне нравится, когда играет музыка.
Мне нравится, когда играет музыка в деревянном бистро.
В деревянном бистро на окраине незнакомого городка.
Незнакомого городка, которому я безразлична и который безразличен мне.
Тогда я закрываю глаза и представляю, что я сижу в деревянном бистро города, который я люблю и в котором меня любят.
Города, в котором поют «Моя дівчинко печальна, моя доля золота…» и идет дождь.
Города, который я хочу выхаркать из себя – с кусками легких и его ледяной нескончаемой зимой…
– Когда я буду умирать…
Когда я буду умирать,
О чем подумаю в последний миг,
Если, конечно, это не случится вдруг?..
Что сочту ошибкой?
А что – достижением?
Возможно, одно и второе поменяются местами?
И я пойму,
Что все проходит и ничего не имеет значения,
Кроме друзей…
Кроме друзей,
Которые будут стоять и смотреть на меня
В мой последний миг…
Я даже не заметила, что они – уже играют. Мне показалось, что это звучат мои мысли.
– Я же говорил: вам понравится, – подмигнул мне мсье Паскаль. – Они станут очень знаменитыми. Одного убьют, когда ему исполнится сорок, в городе Желтого Дьявола неподалеку от большого сквера, второй потеряет любимую жену, а позже женится на женщине без ноги… Третий…
Я кивнула, уже не слушая его бормотание, не отрывая глаз от круглого подиума. Собственно, туда смотрели все. Джинсовые парочки, целуясь, медленно двигались в полумраке. Я подумала, что там, откуда я приехала, уже нет таких простых бистро, где вот так можно потанцевать, заказав лишь кружку пива.
– Будь я моложе, я бы пригласил вас на танец, – сказал мой хозяин, будто оправдываясь. – Вы ведь давно не танцевали…
– Женщина, которая давно не танцевала,
И мужчина, который давно никого не приглашал на танец, –
Одетые во все черное…
Застегнуты на все пуговицы,
Их прически опрятны.
Они говорят о погоде.
Вчерашней погоде…
И пишут на бумаге цифры, цифры, цифры.
Один миллион девятьсот девяносто девять…
Один миллион девятьсот девяносто девять…
А музыка играет сама для себя:
«Если бы вы только знали…»
– Если бы вы только знали, как мне хочется пригласить вас на танец! – Я оторвала взгляд от сцены. Тот, кого мсье Паскаль назвал Иваном (Джоном), стоял у нашего столика. – Вы не возражаете, мсье Паскаль?
– Мы только что об этом говорили! – улыбнулся тот. – И если дама не против…
Ну вот, я уже стала «дамой», а еще трое суток назад надрывалась, готовя ужин для вас и ваших гостей, подумала я. Среди них, кстати, мог быть и этот… Интересно, знает ли он, с кем собрался танцевать? Я протянула руку, и мы вышли в круг.
– Когда тебе кричат, что ты – ничто,
Проверь, на месте ли твое сердце…
Проверь, есть ли у тебя табак в трубке,
Пахнет ли на кухне кофе,
Спит ли в твоей кровати та,
Для которой стоит его варить?
Проверь…
Проверь, на месте ли твоя книга, которую
Ты читал под утро,
Есть ли кому взглянуть в твои глаза
И ничего не говорить при этом?
Проверь…
И не отвечай…
Мы смотрели друг другу в глаза. Довольно серьезно. В кино после такого взгляда обычно начинается сближение лиц и затем – продолжительный поцелуй с «наездом». Очень романтично выглядит!
Но в глубине каждого из четырех зрачков, которые теперь участвовали в этом «фильме», – где-то внутри, подтекстом проступало… отстраненное созерцание, которое не имело никакого отношения к этой романтике.
Я (точнее – тот придирчивый индикатор в глубине зрачка) фиксировала малейшую морщинку в уголках его губ, след «трехдневной щетины» (интересно, это дань моде «мачизма» или просто равнодушие к своей внешности?). Он… Уверена, у него в голове слагалась какая-то фраза будущего романа. Примерно такая: «В окружении мсье Паскаля, этого чудака и отшельника, мне встретилась хорошенькая славянка. Несмотря на то что мы не сказали друг другу ни слова и я вел себя довольно пристойно, меня не покидала мысль о том, какого цвета у нее белье. При более внимательном рассмотрении я догадался, что она его не носит…» Или что-то в этом роде… Поэтому этот долгий и опасный взгляд прервался проще.
– Я здесь четвертый день, – сухо сообщила я. – Буду работать у господина Паскаля. Возможно, даже буду стирать его носки. И не желаю быть объектом наблюдений.
– Ты знаешь, что делать
С пойманной бабочкой?
Положи ее
В толстую книгу
Между сто сорок второй
И сто сорок третьей
Страницами –
Там, где речь идет о
Чем-то очень важном,
Чем-то очень важном,
И на ее крыльях отразится все,
Что тебе нужно знать…
Что за напасть! Здесь даже музыканты издевались надо мной! Или мне только так показалось? Такое, конечно, бывает. Но ведь невозможно все время так нагло попадать в «десятку»!
Он ничего не ответил. Почтительно поцеловал мою руку, отвел к столу, поклонился мсье Паскалю. Сел за свой ноутбук, изредка бросая на меня взгляд так, будто уже писал ту фразу.
– Ну вот, с одним вы познакомились, – сказал мсье. – Остальных еще увидите. Нам пора. Я ложусь не позже десяти. Думаю, вы получили удовольствие и отдохнули?
Да, я действительно получила огромное удовольствие. От музыки.
Когда мы уже выходили (мсье Паскаль, направляясь к двери, пожимал кому-то руки), я еще раз внимательно прислушалась.
– Когда ты уходишь,
Уходишь в ночь,
Чтобы погасить свет и уснуть,
Взгляни через плечо:
Тот, кто посмотрит тебе вслед, –
Оставит на тебе
Свою печать,
Как на письме – в никуда…
Конечно, я оглянулась. Конечно, Иван-Джон прожигал взглядом мою не к месту обнаженную спину…
6
В этом городке все старые женщины носят черные чулки и черные туфли с перепонкой, как у школьниц. Юбки – в цветочек или клетчатые, на плечах – кружевные платки. Это выглядит чуть старомодно, как в итальянских или французских фильмах середины 30‑х годов. Пожилых женщин здесь много. Они парами ходят в магазины, стайками оккупируют столики на открытых верандах у кондитерских. Они пьют кофе и поглощают пирожные со взбитыми сливками. Мужчины, их мужья, носят жилеты с множеством карманов и белые рубашки. Они не посещают кондитерские, а по вечерам собираются у порога какого-нибудь из домов, играют в шахматы, карты, курят трубки. Молодежи значительно меньше. Если попадается веселая разноцветная гурьба – это туристы. Главным образом они идут в горы, чтобы сверху созерцать живописный пейзаж.
А он действительно живописный! И городок тоже. В нем только одна длинная улица. С обеих сторон – дома, утопающие в зелени. Улица в солнечном свете – желтая, дома – белые, крыши – красные. Все будто нарисовано «чистыми» цветами, без малейших оттенков. А еще и синее небо – с четкой темной линией, которая очерчивает холмы, покрытые густыми зарослями, и белые вершины гор… Все настолько четко и совершенно, как картина, написанная в стиле наивного искусства или рукой ребенка. Вот и представьте, какой сюр привносят в этот колорит трогательные черные чулки и кружевные платки женщин.
Когда я вышла прогуляться, была поражена этими чистыми цветами, которые даже резали глаз.
Впервые я вышла пройтись днем – как раз тогда, когда все нормальные горожане предавались полуденной сиесте. Над городом висела невозмутимая гробовая тишина. Я шла по желтой улице и слышала каждый свой шаг. Даже поймала себя на том, что начинаю красться, как кошка. Но это было еще хуже: мелкая раскаленная галька противно скрипела под ногами, как целлофан. Этот звук отдавался в конце улицы, возвращался в мою голову и резонировал так, что у меня начали болеть зубы, будто я грызла перламутровую пуговицу. Окна коттеджей придирчиво следили за мной, на некоторых чуть заметно покачивались занавески. Уверена: за ними стояли любопытные жители и рассматривали меня с головы до ног! Я знала: если мужественно не преодолею путь – из конца в конец, – потом и вовсе будет трудно высунуть нос на улицу!
Мне нужно было показаться, засвидетельствовать свое присутствие в этом городе и, желательно, понравиться ему. Этот первый выход напоминал ныряние в незнакомую воду. А еще мне хотелось поздороваться хоть с кем-нибудь. Если я поздороваюсь с кем-то одним, думала я, моя приветливая улыбка разойдется кругами, как вода в озере от брошенного камешка. И это существенно облегчит мою жизнь. По крайней мере, станут говорить, что я приветливая и вежливая.
Но здороваться было не с кем. Наверное, я подсознательно выбрала не лучшее время для прогулки. Ведь на самом деле мне не хотелось никого видеть и ни с кем не хотелось здороваться.
Наконец я заметила, что из одного дома вышла женщина в черных чулках, на поводке она вела упитанного кота той породы, у которой подрезают уши. Кот лениво вышел на лужайку и стал кататься в траве. Женщина терпеливо ждала и с интересом поглядывала в мою сторону. Я подошла.
У нас в таких случаях говорят: «Здравствуйте!». Но каким образом приветствуют друг друга в этой местности? Вот в чем заключался вопрос. Я начала вспоминать все, что знала, – «Салям!», «Хай-хай!», «Лаб дьен!», «Бон джорно», «Салют!»… «Суслям-паслям!», «Трали-Вали», «Банзай!»??? Хорошо, что я не успела ничего сказать! Женщина просто кивнула мне головой и констатировала:
– А вы живете у господина Паскаля!
– Да! – кивнула в ответ я.
– У него красивый дом, – продолжала старушка. – И сам он – добрый человек. Почти все тут (она обвела взглядом вокруг) принадлежит ему… Он основал наш город. Там, на площади, есть даже памятник нашему благодетелю. Его поставил один заезжий скульптор, забыла его фамилию. Это было так давно…
– А-а-а… – сказала я. Мне не хотелось обсуждать своего хозяина.
– Вы не стесняйтесь. Люди у нас хорошие. Сами увидите. Заходите как-нибудь на кофе. – Женщина кивнула в сторону своего дома. – Поговорим. У нас так мало новостей…
– Хорошо.
Я поблагодарила, еще раз взглянула на кота, который, как коза, щипал траву, и пошла дальше, в сторону круглой площади. Честно говоря, меня заинтересовала информация о памятнике. Любопытно, как выглядит мсье в камне?
Добравшись до своей цели, я едва удержалась от смеха! Посреди круглого фонтана, на гладком возвышении, которое, видимо, символизировало земной шар, сидел… «Мальчик, извлекающий занозу». То есть это была довольно искусная копия античной статуи первого века до нашей эры.
Да, подумала я, в этом городе живут одни шутники! Перекрестные струи воды омывали Мальчика со всех сторон, и в ярких отблесках казалось, что он и сам движется, склонившись над своей ступней. Стоять у воды было приятно, я помыла руки, освежила лицо. Не заметила, как ко мне подошел старик в жилетке. Он тоже кивнул мне первым.
– Какой красивый фонтан! – решила сделать комплимент я. – Очень искусная копия.
– Да, да, – с довольным видом произнес старик. – Это господин Паскаль. В детстве, конечно же… А вы?..
– …работаю у мсье Паскаля, – поспешила доложить я. – Вот вышла прогуляться.
– О, у нас здесь замечательно! – сказал старик. – Воздух, природа… Сейчас все отдыхают. Приходите сюда вечером, всех увидите. И вас все увидят. У нас есть кинотеатр, клуб, паб. Все, что нужно молодым людям, чтобы поразвлечься!
Я пообещала обязательно наведаться сюда, как только спадет жара, и раскланялась со стариком. До конца улицы и начала леса оставался один небольшой квартал, и я решила преодолеть его, дойти до деревьев и немного подняться на холм.
Лес дохнул на меня прохладой. Сосны и лиственные деревья сразу накатили на меня мощные волны свежести и покоя. Извилистая тропинка, которая поднималась в горы, была такой чистой, будто ее каждое утро подметали. А может, так оно и было. Ведь я уже поняла, что здесь живут одни патриоты. Если бы дать им волю, они зимой пришивали бы листья к деревьям.
Сверху действительно открывался великолепный вид! Красные крыши, золотой купол маленькой церкви, а на противоположном конце длинной улицы, которую я прошла, возвышалось самое большое здание – владение мсье Паскаля. Меня охватила нешуточная гордость, когда я увидела мансарду с окнами во всю стену! Неужели там, на стеклянном столике, лежит моя расческа? И зубная щетка торчит из мраморного стакана в ванной комнате? Черт возьми, старушка, а ты таки неплохо устроилась! На городской ратуше стали бить часы… Я не заметила, сколько времени простояла на холме среди деревьев. Здесь было так спокойно, так тихо. Где-то высоко-высоко наверху лежал снег, и это было довольно странно. В следующий раз, решила я, поднимусь еще выше, до этого снега. Хотя он порядком надоел мне на родине…
Когда я вернулась в город, он уже снова ожил. Будто задвигалась «живая картинка» в синематографе. У кондитерской за столиками сидели люди, звенели звонки велосипедистов, из открытых окон доносились аппетитные ароматы, в беседках возле домов чаевничали семьи. Все смотрели на меня и приветливо кивали головами. В фонтане со статуей «мсье Паскаля» купались дети, поднимая брызги и веселый шум.
Я пыталась отыскать в толпе горожан знакомые лица тех, кого видела в деревянном бистро, но те, видимо, были «ночными обитателями» или днем работали в столице, до которой отсюда ходил автобус…
Мне было приятно по-хозяйски открыть тяжелую дубовую дверь своего нового жилища. Теперь я наверняка знала, что горожане отнеслись ко мне с должным уважением. Еще бы! Я служу у того, кто основал их славный городок, у самого господина Паскаля. Хотя его каменная мистификация, как по мне, красноречиво свидетельствовала о самой обыкновенной «мании величия».
7
– Нагулялись? – встретил меня на лестнице мсье. – Как вам город?
– Очень красивый. Особенно фонтан! – сыронизировала я.
Мсье Паскаль засмеялся:
– Это не я придумал!
– Надеюсь…
Я спросила, не нужно ли помыть пол в его доме. Честно говоря, этот вопрос прозвучал из моих уст так, будто я предлагала погладить ему шнурки от ботинок после дождичка в четверг (так, помнится, шутили у меня на родине).
– С этим замечательно справляется матушка Же-Же, – сказал он. – Вы мне еще понадобитесь. Куда торопиться? В прошлый раз я не расспросил вас – о вас. Это моя ошибка. Поэтому пойдем пить чай. И вы немного расскажете мне о себе.
На балкон, увитый диким виноградом, матушка Же-Же принесла на подносе чай. Сквозь густую зелень кое-где проглядывал горный пейзаж.
– Зачем вам знать обо мне, если вы такой мастер моделировать судьбы? – спросила я, вспоминая, как легко он распоряжается будущим посетителей деревянного бистро. – К тому же, в моем «резюме» все написано.
– Признаюсь, я читал его не слишком внимательно. Я вообще не люблю читать документы и всевозможные справки… Вот беседа – совсем другое дело. Пейте чай и рассказывайте.
Чай был ярко-пурпурного цвета с густым малиновым запахом. После прогулки мне очень хотелось выпить чего-то именно такого – вкусного и горячего. Я сделала глоток и сразу разомлела.
Мсье Паскаль вопросительно смотрел на меня.
– Если вы не хотите копаться в прошлом, я задам вам вопрос, а вы можете начинать с чего угодно. Мне все равно. Итак, что вы вспоминаете из своего прошлого, когда остаетесь наедине с собой?
Я задумалась…
– Красная пыль… – сказала я, и мсье Паскаль удивленно поднял брови.
– Да… – продолжала я, – красная пыль на улицах моего города, она неслась с металлургического завода. Когда по ней бегала детвора – над дорогой и домами вздымалась пыль, от которой даже крыши и деревья становились красными. Этой пылью девчонки вырисовывали на ногах модные гольфы: окунались в нее по колено, а потом по красному фону пальцем выводили загогулистые узоры…
Даже сама удивилась тому, что вспомнила об этом! Действительно, эта бесконечная терракотовая пыль сопровождала все мое детство.
…Мимо нашего дома (почему-то это происходило ночью) везли на рынок арбузы. А потом всю ночь слышались шлепки – «хлоп-хлоп-хлоп» – это их разгружали и сбрасывали в железные сетки. Вся улица пахла арбузами. Мы воровали арбузы из сетки (открыть ее было несложно!), и каждый из шайки съедал по огромному арбузу, разбивая его об асфальт и погружаясь в мякоть по самые уши.
…Букет пионов на подоконнике в день моего рождения. Мне было пять лет, я стояла в длинной ночной рубашке на холодном полу и держала этот букет. Была уверена, что его принесла фея.
…Дождь. Ливень. Стена воды. Но – теплая. Ни души на улице. Я иду по колено в воде, мокрая, как сама вода. Я подношу руки к дождю и говорю: «Брат, забери меня с собой!» В струях вырисовывается полупрозрачное лицо. Мне никто не верит…
…Драки – «двор на двор». «Броненосец», построенный из картонных коробок и украшенный крышками от кастрюль, которые мы тайком выносили из дома. Я никогда не была «санитаркой», как другие девчонки. Всегда – в первых рядах, с карманами, набитыми камнями. Я умела плевать на три метра вперед, а бегала так, что меня никто не мог догнать! Драки были жестокие – до «первой крови». А потом победители и побежденные обменивались «пленными» и вместе шли к реке отмывать в ней раскровавленные носы. Потом пекли картошку на берегу и уже в темноте рассказывали истории «о черной руке мертвеца»…
Я уверена, что все эти истории означали для мсье примерно то же самое, что и «хрены собачьи». Выражение его лица было для меня непонятным.
– Печеный картофель – это вкусно? – наконец спросил он.
– Вкуснее всего, что я ела после! – заверила я. – Представьте: сначала картошку надо наворовать! Обычно это происходит поздно вечером. Кто-то стоит «на шухере», а кто-то лезет в соседский огород… Потом разжигают костер и, когда угли начинают тлеть, – туда кладут картошку. Когда ты выхватываешь ее из золы – твои руки становятся черными, ты перебрасываешь ее с ладони на ладонь. А потом черными становятся и губы, потому что ты не можешь удержаться и ешь ее прямо с кожурой. И вместе с картошкой обязательно нужно хрумкать огурец – тогда полнота жизни ощущается лучше! Такой вот рецепт… Впоследствии ко всему этому добавляется водка… Сигареты… Секс… Мысли о самоубийстве… Но это уже совсем другие истории. Они – неинтересны.
Собственно, у многих людей они похожи друг на друга. Особенно у тех, кто вовремя избавился от «розовых очков»…
Он пристально смотрит на меня. Кажется, я, как говорят китайцы, потеряла свое лицо! Слишком разболталась. Это опять же – от здешнего хмельного воздуха!
…Вечереет, с гор веет густым запахом засыпающих деревьев, а с городских клумб – ароматом ночных фиалок. Все это дурманит. Перед глазами плывут черные и розовые круги. Черное с розовым – очень красивое сочетание… Надо обуздать свои эмоции, ведь с тобой может произойти то же, что с профессором Плейшнером, думаю я.
– Вот такая фигня… – весело заканчиваю свой рассказ. – Теперь мне кайфово везде.
– Не лгите, госпожа Иголка, – говорит мсье Паскаль. – Вы неизлечимо больны. Извините, но говорю так потому, что слишком хорошо вас понимаю. У меня есть еще один вопрос: почему вы решились на такой шаг?
Предпоследнее слово он произносит с особым нажимом. Я пожимаю плечами.
– Собственно, у меня была возможность сделать такой же, только в другую сторону, – делаю акцент я на последних словах. – Могла бы жить на берегу океана, например… Но это скучно – зависеть от чьих-то кредитных карточек. Лучше иметь свою.
– То есть?
– Ну… Однажды у меня была реальная возможность зажить прекрасно. Один милый человек предложил мне райскую жизнь – на таком вот берегу океана. И я почти согласилась. Он был счастлив.
– И что? – Глаза мсье Паскаля стали совсем как у мальчишки.
– Ну… Я выставила уйму разных условий.
Я сказала, что должна забрать с собой собаку.
«No problem!» – сказал он.
Я сказала, что не проживу без трех своих подруг.
«No problem!» – сказал он.
Я сказала, что не могу оставить без присмотра могилы своих близких.
«No problem!» – сказал он.
Тогда я сказала, что хочу забрать дерево, растущее под моим окном, и, желательно, именно тех воронов, что слетаются к нему, несколько тонн красной пыли с нашей улицы, троллейбус с номером 48, вывеску хлебного магазина, на которой нарисованы кривые бублики…
Дерево он обещал выкопать и пересадить.
Воронов – поймать и оформить на них необходимые для перевозки справки.
Пыль – загрузить в специальные контейнеры.
Троллейбус выкупить у депо, вывеску – у директора магазина.
Я потеряла терпение. И добавила к тому списку церковь, в которой меня крестили, дорогу, на которой бабушки продают жареные семечки (с этими бабушками в придачу). И наконец – ту долгую зиму, которую я так ненавижу…
Когда он задумался, я поняла, что он совсем не понимает юмора!
И вообще – ничего не понимает.
А как жить с человеком, который все время твердит – «No problem»? Лучше обзавестись попугаем мужского пола и научить его материться!
– Ну… – произнес мсье Паскаль, почти копируя мою интонацию, и глаза его оставались мальчишескими. – Я думаю, госпожа Иголка, вы его просто не любили…
Ха! Для этого умозаключения совсем не нужно иметь такую вот седую бороденку, огромный дом и строить из себя мецената.
Приличия ради я послушно покачала головой.
Потом мы долго молчали. Похоже, с полчаса. Передо мной в белесой дымке проплывали черные и розовые геометрические фигуры. Мсье Паскаль курил трубку. Где-то глубоко внизу, под нами, тишину нарушал металлический звон. Будто в подвале пытали заключенных. Я вспомнила, что на нижнем этаже находится кухня. Приближалось время ужина, и там, под нами, матушка Же-Же действительно пытала уже ощипанные птичьи тушки, чтобы приготовить цыплят табака.
– Сегодня у меня будут гости, – серьезно произнес мсье после паузы. – Так, несколько приятных людей. Маленькое, почти семейное party… Надеюсь, вы не откажетесь наливать нам вино?
Интересно, подумала я, как я могу отказаться? Учтивость моего хозяина явно зашкаливала. Если он всю жизнь был таким обходительным с прислугой, не сомневаюсь, что все они уже обзавелись собственными имениями где-нибудь в Йоркшире…
8
…Никто, никто не сравнится
с ней!
В любой компании она – самая веселая,
у нее самые остроумные шутки,
все,
все,
все наблюдают, как она
пьет вино, держит сигарету,
танцует…
Она умеет говорить одними глазами –
они такие, что слова – излишни.
Она смеется. Она звенит браслетами.
Ее юбка как флаг.
У нее есть друзья и
совсем,
совсем,
совсем
нет врагов!
Теперь она знает, сколько людей
придут к ней!
Не один и не два…
Они придут…
Они обязательно придут к ней!
Даже в холодную зиму и в ливень…
Она смеется. Ей весело.
И никто не догадывается, что она
у-ми-ра-ет…
Я подпеваю. Голос, звучащий по радио, очень похож на голос Патрисии Каас, но это не она. До ужина остается час, и я с наслаждением погружаюсь в джакузи, чувствую приятное бурление пузырьков. Кажется, что тебя щекочут тысячи легких пальчиков. Голубой кафель, цветочный запах пены, стеклянная стена, через которую я вижу вершины гор… И эта проникновенная музыка…
Вдруг обнаруживаю странную вещь: такое со мной уже было! Там, откуда я приехала. Но у меня же не было такой чудной ванны! А порой и горячей воды… Что же тогда?! Я напрягаю память. Помню, что это был сон или видение: я лежала на диване в своей комнате под одеялом в холодной темноте и в то же время – нежилась в такой же ванне с голубым кафелем и запахом цветов. Нынешняя ситуация в реальности была самой большой матрешкой, в которую вкладывалась меньшая: воспоминание о том, что я сплю в своей комнате, а эта меньшая таила в себе самую маленькую – сновидение об этом городке, этой роскошной комнате и этом джакузи. Если бы из этого наблюдения можно было вывести некую формулу, подумала я, то получается, что самая маленькая матрешка равна самой большой? А средняя – лишь звено между ними?
Хотя именно эта средняя и есть самая что ни на есть реальность: холодная комната, тяжелое одеяло, луна светит в окно, чувство безысходности, когда не слышишь никакого «тик-так» ни в сердце, ни со стены на кухне… Кто всем этим управляет?
А вдруг… я сейчас открою глаза и увижу холодную луну за покрытым инеем окном? От этой мысли мне стало жутко, и я больно ущипнула себя за икру. Ни фига! Голубой кафель не сдвинулся ни на сантиметр, а вездесущие щекочущие пальчики стали еще бесстыднее.
Значит, надо вылезать, одеваться и идти прислуживать за столом.
Перед самым моим выходом матушка Же-Же проинструктировала меня, как нужно разливать вино. В принципе, я об этом кое-что знала из фильмов. Сначала наливают хозяину – совсем немножко. Тот должен сделать глоток и кивнуть головой. И тогда уже наливают остальным. Все, как в ресторане.
– А если он не кивнет? – спросила я кухарку и заметила, что этот вопрос заставил ее напряженно таращить глаза. Бедняжка думала несколько секунд.
– Тогда… – наконец сказала она. – Тогда спуститесь ко мне – я вам дам другую бутылку… Хотя вряд ли такое может быть. Все вина в нашем подвале – высшего качества.
– А если сюда пробрался какой-то маньяк и шприцем через пробку впрыснул в бутылки яд? – не унималась я.
– А разве такое бывает?!
– Конечно. На каждом шагу! Вы что, телевизор не смотрите?
Мне просто хотелось потянуть время. Все же это будет мой первый выход, можно сказать, посвящение на этой работе. Не могу сказать, что я не волновалась.
– Я передам о вашем предостережении мсье, – серьезно сказала матушка Же-Же. – Хотя в таком случае вино сначала придется пробовать вам…
Какие чуткие люди живут в этом доме, подумала я.
И пошла вниз, в зал.
9
…Изо дня в день… Из года в год…
«Изо дня в день, из года в год…» – вертелось в моей голове, пока я шла по лестнице.
Что я делала изо дня в день – из года в год? Просыпалась по звонку будильника, позже – мобильного телефона, запрограммированного на семь часов утра.
Шла на кухню, включала чайник.
Пила кофе.
Шла в ванную.
Открывала шкаф (заглядывала в него с синдромом «Боже, мне нечего надеть!»). Одевалась.
Садилась перед зеркалом.
Красила ресницы.
Зевала.
Закрывала дверь.
Шла на маршрутку или автобус. Стояла в очереди. Под дождем, снегом или солнцем. Пересчитывала деньги в красном кошельке… Конечно, порой что-то менялось в этом распорядке. Но «будильник – чайник – шкаф…» оставались со мной. Жизнь сгорала, как спичка…
…Я поглаживала полированные деревянные перила лестницы и вдруг мне пришло в голову, что ко мне уже давно никто не прикасался…
Перед дверью, ведущей в обеденный зал (тот самый, в который я потом входила по утрам прислуживать мсье Паскалю), матушка Же-Же сунула мне в руки поднос с вином и распахнула дверь, за которой слышался легкий светский гомон.
Вот именно тогда на меня и накатилось то ощущение – о проникании в другое измерение. Во всех углах зала мерцал тусклый свет, в островках этого света, словно по грудь в воде, стояли несколько человек и ворковали, как голуби. Я была инородным предметом, который неизвестно каким образом очутился среди разнаряженной толпы.
– Вот и вино! – указывая на меня, сказал мсье Паскаль.
Да, я была вином. Оно само пришло к вашим пустым бокалам. Мне оставалось лишь открутить себе голову, поклониться в реверансе и разлиться по ним.
Все стали усаживаться за стол.
Людей было немного. Я наблюдала за ними, пока они рассаживались. Конечно же, встретилась взглядом с Иваном-Джоном…: «В окружении мсье Паскаля, этого чудака и отшельника, мне встретилась хорошенькая славянка. Несмотря на то что мы не сказали друг другу ни слова и я вел себя довольно пристойно, меня не покидала мысль о том, какого цвета ее белье…»
Была тут и та худощавая темноволосая женщина. Только теперь ее волосы были тщательно уложены мелкими волнами, что не делало ее красивее (она не показалась мне привлекательной). Но ее глаза с легкой косинкой излучали то, что я бы назвала похотью. Губы были накрашены такой яркой помадой, будто она только что вгрызалась в окровавленную тушку добытой на охоте дичи.
Был тут паренек, который в бистро сушил у огня свои кроссовки. Он не сменил этой обуви (может, просто у него ничего другого не было) и поспешил сесть за стол, чтобы скрыть ноги под длинной скатертью. Был еще один (его я прежде не видела) – нервного вида господин лет тридцати пяти, с острым носом и пронзительным взглядом. Он двигался, как марионетка. Кто-то наверху бестолково дергал его за конечности. Был и тот, кого мсье назвал Федом. Выражение его страстного смуглого лица красноречиво говорило: «Женщинам без целлюлита не приближаться!»
Была еще одна незнакомка в блестящем платье, плотно облегающем фигуру и похожем скорее на купальник.
Мне бы очень хотелось увидеть и тех музыкантов, но они, видимо, пока не были вхожи в это общество.
«Вино» довольно изящной походкой прошлось вдоль гостей, которые заправляли салфетки за свои воротнички, и приблизилось к хозяину. Все произошло так, как я и предполагала, то есть – как в кино. Мсье Паскаль кивнул головой – и я начала обходить гостей. Женщины смотрели на меня с не меньшим интересом, чем мужчины.
– Она оттуда или отсюда? – спросила хищница.
– Оттуда, – ответил мсье Паскаль.
– Представляю, как трудно было решиться на такой шаг… – сочувственно заметила другая женщина.
Ее голос показался мне знакомым, но я не могла сосредоточиться на этих мелочах – как раз в этот момент наливала вино в бокал Ивана-Джона. Он следил за моими руками и молчал. И тут я вспомнила, как скользила пальцами по гладким перилам. И подумала о другом – о том, что я и сама давно ни к кому не прикасалась.
Когда вино было разлито, я вопросительно посмотрела на хозяина: что дальше? Он улыбнулся и указал глазами на свободное место – там стояла лишняя тарелка.
– Присаживайтесь. Вы так хорошо накормили нас в прошлый раз, что имеете полное право присоединиться к нашему обществу. Я всегда был против эксплуатации человека человеком. Я – за равноправие. Привыкайте.
Хорошо, что я не надела белый фартучек, который предлагала кухарка, подумала я и скромненько пристроилась на краешке стула рядом с Джоном. Вынула из серебряного колечка белую крахмальную салфетку.
Не люблю, ненавижу и не понимаю: как можно два часа провести за столом, привселюдно есть и при этом – вести светские разговоры! Возможно, это мое отвращение – следствие давнишнего случая, когда мой кавалер, рассказывая что-то смешное (мы сидели в ресторанчике), прыснул мне на блузку ингредиентами салата «Мимоза». После этого я с ним не встречалась. А еда была мне по вкусу только тогда, когда я сидела по-турецки перед телевизором, поставив между ногами тарелку, а рядышком – бутылку «Белого нефильтрованного»…
Но ничего не поделаешь! Действительно нужно привыкать. И ни в коем случае не возить пальцами по ножке бокала. Это, насколько мне известно из правил этикета, неприлично! Кое-что об этом я знала из дамских журналов. Но в ожидании тоста или хотя бы какой-то команды хозяина я полировала хрустальную поверхность бокала с таким вдохновением, что Иван-Джон не отводил от этого магического действа глаз.
Сейчас он скажет то, что я слышала множество раз во всяческих интерпретациях, – что-нибудь о моих пальцах и запястьях. Все это у меня довольно тонкое, но проворное и цепкое – с такими способностями я бы, пожалуй, могла быть неплохой дояркой, ударницей труда. Я поймала его взгляд и улыбнулась. И подумала примерно так…
Не говорите, пожалуйста, ничего! Достаточно этого взгляда.
Достаточно взгляда, чтобы ощутить резонанс вибраций.
Ощутить резонанс вибраций, которые совпадают, входят друг в друга.
Входят и вибрируют воедино даже на расстоянии.
Даже на расстоянии, когда люди сидят на противоположных концах стола.
На противоположных концах стола, или – берегах океана, или – в разных уголках мира…
И даже тогда, когда один из них превращается в дождь…
– Позвольте, я вам что-нибудь положу? – сказал Джон.
Я обрадовалась. И моя тарелка спустя миг превратилась в развалы всяких вкусностей. Что дальше?
В полной тишине все подняли бокалы, выпили и начали наворачивать вилками. Скука, подумала я, лучше бы мне сейчас лежать у себя наверху и щелкать пультом телевизора… Здесь была слишком напряженная атмосфера. Я заметила, что женщина в блестящем платье недовольна моим присутствием.
Мсье Паскаль сделал наконец последний глоток и взглянул на меня.
– Вот так мы проводим вечера, госпожа Иголка.
(Довольно скучно, подумала я.)
– Но чтобы как-то разнообразить общение, – продолжал мсье Паскаль, – мы играем. В игру под названием – «На выход!» Это интересная и увлекательная игра. Надеюсь, она вам тоже понравится.
Затем он обратился к обществу:
– Госпожа Иголка с нами впервые, и поэтому считаю необходимым еще раз пояснить правила. Итак, вы, наверное, заметили, какой здесь длинный стол? За ним может поместиться сотня человек. В начале игры примерно так оно и было… Все скучали в нашем маленьком городке, он всегда был пропитан атмосферой ожиданий. Самых разных. Кто-то мечтал забеременеть. Кто-то – уехать в другие края, кто-то – сделать карьеру или обрести мировую славу, а кто-то… и банк ограбить. Люди такие странные. Им всегда чего-то недостает, чтобы осуществить свои намерения – смелости, приказа, денег, веры… И поэтому многое в их жизни не происходит. А это, согласитесь, довольно-таки обидно. Суть нашей игры в том, что мои уважаемые гости, собираясь здесь из года в год еженедельно, путем жеребьевки выбирают того, кто должен покинуть наше приятное общество и сам город. Чтобы воплотить все свои намерения. Суть этих намерений мы определяем все вместе. И, кстати, еще ни разу не ошиблись…
– Благодаря вам, мсье Паскаль! – сказала темноволосая женщина, вставляя в мундштук длинную сигарету.
Мой хозяин щелкнул зажигалкой, поднес ее к лицу дамы и улыбнулся:
– Просто я дольше всех живу на свете… Кое-чему научился. По крайней мере, разбираться в человеческих способностях…
Он снова повернулся ко мне:
– Так вот. Там, – он указал на круглую, похожую на аквариум, вазу, стоявшую на мраморной полке над камином, – лежат стеклянные шарики. Все они одинаковы. Кроме одного – в нем есть небольшое вкрапление в виде черной розы. Готовясь к очередному ужину, я заказываю такой новый шарик у столичного стеклодува. Ведь тот, кто вытащит этот жребий, забирает его с собой. На счастье…
(«Амулет Паскаля…» – прошептал мне на ухо Иван-Джон.)
– …и выбывает из игры.
Я пожала плечами:
– И что дальше? Что с ним происходит?
– М…м…м… – замычал старый мсье. – То, что мы ему здесь пожелали. По принципу морфогенного резонанса…
(«Это теория доктора Руперта Шелдрейка… – опять прошептал Иван-Джон, видя мою полную неосведомленность. – То, что мы смоделируем здесь, – повторится где-то там… Морфогенный резонанс – повторение подобных процессов…»)
Какие остроумные и веселые люди, подумала я, другие бы на их месте начали рыть канал, строить электростанцию, поворачивать реки вспять или искать под заборами своих коттеджей нефть. А эти сидят себе, ужинают, не вредят природе, не загрязняют окружающую среду… Развлекаются, как умеют.
– Понятно, – кивнула я головой. – Все понятно. Меня волнует одно, господин Паскаль: моя роль в этом развлечении.
– О, вы будете разносить шарики. Вот и все.
Я недоверчиво посмотрела на него:
– Все?
– Пока да. Но вы можете присоединиться к нам. Конечно, если пожелаете…
Для меня это означало одно: в любой момент я снова могу очутиться на улице. Даже если это сборище придурков нагадает мне стать шейхиней Брунея! Если у всех у них есть деньги, почему бы не пофантазировать, почему бы не вырваться из этой глухого угла. Но что касается меня – дудки! Не такая я дурочка.
– Спасибо, – сказала я, – за приглашение. Я подумаю над этим интересным предложением… Можно приступить к выполнению своих обязанностей?
– Да, пожалуйста, – кивнул мсье Паскаль. – Берите аквариум. Вы готовы, господа?
Все дружно закивали головами, хотя я почувствовала, что атмосфера стала более напряженной.
Ну и ладно! Я взяла аквариум с шариками и вопросительно посмотрела на хозяина.
– Начинайте с конца стола, – сказал он. – Кажется, Джон, вы жаловались, что засиделись в наших краях… Итак, вы – первый.
С аквариумом в руках я направилась к своему соседу. Вид у него был не слишком веселый. Он посмотрел на меня. Я вспомнила, как мы танцевали…
Иван-Джон отвернулся и запустил руку в аквариум, зажал шарик в руке, а потом, так же глядя мне в глаза, медленно раскрыл ладонь. На этот раз отвернулась я.
– Прозрачный! – наконец воскликнул он.
Странно, в его голосе было столько радости, что я усомнилась в страстном желании каждого из присутствующих вырваться отсюда.
Длинноносый нервный господин был следующим, он с удовольствием запустил руку в судьбоносный сосуд и с немалым разочарованием сообщил обществу то же самое:
– Прозрачный…
«Переводчик Шекспира» в старых кроссовках чихнул, извинился, выпустил шарик из рук, полез за ним под стол. И известил оттуда:
– Прозрачный.
Раскосая хищница с безразличным видом сунула свою лапку в аквариум.
– Аналогично! – сказала она, затягиваясь сигаретой и выпуская дым чуть ли не мне в лицо.
– Если никому не повезет, будем тянуть по второму кругу! – сказал мсье Паскаль.
Но мне не пришлось начать этот «второй круг», спустя миг женщина в блестящем платье захлопала в ладоши и воскликнула:
– Амулет!
На ее ладони лежал шарик с маленьким черным цветком внутри.
Мне стало очень интересно: что же дальше?
– Ну вот, Вероника, – улыбнулся мсье Паскаль, – вы и дождались своего часа!
– Поздравляю, Вероника, – подхватил Иван-Джон.
И все пришли в движение, потянулись чокаться своими бокалами к женщине, будто она была именинницей. Она смеялась. Потом встала из-за стола и пропела несколько строчек из песни а капелла. Она пела, закрыв глаза, я видела, как вибрируют ее губы, а гортань переполняют какие-то дивные звуки, которых, как мне показалось, нет в природе… Голос был довольно сильный, с широким диапазоном. Я даже не заметила, что с удовольствием отбиваю такты ногой.
А уже потом вспомнила, откуда знаю этот голос! Это он доносился из радио сегодня поутру:
Никто, никто не сравнится
с ней!
В любой компании она – самая веселая,
у нее самые остроумные шутки.
Все,
все,
все наблюдают, как она
пьет вино, держит сигарету,
танцует…
Она умеет говорить одними глазами –
они такие, что слова – излишни.
Она смеется. Она звенит браслетами.
Ее юбка как флаг!
10
Наконец певица открыла глаза. Они подозрительно блестели. Бросила салфетку на стол и довольно пошлым жестом отерла указательным и средним пальцами уголки губ, которые раскрыла так, будто произносила букву «о». Этот жест совсем не подходил к тому образу, в котором она находилась минуту назад…
– Ну и чего же мне от вас ждать? – спросила она, окинув взглядом участников застолья.
А я удивилась тому, какими разными были эти люди.
Если это общество «избранных», неких «сливок общества» местного разлива, разве могут они быть такой неоднородной массой? Эта вульгарная красотка в платье-купальнике, этот остроносый нервный господин, душка Фед в простой клетчатой рубашке, косоглазая «хищница-вамп», будущий литературный гений Иван-Джон, голодранец в рваных кроссовках… Паноптикум! Что их объединяет? Разве что скука маленького городка и неординарная личность хозяина. А может, мсье Паскаль – просто безумный богач или одинокий чудак.
– Ну? – нетерпеливо сказала Вероника. – Чего ждать от себя, я знаю…
– Ваше слово, господа! – поторопил общество мсье Паскаль. – Начнем с конца. Опять с вас, Джон.
– Думаю, здесь все понятно, – сказал тот. – Вероника хочет петь. Это просто, как дважды два.
– Да, – скривила губы «хищница». – Но сначала она хорошенько вываляется в дерьме…
– Это уже интереснее, – оживился мсье. – Объясните свои соображения, госпожа Галина.
(О, с немалой долей злорадства подумала я, эта роскошная мадам имеет довольно заурядное имя!)
Госпожа Галина снова уставилась в длинную сигарету и насмешливо прищурилась.
– Что тут скажешь – все написано на лице… Девочка из бедной семьи и с такими наклонностями должна иметь клыки… Эти клыки должны отрасти. Для этого надо поточить дерево, железо, перегрызть несколько глоток, покувыркаться на грязных простынях, бросить в толпу свою плоть… Это – цена славы, богатства и одиночества! Все это придет к тебе, Вероника!
– Что скажете вы? – мсье Паскаль обратился к нервному долгоносику.
Тот будто очнулся от глубокого сна, пожал плечами.
– Я не тружусь на преходящее… Я в этом не разбираюсь. Но если нужно мое мнение… Не смешивайте мак с коноплей, Вероника. Не занимайтесь самодеятельностью, не пишите книг, не рожайте детей. А еще… не носите жемчуг…
Он еще бормотал что-то невнятное, пока его не перебил Фед:
– Не слушай его, Вероника! Я вижу тебя посреди огромной площади… Ты получаешь то, чего заслуживаешь: энергетику толпы. Я прекрасно представляю тебя в роскошном дворце, который ты приобретешь, когда устанешь от этой энергетики. Вокруг тебя полно людей… Они растаскивают твою жизнь по нитке, каждая из которых – золотая. О тебе напишут примерно такое… – Он задумался и довольно артистично сделал вид, что держит в руках газету: – «…Она меняет прически и наряды, цвет волос и любовников так часто, что это не укладывается в головах среднестатистических обывателей. Никогда не угадаешь, какой она появится в следующий раз – ангелом или демоном, женщиной-вамп или застенчивой школьницей… Она шокирует. Несомненно, она – красивая, талантливая и достигнет колоссального успеха…»
В конце тирады он сделал вид, что комкает газету и бросает к ногам своей визави. Та восторженно захлопала в ладоши:
– Браво, браво! Ты настоящий друг!
– Но сначала – дерьмо, дерьмо… Полными ложками… Куча дерьма! Гималайские горы отборного вонючего дерьма… – беззлобно пробормотала «хищница» и обратилась к переводчику: – А вы чего молчите?
– Да, да, – спохватился и засуетился он. – Собственно, я, как и господин Никола, не очень различаю ноты. Особенно в современных интерпретациях… Я вижу Веронику, которая пишет книги для своих многочисленных чад. Собственно, для этого не обязательно покидать городок. Она могла бы петь во время наших праздников…
– Какого черта! – воскликнула женщина и выдала такую высокую ноту, что на столе вдребезги разлетелся бокал. – А такое вы видели?!!
Все засмеялись.
– А что скажете вы, господин Паскаль? – обратилась Вероника к хозяину.
Наступила тишина. Я тоже затаила дыхание.
– Все присутствующие правы. Вы должны прислушаться к каждому, – сказал мсье Паскаль. – Я могу добавить лишь то, что, покинув наш город, вы возьмете себе псевдоним. Он будет связан со святостью… Вы проживете долго. Ваш псевдоним вас спасет. Лишь бы вы правильно его выбрали…
– А разве вы мне не подскажете?
– Нет. Вы найдете его сами… И еще. Вы должны уехать с одним чемоданом и тридцатью пятью долларами в кошельке…
Вероника покачнулась и уронила бокал, который держала в руке, себе на колени. Наверное, со мной бы случился такой же шок. Я, как добросовестная прислуга, поспешила подскочить с места, подхватила Веронику под руку и повела в уборную, чтобы замыть пятно.
– Тридцать пять долларов… Тридцать пять… – бормотала она, пока мы шли через зал к двери. – Что можно купить на эти сраные тридцать пять долларов?..
Как побитая собака она оглянулась на общество и с надеждой произнесла:
– В прошлый раз вы дали сэру Генри десять тысяч! Это несправедливо…
– Генри давно проиграл все это в казино, – спокойно ответил мсье Паскаль. – Сейчас у него осталась такая же сумма, которую я предлагаю вам… А вы должны поступить наоборот. Если, конечно, чего-то стоите. Проводите ее, госпожа Иголка, дайте что-нибудь из вашего шкафа – кажется, у вас одинаковый размер, – я потом компенсирую…
Пока мы шли по лестнице, Вероника молчала и только растерянно качала головой, мне пришлось все время поддерживать ее. Еще бы! По крайней мере, в моем кошельке перед этой поездкой была заметно бо́льшая сумма, чем та, которую предлагал мсье Паскаль. Я ее прекрасно понимала. Мы зашли в уборную.
– Не переживайте, – сказала я. – Вы не обязаны придерживаться правил этой дурацкой игры. В конце концов, останьтесь тут или займите деньги у друзей…
Она отшатнулась и бросила презрительный взгляд в мою сторону, словно увидела впервые:
– Что ты в этом смыслишь?! Кто ты такая? Прислуга! Сучка драная! Дешевка!
Бесспорно, она погорячилась… Потому что в тот же миг оказалась в дальнем углу уборной, а к ее фигурно вырезанным краям модного платья прибавилась парочка незапланированных оборок. Она с трудом поднялась на своих высоких каблуках. Ноги у нее были такие длинные, что она путалась в них, как кузнечик. Ладонями она скользила по скользкому кафелю. Короче говоря, ее вставание с пола называлось «Переход Суворова через Альпы». Я подошла и вежливо помогла ей. Она поднялась, будто ничего не произошло, – свежая и веселая. Я хорошо знала такой тип женщин. Обычно с ними начинаешь дружить после того, как слегка испортишь им прическу.
Она оборвала подол платья, обтерла им потное лицо, и мы обе рассмеялись.
– В конце концов, – сказала она, – мсье Паскаль никогда не ошибается…
Она достала из своей маленькой сумочки, болтавшейся на запястье, целлофановый пакетик, кусочки папиросной бумаги и элегантное устройство для скручивания сигарет.
– Косячок забьем? – миролюбиво спросила она, садясь на подоконник.
Я подумала, что это никак не входит в правила моего проживания в этом доме. В любую минуту сюда могла прийти матушка Же-Же с чистыми полотенцами и комплектом белья, которое я попросила принести. И если Вероника была здесь частым гостем, то в отличие от нее я не знала, что мне позволено, и на всякий случай категорически закачала головой. Она не настаивала. Опытными движениями насыпала на бумажку травку, скрутила сигаретку, щелкнула зажигалкой и, затягиваясь, прикрыла глаза.
– «Не смешивать мак с коноплей» – относится к этому? – улыбнулась я, вспомнив наставления того, которого звали Николой.
– А! Этот чудак вообще ни в чем не разбирается, кроме своей физики, – махнула рукой Вероника.
Я видела, что она окончательно успокоилась.
– То, что сказали о вас гости, – правда? – спросила я.
– Что именно?
– Ну, что вы из… малоимущей семьи.
– О, это все так неинтересно! Правда, правда. У моего отца шестеро детей, я – старшая. Мать умерла, когда мне было пять лет, и я ее совсем не помню. Мне надоела такая жизнь. Если бы не мсье Паскаль, я бы тут с ума сошла! А теперь совсем другое дело – скоро меня здесь не будет! Плевать на деньги. Есть куча способов их заработать.
Она красноречиво повела бедрами. Мы снова рассмеялись. В уборной уже основательно пахло травкой…
В дверь постучала матушка Же-Же, и я взяла у нее пакет с одеждой.
– Ну вот, можете переодеваться. Не помешаю… Вы еще выйдете к гостям?
– Нет. Нет… – серьезно сказала Вероника. – Прощание будет слишком грустным. А я не люблю ничего грустного. Они об этом знают. Чао-чао!
Я внимательно посмотрела на нее.
– Ждешь совета? – спросила она. – Попробуй когда-нибудь сыграть… – Она подбросила на ладони стеклянный шарик, схватила его и сунула себе в бюстгальтер. – Хоть сейчас! Скажи, что думаешь ты.
– Думаю, что у вас удивительный голос, – сказала я. – Когда я услышала его по радио, подумала, что так может петь только настоящая звезда!
Вероника присвистнула, вытаращила глаза и покрутила пальцем у виска:
– Ты с ума сошла? У меня не было ни одной записи! Это стоит безумных денег! К тому же, это был экспромт, а не песня… Так, набор слов…
Кстати, я тоже жутко упрямая и поэтому, поднатужившись, кое-как пропела то, о чем шла речь дальше:
– У нее есть друзья и
совсем,
совсем,
совсем
нет врагов!
Теперь она знает, сколько людей
придет к ней!
Не один и не два…
Они придут…
Они обязательно придут к ней!
Даже в холодную зиму и в ливень…
Она смеется. Ей весело.
И никто не догадывается, что она
у-ми-ра-ет…
– Бред! – воскликнула Вероника. – Но теперь я уверена: тебе стоит сыграть! Ты девочка с безграничной фантазией. Или… Или с большими тараканами в голове. Понимаю, почему мсье Паскаль выбрал тебя. Это в его стиле. Все, до свидания!
– До свидания…
А что я могла сказать?..
Вероника вышла из уборной в моем черном платье, которое сидело на ней великолепно. Неужели так же оно сидит и на мне, с удивлением подумала я…
– Я – диктатор, – говорил мсье Паскаль, когда я вернулась к застолью. Говорил с улыбкой. Когда он так улыбается, его слова кажутся полнейшим абсурдом. – Да, я – диктатор по своей сути. Если бы я не был хорошо воспитанным и вежливым, я бы силой заставил человечество быть счастливым! К этому надо приучать, как приучают котенка ходить в ящик с песком. Сначала тычут его носом в кучку, которую он наложил на паркете, а потом бросают в коробку с теплым мягким песочком… Он чувствует разницу и…
Увидев меня, он прервал свою речь и встал из-за стола:
– Что ж, господа, мы поиграли. Мне пора спать, я человек немолодой. А вы продолжайте веселиться. Налейте всем по последней, госпожа Иголка!
Я снова принялась обходить публику и разливать вино. Место Вероники оставалось пустым, но я наполнила и ее бокал. Кажется, всем это понравилось…
Мне было неловко оставаться в этом обществе без старого мсье, и, когда он вышел, кивнув всем головой, поспешила спросить, нужна ли им моя помощь, не могу ли я тоже покинуть их приятное общество. Кажется, всем это было безразлично. Кроме Ивана-Джона. Он тоже засобирался вслед за мной. Мы выпили «по последней». Я почувствовала, что с меня хватит… Ивану пришлось взять меня под локоть. Так вот мы оказались на улице под деревьями.
– Как понимать то, что здесь происходит? – спросила я, прижимаясь к стволу.
– Просто, – сказал он. – А разве здесь что-то происходит? – Он обвел рукой темное пространство двора. – Здесь покой. Этот городок вроде перевалочного пункта… Никто из тех, кого вы сегодня видели, не собирается похоронить себя под этими деревьями. И мсье Паскаль это прекрасно понимает. Я пока что преподаю в местной школе литературу…
– Пока не возьмете свой шарик? – улыбнулась я.
– Да, – тихо ответил он.
– Разве можно относиться к этому серьезно? А если бы старый мсье предложил вам «русскую рулетку», вы бы тоже согласились?
– Не знаю…
Я уже едва держалась на ногах и стала медленно съезжать вниз по стволу. Мне очень хотелось лечь на аккуратно подстриженный газон. Иван-Джон подхватил меня под мышки.
Мы целовались.
Так долго, что в какой-то миг я заметила на небе тонкую розовую полоску… Не помню, как я очутилась в своей комнате. Совершенно не помню. Возможно, мы оказались там вместе?
Но когда утром я придирчиво осмотрела свою кровать, обнаружила, что вторая подушка оказалась несмятой…
11
…Я вру, вру.
Почему я все время вру? Прежде всего – самой себе? Почему я стараюсь выглядеть циничной, саркастичной, почему я смотрю на мир так, будто нахожусь «под кайфом»? Собственно, так вело себя большинство из моих знакомых. Хотя под опущенными рукавами их рубашек были скрыты следы от порезов. Метафорических или настоящих. Не имеет значения!
Я прекрасно помню, что было дальше…
Меня сбила с пути добродетели и одиночества музыка.
…Он попросил разрешения поставить свой любимый диск. Собственно, если бы не это – летел бы он ко всем чертям (Господи, опять вру! Оторви мой язык и брось его собакам…)! Так вот, я разрешила. Он достал из внутреннего кармана пиджака диск, нажал на кнопку…
Призна́юсь: та мелодия, о которой я говорила, что это моя тайна, – музыка Мишеля Леграна «Шербурские зонтики». Впервые я услышала ее, когда мне исполнилось семь лет.
…Он поставил именно ее.
И меня понесло вспять.
Туда, где идет дождь и маленькая девочка мечтает о большом черном зонтике.
О городе с настоящей тысячелетней мостовой, о которую ломают тоненькие высокие каблучки девушки в модных «газовых» платках.
Где почтальон развозит письма на велосипеде.
А на окне цветочной лавки висит клетка с попугаями-неразлучниками.
Где все здороваются друг с другом. Но вместо «Добрый день» или «Здравствуйте» – говорят: «Доброго здоровья!»
Где смешаны воедино сны и реальность – так, что их не разъединить.
Я улетаю…
Под эту мелодию я всегда плачу. Даже если мои ладони минуту назад были сжаты в кулаки. Вот он и воспользовался именно таким моментом…
Но – откуда он об этом знал? Почему на диске – именно эта мелодия…
Еще было странным то, что утром вторая подушка оказалась несмятой.
Но неизвестно почему у меня появилось хорошее настроение. Точнее – не настроение, а некая внутренняя эйфория. Господи-твоя-воля: я живу в замечательном месте, в собственной упакованной по полной программе комнате, у меня чудак-хозяин и круассаны на завтрак, я дышу лесом и горами, слушаю музыку, а вчерашний вечер принес мне интригу, которая, кажется, наконец не замешана на том, что на родине я называла «любовь-кровь-морковь»…
Вдруг я поняла, что впереди – чудесные дни! К ним нужно долго идти – крушить лед, как ледокол. Очень часто я представляла себя именно таким ледоколом. Размышляла над тем, каким образом эти плоды человеческой мысли нарушают девственность Антарктической пустыни, какие винты расположены под их элегантным брюхом? Попадают ли под них глянцевые нерпы, серебристые косатки и забавные пингвины? Оплакивает ли металлическое сооружение свои случайные жертвы, клянет ли капитана?..
…Одним словом, я проснулась счастливой. Кстати, едва ли не самое главное условие, ради которого стоит жить: просыпаться с улыбкой…
В комнату тихо входит матушка Же-Же, она несет поднос с большой чашкой кофе с молоком и круассанами. (Собственно, именно с этого дня она стала приносить мне завтрак в комнату.)
– Я прошу прощения, – говорит матушка, – но так велел мсье Паскаль.
Она ставит поднос на кровать и с подозрением оглядывает ее вторую половину. Видимо, что-то слышала ночью…
Она еще не вполне доверяет мне, не целиком и полностью симпатизирует. Я для нее – чужестранка. Возможно, она бы предпочла видеть на моем месте свою дочь.
– Спасибо, – говорю я и, чтобы не молчать, спрашиваю: – Какая погода сегодня?
– У нас всегда хорошая погода, – говорит матушка Же-Же и не торопится уходить. Ведь это нормально, когда две служанки пускаются в разговоры.
– Как вы спали? – наконец продолжает она утреннюю «светскую беседу».
– Спасибо, – снова говорю я. Собственно, я уже поняла, что здесь некоторые вопросы, типа «Как ваши дела», не предусматривают подробного отчета. Это немного раздражает. Ведь там, у себя, я привыкла, что в ответ можно начать долгую историю со дня своего рождения. Некоторые, обрадовавшись вниманию к своей персоне, даже сообщают о консистенции утреннего стула.
– А вы? – спрашиваю я.
– Спасибо, – отвечает матушка Же-Же.
Я вижу, что ей невтерпеж кое-что разузнать. Я даю ей эту возможность. Быстренько отхлебываю из чашки и говорю:
– Вы варите превосходный кофе!
– О да! – радуется кухарка. – Это по древнему египетскому рецепту, с кардамоном. Я вас научу.
Пауза. Потом она решается продолжить разговор:
– Можно спросить, почему вы забрались в такую даль?
О, конечно же, можно, думаю я. И молчу, удивленно и чуть растерянно поглядывая на женщину.
Я напрягаюсь, и чашечка дрожит в моих пальцах. Вдруг понимаю, что не знаю, как ответить на этот вполне приличный случаю вопрос. Если бы я плыла на океанском лайнере, приобретя путевку на кругосветный круиз, я бы ответила, что «долго работала-устала-и-решила отдохнуть».
Я поймала себя на мысли, что вовсе не знаю, ПОЧЕМУ меня сюда занесло!
– Ну… Я люблю путешествовать. И собирать новые впечатления… – неопределенно ответила я.
– О! – сказала матушка Же-Же. – Здесь все так спокойно, что вряд ли вам это удастся. Единственное развлечение – гости нашего хозяина. Они постоянно сменяются и бывают такими забавными.
– Как это – сменяются?
– Одни уезжают, другие приезжают. У каждого свои вкусы. Приходится чаще заглядывать в поваренную книгу, ведь память у меня уже не та, что была.
– А часто прибывают новые гости? – спросила я.
– Не часто. Примерно раз или два в месяц. Вот месяц назад, например, появился мсье Никола. Сколько хлопот было с ним, вы не представляете. В первый вечер подала ему, как и всем, пиалу с водой, чтобы помыть руки после лобстера. Так с ним случился припадок. Да еще какой! Оказалось, что он с детства не может смотреть на воду. Вы видели такое?
Я точно такого никогда не видела. И решила держаться от этого нервного чудака подальше.
– Спасибо, что предупредили.
Я поняла, что мне выпала прекрасная возможность посплетничать и обо всех других, кого видела вчера.
– А кто эта темненькая, госпожа Галина? – спросила я.
На этом мои расспросы и закончились. Матушка Же-Же пожала плечами:
– Это меня не касается. Это гости мсье Паскаля. Мы не имеем права обсуждать их. Мсье этого не любит!
Она ушла.
…А я задумалась над ее вопросом. Напрягала память – передо мной возникали лишь отрывочные ассоциации. Я прекрасно припоминала запахи и звуки, которые сопровождали меня почти с самого детства, могла в яркой вспышке «экрана», возникающего в моей голове, увидеть отдельные картинки – те, о которых я рассказывала моему хозяину. Вспомнила дорогу сюда: она была сплошным темным тоннелем, с бесконечным гулом поезда, ревом двигателя самолета, запахом пыли и страхом перед неизвестностью. Я летела по нему, как опавший листок, подхваченный ветром.
Но… что предшествовало этому полету? Я вскочила с кровати и прошла в ванную, стала перед зеркалом. Смотрела на себя так, будто видела впервые. Передо мной стояла худощавая астеническая женщина неопределенного возраста (о такой я бы сказала – «от двадцати пяти…») с заострившимися чертами лица, на котором резко выделялись слишком большие глаза. Вернее, большими их делали хорошо заметные голубоватые тени под ними. О таких можно сказать – «жертва аборта», «скелет в корсете» или «глист в обмороке». Я всегда была довольно самокритичной…
«Почему ты здесь?» – думала я, разглядывая свое отражение. Очевидно, нужно было действовать по методу Шерлока Холмса. Если бы он увидел такую женщину, сказал бы, что она отнюдь не наследница нефтяного магната, или председатель правления банка, или хотя бы – владелица ночного ликеро-водочного киоска. В лучшем случае – представительница самого низшего слоя так называемой «богемы». Например, неудавшаяся художница с неустроенной жизнью. Это меня пугало больше всего. Ведь было бы достаточно банальным представить, что на заработки меня погнала несчастная любовь! Бр-р-р. Только не это. Только не это…
Я потрогала бицепсы. Несмотря на то что моя рука длинная и тощая, это место было будто железное. Не припоминаю, чтобы я посещала какие-то фитнес-центры или тренажерные залы.
Кто-то говорил – «прошлого нет». Сейчас эта мысль показалась мне верной. И я успокоилась. Это так просто, когда нет прошлого. Даже то, что вторая подушка была несмятой, говорило о том же. Надо жить одним днем. Вот этим солнцем, выходящим из-за горы, лесом, в котором поют птички, глотком вкусного кофе. В течение тех минут, пока льется из графина вино в бокал мсье Паскаля, моего чудаковатого хозяина.
«Между восторгом и печалью»
1
– Эта птичка, наверное, больная. Не трогай ее! Бывает, что они разносят какую-то заразу… – заметил Фед.
Маленькая серая птичка жалась к стене деревянного бистро, почти упиралась в нее клювиком и, растопырив крылья, трепетала. Ее тельце вздрагивало.
– Похожа на пьянчужку, которая собралась блевать… – улыбнулась Галина.
– Или на роженицу, – добавил Фед. – Может, она решила снести яйцо?
Но я не разделяла их веселья.
В этих конвульсивных движениях маленького существа было нечто тревожное. Оно словно выполняло какой-то одинокий акт, и ему невозможно было ничем помочь.
– Идем, выпьем чего-нибудь, – заторопила нас Галина. – Хватит пялиться!
Птички как крысы. Когда-то я больше боялась воробьев, чем крыс.
– Идите, – сказала я. – Я подожду… Хочу подышать воздухом.
Фед открыл дверь, пропустил Галину вперед.
Я осталась стоять. Вечер, как и все другие вечера, был насыщен пузырьками кислорода, как бутылка с газированной водой. Все, как всегда: длинная чистая и почти пустая улица, упирающаяся в склон горы, запах хвои и цветов, вечерняя дымка. Покой… Друзья, которые ждут в бистро и знают твои вкусы…
Во мне тает лед, как в бутылке, которую вынули из морозильника. Пока что уровень этого «наводнения» не достиг груди, не растопил то, что находится выше. Мне еще холодно. Поэтому я надеваю на ночь шерстяные носки и… становлюсь слишком сентиментальной. Все-таки жить со льдом в мозгах и в сердце гораздо проще. Куда это годится, когда тебя душат слезы от одного лишь взгляда на небо, или красивый цветок, или бабушку в черных чулках…
Когда спустя несколько секунд я снова посмотрела вниз (лучше бы этого не делала!), птичка лежала брюшком кверху, поджав лапки.
Наводнение внутри меня всколыхнулось и сразу же растопило еще сантиметров пять льда ниже уровня аорты.
Эта птичка не была больна!
Она умирала.
Умирала у меня под ногами, уткнувшись клювиком в стену, – видимо, для того, чтобы из последних сил сохранять равновесие. Но когда и каким образом она перевернулась?
Умирая, птицы всегда переворачиваются брюшком кверху.
Но меня поразило не только это.
Акт смерти! Эта дрожь, которую мы приняли за какой-то птичий вирус, нелепо распростертые крылья, потуги, похожие на потуги роженицы, отчаянное напряжение маленького тельца.
Вот почему я почувствовала тревогу: у моих ног разворачивалась высокая трагедия, а я не сумела ее распознать! Если бы поняла – взяла бы птичку на руки. Она бы ощутила тепло и сочувствие в свою последнюю минуту. И не перевернулась бы на спину, выставив на всеобщее обозрение трогательное желтенькое брюшко (почему-то оно было гораздо светлее серых перьев на спинке и крыльях). Я представила, как утром наша прекрасная барменша подцепит метлой это тельце на совок и выбросит на помойку.
Я повернулась лицом к деревянной стене и не могла пошелохнуться. Если бы у меня был клюв – так же уперлась бы им в стену, чтобы не упасть. А потом почувствовала на своих плечах руки Вани-Джона.
– Я опоздал? – сказал он, поворачивая меня к себе.
Я покачала головой.
– Что случилось?
Видимо, мое лицо было тоже хорошенько подтоплено.
– У тебя есть платок? – спросила я.
Он вынул из кармана большой клетчатый носовой платок.
Не говоря ни слова, я склонилась над птичкой, завернула ее и понесла в садик за бистро.
Там ее похоронила. Иван-Джон помог вырыть ямку и совсем ничему не удивился.
…Если птицы – души умерших, которые иногда впархивают в окна и бьются о потолки, или просто пристраиваются на карнизе перед твоим окном и заглядывают в комнату, или садятся тебе на голову посреди площади, – кем была эта птичка, которая скончалась у моих ног?
Чего она ждала от меня? Что я не смогла понять? Куда улетел ее последний вздох?..
2
Бывают такие моменты, когда позарез необходимо, чтобы кто-то сидел рядом и держал за руку. Например, перед операцией. Когда ты ничего не осознаешь, кроме собственной дрожи. Единственное, что в таком случае отличает человека от других живых существ, – то, что он способен уговаривать себя: «Все пройдет… Все будет хорошо… Все как-то устроится и чем-то закончится…» Но даже если кто-то держит-таки тебя за руку, а ты способен думать именно так и даже улыбаться, – все равно создается впечатление, будто стоишь физиономией к стене. Один на один с ней. Один на один.
Мы зашли в бистро. Стол уже был заставлен кружками с пивом.
– Родила или вырвала? – сразу же поинтересовалась Галина.
– Просто умерла… – сказала я.
– Кто? – спросил Никола.
– Не отвлекайся, – махнула рукой Галина, рассеивая дым, выпущенный изо рта. – Никто. Продолжай!
– Через несколько дней – ужин и игра у мсье Паскаля, – пояснил нам Фед, – кому-то придется покинуть общество. А мы обнаружили, что очень мало знаем друг о друге. Меня до сих пор беспокоит та маленькая сумма, с которой отправилась Вероника. Были бы мы добрее – изменили бы ситуацию…
– Ничего не станется с нашей красавицей, – сказала Галина. – Думаю, она уже доехала автостопом куда нужно!
– Поэтому, – продолжал Фед, – мы решили получше узнать друг друга. Возможно, тогда досадные случаи не повторятся.
– Значит, мы что-то пропустили? – спросил Иван-Джон, отодвигая от столика и подставляя мне тяжелый стул.
– Почти ничего. Он только начал. Оказывается, наш молчаливый друг – серб! – сказала Галина и с интересом впилась взглядом в длинноносое лицо Николы. – Сербия звучит как «серебро»…
– А как там теперь? – неразумно спросила я, чтобы не молчать. – Война закончилась?
– Какая война? – не понял Никола.
– Ну… югославский конфликт… – неопределенно пробормотала я.
– Югославский? – не понял он.
– Да, между Сербией и Хорватией… – Я хотела продолжить похваляться своими скромными познаниями о Косове или Вукаваре. Но по выражению его лица поняла, что мои рассуждения совершенно неуместны. Никола безразлично пожал плечами и произнес свою коронную фразу:
– Я не интересуюсь настоящим, я тружусь на будущее! Меня это не касается. Не знаю, о чем речь…
– Не вмешивайся, – дернула меня за руку Галина и обратилась к рассказчику, которого мы с Джоном прервали своим появлением: – Итак, маленькая деревушка Смилян в Лике… Что дальше?
– Да, – продолжал Никола. – Это небольшая австро-венгерская провинция… Там мой отец был православным священником.
Он задумался. И уже никто из нас не решался вмешаться со своими комментариями.
– Сколько себя помню – лет с восьми, – я всегда находился в пограничном состоянии между восторгом и печалью. Вид прелестного цветка смущал меня настолько, что я терял сознание от его красоты и запаха. А уже в следующий миг представлял себе его смятым, вырванным, увядшим, мертвым – и страх смерти и боли терзал меня. Тогда я падал на колени (что вполне естественно для ребенка из религиозной семьи!) и говорил: «Господи, зачем все это? Почему Ты сделал все самое красивое в мире – таким недолговечным?» Я остро чувствовал текучесть времени, оно проходило сквозь меня, как электромагнитные волны, но тогда я еще не мог представить себе, что эти волны в действительности существуют. Ночами меня мучили видения – всевозможные чудовища, великаны-людоеды, обитатели тьмы. Мне кажется, что я никогда не засыпал!
Но, думаю, они все-таки приходили во сне. Родители мучились вместе со мной и ничем не могли помочь или хотя бы объяснить мои странности. Например, припоминаю, как, увидев на шее у матери жемчуг, я оцепенел так, что меня положили в ванну с горячей водой. А когда папа принес с базара персики, меня начало лихорадить. Несколько дней я пролежал с температурой, пока корзину с фруктами не вынесли из детской… И все прошло.
Но больше всего меня поражали блестящие кристаллы и предметы правильной геометрической формы. Я ходил в кладовую и часами смотрел на куски сахара и соли. Меня искали, звали, но я стоял как вкопанный. Конечно же, много читал. Наверное, лет с шести. Сначала меня привлекала четырехугольная форма книг и буквы, вытесненные золотом на переплете. А потом меня поглотили сами тексты. Отец переживал, что чтением я могу испортить себе глаза, и потому постоянно отнимал у меня книгу. Тогда я приспособился читать ночью: делал из сала свечу, зажигал ее под одеялом, а щели в двери и замочную скважину тщательно затыкал тряпьем. Созерцание кристаллов и чтение совершили со мной странную вещь! Впоследствии я стал наблюдать удивительные видения: передо мной являлись какие-либо предметы быта во вспышках яркого света. Я даже играл с этим: четко представлял картину, висевшую у нас на стене в столовой, и сразу же в той вспышке, которая шла изнутри, – видел, что она становится подвижной, живой. Таким образом, я перебрал все предметы, находившиеся дома или лежавшие на нашем дворе. И все они приобретали для меня иное содержание. Обыкновенный топор, скажем, превращался в моем воображении в многофазовый мотор. Конечно же, я не мог назвать его так, как говорю сейчас. Для этого я был слишком мал и не мог знать этих определений. Но второе было для меня большей реальностью, чем первое.
Я был похож на человека, который употребляет сильный наркотик: мне нужно было все время увеличивать дозу своих впечатлений и видений, постоянно расширять круг своего ненасытного зрения. Но я уже все пересмотрел и ничего нового ни дома, ни во дворе не находил.
Тогда я начал фантазировать и направлять воображение вспять: сначала вызвал в мозгу ту вспышку, а уже потом – в ней – возникали видения. Сначала они были нечеткие, туманные и сразу исчезали, когда я пытался усилием воли задержать их. Но со временем они приобретали силу и ясность, а позже стали вполне конкретными…
В определенные моменты я замечал, что воздух вокруг меня наполнен длинными языками пламени. Однажды почувствовал, что это пламя – в моей голове. И оно бьется там, словно маленькое сердце…
Мое воображение становилась все более увлекающим и безграничным. Каждую ночь или даже днем, когда я оставался в одиночестве, – отправлялся в удивительные путешествия, стоило только закрыть глаза и вызвать в голове эту вспышку. Видел незнакомые местности, страны и города, жил в них, встречал там людей, заводил знакомства. Вместе с ними переживал много приключений.
Вам, возможно, покажется это неестественным, но эти люди были мне так же дороги, как и моя семья. А все эти миры затмевали мою реальную жизнь.
Как сказал мсье Паскаль, это была «материализация творческих концепций».
– Что это значит? – спросила Галина. Она смотрела на рассказчика с нескрываемым любопытством.
Я ж говорю – хищница! Еще пару недель назад она лишь выпускала в этого чудака дым из своих ярко-пурпурных губ. А теперь сидела в позе «секси»: ножка на ножку, поглаживая запястье одной руки длинными пальцами другой. Но он не обращал на нее должного внимания. Произнес уверенно:
– Это для вас будет скучным…
– Ну хоть в общих чертах! – надула губки Галина.
– Например… Благодаря этим детским экспериментам я могу сконструировать любую идею в своем воображении, не прикасаясь ни к чему руками. И довести ее до совершенства. Так это можно объяснить… А у меня масса идей, которые придут на помощь человечеству и прогрессу.
– Что же вы здесь время теряете? – спросил Фед. – «Масса идей» требует выхода!
Никола нахмурился и ответил вопросом на вопрос:
– А вы?..
Фед, как мне показалось, смутился.
– Я? – Он обвел глазами общество, словно ища у нас поддержки или подсказки. – Я пока отдыхаю, набираюсь новых впечатлений… Этот город мне порекомендовал мой товарищ. Нет ничего лучше свежего воздуха, великолепного вида и… и приятного общения.
Это прозвучало, как заученный по бумажке тост, и мы взялись за бокалы.
Чокнувшись со всеми, Фед поднял бокал еще раз, красноречиво поглядывая на роскошную белокурую барменшу. Я подумала, что именно это, пожалуй, и есть его «самое большое впечатление и лучший отдых».
Кто-то ждет его в другом городе, думала я, пишет ему письма, утыкается лицом в рубашки, развешанные в шкафу. Кто-то так же мысленно заботится и об Иване-Джоне, и о Николе, и о чудаковатом переводчике в рваных кроссовках. А уж по Галине, вероятно, убивается половина какого-то неизвестного мне города – скажем, Парижа или Мадрида. Ведь ясно, что они все здесь ненадолго – так, воздухом подышать. Они – не я!
Кто убивается по мне? Там, на другом конце земного шара, в городе холодов с красной пылью и удушающим тополиным пухом?.. С кирпичом, лежащим на краю моей крыши?!! Правильно назвал меня хозяин – я иголка…
– Эй, ты где? – коснулся моей руки Иван-Джон. Под столом его нога и бедро были тесно прижаты к моим именно этим частям тела. Было заметно, что он уже хотел слинять отсюда. Я очнулась.
– …Хозяин может не замечать тебя довольно долго… – продолжал Никола (я, наверное, что-то пропустила из его предыдущей реплики), – пять, десять, даже двадцать лет… Но всегда следует знать, а лучше – быть уверенным, – что он обязательно хоть раз бросит взгляд в ту сторону, где горит твоя «лампочка», и остановит на ней свой взволнованный взгляд. И ты почувствуешь облегчение. И дальше все в твоей жизни наладится…
– Вы, оказывается, поэт и мистификатор, – улыбнулась Галина. Она просто горела желанием взять его под свое крыло.
– Нет. Я занимаюсь физикой эфира. – Он не обращал на ее заигрывание никакого внимания. – Это потаенная наука. Она не имеет никакого отношения к официальной. Поэтому и говорю, что тружусь на будущее…
– И вас больше ничего-ничего не интересует? – продолжала доставать его наша хищница. – Например, любовь…
– М-м-м… У меня была одна любовная история. Но она не совсем обычная, – пробормотал Никола.
– Ну, если уж этот вечер – ваш, то поведайте нам обо всем! – заметил Иван-Джон.
– С детства я любил кормить голубей, – начал Никола. – Я кормил тысячи этих птиц! Это продолжалось годами. Представьте себе: кто может запомнить всех голубей, которые теснятся у ног! Но была одна голубка – белая со светло-серыми пятнышками на крыльях. Она очень выделялась среди остальных. Я мог узнать ее где бы она ни была, и она находила меня – где бы ни был я. Повсюду. Стоило лишь вспомнить о ней, как она прилетала. Я… Я полюбил эту птицу так, как мужчина любит женщину…
Галина тихо хмыкнула в кулачок. Рассказчик смутился и замолчал. Все с укором взглянули на нее. После долгой паузы, во время которой мы с интересом смотрели на Николу, он смилостивился и продолжал с вызовом:
– Да! Я любил ее! Я не виноват, что родился человеком. А она – осталась в птичьих перьях. Когда она болела – прилетала к моему окну. Я лечил ее. Когда мне было плохо – я всегда видел ее на своем подоконнике. Эта голубка была отрадой моей жизни. Однажды, когда я лежал в темноте и, как всегда, решал какой-то научный вопрос, она впорхнула в комнату и села на мой стол. Я понял, что она хочет сказать мне нечто очень важное, встал, подошел к ней. Она смотрела на меня своими черными глазами-бусинками. И я понял, что она скоро умрет. Птицы живут меньше людей…
Когда я это осознал и сформулировал словами в своем мозгу – из глаз моей голубки вырвался мощный луч яркого света. Это был реальный, сильный, ослепительный луч, который был гораздо мощнее света лампочки в моей лаборатории. Когда эта голубка умерла, я потерял силы. Поэтому я здесь…
Мне показалось странным, что этот вечер начался с птички и заканчивается подобной историей. И я снова подумала, что мир устроен, как матрешка. Интересно, что по этому поводу думает Иван-Джон? Я посмотрела на него. В его глазах отражалось пламя маленькой свечи, горевшей на столе. Оно было ярким и словно плыло в синем-синем море этих глаз.
3
Интересно, больно ли змее выползать из собственной кожи? Когда-то этот процесс показывали в одной научной телепрограмме. Но тогда я только с интересом наблюдала, как медленно шелушится змеиная кожа, как она тускнеет, сморщивается, а потом из нее, как из грязной тряпочки, выползает яркая желто-зеленая змейка и ныряет в такую же зеленую веселую живую траву.
Теперь я подумала: больно ли это?
Больно ли вышелушиваться из узкого тоннеля?
Из узкого тоннеля, который сжимает тебя со всех сторон.
Сжимает и пытается удержать в себе.
Удержать в себе, не дать продохнуть.
И ты сопротивляешься, прорываешься самостоятельно.
Ведь никто не поможет, не вытряхнет тебя из кожи, как из мешка.
Разве что будут вот такие наблюдатели – по ту сторону экрана…
А в то же время ты думаешь о том, что прежде это была ТВОЯ кожа.
И ты жила в ней – такая веселая и живая.
И тебе совсем не было страшно и тесно в ней.
– Больно ли змее менять кожу? – спросила я Ивана-Джона, когда мы шли по лесной тропинке к тем снегам на вершине горы, куда я боялась забраться сама.
– Думаю, что да… – ответил он. – Что-то менять вообще больно. Представь, как она ползет еще незащищенным брюшком по камням. А потом чешуя становится плотнее. И все налаживается.
Да, я об этом не подумала: как она ползет потом. Пожалуй, это тоже больно. Какое-то время…
Тяжелый, как ртуть, лес был засыпан сухой хвоей, из-под которой выглядывали упругие влажные шляпки грибов. Они были как леденцы…
Их хотелось лизнуть.
– Почему я никогда не помню, как мы с тобой занимаемся любовью? – спросила я.
– В самом деле? – удивился он. – Тебе плохо со мной?
– Нет. Наоборот. Так хорошо, что я – летаю. Но потом. После… Это так странно, как…
Я не знала с чем это можно сравнить…
Было такое впечатление, что мы занимаемся любовью все время, даже тогда, когда вот так идем по лесу и разговариваем…
– Чтобы понять мир, достаточно одного Маркеса… Даже достаточно одного романа «Сто лет одиночества». То есть ощутить часть лучше, чем всю жизнь охотиться за целостностью, которой, кстати, нет…
(Неслышно отделяются от нас оболочки. Вот они, как сигаретный дым, взлетают вверх, все выше и выше… Здесь, в лесу, прохладно, поэтому они оказываются в незнакомой комнате, где в тяжелых рамах текут зеркала, а в них роятся сладкие сонные пчелы…)
– Жизнь – привычка. Человек в ней – самое негармоничное существо. Потому что он рефлектирует на каждом шагу и на каждом шагу врет, врет. Себе и другим. Представь, как было трудно Галилею внушать толпе невежд то, что он знал наверняка, что доказал математически и на что положил жизнь. И… отступить! Но представь, с каким надрывом, с какой энергетикой он выкрикнул свои последние слова о том, что «она вертится!» Но этот короткий отчаянный крик имел отголосок на многие поколения вперед. Возможно, больше, чем тома научных работ, появившиеся позже…
(…Вот под самым потолком эфемерные тела рассыпаются на тысячи молекул. Четыре глаза, словно бабочки, бьются в зеркала… Все переплетается в тяжелом единстве…)
– Гений – тот, кто при любых обстоятельствах способен чувствовать себя свободным. Это – свобода от жизни, но – противоположная самоубийству.
(…Четыре руки погружаются в длинные волосы… Закрытые глаза впархивают в зеркало, из их яблок выпадают черные зернышки. Атомный гриб, поднимающийся от пола, резко разбивает ртутную поверхность. Разъединение блестящих шариков… Возвращение в тело… Воздушная яма… Сердце в горле…)
– Когда ты очень счастлив… Нет, не о том счастье идет речь! Когда ты ОЧЕНЬ счастлив – запомни! – все в твоей жизни происходит В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. А все, что будет потом, – лишь хождение по кругу…
– Я знаю… А ты откуда знаешь об этом?
Я вздрагиваю, и он набрасывает на мои плечи свою куртку. Он думает, что мне холодно. Возможно, мне и вправду холодно, поскольку мы уже забрались довольно высоко и скоро дойдем до тех снегов. Честно говоря, я больше не хочу видеть снег. Но мне интересно, что там, на вершине этой горы.
– На самом деле, – говорю я, – Я НИЧЕГО теперь не знаю. Это так интересно. Это – как второе рождение, когда ты совсем новый и совсем ничего не знаешь о мире. Это такое кайфовое чувство. Все приходит в голову – само по себе. Она у меня совсем пустая. И мне порой кажется, что это НИЧЕГО гораздо важнее всей той информации, которая была в ней раньше.
– За этим я и приехал сюда – освободиться… – говорит он. – Тут удивительный воздух!
Он повторил фразу, которую я уже слышала от мсье Паскаля. Я засмеялась. Он меня понял, потому что и сам слышал это от него.
– Давай отдохнем.
Он садится на старую сосновую хвою, включает маленький транзистор, зажигает две сигареты (я смеюсь, смеюсь!) и одну осторожно вставляет в мои губы. Струйки одновременно выпущенного дыма переплетаются, как мы – час назад…
…Где-то… там…
за едва видимой завесой –
тонкой и шелестящей, как крылья ангелов, –
Ты
сидишь за столом
в кругу десяти горящих свечей.
Где-то… там…
Они вытягивают свои обольстительные язычки
и отпускают их путешествовать
между листьями салата, отбивными
и стаканами с вином…
Где-то… там…
Язычки ползут
и выедают на скатерти
черные дорожки…
Где-то… там…
Ты – весь в белом,
Ты – в венке,
Ты – в кругу друзей,
Ты – с женщиной, чьи волосы
Струятся между пальцами, как
китайский шелк…
…О, какая губительная юность!
Влажная и душная,
как бескрайние тропики
с попугаями на каждом дереве!
Где-то… там…
– Местная радиостанция, – объясняет он. – Это наши ребята. Те, что играют в бистро…
– Мсье Паскаль напророчил им большую славу…
– Он просто чудак. Без него этот город давно бы стал захолустным…
Я посмотрела на часы. Все же я не должна надолго покидать своего хозяина. Вдруг ему что-то понадобится…
Иван-Джон помог мне подняться. До снегов оставалось несколько крутых тропинок. Мы молча пошли дальше. Приближение к снегам предполагает молчание – есть что-то в этой нетронутой белизне. Безмолвие и одиночество. Поэтому я отпустила его руку и пошла впереди.
…Я стояла на плоском узком гребне безымянной горы. Снег был удивительно сухой и приятно скрипел под ногами. Ели и сосны наверху отличались от нижнего леса ярко-зеленой хвоей, не такой тусклой, как внизу.
Тишина. Я закрыла глаза. «Господи, если Ты есть…» – мысленно сказала я и не знала, как продолжить. Я не набожный человек, я не знаю, как с Ним разговаривать! Меня этому не учили. Я циник.
У меня проколоты в четырех местах уши
и тату на левом плече,
я не ношу нижнего белья,
я жую резинку, я курю,
я могу запросто говорить всякие грубости,
плевать сквозь зубы.
И все такое прочее…
Но когда ты вот так стоишь на вершине горы, покрытой снегом, в полной тишине (которая совсем не похожа на тишину, ведь даже тишину можно услышать!), среди недвижимых деревьев, под белым небом, на котором нет ни облачка, – эта фраза возникает в тебе сама по себе: «Господи, если Ты есть…». А что дальше?
Я кивнула головой. Я придумала другую: мысленно убрала слово «если». Получилось значительно лучше. Безымянная гора, небо и деревья вокруг обрели смысл. И больше ничего не нужно говорить. Как просто!
4
У меня личный медный ключ, которым я открываю дверь дома мсье Паскаля. Поначалу я чувствовала себя воришкой, открывая замок. Теперь это для меня – приятный ритуал. Ключ большой и тяжелый. Холл в прихожей – темный, просторный, с картинами, резными креслами и большим зеркалом в дубовой раме. Я поднимаюсь по лестнице. Иногда из кухни выглядывает матушка Же-Же.
«Спит…» – шепотом докладывает она. Или говорит: «Он тебя ждал, спрашивал, скоро ли вернешься…». Или: «Ну как твой? У вас, наверное, любовь? Может, выйдешь замуж и останешься здесь навсегда…». Это последнее меня слегка раздражает. Матушка Же-Же считает, что женщина не должна быть одинокой, что после двадцати она должна спрятать волосы под платок и ходить в фартуке.
Правда, она уже привыкла к моим сережкам, джинсам и тату на плече. Единственное, что ее еще беспокоит, – это моя фигура.
– Ты слишком худенькая, – сочувственно говорит она. – Как цыпленок… (О, как она потрошит эти нежные создания у себя на кухне! Любо-дорого посмотреть!) Надо все с хлебом есть! А еще я заметила, что ты выбрасываешь круассаны… Их Бертолуччи (это наш пес) потом по всему двору таскает…
Бертолуччи тоже не любит круассанов.
Я поднимаюсь к себе, открываю окно. Вечер пахнет пляжем – сухим песком и морской водой. Тепло. Напротив моего окна, слава богу, нет (и не может быть!) многоэтажек. Я всем довольна – воздухом, жильем, Иваном… и собой. Если мсье будет сегодня хорошо спать, я тоже просплю до утра. Я растягиваюсь поперек кровати и смотрю на белый потолок, смотрю, пока она не растворяется – я засыпаю. И вижу себя в темном подъезде перед лифтом… Красная кнопка вызова светится в темноте, как уголек. Рядом появляется чья-то фигура. И стоит за спиной. И кашляет. Холодно и темно. Уголек горит… Гудит лифт. Тяжелый смрад от мусоропровода… Это мужчина – седой старик с голубыми глазами. Впервые за последние годы вижу перед собой не ведьмовские глаза, не насылающие в дом голубей или синиц, не сдавливающие шею невидимой удавкой. Снимите с меня чары, дедушка! Дайте мне новую кожу, крепкую, как броня! Я не знаю, что не дает мне спать. Не могу сформулировать…
Это – ноябрь водит меня кругами своего зодиака.
Это – возврат писем со штемпелем «адресат не явился».
Это – большие давленые сливы в осеннем саду.
Это – люди, черноглазые, пьющие из души сокровенное.
Это – животный нюх, который не приглушить ни табаком, ни спиртом…
Это – стояние у лифта с красным глазом.
Отверните от меня этот глаз! Я пойду пешком. Я всегда любила ходить пешком.
Что мне нужно? Была же какая-то мечта, выхваченная из огня?
Была, я точно помню!
Воды? Хлеба? Анальгина?!!!
Белых носков?
Дедушка, снимите с меня чары – я вспомнила!
Я хочу родить Сына…
– Проснись!! – Меня трясут за плечо, а я все еще стою у лифта. Там, во сне…
– Все хорошо. Успокойся! Это – сон. Что тебе приснилось?
Я открываю глаза – я их просто раздираю, ведь они склеены ужасом.
Вот это да! Надо мной стоит мой милый мсье – в тапочках на босу ногу, в смешном ночном колпаке, в клетчатом халате с атласными отворотами.
– Простите, простите… – говорю я.
Представляю, как я вопила, если он услышал со своего этажа! Я вскакиваю.
– Я не хотела…
– Это сон, – снова говорит он.
– Да, знаю, – говорю я. – Давайте я провожу вас вниз. Не беспокойтесь. Это был сон.
– Спите, спите, госпожа Иголка. Я сам.
Он такой смешной в этом халате! Идет к двери, осторожно прикрывает ее. Самый что ни на есть папочка! Интересно, есть ли у него дети? Мы об этом никогда не говорили… Была ли у него жена? Любил ли он ее и куда она подевалась? Умерла? Я не могла расспрашивать об этом даже матушку Же-Же. Как-то неловко. Мсье для меня – нечто непостижимое. Мне даже странно представить себе, что он бреется или…
Ага, вот я и вспомнила свои детские ужасы! Помню, как смотрела однажды телевизор, где показывали какое-то государственное мероприятие, и вдруг подумала: писают ли президенты? Я долго размышляла над этим важным вопросом. Он меня мучил настолько, что на первом же уроке 1 сентября я подняла руку и поставила его ребром учительнице. Я была убеждена, что она даст отрицательный ответ. Учительница растерялась и выгнала меня из класса. Так я ничего и не поняла. Решила, что это – государственная тайна, о которой нельзя говорить вслух…
Так вот, мне трудно представить молодость моего хозяина. И то, что он целовал женщину. И покупал ей розы или снимал перед ней носки…
Не всегда же он был состоятельным и одиноким. У него в кабинете – полно всяких фотографий. Даже на сафари среди чернокожих аборигенов! И ни одной семейной.
А я? Выстраиваю прошлое своего хозяина, а сама не могу навести порядок в собственной жизни! Все – такими вот кусками, все – как прогнивший невод. Тонкий. Сквозь дыры свистит ветер. В такой невод может попасть только большая рыбина – такая, как это детское воспоминание. А ведь были же и поменьше. Те, что делают море сияющим и движущимся – целые косяки всякой мелочевки, которую обычно снова выбрасывают в воду. Но ведь она есть!
Что я расскажу своим потомкам, когда буду лежать перед ними на шелковых простынях и кружевных подушках!!
5
Грустный вечер. Вчера мы распрощались с Николой. Он вытащил свой шарик и, я бы сказала, ушел, даже не оглянувшись. Он был поглощен своими мыслями. Человек «на своей волне». Я таких понимаю и обожаю, хотя на первый взгляд кажется, что они не в своем уме, а проще говоря – они кажутся кретинами. Они блуждают в трех соснах и проливают кофе на белую рубашку не только себе, но и соседям. Они всегда молчат и избегают общества. А когда с ними разговариваешь, то цедят что-то сквозь зубы и смотрят волком исподлобья.
Обычно они любят животных и держат, скажем, пять собак разной породы и разного пола, возятся с их потомством, отдают им свой жалкий ужин. Добиться от них улыбки, а тем более смеха – подвиг со стороны собеседника. Несмотря на все это, у них нет неуважения к обществу, как это кажется на первый взгляд. Скорее наоборот. Общество в лице ближайшего окружения ставит им всяческие замысловатые препоны в жизни. У них спрашивают о запахе от животных, который стоит в их доме, или о моде на галстуки. Или еще о какой-то ерунде, в которой они не разбираются. И поэтому раздражаются. И поэтому надолго замолкают. Таких нужно водить за ручку, потому что они всегда вступают в лужи. А потом (порой это происходит после их одинокой кончины) у них под продавленным матрасом благодарные потомки находят чертежи летательных аппаратов, письма от жителей внеземных цивилизаций или что-то в этом роде. Возможно, картины или свитки со стихами. И продают их на аукционах за бешеные деньги. И вздыхают: «Эх, если бы это все – раньше…» Не понимая, что «человеку на своей волне» это «раньше» было так же пофиг, как и теперь. И даже «теперь» – лучше, чем «раньше», потому что теперь ему никто не будет докучать дурацкими вопросами.
…Мсье Паскаль встал из-за стола, как только за Николой закрылась дверь. Правда, на дорогу он отписал нашему печальному гению кругленькую сумму. Мне даже стало обидно за Веронику. Видимо, в глубине моего естества зашевелился ген феминизма.
– Больше получает тот, кому ничего не нужно! – провозгласил мсье свою очередную сентенцию, заметив мои удивленно приподнятые брови.
Мы молчали. Не знали, что сказать вслед человеку, который влюбился в голубку… Возможно, раньше в его сутулую спину я покрутила бы пальцем у виска. Я попыталась вникнуть в то, что сказал мой хозяин, но мало что поняла. А напутствие мсье Паскаля было примерно таким:
– Трансформаторный мотор, трансмиссия электрического тока на расстояние без проводов, устройство для индивидуализации сигналов, планетарная трансмиссия. Всемирная система – Башня Ворденклиф… Будем надеяться, что он еще успеет на последний автобус… Доброй ночи, господа!
Мы удивленно переглянулись.
Следующий вечер выдался тихим и грустным. Представляю, скольких усилий стоило Галине позвонить мне. Сначала она поговорила о погоде и скуке, которая ее уже достала. А потом, будто невзначай, спросила, не хочу ли я чего-нибудь выпить. Разумеется, ей хотелось встретиться и поговорить со мной. Я накинула плащ и выскочила в бистро…
Галина – полная противоположность людям «на своей волне». Она как раз из тех, кто всю свою жизнь ловит эту волну. Серфингистка! Очевидно, сегодня у нее было особое настроение… Она говорила без умолку.
– Если бы ты спросила меня, в чем смысл жизни, я бы удержалась от высоких слов и ответила бы, что смысла нет… Возможно, он в том, чтобы всю жизнь искать его с твердым условием: никогда не найти. Ведь обретенное теряет смысл и ценность, как только оказывается в твоих руках! Как… как часы, найденные на дороге. Люди суетятся и уверены, что у них есть эти «часы» – в виде достатка, семьи, уюта или еще чего-нибудь, что можно увидеть, потрогать пальцами или попробовать на вкус. Как они ошибаются! Но если честно, я хочу – о, безумно желаю! – отыскать этот проклятый смысл и крепко держать его в руках.
Я посмотрела на нее другими глазами. Та, которую я окрестила «хищницей», сидела напротив, нервно разминая сигарету тонкими пальцами с красными коготками. Глаза ее, с легкой косинкой, блестели, как у кокаинистки, но взгляд был растерянным. Я никогда не хотела сближаться с ней. Стараюсь избегать таких женщин. Боюсь истеричек. Я выскочила в бистро, потому что вечер был душным, как перед грозой. И нарвалась на этот непрерывный монолог женщины, которая должна бы была жить не здесь. Поэтому я спросила:
– Как тебя сюда занесло??
Она наконец перестала мять сигарету, из которой высыпался почти весь табак, и щелкнула зажигалкой. Ответила почти так же, как и Иван-Джон:
– Захотелось покоя. А здесь…
– …хороший воздух? – улыбнулась я.
– …и есть время подумать, – добавила она, – перед тем, как сделать выбор…
Я с удивлением посмотрела на нее.
– Недавно там, – она кивнула куда-то вверх, – я рассталась со своим мужем. И немного растерялась: есть ли смысл во всем?
– Ты же сама сказала, что его – нет!
– Я говорила не о себе. Его нет для таких, как ты. С первого же взгляда ясно, что ты слишком самодостаточна. Смысл для тебя – в тебе самой. А я должна быть при ком-то…
– Разве это не унизительно?
– Унизительно! Ха! Я не квочка какая-нибудь! Ты меня неправильно поняла. Я должна служить гению. Или… – она задумалась, – вылепить гения своими руками. У меня это хорошо получается. Если бы мсье Паскаль не был таким старым… Хотя, собственно, возраст гения не имеет для меня никакого значения. Важно лишь то, что он не похож на других.
«Ого, она – настоящая хищница, ведь замахнулась на самого папочку», – подумала я.
– Я довольно хорошо знаю, что такое – конец… – продолжала она. – Ты думаешь, что это смерть?..
Я так не думала, но решила промолчать и послушать, что скажет она, поэтому неопределенно пожала плечами.
– Конец – это когда за несколько часов перед тобой, как в кино, проходит вся прошлая жизнь. Проходит, прокручивается перед глазами, и ты понимаешь, что все в ней было не так! Вот это действительно страшно. Потому что ты все равно продолжаешь жить. Жить, потому что слишком живая и безумно любишь ощущать любые прикосновения, даже порезы. Я недаром говорила Веронике о дерьме… Я сама хорошо знаю, что такое перешивать на себя мамино платье… Я родилась далеко от этих мест. Семья была бедной. Но я с детства знала, что мое назначение – стать известной. Хотя у меня не было, да и сейчас нет никаких талантов. Кроме одного… Того, за что нас любят мужчины…
Она выразительно посмотрела на меня. Я снова неопределенно улыбнулась. Я не представляла себе, за что можно любить меня, я над этим никогда не задумывалась.
– Думаешь, я имею в виду постель? Ошибаешься! Понимаешь, беззаветно мужчины могут любить только своих матерей, и все свои успехи посвящают им, хотя и подсознательно. Я это поняла довольно рано и поэтому пыталась «усыновлять» каждого, кто попадался на моем пути.
Мне это показалось довольно скучным. Я так и сказала ей:
– Но ведь это скучно и неинтересно.
– Ошибаешься, дорогуша! Это интереснее, чем ты можешь себе представить. От матери зависит очень многое. Только она может воспитать гения или негодяя. Это почти божественная миссия. Я хотела перебрать ее на себя. Хотела быть в этом непревзойденной. Победить природу. Я видела, как моя мать трясется над братом, хотя он был здоровенным детиной. А я умирала от чахотки. Как сказали бы сейчас – туберкулеза. Я думала, что это конец, и не знала, что – только начало, которое приведет меня к выполнению миссии. Каким-то чудом, благодаря тому, что взяли у знакомых денег в долг, меня отправили на лечение в чудесный заграничный городок. Мне было восемнадцать. Я еще никуда не выезжала одна и ничего не видела, ничего не знала и не умела. А тут! Белые платья… Белые шляпы… Кружевные зонтики, отбрасывающие загадочную тень на бледные лица барышень, обреченных на смерть. Шелест гравия и звон ручья, бьющего из скалы и наигрывающего мелодию, наполняя кружку со странной трубочкой для питья. Заросли сирени. Нереально яркое солнце. Тишина. Там, в беседке, увитой виноградом, я и увидела своего Гренделя… Любовь накануне смерти. Что может быть романтичнее? Вообще, для меня любовь всегда ассоциируется со смертью. Он испытывал то же самое. Он был весь, как сеть, сотканный из литературных аллюзий. Но это была лишь основа с огромным пространством для собственных видений, а крепкие нити этой невидимой сети – канаты, свитые из мыслей древних мыслителей, только поддерживали его, не давали упасть и возносили душу к небесам, как пружинистый батут. Но он не умел управлять тем, что имел. Я это сразу поняла. Некоторые женщины предпочитают строить из себя маленькую девочку, но я стала для него самым необходимым человеком – я стала ему матерью. Разве могла та, что родила его, теперь назвать взрослого мужчину «птенчик» или, скажем, «мой маленький»? В ее устах это звучало бы смешно. В моих – звучало как музыка. Мы поженились зимой. Я больше не перешивала мамины платья. Он окружил меня роскошью. Он меня обожал. Он стал знаменитым. И я гордилась им, как собственным достижением. Пока мне не стало скучно… Нас ждала пустота и молчание за вечерним чаем. Это был конец… Но…
Она замолчала, отпила из бокала вино, отчего губы ее стали почти черными. Местное черничное вино было густым, как мед.
– Но эта проклятая любовь подыхает довольно долго. И – по-разному. Сначала отчаянно скачет, поет как Гаврош под пулями свою последнюю песенку. В ней очень трогательные слова. А потом падает на мостовую и – это уже труп. Который все же надо оплакать и обмыть, оттащить в сторону, вырыть могилку и попытаться ни разу не прийти к ней с жалким и никому не нужным букетиком.
Пауза…
– Любовь и смерть… – продолжала она. – Я была слишком живой для того, чтобы принять второе. Я приехала сюда, чтобы сделать выбор между умирающей любовью и… любовью, которая еще не родилась.
– Вот как…
– Именно так. Но я еще не знаю, стоит ли опять начинать эту работу… Он намного моложе меня и беден как церковная мышь. Он неуверен в себе и невротичен, как женщина. Застенчив, как ребенок. У него неплохие картины, но это не то, что я хотела бы видеть. Но есть нечто такое… Фантазия. Стремление. Безумство. Он жаждет приключений. Он любит смерть так же, как и я. Он ищет острые впечатления и руку, которая бы держала его на земле. Однажды мы забрались высоко в горы. Еще выше поднимался гребень с пропастью под ним. Я схватила его за руку и потащила наверх. Мы бежали, задыхаясь. Этот неистовый бег был подобен бегству или любовному акту. Приближаясь к цели – высшей точки горного гребня, он, кажется, понял, чего я хочу. Это был восторг, похожий на безумие. Мы не произнесли ни слова, но бежали, зная и – одновременно – не зная, что будет дальше. Это было как испытание двух еще не близких, но очень родственных душ. Ты когда-нибудь стояла над пропастью? Если да, то должна знать, как она манит к себе кажущейся возможностью полета. «Полетели?!» – сказала я, подводя его к самому краю. Вниз с грохотом сорвался камень. Я увидела то, что хотела увидеть: в его глазах не было ни тени страха! Он смотрел на меня безумными глазами и ждал команды. Еще мгновение – и мы бы сорвались вниз, ни о чем не жалея… Я отступила, и он послушно отошел за мной. Он не вздохнул с облегчением, его лоб был абсолютно сухим, он не дрожал и не злился. Если бы я захотела – он прыгнул бы первым. Я убедилась в этом…
– А ты действительно прыгнула бы? – спросила я.
– Я?! – Она рассмеялась и стала похожа на кошку – узкие зеленые глаза и довольная широкая улыбка. Оставалось только высунуть язычок, которым бы она слизала черное вино со своих губ. – Ни за что! Я же сказала: я слишком люблю жизнь. Это было испытание. Для него, но не для меня. Теперь он ждет, когда я вернусь. И это тоже – испытание.
Я не настолько рационально подходила к жизни. В ее рассказе мне понравился только этот эпизод на вершине. Но если бы так поступила я, в этом не было бы ни капли рационализма. Я бы не думала, какое впечатление могу произвести подобным безумством. Это было бы, как говорил Никола, – между восторгом и печалью. Возможно, восторга было бы на малую толику больше. Поэтому я полетела бы! Скорее всего, да…
Мне стало неприятно сидеть с ней рядом.
– Если бы ты уходила от нас, – сказала я просто так, чтобы не молчать, – я бы предположила, что тебя ждет большое будущее.
– Сама по себе я ничего не стою… – вдруг печально сказала она. – Но это – секрет. Ладно?..
6
После того как растерла ногу мсье Паскаля (ладони мои горели!), я села на балконе, окутанная синим ночным светом, струившимся с гор, будто река. Что такое – наслаждаться жизнью, вдруг подумала я. Иметь деньги? Вкусно жрать? Пить, спать, болтаться по курортам, фотографироваться на фоне исторических памятников – фигня!
Как по мне, это – сбросить сапоги и стать босиком на траву после лютой зимы, плыть в море, нырять и снова плыть, кожей вбирая в себя солнце и воду. Выловить ракушку. В знойный день глотнуть из бутылки минеральной воды. Закрыть глаза и снова чувствовать, как пьешь солнце – вбираешь его ноздрями, кожей, веками, каждой клеточкой. Читать толстую длинную книгу. Какой-нибудь английский роман, написанный хорошим пространным стилем. Жить между восторгом и печалью. И быть искренней и в том, и в другом.
Вдруг я отчетливо услышала, как где-то звонят колокола, вернее – китайские подвески, которыми отгоняют злых духов. Звон был таким мелодичным и неожиданным, что я закрыла глаза. Я знала, что ни в моей комнате, ни вообще во всем доме таких подвесок нет. Не может быть, ведь дом упакован только стариной (на этаже мсье) или модерном (как у меня). А китайские колокольчики, эти металлические трубочки, закрепленные на диске, совершенно не вписываются ни в интерьер, ни, я бы сказала, в концепцию нашей здешней жизни. Скорее всего, они звучали у меня в голове. Я посмотрела на часы – на них высвечивались цифры: 02.45.
Странные, странные вещи. Я родилась в заснеженной провинции, где солнечные лучи похожи на острые спицы, они не греют, а пронизывают, оставляя тело выстуженным. По чьему велению я пересекла уйму границ и сижу здесь – на берегу леса? Какой ветер подул на эти китайские подвески? Мне надоело пребывать в неведении, лишь вопросы задавать.
Завтра же поговорю с мсье, решила я. Если он такой фантазер и умник – я согласна принять от него любой вариант. И… участие в игре. Если меня в нее примут. Почему-то я была уверена, что в следующий раз распрощаться придется с Галиной. Игроков станет меньше. У меня появится шанс узнать, на что способна я…
7
На следующий день после вечернего чаепития я решила пойти в наступление.
– Кто вы, мсье Паскаль? – напрямик спросила я своего хозяина.
Его нужно было брать «тепленьким» – вот так перед сном, на веранде, когда он, потрудившись в кабинете (не представляю себе, чем он там занимается!), сидит передо мной, прищурив глаза.
– Не уподобляйтесь тем, кто был здесь до вас, госпожа Иголка, – слегка раздраженно сказал он. – Странное дело: люди стремятся к покою, а когда находят его – начинают нервничать и задавать лишние вопросы. Я – не более чем то, что вы видите перед собой. Вас что-то во мне смущает?
Я решила сбавить обороты.
– Все хорошо, мсье, – сказала я. – Возможно, мне непривычно сидеть без дела, зная, что я приехала сюда работать.
– Разве у вас было мало дел? – он поднял брови, кивнув на мои руки.
Он был прав.
Кстати, я очень похожа на свою руку. Это даже заметил склонный к метафорам Иван-Джон. Моя рука, как я уже говорила, довольно тонкая в запястье: ее можно переломить двумя пальцами. Конечно, если эти пальцы принадлежат сильному мужчине. Это почти «лягушачья лапка». Но только в запястье. Выше – черта с два вы со мной справитесь! Мышцы у меня надуваются так, будто я достигла этого долгими тренировками в спортзале. «Ты занималась спортом? – спросил Иван, уловив это неожиданное противоречие между запястьем и предплечьем. Спорт я не люблю и многого в нем не понимаю: тратить время и силы на то, чтобы быть «сильнее, выше, быстрее». Ради чего? Он целовал мою руку от начала до конца и от конца к началу, а затем сделал вывод, что в этой руке скрыта вся моя сущность: очевидная беззащитность и незаметная (потому что под рукавами) сила. Откуда? Возможно, я таскала тяжелые сумки?..
– Со мной, хозяин, происходят странные вещи, – сказала я. – Кажется, я забыла, чем занималась и как жила. Только не говорите, что это все – из-за «замечательного воздуха». По крайней мере, он не повредил никому, кроме меня.
– Вам он тоже не повредил, – улыбнулся он. – Обычные симптомы для уставшего организма. Усталость пройдет, и все вернется в свою колею.
– А вы можете показать мне резюме, по которому меня отобрали? – с надеждой спросила я.
– Вам это очень нужно?
– Да, очень! – настаивала я. – Ведь мне нужно знать, за что я получила такой подарок судьбы: хозяина без вредных привычек, тихий городок, горы и «прекрасный воздух»…
– И еще кое-что, о чем вы не догадываетесь, – добавил он.
Видимо, намекал на мое предстоящее участие в игре.
– Собственно, – сказал он после долгой паузы, – есть нечто поинтереснее, чем ваше резюме. Ведь оно подготовлено по стандарту. Как у всех. Шоколад и мармелад… Погодите, упрямая девчонка, я сейчас вернусь.
Он ушел с веранды, и мне стало неуютно и тревожно. Зачем я завела этот разговор? Куда он пошел? Вдруг мне стало холодно. Холодно, будто я вернулась назад, а по спине побежали мурашки – так, будто я почувствовала, что кирпич, лежащий на краю крыши, сдвинулся до середины и вот-вот упадет мне на голову.
Холодно и тревожно, как в больнице перед операцией. Я закуталась в плед, висевший на спинке моего стула, даже сунула туда нос, чтобы надышать теплого воздуха. Хотя вечер был как всегда тихий и теплый, спокойный. Я бы хотела, чтоб вдруг поднялся ветер, начался дождь, град, разбушевалась стихия, которая бы не позволила продолжать разговор и уравновесила бы состояние внутреннее с состоянием внешним. Я боялась утратить гармонию! Вот оно. Здесь все было гармонично – во мне и вокруг: в этом спокойном течении дней и вялотекущих событий. В моем непринужденном общении с хозяином дома и городка. И в легковесном романе с Ваней-Джоном…
Я услышала, что мсье Паскаль возвращается, и сбросила плед. Не хотела, чтобы он обнаружил мое состояние. Внутренняя дрожь передалась рукам, я поспешила поставить чашку на стол – в ней звякнула серебряная ложечка. Если бы я держала ее в руках, уверена, звон бы стоял такой, будто я еду в поезде.
Он спокойно уселся напротив и достал из кармана домашней куртки блокнот в зеленом переплете.
– Узнаете? – спросил он.
– Что это?
– То, что было приложено к вашему резюме! – улыбнулся он. – Я всегда придирчиво отношусь к тем, кто сюда попадает. И – не обижайтесь, госпожа Иголка, – прошу агентов прислать какую-то личную вещь кандидата. Иногда присылают ленты для волос или – представьте! – даже фото в полный рост в купальнике. У вас оказалось вот это.
Я тупо смотрела на зеленый блокнот. Мсье Паскаль картинно вздохнул.
– Что же мне с вами делать? Держите. И больше – ни слова. Договорились?
Я автоматически кивнула и взяла блокнот. Где-то снова зазвенели китайские подвески… Возможно, на этот раз это был колокол на нашей колокольне. Я вздрогнула и вопросительно посмотрела на мсье Паскаля.
– Я ничего не слышу, – отозвался он. А потом добавил: – Поздно. Пора ложиться спать…
Я проводила мсье к его спальне, пожелала «Доброй ночи», он хитро посмотрел на меня: «Доброй ночи».
Видно, знал, что я сегодня не усну…
8
Я бросила блокнот на одеяло. Включила бра. Налила себе с четверть стакана «бейлиса», растянулась поперек кровати. В приоткрытую стеклянную стену повеял ночной ветерок. Взлетела вверх и мягко опустилась белая штора. Будто птичка крылом взмахнула. Моя дрожь унялась так же внезапно, как и началась.
Я – идиотка! Я думала, что мсье вынесет нечто вроде топора в пятнах крови, – как вещественное доказательство какого-то преступления, совершенного мною «на большой земле».
Я погладила рукой переплет блокнота. Чей бы он ни был – мне стоит его прочитать, если мсье Паскаль этого хочет. Я была уверена, что это его очередная шутка или западня. Маленькая, безопасная западня для моей бессонницы.
В то, что эта вещица принадлежала мне, я, конечно, не поверила. У меня никогда не было зеленого блокнота. А если и был бы – как он попал в руки мсье? Стали бы его агенты обременять себя розысками в моем доме, а тем более – похищением такого хлама?
Я отхлебнула «бейлис» и наугад открыла страницу.
Зеленый блокнот
* * *
…Я выхожу в сумрачное морозное утро – будто ныряю в противную мутную и холодную воду. Включаю автопилот. И просто пытаюсь достаточно четко переставлять ноги. Чтобы идти. Вдоль домов. По аллее промерзших деревьев. К остановке. Я вставляю в уши наушники и надеваю на нос солнцезащитные очки, хотя солнца нет уже недели две. Просто мне не хочется смотреть на мир. Надеюсь, он ко мне тоже неравнодушен. И поэтому он время от времени переворачивается и выливает на меня всю свою грязь.
Я делаю то же самое. В маршрутку передо мной лезет какая-то уродка в шубе из дохлых кошек. «Куда прешься, зараза?» – мысленно ругаюсь я. (Хотя в общем-то я довольно-таки вежливая и любезная. Порой даже детей называю на «вы»). Потом взгляд выхватывает из толпы какую-то бабку. «А тебя куда несет в час пик? Сидела бы дома у батареи, если они еще греют…» Потом все зло мира концентрируется на юнце с инфантильным выражением лица. Интересно, сколько невинных девичьих жизней он перепортит, прежде чем заляжет на диване в ожидании жареной курицы под соусом тартар?
Этим утром (собственно, такое случается довольно часто) я не люблю мир. И ему на меня наплевать. Он знает, что слишком мал. Он мне тесен. В нем воняет бензином, носками, духами, селедкой. И нет места для сороковой симфонии Моцарта или для «Лакримозы». В нем нет места (и времени) для слез. Вообще-то я не плачу вот уже несколько лет – наверное, пять или десять. Такой себе робот на автопилоте…
* * *
Почему у людей, стоящих в очереди на маршрутку, такие уродские лица? Не у всех, конечно, но – у большинства. Тупые и уродские. Парень ковыряет в носу, потом задирает его, высовывает язык. Взгляд дебила. За ним – женщина. Лоб в морщинах, злые глаза. Дальше – мужик подшофе, качается, как водоросль, – чье-то счастье… Приедет домой, стукнет кулаком по столу. Пожилая женщина протискивается внутрь. «Оплачивайте проезд!» – говорит водитель. «Еще чего!» – противным голосом отвечает она и ставит корзины на сиденье. «Покажите пенсионное удостоверение!» – говорит водитель. «А что, так не видно, что я щас умру? Вот прямо здесь, в твоей чертовой машине! – бодро отрезает пенсионерка. – Вези! Не на себе же везешь!» Половина пассажиров вступается за бабку, половина – за водителя. Разгорается ссора. Мужик на улице в очереди падает на плечо женщины с корзиной, она отталкивает его локтем – там тоже поднимается шум. Парень с дебильным выражением лица снова ковыряет в носу, разинув рот, наблюдает за ссорой в маршрутке и там, на остановке. В целом – все они милые люди. Каждый хочет кушать. Но неужели они все – создания Божьи? С такими вот лицами?
Мне страшно. Мне действительно страшно. Я ищу глазами хоть одно неискаженное лицо. Я узнала бы его среди тысячи! Я бы подошла и спросила: «Тебе больно видеть все это? – Мне тоже!»
Но везде – кривые зеркала. Как разбить их?
* * *
Все начинают свой путь с одной определенной точки. В детской задаче в учебнике: из пункта «А». У каждого этот пункт – свой. У кого-то – дворец, у кого-то – глухая деревня. Это не имеет значения для того, чтобы после попасть в пункт «Б».
Главное – идти. Вернее – ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД. Ведь эта последняя точка находится не на земле. А – ТАМ, наверху, или ТАМ – внизу…
Так вот, счастливы те, кто способен идти прямо: из пункта «А» в пункт «Б». Ведь сложность этого пути состоит в том, что можно незаметно для себя сделать один-единственный шаг в сторону.
На первый взгляд это будет совсем незаметное, незначительное отклонение. Так блуждают в лесу, когда правая нога делает шаг чуть длиннее, чем левая. Опасность заключается в том, что за этим малым отклонением от маршрута обязательно состоится второе, третье, пятое… Это закон блуждания в лесу. Так говорят опытные путешественники.
Потом круг замыкается. И ты снова приходишь туда, откуда начинал путь. Но взрослый младенчик – это уже не трогательно и совсем не смешно…
* * *
Чем больше путешествуешь, тем меньшим становится для тебя мир. Он действительно маленький, при всей своей бескрайности и границах. Наверное, он был таинственным и непостижимым для тех средневековых людей, которые считали, что на противоположной стороне Земли живут люди с собачьими головами. Это вызывало интерес и в то же время вселяло страх. Мир таил в себе загадки.
И теперь я понимаю, почему Гоген бежал на Таити, к первобытным краскам и женщинам с длинными конскими волосами. Теперь я понимаю, почему в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия» человек заперся в доме со всей семьей на восемь лет.
Мир маленький.
«Какой мир маленький»…
Он может уместиться в твоем кармане, если ты не будешь бояться быть с ним на «ты».
* * *
…Через час я вылетаю на «Землю обетованную» – ночью самолет приземлится в Тель-Авиве, оттуда мне нужно переехать в гостиницу на берег Мертвого моря. В «дьюти-фри» долго выбираю напиток, который бы мне мог понравиться. Ведь мне сейчас ничего не нравится…
«Бейлис» и «Джонни Уокер» отпадают сразу – их невозможно пить в такую жару. Ликер «Моцарт»? Но я не люблю сладкого! Останавливаюсь на кампари. Литр кампари на шесть суток. Литр кампари, который можно смешать с апельсиновым соком и быть вполне довольной. Еще несколько лет назад я только слышала об этом напитке, а теперь беру его только потому, что «блу айса» здесь нет и быть не может.
…Когда я слышала это название – «Мертвое море», представляла себе картинку с туристического буклета: плейбой в узких плавках или красавица в бикини лежат на поверхности воды и почитывают газету или журнал.
А еще я слышала, что после купания в этой удивительной воде все тело покрывается соляным панцирем, как старая баржа – моллюсками. И что потом?..
* * *
Сонный портье лениво выдал мне ключ. Было около пяти утра. Я поднялась в номер, раздвинула шторы стеклянной стены. Внизу яркой бирюзой сверкала вода в бассейне, за забором серело море. И вид у него был обычный. Как и у всех других морей… Утром попробую его на вкус.
Я рухнула на кровать и подумала, что там, где-то там, далеко и близко от этого места – от этого туманно-розового утреннего берега – ходил Иисус, Сын Божий.
…Море оказалось теплым, как ванна. Легкое покалывание сразу охватило все тело. Не очень-то приятное ощущение. Прозрачное дно было усеяно большими и маленькими кристаллами – ходить по ним трудно. Перенасыщенный соляной раствор: триста граммов соли на литр! И при этом – никакого панциря на коже. Наоборот, она становится похожей на атлас, а волосы такие гладкие и струятся между пальцами, как шелк, каждый волосок блестит на солнце. Только оторвешь ноги от серебристого дна – сразу переворачиваешься вверх или вниз лицом, как дохлая рыба. Плавать невозможно. Нырять – тоже, потому что вода мгновенно разъедает глаза. Но выходить из этого масла не хочется.
Море не мертвое, если в нем не утонул ни один человек.
Ему пять миллионов лет. Оно – почти вечное. Над ним, как над кастрюлей с молоком, утром поднимается пар.
Оно исцеляет. И женщины заходят в воду с полиэтиленовыми пакетами в руках. Сначала я не понимала – зачем? Просто наблюдала за тем, как они наклоняются, шарят по дну, смеются, валятся навзничь, как большие поплавки. А потом выходят с пакетами, наполненными кристаллами. Наверное, повезут домой и будут растворять в ванне…
* * *
Здесь я все время жду вещего сна.
Или миража на горизонте пустыни. Еще месяц назад я рыдала над фильмом Мэла Гибсона «Страсти Христовы» и думала о быдле…
Не очень хорошее слово, но что поделаешь. Лучше сказать – толпа, которая может вознести тебя до небес, когда ты вот так – въезжаешь на маленьком ослике в город, а впереди тебя летит белая голубка…
И которая вмиг предаст, как только тот, чьи одежды вышиты золотой нитью, а на ногах обувь из телячьей кожи, – крикнет: «Ату его!» И тогда нерушимыми в своей вере и верности останутся только женщины…
* * *
Завтра отправляюсь в Иерусалим.
…С удивлением заметила, что мои серебряные украшения заблестели по-новому, как будто мелом начищенные. Что повлияло? Соль? Вода? Воздух? Я склонна думать, что это – маленькое чудо. Как и то, что я нашла на берегу изящную серебряную ложку, стоило только, купив мороженое в стаканчике, подумать: «Чем же его есть…»
Утром к окну подлетела белая голубка…
Я становлюсь сентиментальной.
…Старый город в Иерусалиме. Кто-то живет здесь постоянно: из почтовых ящиков на узких улицах умилительно торчат газеты. Как можно здесь жить? Что происходит, когда толпа туристов покидает город? Неужели кто-то может вот так просто выйти вечером из своего подъезда и сесть на ступенях перед площадью Храма Гроба Господня? Хотя она и сейчас почти пустая – совсем не то, что видишь по телевизору во время Пасхального паломничества. Раскаленные бело-желтые стены, горбистая брусчатка…
Надела платок и вошла в храм.
…Я привыкла иронизировать почти по поводу всего, что попадается мне на глаза. Могла бы сказать, что все это – бутафория. И мраморная плита, сверкающая от разлитого по ней мира, и вход в маленькую пещеру с Гробом… Возможно, год или два назад я бы мысленно усмехнулась, увидев, с какой брутальной страстью женщины вымакивают простынями это драгоценное миро с мраморной плиты. Кажется, что они моют пол в школьном коридоре. Сейчас мне не хочется иронизировать. Я даже прижимаюсь щекой к этой плите. И мне совсем не смешно…
* * *
В дворике, где я обедаю, играет еврейская скрипочка и стоит огромный вентилятор. Он сдувает пепел из пепельниц. Пока не принесли обед, я ем халу с пеплом пополам. Что-то в этом есть. В этой проникновенной музыке и этом вкусе хлеба пополам с пеплом…
Нет ничего печальнее старых еврейских мелодий, они вынимают душу: цепляют ее смычком и вытягивают по ниточке, наматывают на деку…
Старый скрипач обводит взглядом публику, которая шумит и жует, и… начинает играть «Падмасковные ве-че-ра…». В его шляпу летят шекели. Дурдом…
…Когда я вернусь, меня будут спрашивать о впечатлениях. Я буду что-то говорить – возможно, подглядывая в эти размашистые записи. Я буду говорить и улыбаться, и рассказывать что-то такое… что-то такое… о том, чего «у нас нет»…
Но разве я могу сказать кому-то, что мир маленький и повсюду одинаковый? И что меня больше ничего не удивляет… Свои музеи, храмы и лабиринты я давно уже построила. В себе.
* * *
…Одинокая и свободная, я отправляюсь в Вену. Оттуда – в Вашингтон. На то, чтобы перепаковать израильский чемодан, у меня было пару часов, и снова – такси в аэропорт. Самое смешное, таксист – тот же самый, который вез меня в прошлый раз и игриво спрашивал, далеко ли я собралась. Теперь он смотрит на меня круглыми глазами и удивленно молчит.
Почему я все время жду чуда?
Мой сосед в самолете спрашивает на английском: «Вы – оттуда?» «Да», – говорю я.
«Возьмите, мне уже не нужно, а вам понадобится…» – говорит он и стыдливо протягивает мне… двести гривен. Для него это уже бумажки. Признаюсь, для меня тоже. Деньги – это вообще бумажки…
Я взяла. Он поблагодарил. Я тоже всегда благодарю за то, что у меня что-то берут…
Такой вот парадокс.
В Вене пересаживаюсь на самолет до Вашингтона.
Самолеты идут на взлет один за другим. Ползут, как огромные жуки… Начинает накрапывать дождь. На иллюминаторе частые капли.
Я засыпаю еще до взлета.
* * *
Воскресенье – свободный день. Все встречи, или лучше сказать – party, начнутся с понедельника. Мои картины хорошо продаются здесь. Несмотря на это мне как-то неуютно.
Вашингтон довольно однообразный город – сколько ни ходи, везде одно и то же: строгие «билдинги», похожие друг на друга, как яйца. Пусто. Только музейный проспект, Молл, переполнен туристами.
Сегодня День памяти павших во вьетнамской войне. В честь этого – ежегодный парад байкеров. Они – полные, тучные, пожилые люди – мчатся по улицам на мотоциклах без глушителей. Позади каждого примостились такие же седые и тучные жены в банданах и кожанках.
Представляю, какими они были в молодости, когда ждали с войны своих бойфрендов. Наверное, были похожи на подружку Фореста Гампа – джинсы, полосатые футболки, вылинявшие сарафаны, длинные распущенные волосы, пакетик марихуаны в кармане.
* * *
Я не знаю, о чем писать. Чувствую себя сумасшедшей… Мне все время кажется, что я обманываю людей, придумываю для них реальность, к которой они не приспособлены. Я ищу новые впечатления. Я ДЕЛАЮ ВИД, что ищу их. На самом деле мне очень хочется вареной картошки с селедкой…
Меняю самолеты дважды в неделю. Живу в воздухе – три штата позади. Три штата – и к моему лицу уже навсегда приклеена маска с улыбкой Гуинплена…
* * *
…Я сижу на берегу Тихого океана в Ла Хойе, районе миллионеров в Сан-Диего, и пишу эти строки. Длинные волны омывают мои ноги, за скалой играют морские котики. Их блестящие тела в прозрачной синей воде выглядят зловеще: странные создания, если вдуматься…
На гребнях волн гарцуют серфингисты в такой же блестяще-черной коже – водонепроницаемых костюмах. За моей спиной – цветущий городок, въезд в который охраняют полицейские с суровыми лицами. Но мне они улыбаются приветливой «дежурной» улыбкой. Я – своя. Более того, я гость женщины, дом которой здесь считается самым лучшим. Во дворе – старинный фонтан, привезенный из Италии, в доме – мебель Людовика VI, мраморные плиты – из Каррары, скульптуры – из Греции.
А хозяйка – дочь моего земляка, который попал сюда, в Калифорнию, в двадцатые годы. Если бы не я, она бы никогда не узнала, что ее папа работал сапожником: миссис Макдин не знает языка, на котором заполнена «Трудовая книжка» ее отца, датированная 1920 годом. Она хранит ее как семейную реликвию. У нее свой бизнес – пять магазинов модной одежды в Нью-Йорке, ими занимается ее дочь. А тридцатилетний сын – любимый поздний ребенок – еще не «определился». Миссис Елена жалуется – сейчас он путешествует по Монголии, и она просит меня оставить свой адрес. Мол, он приедет за тобой, вы поженитесь и будете жить здесь, в этом доме…
Когда она произносит эту, как по мне, материнскую чушь, смотрит на меня с надеждой и даже – подобострастно.
«На свадьбу я подарю тебе кольцо с самым большим бриллиантом в мире! – улыбается миссис Елена и поправляет себя: – Он подарит тебе кольцо!»
И я говорю, что… Собственно, это тоже полная чушь…
Сегодня миссис Елена привезла меня после обеда на берег и оставила здесь на несколько часов – поплавать. Быть все время со мной ей трудно, даме – 75 лет, у нее – рак легких. Но она – удивительно красивая! Даже сейчас.
В моей спальне висит ее портрет в молодости, и я не могу отвести от него глаз. Дама живет с «бойфрендом» Майклом, которому 60…
* * *
Завтра я улетаю… За три дня ни разу не рискнула окунуться в эти волны. Они слишком мощные, опасные для новичков. Ни разу не услышала знаменитую песню «Отель “Калифорния”» – этот «отель» в другом штате. Несправедливо. Зато каждый вечер напеваю миссис Макдин и Майклу наши песни. Все, какие знаю. Майкл зевает, потому что песни длинные и печальные, Елена слушает и смотрит на меня, шевелит губами и порой плачет. В такие минуты я не решаюсь взглянуть ей в глаза – на ее аристократическом лице возникает нечто вроде посмертной маски. Лицо человека, который ОТХОДИТ В ВЕЧНОСТЬ. Я знаю, что, когда я уеду, она действительно отойдет. И поэтому пою. И поэтому слушаю ее внимательно, ведь ей больше не с кем поговорить:
«Все мои мужчины – сильные и самоуверенные на первый взгляд, на второй – оказывались лилипутами, – говорит миссис Макдин. – И мне приходилось делать вид, что я тоже – маленькая и слабая. Они опутывали меня сетями и валили на землю. Я падала, круша леса и здания, и лежала тихо, как мышонок. До тех пор, пока мне не надоедало чувствовать на себе – на всем своем несчастном великанском теле – их жалкое топтание. Представь себе, они даже не снимали сапог! А сапоги у лилипутов всегда – на высоких каблуках с металлическими набойками…»
Миллионерша… Дочь сапожника…
* * *
Я все время повторяю себе: ты, дуреха, сидишь на берегу Тихого океана, так не будь же такой печальной! Это никуда не годится. Под плеск волн я молюсь какими-то непонятными для людей словами – на птичьем языке.
Странно, за эти полгода я точно так же молилась на вершине Буковели и на Голгофе, на границе двух пустынь – Гоби и Сахары, у водопада в Вермонте…
«Какой мир маленький!»
* * *
…Я всегда просыпаюсь в три.
Смотрю в окно и варю кофе – в номерах есть кофеварки.
Вошло в традицию выбрасывать все, что днем купила на ужин: что-то оно не того…
«Хеллоу-у-у, хау ар ю?» – спрашивают продавщицы. «Велл!» – отвечаю.
«Найс мит ю!» – говорю я по десять раз на дню.
…В Вашингтоне – жара.
…В Нью-Йорке – ливень. Весь город блестит.
Негр писает под колеса красного лимузина на Бродвее.
Дом со свечами – тут убили Джона Леннона.
Чуть дальше живут Майкл Дуглас, Миа Фэрроу, Дастин Хоффман.
Парк. Ночь, дождь… Эклектика. Пространство. Чарующий хаос…
Утро. Дождь. Пятая авеню… Четыре часа поисков обратной дороги: «Мэдисон авеню», «Лексингтон авеню», 46‑я стрит, а мне нужна 72‑я… Все время шла в противоположную сторону. Дождь. Без конца – дождь.
Возвращаюсь через парк – он совершенно пуст. Только на скамьях спят под коробками бомжи. У каждого из них – своя территория, которую он должен убирать по утрам: если живешь в этом «квадрате», никто тебя не тронет, но ты должен убирать за другими вокруг своего картонного домика.
Ночной Бродвей. Сеть театров. Мюзиклы. Вебер. «Призрак оперы»…
Река на сцене, огоньки, выныривающие из тумана и превращающиеся в театральные канделябры…
Та-та-тата-та-та…
Место, где стояли «Близнецы», расчищенное и подготовленное к новому строительству.
Гарлем. «Черные блюзы» Ленгстона Хьюза:
«Устал, устал, устал.
Устал я уже с утра.
Пожалуй, пора умирать…»
– Что такое американская мечта? – спрашиваю на одной из вечеринок.
– Она такая, как каждый сам себе представляет. В зависимости от того, кто ты такой и чего хочешь.
Слишком неопределенно, как по мне.
– Это – мечта о свободе… И… о том, чтобы каждая семья могла приготовить к праздничному столу курицу.
Это уже ближе к конкретике.
– А я мечтаю выиграть в лотерею кучу денег. И – не работать!
Я тоже…
На пути в Огайо – городок Париж. Остановите автомобиль, крейзи Боб (старый водитель, «Иван Сусанин», который завозил меня туда, где не ступала нога человека), я сойду!
…Луисвилль. Цинциннати.
Меня начинают раздражать наглухо закрытые окна гостиниц. Только – кондиционер. А если я хочу глотнуть свежего воздуха? Стеклянные стены. Стеклянная жизнь…
Пустые улицы. Чернобыль. Тихо. Нет детей, играющих на улице, – все вынесено за город. Во дворы картонных домиков.
Ужин в семье искусствоведа Рона. Тигровые креветки, бараньи ребрышки, сыр в шелковичном сиропе, хрустящие блинчики с мясом, телячьи тефтели, самодельные чипсы. Куча людей со всей округи. «Мы так волновались, – объясняет мачо Рон, – что позвали всех своих друзей, чтобы поддерживать беседу!» Замечательная, живая вечеринка. Я дарю очки подруге Рона – Лизе. Бессвязица. Виски…
Все равно просыпаюсь в пять двадцать семь…
Смотрю в окно. Варю кофе…
* * *
…Кентакки. Именно КентАкки, а не Кентукки, как говорят у нас! Из Цинциннати пришлось заказать машину, ведь до фермы в соседнем Огайо, где назначена «дружеская вечеринка на пленэре», без надежного водителя добраться невозможно.
Мы поднялись на живописный холм, потом спустились в долину и снова – холм. И так несколько раз – американские горки на лоне природы. Долины и холмы окружены лесом.
– Это частные владения. Сейчас доедем, – успокоил меня шофер и вскоре вывез на открытую площадку, аккуратно засеянную – стебелек к стебельку – будто пластиковой, травой.
Беленький коттедж и расставленные кружком такие же белоснежные столики на зеленом живом ковре – все выглядело, как «усадьба Барби».
«О-о! – Хай! – Найс мит… – Хау ар ю… – Вел-вел!
– Дженифер…
– Джейк…
– Сьюзен…
– Генри…
– Чак…
– Элизабет…
– Мэтью…
Их было много – со всей округи.
Посреди площадки со столиками стояло нечто вроде мангала: в глубоком медном чане «дозревала» кукурузная каша, а рядом шипела огромная сковорода с тушенным в ароматных приправах мясом. Наконец я увидела обычную деревенскую еду.
Сначала – святое! – меня накормили. Я даже позволила себе не разговаривать.
Пока я добиралась на эту «художественную ферму», хозяева тоже проголодались. Был слышен лишь щебет птиц, звон бокалов и звяканье вилок. А потом послышался шелест шин. Еще один гость…
* * *
С жары перебрались в уютную мастерскую – сюда подали кофе. Я почувствовала, что засыпаю. Голоса доносились будто издалека. Говорили о Дега. Недавно Джейк, хозяин мастерской, приобрел на аукционе одну из копий «Юной танцовщицы». Со священным трепетом он внес в комнату маленькую черную фигурку девочки с округлым животиком и трогательно поставленными в балетном па ножками. Юбочка и лента в волосах – из ткани. Очень похожа на оригинал в вашингтонском Музее искусств.
Заспорили о том, что такое кич, является ли плодотворным современный авангард, о национальном и космополитическом искусстве, о взаимном влиянии культур, о вечной проблеме местной интеллигенции – сегрегации и последствиях ку-клукс-клана и т. д.
Мои глаза превратились в два стеклянных шара – зрение постоянно туманилось и затягивалось темной пеленой, во временных ярких вспышках мелькали рты, движущиеся напротив, глаза, дым сигарет, темное стекло бутылок, солнечные пятна на ковре и стенах…
Мне скучно. Есть некоторые вещи, о которых я давно уже не спорю, так как считаю это пустой тратой времени: язык, политика, религия. И избегаю пространных бесед об искусстве. Пусть думают, что я – молчаливая дуреха… В этих вещах я давно уже определилась, зачем же засорять ноосферу лишними словами?
* * *
Посреди этого полусна мне вдруг встретились глаза. Того самого, что опоздал, Джона, кажется. Он сидел далеко от моего кресла и все время молчал.
А поймав наконец мой взгляд, неожиданно пошевелил губами: «Давай сбежим отсюда?!» – «Как?» – подняла брови я. – «Просто. Встанем и уйдем. Ведь ты любишь эпатировать публику…» – безмолвно дал сигнал он. – «Еще как!» – прищурилась я. – «Решайся, ну!» – «И что дальше?» – «Просто сбежим!»
Вечеринка теряла смысл и стройность, видимо, давали о себе знать виски и бурбон.
«Ну, решилась?» – «Подождем еще…» – «Ты же этого хочешь! Встали? Вместе?»
Я решительно поставила стакан на стол…
* * *
…Он откинул верх автомобиля, и свежий лесной дух врезался в наши головы, взъерошил волосы, отрезвил и мгновенно разогнал дневную дремоту. Вечерело. Машина запрыгала с холма в долину и снова на холм. Аж дух захватило! Он улыбался улыбкой победителя и похитителя. И молчал. Мои волосы периодически захлестывали его лоб. Ветер. Вечер. Американские горки.
Вежливая болтовня осталась позади. Вместе с моей соломенной шляпой…
Как хитро он умыкнул меня! Как догадался, что это именно то, что я люблю, то, что мне нужно? Откуда он знает, что сейчас нужно молчать? Как хорошо, что он молчит!
Вот эта деревянная табличка с выгоревшей и затертой надписью «Paris».
Если он такой, каким хочет казаться, тот, за кого себя выдает, – он остановится.
…Он остановился.
Откуда, откуда он знает?!!
Единственное живое впечатление за эти долгие дни странствия и бессонные ночи в гостиницах.
* * *
Извлекает меня из машины. Напротив горят окна придорожного ресторанчика. Провинциального, или нарочито провинциального, – с полукруглыми кружевными занавесками на окнах, деревянными столами. У барной стойки – люди разного возраста – смотрят футбол.
Щелкнула зажигалка – посреди стола родился и неуверенно закачался язычок зеленой свечи. Разгорелся и выпрямился.
– Блу айс… – говорит он официанту.
В первый раз слышу его голос.
Откуда он знает?
* * *
Бывают мгновения, когда мир лежит перед тобой раскрытым, как детская книга с яркими завлекательными картинками. Или как эта новая игрушка-головоломка со смешным названием – «пазлы». Потом порыв ветра, и все быстро сворачивается – вокруг и под твоими ногами, – и ты стоишь в сплошной бесцветной пустоте одной ногой на цветном кусочке. Я видела такую сценку в каком-то рекламном ролике. Но те, кто его создали, видимо, не задумывались над другим смыслом этого жуткого сюжета. Они лишь хотели сказать, что без мобильного телефона мир сужается и теряет объем. Возможно, для кого-то это именно так…
Я сидела посреди душистого маленького Парижа с его кукольными коттеджами. Я ждала такого приключения сто лет, хотя их у меня было множество – всяких, порой опасных.
Но самое большое приключение – когда к тебе, посреди всеобщей суеты, молча подходят и кладут руку на плечо. И ты чувствуешь… Как бы это лучше описать? Чувствуешь, что тот, кто так поступил, – сделан из одного с тобой теста и поэтому имеет на этот жест полное право. В этом жесте нет брутальности или самоуверенности, а тот, кто его делает, не боится быть отвергнутым. Потому что два родственных «теста» – с одними и теми же ингредиентами – гармонично смешиваются. Можно испечь вкусный пирог…
Но ведь не может быть, чтобы это «тесто» было замешано точно так же – на другом краю планеты? Ведь у каждой хозяйки – свой рецепт… Правда, существует закон морфогенного резонанса, о котором я узнала недавно, – о парности случаев, независимо от того, в какой части земного шара они происходят.
* * *
Принесли две маленькие рюмочки, расставили тарелки. Если это будет пицца или гамбургеры – удавлюсь, подумала я. И улыбнулась. Он заметил и трактовал улыбку по-своему.
– Наверное, думаешь, что «америкосы» – ведь так вы нас называете? – неспособны на нерациональные поступки?
Я категорически кивнула головой и предложила:
– Давай начнем с конца нашей будущей беседы.
Я была уверена, что он меня поймет.
Понял.
Покрутил в руке стакан с водой – в ней отразился один его глаз. «Попроси совета у воды?..»
Ну-ну, мысленно подзадорила его я, не разочаровывай меня.
– Недавно я подумал, что Агасфер должен остановиться… – сказал он.
– Но тогда ему придется изменить свое имя, – улыбнулась я.
– Да. Изменить все и вся. И отстроить все, что сгорело у него за спиной. Все, чем он пренебрег, пускаясь в путь.
– Чего тебе не хватает?
– Я понял это только сегодня. А точнее – начал понимать пять дней назад, когда… – Он замолчал. По его взгляду я поняла, что пять дней назад произошло нечто действительно очень важное.
Я не расспрашивала. Все равно узнаю, если он захочет закончить фразу.
– Ты говоришь – начать с конца… Мы просидим здесь долго. Будем говорить, слушать музыку. Мы поймем, что… сделаны из одного теста (я вздрогнула) и что пора остановиться. Ты скажешь примерно следующее: «Здесь, в этой чужой стране, я прощаюсь со своими иллюзиями. Я думала, что мир велик, а он – оказался маленьким, я думала, что все люди – разные, а они – одинаковые. Я думала, что любовь может быть вечной, а она – преходяща…» Я отвечу: «Но так нельзя жить», «А я и не живу…» – скажешь ты.
У меня мурашки побежали по спине. Откуда, откуда он знает обо всем этом? Ведь он впервые взял в руки эту скрипочку! И ни одной фальшивой ноты! Надо перенять ее из его рук, не люблю, когда на мне играют! Особенно – так умело и точно.
* * *
– И тогда… – сказала я, – ты скажешь, что влюбился в меня с первого взгляда.
– Именно так и скажу! А еще я выну из кармана вот эту коробочку. – Он действительно сделал этот жест, и у меня перед глазами очутилась синяя бархатная коробочка. – Я открою ее (жест), и ты увидишь бриллиантовое кольцо…
– …и предложишь мне остаться с тобой…
– Да. Но перед этим мы выйдем на мост, и я подожду, пока ты бросишь кольцо через плечо в воду и будешь смотреть мне в лицо: не дрогнет ли на нем хоть один мускул.
Что он говорит?! Откуда, откуда знает? Кому я рассказывала эту чушь? Я что, сплю?.. Меня действительно не интересовала эта бархатная коробочка.
– А потом ты скажешь, что у тебя есть вот такой дом, – я кивнула на беленький «домик Барби», стоявший на противоположной от ресторанчика стороне. На его пороге сидела пара пожилых людей в высоких плетеных креслах, поставленных по обе стороны от входной двери. Он листал газету, она вязала.
Джон хитро улыбнулся. Я ответила улыбкой:
– Что-то не так?
– Да, но не совсем…
– О! Неужели это вилла на берегу океана? И – белый лимузин? И ежегодная рента в пять миллионов баксов?
Мы расхохотались.
– Я знаю, что тебя это не волнует, – наконец произнес он. – Не та наживка, на которую тебя можно подцепить…
– А какая же – та? – спросила я, заинтригованная тем, что же он может предложить.
Он молчал слишком долго. А потом испытующе посмотрел и сказал три простых слова:
– Любовь. Верность. Вера.
По спине снова побежали мурашки…
* * *
Я кивнула головой, прогоняя наваждение. Слишком далеко мы зашли. Нас обоих трясло.
– Хорошо, – сказала я. – Мы начали с конца. А теперь вернемся к началу. Так безопаснее прийти к решению. Зачем ты притащился на эту ферму?
– Я давно знаю Джейка. Он написал, что у них – очередное сборище, я и приехал. Все просто.
Да, все было слишком просто. Кроме того, что я уже успела услышать.
– Откуда ты знал, что действовать нужно именно так? – спросила, глядя в его глаза. Заметила, что он засомневался и на какое-то мгновение в глубине зрачка появилась льдинка маленькой лжи. Точнее – зародыш сомнения: сказать или не сказать…
– Мать… – коротко произнес он, будто подписывая себе приговор.
Все сошлось и стало на свои места. Быстро-быстро захлопнулась книжка, рассыпались пазлы, сложились в штабели белые стены кукольных домиков, ковриком свернулась трава. Мир стал белым. Я снова стояла на одной ноге на маленьком цветном кусочке. Как и раньше.
* * *
Миссис Макдин хорошо изучила меня за те три дня. Мне казалось, что я слушаю ее, а в действительности – она прислушивалась ко мне. Вот откуда этот взгляд – отстраненный и в то же время слишком пристальный, будто она заглядывает за пределы радужной оболочки – внутрь: в мозг, в душу. Куда-то глубже, возможно, в колодец своей молодости – сквозь меня.
– Она замечательная женщина, – сказала я, с трудом ворочая онемевшим языком. – Я рада, что мы познакомились. Она очень тебя любит…
– Любила… – поправил он, так же едва шевеля губами. – Она умерла пять дней назад. Дождалась меня. Рассказала о тебе, заставила тебя искать. И отошла умиротворенная…
– Итак, вилла на берегу, рента и белый лимузин… – пробормотала я, – это все не шутки…
– Я предложил другое, – напомнил он обиженным тоном.
– Но ведь я сказала об этом!
Мне было действительно больно, будто мне из зубов в одночасье выкручивали иглой все нервы без наркоза.
– Неужели это перечеркивает все остальное?!!
В этот момент небесные силы точно так же работали над его зубами…
– Я понимаю… – после паузы сказал он. – Тебе это кажется брутальным… Я так и знал. Мать говорила, что ты – необыкновенная… Кстати, ты очень на нее похожа… Она считала меня потерянным, безумным. Но мы с ней были одинаковые и всегда чувствовали друг друга. Она знала, что мне нужно. И всегда была права. Она надеялась…
Я смотрела на него уже издалека. На первый взгляд все было действительно проще пареной репы: мать присмотрела невестку…
Но было нечто еще, что не давало мне возможности остаться на берегу океана, на вилле с итальянскими фонтанами и мебелью какого-то из Людовиков.
Он не мог этого понять.
И мне пришлось выставить кучу дурацких условий.
А потом мы приумолкли. Сели в машину. Он опустил верх. Ветер больше не щекотал его лоб моими волосами. Через полчаса мы остановились возле моего отеля. Наутро у меня вылет в Чикаго.
Он молчал. И это было хорошо.
«Если ты передумаешь…» – сказали его глаза, и он поспешил отвести взгляд. «Ладно… – молча ответила я. – Я буду знать, что…»
* * *
…………………………………………
(хотела что-то записать… что-то важное… или – неважное… какая разница… пусть останутся эти точки… они как дождь на асфальте…)
* * *
…Чикаго.
Чикаго и – домой. Моя девятая гостиница за месяц…
Просыпаюсь в семь двадцать семь (учитывая разницу во времени – это те же пять). Варю кофе.
«Ночная жизнь» – негритянский джаз в клубе до трех часов. Музыка, как дым сигары, – вьется и не заканчивается.
Озеро Мичиган. Нереально бирюзовая вода…
…Завтра – безумный многочасовой перелет: Чикаго – Вашингтон – Вена и… домой. Временна́я яма. Пятнадцать часов – коту под хвост!
…Америка – Великая страна, построенная на крови.
В ней, пожалуй, несложно жить, если имеешь голову на плечах.
Великан, играющий детским трамвайчиком…
Кинг-Конг, который собирается на крышу несуществующего небоскреба…
Голубая мечта для тех, «кто не был здесь никогда»…
Утраченная возможность вязать свитер на берегу Тихого океана…
* * *
…Трудный перелет. Как всегда летом – отключили горячую воду. Ее не будет до следующего понедельника. Помылась в холодной и – в постель… Вынесла часы, плотно завесила шторы, сомкнула веки…
…Кажется, я уже никогда не смогу нормально уснуть! Под подушкой десять облаток феназепама – они остались от бабушки. Я давала ей по одной таблетке. А потом – по две…
Дети
1
Часы показывали пять утра…
Это был не мой почерк! Уж не говоря о самой вещи – я придирчиво отношусь к цвету, долго выбираю даже конверт с маркой. Зеленый блокнот. Ну, не мой цвет, не мой почерк… Я вообще не люблю писать, а тем более – вести дневники!
Об этом я и сказала мсье, как только налила в его бокал вина и услышала привычное:
– Как спалось, госпожа Иголка?
Это меня почти взбесило.
– Вы издеваетесь? Считаете, что я могла уснуть, держа в руках ваше «вещественное доказательство»? Но, мсье, должна вас разочаровать…
И высказала все, что думаю по этому поводу.
Ну да, конечно, мне интересно здесь жить, я просто «балдею и тащусь», на мой счет капают честно заработанные за разливание вина денежки, я набрала три килограмма, чем очень порадовала матушку Же-Же, у меня появились друзья, которых я ценю за то, что могу их потерять за очередным ужином. Это все понятно. ПОЧТИ понятно. Но этот блокнот…
– А что в нем такого? – совершенно серьезно спросил мсье.
Я разинула рот. И вдруг меня как обухом по голове: конечно, он не мог его прочитать, ведь он не знает языка!
Пришлось рассказать в сокращенном варианте. Мсье попивал вино и слушал. Получилась такая себе историйка скучающей капризной дамочки.
– Действительно, – после раздумий пробормотал мсье. – Это не ваша вещь. Они что-то напутали… Прошу меня извинить.
Я обрадовалась и поблагодарила Бога за то, что все прояснилось.
Не люблю недомолвок и загадок.
Днем мсье засел за письма. Он это делал регулярно с двенадцати до четырех часов с небольшим перерывом на обед, который матушка Же-Же приносила ему в кабинет. Эту священную миссию она не доверяла никому. А уж как живописно оформляла инкрустированный морскими ракушками поднос! Фарфоровую миску с супом окружали фигурно нарезанные овощи, из крошечных кусочков черного хлеба торчали шпажки с анчоусами, оливками, сыром. Мсье обычно съедал только суп, а вся красота оставалась матушке Же-Же, которая потом, на кухне, в глубокой задумчивости глотала содержимое шпажек и укоризненно качала головой.
Но сегодня матушка еле двигалась. Поднос она украсила, как невесту перед венцом, и бессильно опустилась на скамью в кухне.
– Наверное, что-то с давлением, – сообщила она.
– Я отнесу! – сказала я.
– Ой, не знаю, понравится ли это мсье… – с сомнением покачала головой матушка.
Хм… Какая разница, подумала я, кто предстает перед его ясные очи утром, а кто – в обед?
– А что, есть какие-то особые распоряжения мсье? – спросила я.
– Ну… Вообще-то, он привык, что это делаю я…У него куча бумаг на столе, и поднос нужно ставить так, чтобы…
Она пустилась в пространные объяснения, каким образом и на какую сторону стола нужно ставить поднос с супом.
– Не нужно ли при этом насвистывать хорал Баха? – спросила я. – Или выстукивать зубами «Танец с саблями»?
Матушка Же-Же обиженно засопела.
– Никогда не могу понять, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно, – пробурчала она. – Ладно, неси. Только очень осторожно и молча. Мсье не любит, когда ему мешают болтовней.
Я взяла поднос.
– Не волнуйтесь, все будет по первому разряду!
2
Дубовая дверь была закрыта. Пришлось перехватить поднос правой рукой, а левой нажать на золотую ручку. Матушка Же-Же, пожалуй, поставила бы поднос на столик с цветами, стоявший у двери, но я не стала тратить времени на это действие – подтолкнула дверь еще и коленом. Поднос в моей руке угрожающе зазвякал, и матушкин натюрморт, выложенный с такой любовью, был бесцеремонно разрушен. Мсье оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня. Я помнила, что нужно молчать, и с достоинством направилась к нему.
Большой стол весь завален письмами, посередине мигает монитор компьютера… Интересно, куда в таком случае матушка Же-Же пристраивает этот чертов поднос? Я в нерешительности остановилась, уставилась на поверхность стола, выискивая свободное местечко. Мсье Паскаль не помог мне ни единым жестом. Хотя бы бумаги сдвинул! Ни фига!
У меня было минуты две, чтобы разглядеть, чем занимается хозяин каждый день. Горы писем! Конверты разной формы, разного цвета, подписанные разными почерками и на разных языках. Многие – еще не раскрыты, кипы развернутых. В углу голубого монитора ежеминутно с мелодичным звоном появлялось уведомление о поступлении почты. Действительно, мой хозяин был солидным человеком!
Я еще немного посомневалась, потом решительно сдвинула кучку писем, лежавших с самого края. Осторожно поставила поднос. Мсье Паскаль молча кивнул мне. Можно было уходить – миссия выполнена. Но мои глаза, несмотря на все попытки умерить любопытство, прыгали по столу, как зайцы под прицелом охотника. Я это понимала, но ничего не могла с собой поделать! Письма, письма, письма, звонки монитора… Что в них? Старый мсье совсем не был похож на наркобарона, «крестного отца» или политика. Какие же сети плетет этот старый паук в своем глухом углу?
Мсье недовольно посмотрел на меня, будто говоря: «Любопытной Варваре – нос оторвали!» Вдруг зазвенела его мобилка, по форме похожая на оторванную трубку от старого уличного таксофона, та самая, что удивила меня в первый день знакомства. Мсье пришлось встать и взять ее с полки.
Он оживленно заговорил на каком-то языке – кажется, на испанском, и жестом показал мне, чтобы я подождала. Сделал несколько шагов к окну, повернулся ко мне спиной.
Уверена, это была проверка – стану ли я рыться в его документах. Конечно, как настоящая прислуга, я не пренебрегла такой возможностью! А как же иначе?
Уставилась в монитор, скосив глаза. Мне было стыдно, но… пусть он меня простит. Там был перечень каких-то вопросов. Я не успела просмотреть все, но то, что увидела, меня разочаровало…
«Что ты делаешь, когда идет дождь?»
«Я переехал! Ты хоть знаешь мой новый адрес?!»
«Почему весной, когда включаются звезды и на Землю дует теплый ветер, а вокруг тихо-тихо, мне порой хочется плакать?»
«Как это: на все воля Божья? И на лето, и на мамину болезнь, и на войну???»
«Можно мне не умирать, а?»
«Сколько тебе лет?»
«В нашем сквере растут деревья. Когда я спросил, зачем их подстригают, мне объяснили: чтобы они лучше росли. Значит, если я не буду ходить в парикмахерскую, то не буду расти, взрослеть, стареть и – не умру?»
«Почему люди влюбляются, а потом втихомолку плачут?»
«От какого существа происходит кот?»
«Чтобы мне простили грех, надо сначала его совершить?»
«Ходят ли в школу ангелы???»
«Если я дал откусить свой «Сникерс» – это любовь?»
«Где мой папа?»
«До какого возраста я буду бояться молнии?»
«С какого момента человека можно считать взрослым: когда он не боится уколов или когда ему нравится Мария?»
«Демократия – это когда одни имеют все, а другие – то, что осталось?»
– Удовлетворили свое любопытство, госпожа Иголка?
Он продолжал стоять ко мне спиной. Я не заметила, как он закончил разговор.
– Чем, мсье? – беззастенчиво спросила я. Ведь у него на спине не было глаз, а я предусмотрительно отступила от стола на два шага.
– Неужели вы не воспользовались возможностью сунуть свой острый носик, куда не следует?
– Конечно, воспользовалась, мсье… – скромно ответила я.
Он рассмеялся:
– Вот за это я вас и люблю!
– Правда, мсье? – еще скромнее потупилась я.
– По крайней мере, уважаю. Могли бы солгать.
– Зачем? Ведь и так понятно, что я сгораю от любопытства, мне так хочется знать, чем вы занимаетесь в свободное от меня время.
– А мне интересно знать, долго ли я буду терпеть ваше нахальство!
Он снова рассмеялся.
– А теперь скажите мне, что вы обо всем этом думаете?
– Я ничего не думаю, мсье, – сказала я. – Совсем ничего, клянусь.
– В чем?
– В том, что… – я смутилась, – в том, что об этом никто не узнает! Могила!
Он уже не просто смеялся – он безудержно хохотал.
– Я понял. Если бы здесь были банковские счета, это бы не показалось вам странным. А так вы думаете, что я просто сумасшедший.
– Я не знаю, что думать, мсье… Возможно, вы психоаналитик, работающий в интерактивном режиме с людьми, которые… не в своем уме…
Он снова весело рассмеялся. А потом в один миг согнал улыбку с лица, и оно стало совершенно серьезным.
– Нет. Это – нормальные люди. Более того, это – дети. И эта категория людей – самая серьезная в мире! Много лет я переписываюсь с ними. Они вырастают, и я начинаю переписываться с их детьми. Пока не придумали компьютер, приходилось туговато…
Я молчала. Я действительно не знала, что об этом думать. Просто молчала и смотрела на мсье Паскаля. Возможно, этому чудаку не дают покоя лавры Деда Мороза по прозвищу Йолопуки, который живет в Лапландии и зимой переписывается с детьми?..
– Теперь, когда вы все знаете, – продолжал он, – настало время для вашего следующего задания. Я не случайно попросил матушку Же-Же прислать вас сюда…
Вот оно как, обиженно подумала я, давление матушки – маленькая хитрость, чтобы отправить меня сюда с подносом! А мифический звонок по несуществующему телефону – уловка старика, чтобы проверить, загляну ли я в монитор! Какое коварство!
– Какое коварство с вашей стороны, мсье! – сказала я. – Неужели нельзя было действовать прямо? Клянусь, больше ни единого кнедлика из ее рук не съем!
– Не будьте так жестоки, старушка этого не перенесет! – усмехнулся он. – К тому же ничего страшного не произошло. Я хотел проверить, заинтересуетесь ли вы моей работой. А именно, заинтересовались бы вы настолько, чтобы помочь мне разгрести эту кучу писем?
– То есть? – не поняла я.
– То есть я хочу, чтобы вы взяли несколько писем и написали ответ.
– От вашего имени, мсье?!!
Моему удивлению не было предела.
– Да. Я проверю и, если все будет хорошо, – просто подпишу.
– Но, мсье… – попыталась возразить я, – я никогда этим не занималась. Я не знаю, как отвечать на такие вопросы.
– Ну, согласитесь, вы ближе к детству, чем я, – начал убеждать мсье Паскаль. – Вы втянетесь очень быстро. Единственное условие – не халтурить!
– О, мсье, я согласна жарить вепрей, разливать вино и разносить шарики на ужинах! А еще я могу стирать, шить, гладить и вышивать крестиком! Но быть секретарем! О! Мы так не договаривались.
– А мы и не договариваемся! – нахмурился старикан. – Пока вы здесь – выполняйте. В конце концов, я вам плачу.
Он был прав. Я прикусила язычок.
– Хорошо. Попробую. Но предупреждаю – мои эпистолярные способности далеки от идеала.
– Посмотрим.
Он отобрал пачку писем и протянул мне.
Я покорно взяла. А что было делать?
Вчера вечером я так же взяла тот зеленый блокнот, сегодня – письма.
– Дорогой хозяин, – безнадежным тоном произнесла я, уже собираясь закрыть за собой дверь, – имейте в виду, если завтра вы заставите меня сделать аранжировку сороковой симфонии Моцарта под хард-рок – я точно откажусь!
И поспешила закрыть дверь, успев услышать его ехидное: «Посмотрим!»
3
Я поднялась к себе и бросила письма на кровать.
Мне хорошо думается, когда я хожу. Решила прогуляться по городу, заглянуть в окно школы: подслушать, что говорит детям Иван-Джон, а потом мы вместе зайдем чего-нибудь выпить в деревянное бистро. Подсознательно я просто тянула время. С меня было достаточно всякого чтения! А тут еще надо поработать головой, что-то ответить – неизвестно кому и зачем.
Я вышла на улицу через черный ход, гордо проследовав мимо кухни, где матушка Же-Же, забыв о давлении, что-то весело напевала себе под нос.
Как всегда в это время, которое здесь не называли «сиеста», улицы были тихи и пусты. Я уже к этому привыкла, но сейчас почувствовала легкое раздражение, которое нарастало по мере приближения к городскому фонтану. Приступ мизантропии. Мне вдруг стало слишком тесно на этих улицах, среди этих кукольных коттеджей (вспомнила тот дневник и сама удивилась: действительно «домики для Барби»!). Я подошла к школе. Школа – это громко сказано: одноэтажное здание в два класса для детей разного возраста. Как я уже поняла – старшие дети отправлялись учиться в колледж, а младшим преподавали предметы всего несколько учителей-многостаночников, типа Ивана-Джона. Через открытое окно я видела, как он ходит взад-вперед по классу и… пересказывает Гомера.
На какое-то мгновение все это показалось мне фантасмагорией: школьный двор, усыпанный яблоневым цветом, яркий свет и темный квадрат приоткрытого окна, длинные, как волны океана, строки «Одиссеи». Я прислонилась к стволу, и на меня тут же посыпались лепестки: яблони отцветали. Голос затих. Иван-Джон заметил, что я стою под деревом, крест-накрест обхватив плечи руками. Можно было подумать, что пошел снег и мне холодно. Видимо, он так и подумал, глядя, как на меня осыпаются лепестки. Его взъерошенная голова в темноте окна напоминала полотно какого-нибудь голландского художника эпохи Возрождения. Вдруг я подумала, что так оно и есть, что это – именно портрет, картина, застывшее мгновение, в котором движутся только эти лепестки, осыпающиеся с дерева. А еще я подумала, что всегда так бывает: кто-то – в окне, ЗА окном, а кто-то стоит ПО ТУ СТОРОНУ – под деревом.
Это две разные картины, в двух взаимоисключающих цветовых гаммах.
Иван-Джон, не отводя от меня взгляда, взял со стола смешной медный колокольчик и покачал им над головой: конец урока. Десять учеников захлопали партами…
– Знаешь, когда я смотрела на тебя из сада, – сказала я, – мне показалось, что на следующем ужине шарик вытащишь именно ты… Не знаю почему, но это было так четко, так ясно. Так неотвратимо.
– Я уже ненавижу эти ужины! Не напоминай.
– А я, похоже, их полюбила. Что-то в этом есть: живешь не просто так, а в ожидании.
– В ожидании чего?
– Господи, ты же сам говорил, что собираешься уехать отсюда, стать писателем, завоевать всемирную славу и все такое. И мы все дружно тебе это напророчим! Будет весело…
– Я так не думаю, – сказал он. – Давай сейчас не будем об этом говорить.
– Не будем, – согласилась я. – Но ты не должен отступать.
– Не уверен. Мне здесь нравится… Больше, чем мне бы этого хотелось…
Мы зашли в бистро.
– Один виски, – кивнул он полной блондинке. – И…
Конечно, он сказал – «блу айс».
– По закону парных случаев, – улыбнулась я, вспоминая зеленый блокнот, – где-то – неизвестно где, кто-то – неизвестно кто – любит этот же напиток.
– Это неудивительно.
– Конечно…
Мы нехотя переговаривались. Мы оба не любили слов.
– Слова – пиявки, которые наползают в рот! – сказал он.
– Слова бывают как пузыри. Но не мыльные, а – тугие, резиновые, – добавила я.
– Я иногда вижу их! – сказал он.
– Я – тоже. Особенно, когда люди говорят о чем попало. Тогда я вижу, как они выпускают наружу одни пузыри. А когда нужно отвечать, чувствую, что из моего рта вылетают такие же! И все вокруг превращается в ящик с разноцветными шариками, который ставят в супермаркетах. В нем можно задохнуться.
– А еще, когда мне так говорят, я вижу перед собой только одно большое лицо с длинным острым клювом, который вытаскивает меня из раковины, как вкусного моллюска.
– …и тогда хочется сбежать в астрал через семерку!
– Как это? – с интересом спросил он.
– Не знаю…
– Но ведь ты это сказала!
– Когда?
– Только что!
– Иногда я говорю то, чего сама не понимаю. Не обращай внимания. Есть такие словосочетания, которые не нуждаются в понимании. Они просто – звучат. И все.
– Поэтому я и читаю детям Гомера…
Я вспомнила о письмах, которые всучил мне мсье Паскаль, и вздрогнула. Была бы я Гомером, не переживала бы о том, что написать…
– Послушай, – сказала я. – Когда будешь писать свои книги, не забудь вставить туда нашего старика. Как по мне, это интереснейший человеческий экземпляр. И за сюжетом не нужно далеко ходить: молодой учитель скучает в провинциальном городке, знакомится со старым отшельником – хозяином имения. И начинаются чудеса…
– Я уже думал об этом… И… – он нерешительно помолчал, – и пишу. Уже. Точнее… почти закончил.
– Правда? А как называется?
Пауза. Мы выпили.
– Это не окончательное название, но пока что – «Игра в Бога»…
Мы надолго замолчали. Я уверена, что мы думали об одном и том же.
Об амулете мсье Паскаля. Об этом проклятом шарике, ожидающем Ивана-Джона рано или поздно. А скорее всего – совсем скоро. Если не появятся новички и мсье не вбросит в стеклянный аквариум горстку новых шариков…
– Ты веришь, что это – честная игра? – спросила я. – Что все происходит так, как он говорит? Порой мне кажется, что он – просто издевается.
– Даже если это так, все равно здесь происходит много интересного. Такого, с чем ты будешь жить после. Возможно, до конца дней. Он, этот старый чудак, знает, что делает: моделирует будущее для тех, кто… потерял прошлое. Или себя в этом прошлом.
– Ты тоже это чувствуешь? – Я так громко вскрикнула, что на нас обернулись едва ли не все завсегдатаи бистро и закивали головами, миротворчески поднимая свои бокалы.
– Они думают, что мы уже начали ссориться… – улыбнулся он.
– Когда ты уедешь отсюда, – добавила я, – представляю, сколько сочувственных взглядов я поймаю на себе. Бр-р-р…
– Ты уверена, что я уеду один?
– Я уверена в том, что иначе быть не может. Я это ЗНАЮ. И думаю, что играть надо честно, раз уж согласился. Не надо разочаровывать старика. К тому же, между нами большая разница: в отличие от тебя, у меня здесь контракт, обязательства. И… я не участвую в игре. То есть не знаю своего будущего. В отличие от всех вас.
– Неужели ты думаешь, что эта игра в будущее серьезна?! Не бери все на веру! Господи, если бы тебя здесь не было, я бы не задумался, насколько далеко зашли шутки мсье Паскаля! Поедем со мной! Хоть сейчас!
– Знаешь, лучше недопить, чем перепить… – сказала я. – Тогда жажда, которую мы будем чувствовать отныне везде и всегда, не даст нам забыть друг друга…
– Эта теория не для мужчин… – улыбнулся он.
– Но – для тех, кто пишет романы, – улыбнулась в ответ я. – И должен пережить еще много других приключений… Других романов…
– Кто тебя сделал такой мудрой? Этот старик?
– Я совсем не мудрая. Я просто это откуда-то знаю…
– Я… – начал он, глядя так, что я опустила глаза, – я…
– Пузыри… – резко прервала его я. – Резиновые пузыри! Плотные и пустые!!!
И он больше ничего не сказал.
4
Домой вернулась поздно. Чертовы письма валялись на кровати. Они не исчезли, не растворились в воздухе. Я должна была работать – заниматься неизвестно чем и зачем. А какой смысл в том, что я разливаю вино, развлекаюсь разговорами с матушкой Же-Же и выпиваю в деревянном бистро? Кстати, вдруг подумала я, а сколько все это будет продолжаться? Разбросала вещи, порылась в чемодане и на дне его нашла копию контракта: сколько?! Я точно знала, что сроки и дата указаны в конце! Но их не было! Только – печать и моя подпись. Как я могла так вляпаться – угодить в ловушку?
Более того – в зависимость. Именно так. Я чувствовала зависимость от всего, что окружало меня.
От этого ядовито-свежего воздуха.
Ночных видений.
Живописных садов.
Своего огромного окна с видом на горы.
Стриженых газонов.
Колоколов на колокольне.
Китайских колокольчиков в моей голове.
Лукового супа матушки Же-Же и ее кофе.
Картин и кресел.
Лестницы, сокращающей время и расстояние.
Девяноста пар белых носков (десяток я уже сносила).
Своих сладко-незавершенных мыслей…
Всего, что называлось одним именем.
Мсье Паскаль…
Лишь бы он не услышал! Я закрыла лицо подушкой и завыла, как волчица.
…Минуты через три выть стало приятно. А через четыре – прогудев еще два-три такта, я почувствовала облегчение. Так, наверное, ревут дети с истинным наслаждением.
Дети! Я вытащила снизу один из конвертов. И еще всхлипывая, распечатала его. И была растрогана круглым детским почерком с кучей ошибок.
«Привет!
Вчера я с мамой прокатился в метро. Это такая подземная железная дорога в большом городе. Мы поехали в центр купить мне новые брюки, потому что из тех, синих, я уже вырос. В метро я смотрел телевизор. Телевизор висел под потолком и показывал рекламу, а еще – остановки. Мама сказала, что я – толстый, как американец.
Она сказала, что я толстый и белый. Сказала, что все американцы – толстые и рыхлые. Я сказал – не все! Мама сказала – все, все! И ты такой, как они.
Я смотрел телевизор. Все посмотрели на меня, и я сделал вид, что мне все равно. У меня под мышками были мокрые пятна от жары. Мама сказала, что не надо было надевать новую футболку, потому что я сильно потею. Как свинья. Все свиньи сильно потеют, сказала мама. Не все – сказал я. Мама сказала, что я упрямый и ей со мной трудно.
Моя мама очень красивая. Она не толстая. Она ходит в джинсах…
Сейчас вечер, и я думаю: не знаешь ли ты, кто придумал метро?»
Ну и сука эта безымянная мамашка в джинсах, рассвирепела я. Обидно, что меня там не было, я бы ей сказала парочку ласковых слов! Вообще не выношу, когда обижают детей и животных. Я этого видеть не могу! Подлые взрослые колотят своих малышей прямо на улицах, без конца делают замечания – то не делай, туда не ходи, скажи «золотое слово», молчи, не крутись, иди прямо, иди рядом, не проси, не клянчи, не реви… Сейчас я бы с бо́льшим удовольствием засела за письмо этой мамашке! Возможно, это было бы неплохим тренажером для моего нынешнего раздражения. А вот что написать мальчику? Ведь он не спрашивал – как свести с белого света родную мамочку. Даже мысли такой у него не было!
Пацан, как настоящий пацан, очень хочет выяснить, какой бес выдумал подземную дорогу.
А какой бес ее выдумал? Где мне найти эти сведения? В городке не было библиотеки, а книжные полки мсье Паскаля заставлены какими-то старинными фолиантами. В них разве что можно найти алхимические рецепты изготовления золота из собачьего дерьма!
Я задумалась… И начала так: «Метро существует во многих странах мира. Для того чтобы попасть в него, нужно купить жетоны, одноразовые или многоразовые карточки…». Плюнула. Разорвала листок. Начала заново: «Одним из крупнейших изобретений, которое считается достижением технической мысли…» Зачеркнула. Мысленно употребила идиоматическое выражение, характеризующее инцестичные половые отношения. Потом сказала: «Прости, Господи…» и снова взялась за перо: «Метро возникло в начале XX века…» Нет, пожалуй, раньше. И снова скомканный лист полетел на пол.
В моем приоткрытом окне висела всего одна, но очень яркая звезда. Я погрызла кончик ручки. И начала водить ею так, будто это делала она, а не я.
«Как на Земле появился дикобраз? Я всегда думала об этом, когда была в твоем возрасте, – потому, что в моем городе не было метро! И вот что придумала.
…В одном древнем лесу жил маленький зверек – Неведомо-Кто.
У него была такая нежная и тонкая кожица, что на солнце сквозь нее просвечивалось сердечко – маленькая черная точка. Капля дождя или листок, что срывался с дерева и падал на него, причиняли большие неприятности. И поэтому Неведомо-Кто все время прятался в своей норке под охапкой прошлогодних листьев. Он подтягивал ноги к брюшку и лежал тихо-тихо. Тогда ему казалось, что он неуязвимый и сильный.
Но однажды Неведомо-Кто решил: «Так жить нельзя!» и вышел из норки.
На границе леса и поля он увидел стаю Мышей. И обрадовался: Мыши были очень похожи на него. Только у них была меховая шубка, а сами они были очень проворные. Неведомо-Кто обрадовался, что встретил друзей. Но Мыши хором пропищали: «Ты не из нашего племени. Ты большой и неуклюжий. Иди прочь!»
Неведомо-Кто вернулся в свою норку и зарылся носом в листья. Той ночью он плохо спал, все время крутился во сне, чесал уши и попискивал. А когда наступило утро, с удивлением заметил, что на нем появилась… иголка.
– О, я теперь – единорог! – обрадовался Неведомо-Кто и пошел к Единорогам.
Единороги были большие и суровые. Они стали бить копытами:
– Вон! Ты – не из нашего племени! Лучше не попадайся нам под копыта – растопчем!
И Неведомо-Кто опять спрятался в норку. И снова плохо спал…
А под утро рядом с той иглой появилась еще одна…
«Теперь я – настоящий Олень», – подумал Неведомо-Кто и отправился к Оленям. Но красавцы-Олени даже не услышали, что к ним кто-то обращается!
Следующей ночью рядом с двумя иглами выросла третья. Это было очень похоже на корону. «Я, наверное, принц!» – решил Неведомо-Кто и пошел искать свое королевство. Но его отовсюду прогоняли. У зверей был свой царь – Лев, у птиц – Орел, у рыб – Кит. И все смеялись над неуклюжим соискателем трона. А каждая ночь, во время которой Неведомо-Кто обиженно сопел и вздыхал, приносила все новые и новые иголки. Наконец их стало так много, что Неведомо-Кто увеличился вдвое. Ему было трудно носить на себе свой колючий и острый наряд, но теперь уже никто не решался его обидеть.
Так маленький зверек стал большим дикобразом. И Мыши, и Олени признали его. Но он уже не мог спать, поджав ножки под брюшко. Как прежде…»
Я даже не перечитала. А зачем? Полностью доверилась ручке.
Следующее письмо было от девочки. Оно был маленьким: «Объясните мне, пожалуйста, кто главнее – Принцесса или Королевна?»
Я уже не покусывала кончик моей помощницы – ручки. Она стала продолжением пальцев и ловко принялась выписывать слова:
«…Принцесса жила на железнодорожной станции посреди темного леса. Конечно, никто не знал, что она – Принцесса. Только она одна.
Но однажды, когда сверстники хвалились обновками, а ей нечем было похвастать, она в отчаянии крикнула:
– А я – Принцесса!
С тех пор все стали над ней насмехаться. Но Принцесса была уверена, что где-то далеко, где кончается лес, а ветер перестает напевать свою долгую печальную песню, – сияют огни ее настоящего дома. И там, в мраморном дворце с каменными львами у входа, ее ждет Принц. И поэтому Принцесса даже зимой выходила на станцию встречать поезда и напряженно вглядывалась: не едет ли в одном из них Принц?
А в эту зиму произошло вот что…
…Поезд распевал песню – «Так-таки-тук, тук-таки-так» и пробирался через снежные заносы. Принц с тоской вглядывался в заснеженные равнины, в гущу посеребренных инеем деревьев, проплывающих за окном. Он всегда скучал в поездах и не знал, чем себя занять. «Жизнь проходит мимо, – думал Принц. – В моем Королевстве так скучно! Мать возится со своими пекинесами, отец все время играет в шахматы. А мне не с кем добрым словом перекинуться! Учитель танцев надоел со своими прыжками, учитель музыки любит только свою флейту, а старая няня уже не рассказывает сказок перед сном и не приносит в постель стакан теплого молока… Отец мечтает, чтобы я женился, но все принцессы такие капризные и некрасивые! И к тому же ни у одной из них нет косичек!» Вместе с Принцем в купе ехала Старшая Фрейлина с дочерью и Министр Финансов. Фрейлина постоянно толкала дочку ногой и заставляла улыбаться. Ее носатая дочка по имени Аделина все время роняла из рук то платочек, то веер. Принц наклонялся за ними, пока у него не заболела поясница. Министр Финансов без умолку говорил о политике и хвалился своей бережливостью. Принц устал от этого общества и вышел в тамбур.
Поезд медленно снижал скорость.
– Станция «Три шляпки»! – объявил проводник. – Стоянка три минуты!
«Надо же… «Три шляпки»… – подумал Принц. – Я и не знал, что в наших краях есть такая станция». Окно в тамбуре было покрыто снежными узорами, и Принц начал выдувать в нем круглое пятнышко, а потом припал к нему глазом…
И увидел Принцессу! Он сразу узнал ее! Да, да, он ни за что бы не спутал ее ни с одной девушкой в мире! Эти голубые глаза, которые он сто раз видел во сне, эта приветливая улыбка и эти нежные руки. А главное: из-под клетчатого теплого платка выглядывали две старомодные косички с алыми лентами. Да, да – это была Принцесса! Она стояла одна-одинешенька посреди снежных заносов и смотрела на поезд. Ветер развевал ее юбку, трепал платок и ленты на косичках.
«Это она! Как хорошо, что я вышел в коридор! – подумал Принц. – Но как же холодно!» Принц побежал в купе за мантией и шляпой. Пока он одевался, поезд дрогнул один раз, другой. А потом медленно тронулся с места. Принц бросился в тамбур и толкнул металлическую дверь. Она была закрыта. Тогда Принц во весь дух помчался по вагонам, время от времени выглядывая в окна. Он видел, что и она заметила его и тоже узнала. Она встрепенулась и, теряя тяжелые ботинки, побежала за поездом. Принц перебегал из вагона в вагон, но двери везде были надежно закрыты. Наконец Принц добрался до последнего вагона. Дальше бежать было некуда! Он припал к окну и в отчаянии смотрел, как Принцесса бежит по заснеженной равнине, а алые ленты слетают с ее кос.
Поезд снова распевал свою нехитрую песенку. В купе укладывались спать. Принц забрался на верхнюю полку и закрыл глаза. «Ничего, я скоро вернусь и заберу ее», – подумал он, засыпая.
Утром Принца встречала шумная свита. Его подхватили, закружили, стиснули в объятиях, повели к белому лимузину.
– Мне нужно… Я должен… – бормотал Принц, сопротивляясь. Но его никто не слушал. В королевском дворце его ожидал пир, несколько встреч с послами, визиты пяти красавиц, мечтающих стать его подругами, и урок танцев.
«Ничего, поеду завтра!» – решил Принц, садясь в лимузин.
Весь день он вертелся как белка в колесе. Наконец наступила ночь, и его оставили в покое.
«Завтра незамедлительно возьму билет и поеду на ту станцию, – думал Принц. – Кстати, как она называется? Три улитки? Три зонтика? Три медведя?..» Он уснул, так и не вспомнив названия.
С тех пор пролетели месяцы…
Каждый день Принца ждали новые балы, встречи и приемы.
Каждый вечер он пытался вспомнить название маленькой станции.
Каждую ночь ему снился один и тот же сон: фигурка с золотистыми косичками посреди заснеженной равнины. Ветер дергает ее за платок, играет алыми лентами, сбивает с ног. А он, сильный и решительный, вышибает двери, соскакивает на полном ходу с поезда, бежит ей навстречу, широко раскинув руки, и ему совсем не холодно в тонкой кружевной сорочке…»
Порывшись в других письмах, мы написали о беседе двух кружек, о морковке, которая вообразила себя женой кролика, о шерстяной нитке, полетевшей вслед за ветром, о медведе, который стал кондуктором в троллейбусе, о продавщице мороженого, которая родила почтовый ящик, о…
Я с сожалением заметила, что писем больше нет.
Но за окном уже на полную катушку светило солнце. А мои глаза были будто свинцом налиты. Я мысленно вставила в них спички и сгребла все написанное. Пусть оценивает!
Душ. Прозрачный балахон. Круассаны – в мусорном пакете. Все, как всегда. Пошла.
5
Пока спускалась вниз, китайские воздушные колокольчики в моей голове превратились в военный набат и пытались проломить висок. В стекле картины отразилось мое лицо – оно было помятым и пожелтевшим, как простыня в третьеразрядном доме терпимости.
Если мсье сегодня задаст свой коронный вопрос – о том, как мне спалось, – ему не позавидуют и раки, которые где-то зимуют!
Я вошла в обеденный зал. Как всегда, старик сидел во главе длинного стола. Мне так хотелось спать, что показалось – пока дошла, одолела километров пять. В одной руке держала кувшин с вином, под мышкой – письма.
Стала за спиной, мастерски (ведь уже научилась) наклонила хрустальный кувшин, и… большое красное пятно расползлось по белоснежной скатерти.
Рука, как оказалось, хорошенечко дрожала. Мсье, как воспитанный человек, и глазом не моргнул. Промокнув салфеткой колени, переместился на другой стул и сказал:
– Сегодня у меня ответственный день, это знак, чтобы я не пил.
– Видите, мсье, я и тут вам угодила… – сказала я.
– Садитесь, госпожа Иголка! Вы едва держитесь на ногах.
– Да. Я не сплю уже вторые сутки! – гордо сообщила я. – То читаю, то пишу. И ничего в этом не понимаю. Нельзя ли мне поменяться местами с матушкой Же-Же? Я бы вам сварила борщ…
– Да, вид у вас нездоровый, – сочувственно покачал головой мсье. – Но, поверьте, скоро у вас будет прекрасный сон и хороший аппетит.
Он протянул руку, указывая на листки под моей мышкой:
– Вижу, что вы потрудились…
Я протянула ему письма. И сложила руки на коленях. Не очень-то приятно, когда тебя вот так экзаменуют.
Я налила себе остатки вина и наблюдала, как мсье погрузился в чтение.
Не была уверена, что это – именно то, на что он рассчитывал.
Интеллектуальные пытки продолжались минут сорок. Затем он оторвался от бумаг и посмотрел на меня.
И его лицо снова поплыло перед глазами, как тогда, в первый раз. Глаза, эти маленькие «земные шарики» с параллелями и меридианами, засветились молодостью и снова застлались туманом. Я почувствовала укол в сердце: оказывается, я привыкла к нему, не просто привыкла – полюбила. Как жить потом без этих насмешливо-ласковых глаз и убийственной иронии? Потом я подумала: хорошо, что в контракте не указаны даты!
А еще подумала: собственно, что это за настроение, почему оно такое, будто я сижу на собранных чемоданах!
Мсье Паскаль прервал долгую паузу:
– Ну вот видите, хитрунья, а говорили, что это – не ваш блокнот…
Я ожидала всего что угодно – только не этой фразы!
От неожиданности выплеснула на свою шифоновую накидку остатки вина. Снова – кровавое пятно… Уже второй раз…
Я выхватила из рук мсье бумаги и, не сказав ни слова, выскочила из комнаты. Я бежала по лестнице, как безумная. И – будто оставалась на месте, ноги стали ватными. Или это чертова лестница растягивались передо мной! Портреты, кабаньи и оленьи головы, рога, ружья, канделябры, опять – портреты. Один виток закончился, я едва ползла по второму, и в голове моей звенели колокольчики. Наконец добралась до комнаты, стала выдвигать все подряд ящики. Куда я его засунула? Ага. Вот. Есть…
Я села на кровать и отдышалась. Разложила свою писанину. Раскрыла зеленый блокнот на середине… Впилась взглядом сначала в одно, потом в другое… Голова раскалывалась. Это была уже не голова, а яйцо, которое изнутри долбил цыпленок: цок-цок-цок. Сейчас развалится и из него появится монстр-мутант. Я заплакала. Море размывало строки – в одном и другом.
Одинаковые строки! С похожим наклоном, с загогулистой «а», с широким и незамкнутым «о», с кривой черточкой над «й»… Чтобы заметить это, не надо быть криминалистом!
Я перекатилась по кровати, и красные пятна от вина на моей накидке отпечатались по всей простыне. Я валялась как выпотрошенная рыба в собственной крови. И ничего, совсем ничего не могла понять.
Сколько это продолжалось? Час? Два?
Я еще раз полистала блокнот… Потом решительно встала, натянула старые джинсы, которые с трудом нашла под охапкой местных шмоток. Хорошо, что не выбросила футболку, в которой приехала. Я пыхтела, как поезд, набирающий скорость. Я больше не позволю издеваться над собой!
Видно, здесь все же установлены камеры наблюдения, и это милое шоу транслируется на весь мир. И то, как я стригу ногти, и… все такое прочее. С Иваном… А потом идет реклама: «Зубная паста «орал-би» – лучшая в мире!»… Как остроумно! Ненавижу!
Я хлопнула дверью так, что за ней что-то упало. Возможно, соскользнул с окровавленной кровати тот зеленый блокнот… Или рыбьи кишки с бриллиантовым обручальным кольцом внутри.
Ненавижу!!!
6
Я рванула двери так, что они распахнулись и с обеих сторон ударились о стены. И замерла. Застыла на пороге в боевой стойке.
Мсье Паскаль сидел в кресле, закинув ногу на ногу.
Он был в смокинге.
В белой рубашке.
С черной бабочкой.
С лакированной тростью.
В черных лакированных туфлях.
Ну, вылитый Роберт де Ниро!
И смотрел на меня, высоко запрокинув голову.
Взглядом энтомолога.
7
Я смутилась. Даже ноги сами собой подкосились в глубоком реверансе. Нет, скорее всего – просто заболели и подкосились.
Мсье Паскаль улыбнулся.
– Ну? Что я говорил!
Тон был такой же – ироничный, весело-насмешливый – «наш», но я не смогла подыграть, как прежде.
– Мсье… – сказала я, приближаясь на дрожащих ногах. – Мсье Паскаль, я живу здесь почти год и за все вам очень благодарна. Но в последнее время…
Я хотела задать уйму вопросов, которые этот чертов цыпленок настучал в моей голове. Но он рассмеялся, перебивая меня:
– Год? Вы сказали – год!
– Год или полтора, какое это имеет значение!
– Восемь дней, дорогая моя, восемь дней! Это только девятый… И он подходит к концу… Все позади, госпожа Иголка, все позади…
«Конечно… – пронеслось в голове. – Конечно… Этот любезный господин хочет сказать, что я способна трахаться на второй день знакомства, хлестать виски – на третий, одновременно заводить и терять друзей – на четвертый, а мастерски писать – на седьмой?!!! Супер!»
– Теперь я должен вас отпустить.
– Но, мсье, я не сыграла в амулет!
– Вам не нужно играть. Я вам его просто подарю. На добрую память.
– То есть вы вот так, прямо сейчас хотите от меня избавиться?
– Нет. Но я вижу, что тут вы себя исчерпали. Недаром же вы сейчас пришли в дорожной одежде.
– О, мсье, я просто разозлилась. Извините. Я могу надеть любое из платьев! И матушкин фартук в придачу!
– Это неслучайно. Будем прислушиваться к знакам судьбы, госпожа Иголка…
У меня больше не было аргументов.
– Если так, то объясните мне все: про блокнот, про детские письма, про год, который длился «восемь дней». Вы же не хотите, чтобы я умерла от любопытства!
– Конечно… Конечно… – задумчиво пробормотал он. – Я все-все объясню. Минуты через три-четыре. А теперь у меня для вас сюрприз. Я уверен, что он вам понравится.
Мсье открыл дверь, и вошел Иван-Джон. Растерянный и печальный.
8
Дальше все понеслось таким галопом, что я только глотала воздух разинутым ртом. Ритм общения ускорился настолько, что я начала задыхаться.
– У вас есть три минуты! – решительно произнес мсье Паскаль.
Он не шутил. Мы это хорошо знали, пронаблюдав, как быстро испаряются другие гости: раз-два – и стулья пустые!
Мсье отошел в глубь комнаты.
Мы молчали.
– Мсье Паскаль, – наконец произнес Иван-Джон. – Я вас очень уважаю, ценю ваше внимание и фантазию, но… это уже переходит всякие границы.
– Две минуты! – не оборачиваясь, констатировал хозяин.
Я пожала плечами:
– Не возражай… Пожалуйста.
– Это твое окончательное решение? – спросил Иван-Джон.
– Да.
– Мы можем жить здесь… – заговорил он. – Я буду преподавать в школе… Ты уйдешь из этого дома (он гневно засопел в сторону хозяина)… Мы будем ходить в лес, в церковь… Помнишь…
– Одна!
– Да кто вы такой, черт возьми! – закричал Иван-Джон и хотел схватить меня за руку.
– Какие же вы, люди, эгоисты и эгоцентрики, – сказал мсье, подходя к нам. – Не разочаровывайте меня, Джон! Ваше время истекло. Прошу покинуть помещение. Две оставшиеся секунды вам не нужны! Все, что вы произносите, – не то. Не то…
Он сказал это так уверенно, что Иван-Джон отступил. Я знаю, он ждал моих слов. И не услышал. Я просто не могла говорить.
Хлопнула дверь…
В эти две секунды я успела бы сказать: «Я люблю тебя». И завтра мы пошли бы в наш лес…
9
Я осталась стоять посреди зала с немым вопросом в глазах.
– Запомните, госпожа Иголка: рождение и смерть – две тяжкие РАБОТЫ. Два сложных процесса в человеческой жизни, и горе тому, кто этого не понимает, относится как к фатуму или случайности. Запомните: это работа! Ее нужно выполнять достойно. Так, как это делают звери и птицы. А вы, голубушка, избрали слишком легкий путь. Он – не ваш. Я это сразу понял. Я дал вам отдохнуть – а теперь: вперед! Вы еще вспомните меня добрым словом. А если не вспомните, я не обижусь…
– Но почему я, почему я, Господи?..
– Это риторический вопрос! Его задают все без исключения – в горе и в радости. На него нет ответа…
Я опять начала задыхаться, голова кружилась, комната плыла перед глазами, силуэт в черном смокинге качался передо мной, раздваивался…
– Нет?..
– Нет. И не ищите его, как прежде не искали! Я сам не знаю.
Голос гудел во мне, как иерихонская труба, я напрягалась, чтобы различить звуки. Одновременно в голове снова зазвенели китайские колокольчики и стал проклевываться цыпленок…
– Мой выбор – случаен. Помните, что говорил Никола?..
…ола-ола-ола…
– Но знай: я смотрю на каждого и каждому отвечаю.
…аю-аю-аю…
– Как на те письма?.. – прошептала я, едва шевеля губами. Я уже ничего не видела в полной темноте. Видимо, он задернул шторы…
– Да. Стоит лишь иметь глаза и уши…
…уши-уши-уши…
– Я хочу помогать вам отвечать. Вы сами не справитесь…
– Хорошо.
…ошо-ошо-ошо…
– Давление?
– Простите, мсье?
– Давление?
– Нормализуется!
– Дыхание?
– Стабильное!
– Отключаем искусственное?
– Да. Минуты через две! Один, два, три… Вместе!
– Что вы говорите, мсье! Это – сон?!!
– Это уже сон. Она уснула!
– Хорошо. Пусть спит. Можете везти в палату!
– Реанимационную?
– Нет, можно в общую. Через час дадите два кубика!
– Поехали!!!
Девятый день
– Будете платить или как?
Я и не заметила, что лента транспортера с моими продуктами уже подъехала к кассирше. На ней лежали бутылка с йогуртом, шоколадка «Милка» и банка кофе.
– Извините, задумалась… – сказала я и протянула желтую дисконтную карточку.
Кассирша быстро сунула ее в аппарат и начала бойко выбивать чек.
– Это тоже ваше? – она указала глазами на бутылку водки, которая подкатилась под бочок йогурту.
– I don’t know… No… Seems to me – no…
– Что-что?
– Не знаю… Нет… Кажется, нет… – повторила я и полезла за кошельком.
Рабочий день заканчивался, и кассирша была уставшая и раздраженная.
– Выпендривается… – тихо сказала она наблюдателю в синей форме, стоявшему за ее спиной.
Я уже уходила, когда услышала его ответ:
– Может, иностранка. Смотри, как одета…
Одета я нормально, т. е. как всегда – джинсы и футболка, но в последнее время мне делали кучу комплиментов. И это меня слегка раздражало. Особенно, когда их делали малознакомые люди. В этом я видела подвох: вдруг какой-нибудь «засланный казачок»? После того, как я вышла из больницы с романтическим диагнозом «астенический синдром», за мной присматривали. Даже врач звонил: «Как дела, голубушка? Давление сегодня мерили?» А при чем тут давление? Все были слишком деликатны. Напрасно! Я больше не боялась прямых вопросов типа: «Ну что, дуреха, больше не будешь глотать таблетки?» И я бы ответила: «Нет. Потому что я хорошо сплю и у меня прекрасный аппетит! И – уйма работы… Часы тикают…»
Я вытащила покупки из металлической корзины, вбросила их в сумку и вышла из универсама.
Летний вечер был раскрашен розовой кистью. За шоссе, за мостами, за шеренгой высоких домов, на противоположном краю реки виднелись зеленые холмы, на них величественно высились золотые купола и кресты. Я подумала о том, что я обожаю свой город. Что он – мой, что зима в нем совсем не страшная, а лето – не такое уж и знойное. Что мир все же мудро устроен – как матрешка! – каким-то чудаком. А я защищена, потому что меня, как моллюска, у которого нет кожи, надежно оберегает множество тысячелетних наслоений…
Из кафешек доносились звуки футбольного матча, они были переполнены болельщиками, а столики на улице оставались свободными.
Я решила выпить кофе. Я не очень люблю сидеть одна за столиком – тут же кто-то подходит: «Деушка, скучаете?» Как им объяснить, что «скучают» только кретины!
Не успела сесть, тут как тут, первый. Отделился от стойки, выходит на улицу – пожертвовал ради меня футболом. Немалый подвиг.
– У вас свободно?
– Не только у меня, – сказала я. – Вон там везде – тоже.
Испугался. Сел за соседний столик. Сверлит глазами декольте. Автоматическим жестом я поправила подвеску на цепочке.
– В этом кафе варят вкусный кофе… – прокомментировал он издали мой первый глоток. Интересно, чем испортит второй? Думаю, упомянет о замечательной погоде или расскажет о ходе матча.
Собственно, матч уже закончился. Бармен защелкал пультом. Конечно, включил музыкальный канал.
Почему-то я насторожилась. Так бывает: живешь себе, попиваешь кофе, раздражаешься из-за какого-то нежданного ухажера, смотришь на холмы – и что-то тебя пробивает, что-то переключается, что-то подкатывается к горлу. И ты пытаешься понять – что это, почему? Где эта деталь, которая заставила вот так напрячься? Это может быть какая-то совсем незначительная мелочь. Например: вдруг посреди города услышишь запах моря или соснового бора. И тогда начинаешь думать: когда уже так было? Я совсем забыла, что за мной наблюдают. Он, наверное, увидел, как изменилось мое лицо, и возомнил, что это из-за него:
– Нравится песня?
…Nobody, nobody compares with she!
Into any company she is more buxom then other,
Her jokes are more laughable,
Everybody, everybody
Everybody observes how she drinks wine,
How she takes a cigarette, how perfect she dances…
She can speak only by eyes
Her eyes are so alive that words are superfluous.
She laughs. Her braselets are jingleing.
Her skirt – like a flag.
She has friends and has not enemies!
Now she is knowing how many peoples will come to her!
Not one. Not two…
They will come…
They will come to her without fail!
Even if cold winter will be or cloud-burst…
She is laughing. It’s such fun![1]
Я посмотрела на экран: там извивалась блондинка в блестящем черном платье. Слегка вульгарная, но, безусловно, талантливая. Ее голос пронизывал, как электрический ток. Я даже с опаской взглянула на бокалы, висевшие над барной стойкой. Придут в резонанс – и разлетятся вдребезги!
– Интересно, о чем она поет… – вывел меня на прежнюю орбиту докучливый сосед.
– Загляните в словарь… – отрезала я.
– На самом деле, я знаю, – сказал он. – Извините, я больше не буду вам мешать.
И процитировал:
…Никто, никто не сравнится
с ней!
В любой компании она – самая веселая,
у нее самые остроумные шутки,
все,
все,
все наблюдают, как она
пьет вино, держит сигарету,
танцует…
Она умеет говорить одними глазами –
они такие, что слова – лишние.
Она смеется. Она звенит браслетами.
Ее юбка как флаг.
У нее есть друзья и
совсем,
совсем,
совсем
нет врагов!
Теперь она знает, сколько людей
придет к ней!
Не один и не два…
Они придут…
Они обязательно придут к ней!
Даже в холодную зиму или в ливень…
Она смеется. Ей весело…
– Это все? – спросила я.
– Да, – уверил он.
– А вот и нет… – сказала я и с интересом посмотрела на собеседника. Он был довольно хорош собой. То есть нравился мне. – Вы пропустили две строки:
…И никто не догадывается, что она
У-ми-ра-ет…
Он решительно пересел ко мне.
– А знаете, почему я докучаю вам? – сказал серьезно.
«Догадываюсь… – подумала я. – Ресторан-водка-постель…»
– Потому что у меня есть такое же… – он ткнул пальцем в мое декольте.
– Неужели? Как интересно! – рассмеялась я.
Он не понял, потому что лицо его посерьезнело еще больше. Он полез в карман и по его ладони прокатился прозрачный шарик. Внутри него было черное вкрапление, похожее на цветок.
Я потрогала свою цепочку – на ней в серебряном плетении висел такой же.
– Что тут удивительного? – неуверенно сказала я. – Может, наши родители работали на одном предприятии. Когда-то такая фиговина была у каждого ребенка…
– Как вас зовут? – спросил он.
– Для вас это не имеет никакого значения!
– Посмотрим… – сказал он и добавил: – У вас остренький язычок. Я буду называть вас Иголкой. Госпожа Иголка…
Автор выражает благодарность неожиданным помощникам в написании этого текста:
Джону Фаулзу – английскому писателю
Мадонне – американской певице
Галине Дьяконовой – жене Сальвадора Дали
Николе Тесле – ученому-изобретателю
сербского происхождения
Федерико Феллини – итальянскому режиссеру
Группе «Битлз» – английским музыкантам
И искренне просит его извинить…
«На этот раз не выкарабкаться. Наверное, умру…» – мелькнула мысль. Тело не хотело слушаться. Она подняла руку и с трудом открыла глаза. В слабом свете, проникающем сквозь плотные шторы, ладонь показалась ей совсем белой. Она пошевелила пальцами. И вдруг вспомнила, что такой же бессознательный и беззащитный жест она уже наблюдала много лет назад, стоя у колыбели своего трехмесячного сына. Малыш точно так же водил пухленькой ручкой перед своим лицом и внимательно разглядывал свои пальчики. Господи, все возвращается на круги своя, и на старости лет наблюдение за собственной рукой становится небывалым открытием. Какую невероятную эволюцию прошла эта рука, прежде чем стать высохшей старческой конечностью – беззащитной и беспомощной!
Сколько колец сносили эти пальцы – бриллиантовых, рубиновых, изумрудных! Сколько раз сжимали они рукоятки кинжалов, плетей, револьверов! Как умели окунаться в кудри любовников – маркизов, графов, сорвиголов и дерзких подданных! Каждый палец – отдельная история.
Она улыбнулась. Ей всегда хотелось умереть с улыбкой на лице.
Где-то вдали шуршало море. В эту пору – в пять утра – оно всегда шуршало, как страницы книги, забытой в саду. Она знала, что в семь наступит штиль и тогда ни один звук не проникнет в ущелье. И эта грядущая тишина впервые испугала ее. Хотя она никогда не знала этого гаденького чувства и никогда не рассчитывала дожить хотя бы до тридцати четырех. Но судьба распорядилась иначе. Видели бы ее сейчас соотечественники и бывшие многочисленные враги! Правда, большинство из них – если не все! – уже далеко… И совсем скоро будут встречать ее в преисподней. И, видимо, обрадуются. Пусть радуются. Она бы тоже радовалась встрече даже с заклятыми врагами. Тяжело осознавать, что жизнь кончена, а еще тяжелее думать о том, что сейчас – другие времена, другие люди и нравы, и никому нет дела до ее былых побед, ее страстей, приключений. Нет свидетелей всего этого. Ведь кто из ее бывших знакомцев мог похвалиться, что дожил почти до восьмидесяти? Кто теперь, кроме нее, знает всю правду?
Какой-то парижский болван издал, правда, бульварный романчик, в котором она узнала себя – хищную блондинку, погибающую от руки четырех дерзких палачей. Дудки! Поторопился… Это она, именно она пережила их всех. Если бы хватило сил, доказала бы писаке, что она еще жива и еще способна защищаться. И поведала бы всему миру совсем другую историю об обольстительной и умной женщине, чуть ли не единственной при дворе, кто увлекался астрологией и математикой.
А какой представил ее тот болван? Все перепутал, сместил во времени. Все – выдумал…
Она почувствовала, что голова начинает болеть еще сильнее. Чтобы отвлечься, снова и снова вызывала из небытия тени и улыбалась своим мыслям.
Господи, думала она, видел ли тот парижский бумагомарака хоть раз в жизни настоящего гасконца? По крайней мере, ТОТ был совсем невзрачный, и употреблял в фехтовании коварный приемчик, неожиданно перебрасывая шпагу из правой руки в левую. А как он добивался ее! Пылкий смуглый маленький гасконец…
А обжора-толстяк с вечно потными ладонями! Разве он мог справиться хотя бы с одним гвардейцем? И что бы делал этот мешок, если бы не потайной защитный жилет, сшитый его престарелой любовницей!
А утонченный горе-аристократ, обладатель трех титулов и владелец полуразрушенных замков… Да он мылся раз в два года! А когда увидел, как часто это делает она, поспешил объявить ее ведьмой, ведь привык прикасаться только к жирным телесам своих крестьянок.
Единственным из всей компании этих ярых вояк-сорвиголов, кто умел связать два слова, был красавец-интриган с душой святоши и тонкими губами иезуита.
Каждый из них ухаживал за ней, обезумев от страсти, угрожал самоубийством, прельщал обещаниями… А получив отпор, все четверо сговорились расправиться с ней – гордой, неукротимой и греховно красивой. Но – не удалось!
Вот и вся история. Вот и вся легенда о краже бриллиантовых подвесок. Это были ЕЕ подвески. Господи, снова улыбнулась она, подавляя очередной приступ боли, как тиски, сжимающей мозг, Господи, если бы тот франт-писака имел бы возможность видеть ее, говорить с ней, коснуться ее белой руки – разве он написал бы о ней такое? О, это была бы совсем другая история! Что ж, возможно, кто-то ее еще напишет…
Шелест моря постепенно стихал. Значит, прошло не менее полутора часов. И сейчас войдет Мария со стаканом теплого молока. Но на этот раз она его не выпьет – в гости к Богу легче идти с пустым желудком.
Она пригладила свои короткие волосы, вспомнила, как возмущалась ее прической женская половина местного населения, как захлопывались окна и двери, когда она в кожаной шляпе с широкими полями верхом въезжала в это забытое Богом селение, как крестились, глядя ей вслед, мужчины: «Дьяволица!» Даже ее одинокий дом на берегу моря прозвали «чертовым» и обходили десятой дорогой. Дом и правда напоминал логово: полное запустение. Единственная ценность – обитая бархатом шкатулка. Та самая… Кстати, надо сделать последние распоряжения…
– Марион! – крикнула она в темноту слабым голосом и услышала за дверью грузные шаги старой служанки.
Женщина робко вошла, моргая сонными глазами. Поставила у кровати поднос со стаканом молока и почтительно остановилась.
– Марион, подай-ка мне ту шкатулку, – велела хозяйка. – И уходи. Недолго тебе осталось ждать…
Мария подала шкатулку, перекрестилась и покорно вышла.
Она сняла с шеи шнурок с маленьким серебряным ключом. Каждое движение вызывало новый приступ боли. Наконец она сумела откинуть крышку.
Крупный бриллиант замерцал перед глазами тусклым живым блеском…
Вообще-то писака не ошибся – их когда-то действительно было ровно двенадцать. На одиннадцать она безбедно прожила свою бурную жизнь. И вот остался один. Самый яркий. Она именовала его «Герцог Бэкингем». Дрожащей рукой старуха бережно обернула камень платком, туго обвязала бечевкой, вложила в шкатулку поменьше и снова перевязала сверток. Кликнула служанку.
– Марион, передай это моему внуку, когда он приедет, после… Ты понимаешь, о чем я… Он приедет обязательно. Не может не приехать. Он знает, что здесь. А если ты что-то сделаешь не так – я достану тебя из-под земли!
– Господь с вами, госпожа! – перекрестилась служанка. – Господин доктор сказал, что после кровопускания, возможно, все обойдется…
– Не мели чепухи! – остановила она. – Мой час близок – я это чувствую. Иди прочь!
Она откинулась на подушки и снова закрыла глаза. Сразу же услышала знакомый звук. Она давно уже привыкла к нему и не обращала на него внимания. Это не был шелест моря или деревьев, окружающих дом: жилище кишело крысами и мышами, которые постоянно грызлись между собой, отвоевывая лучшую территорию. Они не добрались бы до этой спальни, ведь Мария регулярно обкладывала все уголки комнаты ядом.
«Скоро здесь не останется никого, – подумала она. – Подождите… Будете полными хозяевами…»
Словно в ответ на эти мысли скрежет прекратился. Если бы она могла видеть лучше, то заметила бы, как из-за старого комода вынырнула острая мордочка крысиной мамаши. Она шевелила длинными влажными усами и внимательно, почти по-человечески, смотрела на старуху. А та уже летела по длинному тоннелю и с каждым метром полета на уровне угасающего сознания чувствовала, как меняется ее земная оболочка, каким легким и гибким становится уставшее тело. Вот она – шестидесятилетняя атаманша местных контрабандистов, еще способная соблазнять: широкий кожаный корсет, высокие сапоги, коротко подстриженные, еще не седые волосы, подкрашенные хной. Вот – сорокалетняя женщина, убегающая – всегда убегает! – от армии хищных святош, вот – прелестная молодая авантюристка, лучшая танцовщица при дворе: голубое платье, золотая волна длинных волос, всегда выбивающихся из-под бархатного берета. Вот – девица, веселая вдова старого маршала, любовница короля, черный рок кардинала, огонек, на который слетаются умнейшие люди столетия. А вот уже – ничто…
Тусклый нездешний воздух растворяет в себе беззащитное тело. Боль отступает. Господи, как хорошо… Тоннель закончился.
Крысиная мамаша поняла, что старуха уже далеко, что больше она не испугает ее брошенной в угол тапкой. Крыса крепко ухватилась за складки простыни и начала подбираться к бледной старческой руке…
Белые нитки
* * *
В последнее время Влада боялась подниматься в лифте и поэтому преодолевала четырнадцать этажей пешком. Это занимало минут десять. Но лучше таких десять, чем западня на часок в темном сломанном лифте, как это было недавно. В тот раз она стояла в кромешной темноте просторной грузовой кабины и прислушивалась: в какой-то миг ей показалось, что в противоположном углу этого замкнутого пространства кто-то тяжело дышит… Это было ужасно!
На этот раз Влада несла тяжелую сумку с продуктами, но страх замкнутого пространства все же погнал ее вверх пешком.
На десятом этаже она остановилась у окна, решила закурить и перевести дух. Задумалась, остановив взгляд на хвостиках зеленого лука, торчавших из сумки. Вот и весна. Первая зелень. Вторая весна без Жанны. Следствие все еще вяло ведется, но Влада чувствовала, что оно не даст никаких результатов.
Сегодня они с Максом будут отмечать вторую годовщину ее исчезновения. И, возможно, в этот раз уже не будет так грустно, как в позапрошлом году, когда у Макса случился первый припадок. Тогда она смогла отвоевать его у ужасной серо-синей бригады санитаров, доказать, что она сама в состоянии позаботиться о нем и быстро поставить его на ноги. Хорошо, что он – какой-никакой – рядом с ней.
Снизу послышались чьи-то шаги. Влада быстро потушила сигарету о подоконник, невольно читая надпись, выжженную зажигалкой: «Макс + Жанна…», и грустно покачала головой – как давно это было!
Влада открыла дверь, не снимая ботинок, прошла в кухню, которую от просторной комнаты-студии отделяла овальная арка. Год назад она наконец-то смогла сделать шикарный ремонт в этой трехкомнатной квартире, доставшейся им с Жанной от родителей. Те все-таки решили поселиться на природе, в одном из пригородов.
Она спланировала эту квартиру в «американском стиле»: стены и всяческие закоулки, антресоли и кладовки были безжалостно разрушены. Ничего лишнего. Ничего, что напоминало бы о прошлом. Вместо доисторических ковров, которые так любила мама, – картины, фотографии в дорогих рамах. Диван и кресла расположены посередине комнаты, шкафы-купе для одежды и обуви почти не заметны, огромный книжный стеллаж – единственный признак вкусов хозяйки.
Механически, по привычке, Влада нажала на кнопку пульта и включила телевизор, достала из холодильника банку пива «Хайнекен», с удовольствием погрузилась в большое мягкое кресло и, положив скрещенные ноги на стол, закрыла глаза. Минут десять она просидела так, попивая пиво, прислушиваясь к звукам, доносившимся от экрана. Каким будет нынешний вечер? Не напрасны ли все ее усилия?
Влада встала и взялась наконец разгружать свою сумку. На столе выросли привлекательные кучки первых весенних овощей – красные помидоры, ярко-зеленые, как молодые крокодильчики, шершавые огурцы, нежные полупрозрачные листья салата. Все это напоминало пластиковые муляжи – слишком красивое и совершенно без запаха. Одним словом – продукты из супермаркета: форма без содержания. Вслед за всем этим она достала из сумки другие деликатесы – грибы, копченые куриные окорочка, «морские коктейли», оливки…
Спустя полчаса стол, накрытый на двоих, засветился отблесками язычков пламени свечей в хрустальных бокалах и салатницах. Все было готово. Влада открыла шкаф и выбрала бледно-розовое платье, собрала длинные волосы на затылке и почувствовала, как стучит сердце…
Бедный Макс! О чем он думает сейчас? Сможет ли он вести себя адекватно, или ей придется опять сдерживать его?
Влада замерла перед книжным стеллажом, вмонтированным в стену. Казалось, она выбирает себе книгу – их тут было несколько сотен. Собирать библиотеку начал отец еще в те времена, когда в магазинах не было ничего, кроме томов классиков марксизма, а за настоящей литературой надо было ехать в дальнюю лесополосу, пробираться тайной тропой к поляне, на которой толпились книголюбы и спекулянты. Продолжил это дело Макс, когда благодаря билету члена Союза писателей приобщился к писательскому магазину. А последние несколько лет они уже все вместе отправлялись на огромный книжный рынок и покупали все, что душе угодно – Воннегута, Сартра, Камю…
Господи, сколько книг! Надо как-то разобрать их, систематизировать. Влада перекрестилась, решительно взялась за перекладины стеллажа и резким движением потянула его на себя. Половинки разошлись. За ними была раздвижная дверь… Влада достала с верхней полки ключ, вставила в замок и трижды повернула его.
Прежде чем отворить дверь, она прильнула ухом к отполированному дереву. Мертвая тишина! Влада открыла дверь.
Какой контраст: освещенная последними лучами солнца гостиная – и душный полумрак узкой кельи с едва тлеющим огоньком лампы-бра, вмонтированной в потолок. Влада всматривалась в полумрак, пока не начала различать силуэт мужчины, неподвижно лежавшего в углу на большом матрасе.
Она тихо подошла к нему по мягкому поглощающему звуки ковру и присела рядом. Мужчина не шелохнулся. Влада сняла со стены круглое зеркало и снова присела возле скрюченной фигуры.
– Кто ты сейчас – Эго или Тень? – прошептала прямо в ухо.
Мужчина вздрогнул.
– Я – Тень, – покорно ответил он хриплым голосом, и его голова еще глубже ушла в плечи. – Оставь меня…
– Посмотри в зеркало! – велела женщина, хватая мужчину за плечо и силой разворачивая лицом к себе.
Он покорно повернулся. Влада поставила зеркало перед самым его лицом. Несколько секунд он сидел перед тусклой поверхностью с закрытыми глазами, покачиваясь, как китайский болванчик. Затем его отяжелевшие веки дрогнули и, словно каменные, медленно поползли вверх. Он посмотрел на отражение. Влада видела, как бездумный взгляд приобретает осмысление, как расправляются плечи. Вот он уже сам жадно ухватился за края зеркала и всматривается в него с надеждой.
Этот фокус с зеркалом Влада придумала сама: «Тень» является противоположностью «Эго». Чтобы снова стать Эго, Тень должна увидеть себя со стороны.
Влада не ошибалась. Макс медленно приходил в себя.
– Пошли, солнышко, тебе надо помыться – ванна готова, – ласково сказала Влада. – Потом поужинаем вместе. А пока выпей это.
Она протянула ему горсть разноцветных таблеток. Он вбросил их в рот все сразу, отведя ее руку со стаканом молока, и захрустел, тяжело двигая челюстями. Пока в ванной текла вода, гудела бритва, Влада сделала последние штрихи в сервировке стола: откупорила вино, разложила белоснежные салфетки. В комнату уже заплыли фиолетовые сумерки с весенним запахом дождя и первой молодой листвы.
Макс вышел из ванной совсем свежий – в новой белой рубашке, которую она заранее там повесила, в голубых, тоже новых, джинсах. Его темно-каштановые волосы были влажными и гладко зачесанными назад. Синие тени вокруг глаз исчезли. Даже разгладились морщины у губ, казавшиеся глубокими бороздами в полумраке красной кельи.
– Ты хорошо выглядишь, – похвалила она. – Скоро тебе станет лучше, вот увидишь!
– Я долго спал? – спросил он.
– Сон – лучшее лекарство. Тебе нужно много спать, дорогой! – ушла от ответа Влада. – Садись, разлей, пожалуйста, вино…
Макс осторожно наклонил бутылку. Густые красные струйки медленно расплылись по хрустальным стенкам бокала.
– Кровь не рожденных… – улыбнулся он. – Сладкая и густая. Нектар небесный… Если ты не против, я выпью немного водки.
– Сегодня я не против, – согласилась Влада, поднимая свой бокал.
– Итак?.. – он тоже поднял маленькую рюмку.
– За Жанну… – с опаской произнесла она, внимательно следя за его глазами. Но ничего ужасного не произошло – только едва заметно дрогнула его рука с рюмкой.
– Я рада, что ты спокоен, – сказала Влада. – Так и должно быть. Я все возьму на себя, а тебе надо выздоравливать, набираться сил… Ешь, дорогой. Здесь столько всего вкусного…
Он с удовольствием начал есть. Ел все почти одновременно – засовывал в рот листья салата, кусочки куриного мяса, рыбу, грибы, запивая минералкой. Ей было грустно и неловко смотреть на него.
Наконец Макс откинулся в кресле и закрыл глаза.
– Можно курить? – спросил.
Влада положила перед ним пачку длинных сигарет «EVE» и щелкнула зажигалкой…
Он, как и прежде, был утонченно красив, каждый его сознательный жест казался ей движением Кларка Гейбла. Сейчас он сидел с закрытыми глазами и выпускал из четко очерченных губ кольца дыма.
– Ты что-то написал? – решилась она спросить. – Я видела у кровати рукопись… Покажешь?
Вопрос ему понравился. Влада поняла это по румянцу, который тут же проступил на его бледном лице. Она восприняла это как хороший знак и мигом бросилась к келье, принесла и положила перед ним листы бумаги.
– Почитаешь?
– Нет, я в эти игры больше не играю. Оставь себе – прочтешь позже сама, хорошо? – Макс бросил рукопись на диван и закурил еще одну сигарету.
«Это уже, наверное, лишнее…» – подумала Влада.
Ужин при свете двух длинных свечей, как всегда, показался ей фантасмагорическим. То, что происходило с ними обоими, порой напоминало Владе сцены из детских книжек вроде «Алисы в Стране чудес», – за столом не хватало лишь Кролика, Болванщика и Мышки-сони.
– О чем ты думаешь? – после паузы вновь спросила она.
– О деградации, – выдохнул он. – О де-гра-да-ци-и, которую не остановит даже белый воротничок.
– Ради бога, Макс… – поморщилась Влада. – Я обещаю – ты снова станешь сильным!
– Я уже думал об этом. И знаешь, до чего додумался? Я мог быть сильным только тогда, когда рядом была она. Но это была иллюзия силы. Я – ничто! В маленькой девочке я искал прибежища… Жанна это понимала. Я убил ее своим малодушием. Если бы все вернуть…
Сигарета запрыгала в его сжатых пальцах, он не смог поднести ее к губам, помахал рукой где-то у виска и наконец раздавил окурок в пепельнице. Влада с беспокойством наблюдала за каждым его движением.
– Ты ни в чем не виноват, – тихо сказала она. – Тебя можно понять. Жанна была счастлива с тобой…
– Жанна… Жанна… – перебил он. – Я помню – сегодня два года, как ее нет с нами. Как ты думаешь, где она? Маленькая Жанна, в зеленом платье…
– Я найду ее. Я делаю все возможное, – спокойно произнесла она.
Макс вдруг вскочил, опрокидывая кресло, подбежал к ней и порывисто поднял с места, больно сжимая руки.
– Я хочу видеть Жанну! – закричал ей прямо в ухо. – Слышишь, в дверь звонят! Это она! Открой!
Он тряс ее так, что из прически выпали шпильки и волосы рассыпались по плечам. Она уже знала, что нужно переждать – это продлится секунду-две…
– Жанна? – обмяк он, пристально вглядываясь в ее лицо. – Жанна, Жанна, забери меня отсюда!.. Это – не она! – наконец он отпустил Владу, и та чуть не упала на пол. Но не растерялась. Она знала, что делать. И сделала то, что когда-то сделала наугад: поднесла к лицу больного зеркало, которое всегда держала наготове. Макс съежился, будто сразу уменьшился вдвое, закрыл лицо ладонями: Эго превращалось в Тень.
– Пошли, – сказала Влада, поправляя прическу. – Тебе уже пора спать.
Он покорно позволил взять себя за руку. Лишь на пороге комнаты тоскливо взглянул в окно, в котором висела большая полная луна. На ее фоне четко вырисовался женский силуэт – недосягаемый, неземной. Появился и исчез. Макс вздрогнул, тяжкий стон сорвался с его губ…
Влада не вошла за ним – настроение было испорчено. Она знала, что он сам найдет свой матрас. Медленно прикрыла дверь, и его стройная фигура в белой рубашке растворилась в темноте. Влада сдвинула половинки стеллажа и бессильно сползла на пол. Из опрокинутой бутылки лилось на стол вино, и на скатерти расплывалось большое красное пятно…
* * *
Она просидела так не более десяти минут. Затем быстрым движением свернула запятнанную скатерть вместе с бутылкой и фужерами, швырнула все это в плетеную мусорную корзину, вытерла стол, разложила на нем письменные принадлежности. И задумалась над листом бумаги.
Влада давно уже запланировала написать очередное письмо родителям, и если не сделать этого сейчас, потом на это не будет ни времени, ни настроения. Письмо должно было быть, как всегда, кратким. Но и те десять-двадцать строк, которые она весь день прокручивала в уме, надо было как-то вымучить из себя.
«Здравствуйте, наши дорогие! – писала Влада. – У нас все нормально. Обидно, что мы пока не можем отправить вам достаточно денег, чтобы вы смогли к нам наконец приехать. Очень скучаем по вам, ведь давно не виделись. Надеемся, что как-нибудь и сами наведаемся… Но это тоже зависит от денег и свободного времени. Ведь ни того, ни другого пока что нет в нужном количестве. Вы просили сообщать обо всем, что с нами происходит. Итак, как прилежный секретарь нашего небольшого семейства со всей ответственностью сообщаю: мы живы-здоровы (чего и вам желаем!). Жанночка работает там же – в библиотеке, я устроилась на новую работу (вы же знаете, что долго на одном месте мне удержаться трудно), Макс время от времени имеет некоторый приработок. Вообще-то живем весело, не унываем. Как ваше здоровье, настроение?..»
На этом письмо должно было заканчиваться. Но Влада решила все же приписать «постскриптум»: «Папа, я все время думаю о том странном иностранце, который приезжал к тебе четыре года назад. Не родственник ли он нам? Если это так, почему вы от него отреклись? А вдруг нас ждет какое-то наследство? Это было бы очень кстати. Пожалуйста, напиши мне. Если тебе неудобно, я сама все выясню и улажу…»
Шальная мысль о богатых иностранных родственниках не покидала ее давно – со времени того странного визита четырехлетней давности. Тогда, вспомнила Влада, красное вино так же пролилось на белую скатерть…
* * *
…Визит француза, назвавшегося Антуаном Флери, стал полной неожиданностью для семьи Олега Антоновича, отца Жанны и Влады. Ведь найти нужный дом в густонаселенном «спальном» районе для новичка (а тем более иностранца) было делом практически невозможным.
Сначала на пороге появился опрятно одетый молодой человек с казенной улыбкой на румяном лице. За его спиной маячила фигура еще одного незнакомца. Грузный, с элегантной сединой на висках, он с удивлением рассматривал размалеванные стены подъезда и время от времени утирал лоб белым шелковым платком.
– Извините, это квартира семьи Фарчук? – спросил молодой человек.
– Да, – растерянно ответила Влада.
– Господин Оливер дома?
От удивления Влада на миг замерла. Она совсем забыла, что имя отца по паспорту – Оливер, а не Олег, как его привыкли называть и на работе, и дома.
– Папа! К тебе! – крикнула Влада, не торопясь впускать гостей в прихожую: квартирка была хоть и трехкомнатная, но довольно убогая, и нежеланные гости в ней действительно были нежеланными.
Олег Антонович вышел, на ходу вытирая руки тряпкой, – он как раз чинил испорченный утюг.
– Месье Оливер Фарре? – выступил из-за спины молодого второй гость. Ему было лет шестьдесят. На его груди, как и у многих путешествующих иностранцев, висел фотоаппарат. Влада с огромным интересом наблюдала за происходящим. Поймав ее взгляд, отец молча кивнул ей на дверь комнаты. Пришлось выйти.
Но Влада все равно слышала, как парень начал объяснять отцу, что его спутник приехал из Франции, из Парижа, что находится он здесь больше недели и все это время занимался поисками «мсье Оливера Фарре».
– Совсем меня замучил, – быстро добавил переводчик. – Пришлось поднять на ноги все адресные столы… Правда, слава богу, у него были некоторые сведения о вашем деде…
«Вот оно! – торжествовала Влада. – Я так и знала – иностранные родственники!»
Но отец ответил, что его фамилия Фарчук, поэтому, видимо, произошла какая-то досадная ошибка.
В дверную щель Влада увидела, что отец побледнел. Он держал гостей на пороге и, как испуганная курица, бил себя дрожащими руками по карманам в поисках сигареты.
– Говорю вам, это ошибка! – повторял он.
Затем заквохтал иностранец.
– Дорогой друг, меня зовут Антуан Флери, – засеменил переводчик. – Я так долго вас искал. У меня есть для вас интересные предложения… Я вас умоляю – обратился он к отцу, – впустите его в квартиру, хоть чаю налейте! Если он пожалуется на меня – потеряю работу! Он действительно ученый, а не разбойник с большой дороги… Я мечтал увидеть вас всю свою жизнь, – продолжал он выполнять свою работу. – Я приехал сюда ради вас!..
Лицо «мсье Антуана» покраснело, по нему крупными каплями стекал пот.
– Ольга! – крикнул отец жене каким-то чужим, глухим от волнения голосом. – Накрывай на стол, у нас гости! – и неопределенным жестом пригласил визитеров войти.
Чаепитие со странными посетителями растянулось на весь вечер. К столу были приглашены все члены семьи. Жанна с Максом ничего не понимали, воспринимая событие как обременительную обязанность, помешавшую им закрыться как всегда в своей маленькой комнатке. Влада чувствовала, что происходит нечто не доступное пониманию, но очень интересное, и не сводила глаз с чужестранца.
Тот с удовольствием попивал дешевенький чай, потирал потные ладони, рассказывал о Париже. Но напряженность висела в воздухе, как тяжелый утренний туман. Беседу поддерживала мать. Отец курил и вертелся на стуле, будто через него время от времени пропускали электрический ток.
– Теперь он хочет говорить о деле… – наконец перевел молодой и облизал губы, настраиваясь на долгий разговор.
Тогда отец поднялся и, вопреки правилам этикета и гостеприимства, жестом приказал экзальтированному туристу идти за ним на кухню. Тот охотно вскочил. На этом чаепитие закончилось. Жанна и Макс, воспользовавшись моментом, тихо исчезли из-за стола, мать продолжала разговор с переводчиком. Лишь Влада не теряла бдительности и направилась в ванную комнату, которая граничила с кухней…
Она прижала стеклянную банку для зубных щеток донышком к стене и припала к ней ухом. То, что она услышала, поразило ее до глубины души. Сначала что-то говорил гость. Влада, конечно же не понимала ни слова, кроме этой странной фамилии Фарре. Потом… А потом самодельный подслушивающий аппарат чуть не выпал из ее рук: медленно подбирая слова, заговорил Олег Антонович. Это был французский! Единственное, что смогла уловить Влада из его довольно ученической тирады, было слово «Non, non, non!». Больше она ничего не поняла и выскользнула из ванной. С пылающим лицом вошла в комнату молодоженов.
Жанна и Макс как раз куда-то собирались.
– Что я вам сейчас расскажу… – загадочно начала Влада, устраиваясь на старенькой скрипучей тахте. – Наш папа прекрасно говорит по-французски!
– Я тоже прекрасно говорю по-английски, – улыбнулась Жанна, подкрашивая ресницы. – Могу рассказать о себе, о нашем городе… Что там мы еще проходили?
– Откуда он может знать французский? Даже если он учил его в школе – это же было давно, – добавил Максим. – Наверное, разговор был на уровне «да» – «нет». И вообще, что это за чудак, я не понимаю…
– Вы зануды! – обиделась Влада. – А вдруг во всем этом есть какая-то тайна?
– Ну, вот ты ее и разгадывай! – сказала Жанна. – Я готова! – обернулась она к мужу.
Они вышли из квартиры, а Влада присоединилась к матери, которая как раз расспрашивала переводчика о его работе, об иностранцах, о Париже.
Наконец отец с гостем вышли из кухни. Влада заметила, что оба они раздражены. Антуан Флери дернул со стула свой пиджак, задел ним бутылку, которая стояла на столе. Мать бросилась сворачивать скатерть, переводчик тоже быстро поднялся и выскочил за своим подопечным в коридор, отец отправился в свою комнату, хлопнув дверью. Все это произошло молниеносно, как в ускоренном кино. Дверь за гостями пришлось закрывать Владе.
Уже стоя на пороге, французский гость забормотал что-то, гневно тыча пальцем в ободранные обои прихожей. Переводчик покраснел.
– Он говорит, что у вас могло бы быть все иначе… Если бы…Что? – обратился он к мсье Флери, но тот только сердито махнул рукой и вышел на лестницу. – Извините, до свидания! – успел крикнуть переводчик и побежал вниз за своим суровым хозяином.
– Ты что-нибудь поняла? – спросила Влада у матери, которая все еще возилась с испорченной скатертью.
– Разве ты не знаешь отца? – ответила та. – Из него слова не вытянешь… Цыганская душа!
Но теперь Влада знала наверняка: легенда о «цыганском происхождении» отцовского имени – вымысел, а причина его нелюдимости – в чем-то другом. Через год после этого случая родители собрались переезжать. Оба были уже на пенсии, в селе осталась пустая бабушкина хата, да и детям, считали они, надо освободить жилплощадь. Но Влада подозревала, что переезд так или иначе связан с тем странным визитом. Когда она прямо спросила об этом у отца, тот коротко ответил, что она мелет чепуху. И больше Влада на объяснениях не настаивала. А имела ли она вообще на это право? Этот вопрос всегда волновал ее…
* * *
Влада не знала, кто ее настоящие родители. Приемные мама с папой удочерили ее в неполных десять месяцев. В двенадцать лет она уже знала, что они не родные. Родители решили не делать из этого тайны: постепенно, год за годом, они готовили девочку к неприятному известию, ведь лучше узнать это в собственной семье, чем из уст злобных доброжелателей. И Влада не очень расстроилась. Ей захотелось быть для родителей самой лучшей, самой послушной девочкой в мире. Тем более что почти сразу после долгой эпопеи с удочерением мать, давно потерявшая надежду иметь собственного ребенка, неожиданно забеременела. Врач объяснила это очень просто: нередко бывает так, что женщина, которая прошла все мыслимые и немыслимые курсы лечения, потеряв последнюю надежду, расслабляется, прекращает этот бесполезный марафон в погоне за хотя бы одной здоровой яйцеклеткой и… беременеет. Так случилось и с мамой. Влада понимала, что родители могли бы преспокойно отдать ее обратно, но мать сказала: «Этот ребенок принес нам надежду. Он – наш!» И это была правда. Владу и Жанну родители любили одинаково. Владе даже казалось, что они к ней внимательнее. То, за что Жанну ругали, ей легко сходило с рук. И Влада жалела сестру. Она никогда не считала себя красивой. Точнее – не осмеливалась так считать. Особенно после того, как, увидев девочек во дворе, соседка сказала маме: «И в кого удалась Владка? Вот увидите, будет у Жанки всех кавалеров отбивать!» И Влада просто не могла себе позволить быть красивее сестры. Всегда туго стягивала волосы на затылке, не красила их и не делала макияжа. Правда, Жанна тоже не любила всех этих дамских штучек. Вкусы и взгляды у них были почти одинаковые.
И когда девятнадцатилетняя Жанна впервые привела домой Макса, у Влады перехватило дыхание: этот худощавый юноша с длинными пальцами и утонченными чертами нервного лица мог бы придать смысл ее жизни. Но в тот же миг она так же четко осознала и то, что этого не произойдет никогда. Что ее предназначение – быть ему сестрой. А когда родители решили переехать в деревню, возложила на себя миссию домохозяйки.
Она любила их обоих, более того – со временем она смирилась и стала любить саму их любовь. Эта вторая любовь оказалась сильнее, чем чувство к каждому из этой пары – в отдельности. И теперь, когда случилось несчастье, Влада чувствовала, что для полноценности этой любви не хватает ее второго участника – Жанны. Ее любовь утратила одно крыло…
…Дописав письмо родителям и старательно заклеив конверт, Влада задумалась. Что она на самом деле сделала, чтобы найти сестру – живой или мертвой? Дала себе клятву? Постоянно подгоняла следователя? Все это так, а что сделала сама? Было уже поздно. Влада прилегла на диван, укуталась в плед и почувствовала под своим локтем жесткую пачку бумаги. Очередное творение Макса! Она о нем забыла… Преодолевая сон, Влада включила бра над головой. Надо почитать. Хотя бы ради того, чтобы знать, прогрессирует ли болезнь.
Она с грустью вспомнила недавние времена, когда на Макса неожиданно свалился успех – его начали печатать, приглашать на телепередачи и подкарауливать, чтобы взять интервью или сфотографировать в приватной обстановке. В одной из газет даже появилась непристойная заметка о том, что молодой гений живет сразу с двумя женщинами. Но это была оборотная сторона признания.
Влада находилась тогда на вершине блаженства. Она не могла понять, почему Макс отказывается принимать журналистов, почему избегает общения с коллегами-писателями и все чаще закрывается в своем кабинете (тогда квартира еще не была студией).
Жанна объяснила: Макс пишет новый роман, но то, что он дал ей почитать, не похоже на первые вещи. «Я даже боюсь… – сказала Жанна, – не надо его сейчас трогать». И новый роман Макса стал для Влады ребенком, которого она помогала рожать как могла: беспокоилась о здоровье «отца», о порядке в доме и калорийности пищи. И тогда, два года назад, когда все пошло кувырком, у Влады было такое чувство, будто этого несчастного ребенка отдали в детский дом, а возможно, еще хуже – в руки извращенца-педофила.
«Нет, я не могу об этом вспоминать! – запретила себе грустные мысли Влада. – Лучше почитаю».
Она взяла листок, и сердце сжалось при виде круглого неразборчивого детского почерка, такого непохожего на прежний четкий, почти каллиграфический, почерк Макса.
«Белые нитки» – прочитала заголовок Влада и, закурив, углубилась в манускрипт:
«…Они шьют белыми нитками. Все видят, что ОНИ шьют белыми нитками. Но не решаются сказать об этом вслух. Ведь и сами – шьют белыми нитками. Цвет непорочности! Мы все шьем белыми нитками. Это похоже на громадный швейный цех. Вот – белые нитки (горы белых ниток!) – только бери. И шей. И шьем. Пришиваемся друг к другу. Стоит только зазеваться, как видишь – к тебе в троллейбусе уже пришился дядя с сумкой – слева, справа – старушка в клетчатом платке, спереди – спиной – какая-то блондинка с острым зонтиком…
Отложим в сторону иглу. И поедем в горы. На плече такие неаккуратные рваные рубцы… Но если не пришиваться, а вот так осторожно поглаживать – они исчезают. Едем в горы уже восемнадцать часов – шестнадцать из них целуемся. Но рекорд некому зафиксировать.
На мохнатых горах растут ягоды. Загорелые дети собирают их в банки, выскакивают на шоссе практически под колеса и продают – по две гривны за огромную банку. Куча новых лиц за стеклом машины сливается для них в одно довольное, потное, краснощекое лицо благополучия.
А ты кажешься себе хуже всех, потому что у тебя – всё на языке: и мед, и горчица, и яд, и правда, и ложь. И всё – одновременно. (Ты так сладко и тепло целуешь сейчас, что через закрытые веки я вижу звезды, несколько лун, потом – красные зигзаги, потом – острые осколки хрустальной вазы, которую разбил в детстве, а потом снова – тоннель из лун и звезд…)
Вот они (напомню: те, кто шьют белыми нитками!) сидят, молчат, прижимаясь горячими коленями к чужим женщинам. А ты что за чудо-юдо? А ты МОЕ чудо-юдо. С первого взгляда. Без примерки. Ужас!
Ты ничего никогда не примеряла. («Терпеть этого не могу! Дайте, что под руку попадется. Да, пожалуйста, заверните в бумагу».) Те, что шьют белыми нитками, всегда выбирают: тычут носом в свежую курицу на базаре: «А она действительно свежая?», «А это действительно курица?», будто случайно заглядывают в комнату: «А это что – видик?», «И машина есть?»…
Нитки беленькие, стежки кривые. Но по правилам игры их не станут замечать.
Мы будем говорить долго. Долго и… молча. Расскажи мне что-нибудь. Грустное или веселое? Веселое. Но у меня всё – о грустном. Тогда закрывай глазки. Спи. Ты будешь спать, а я думать о чем-то веселом. Ты все равно меня услышишь.
Игла Берлиоза не выходит из сердца. Ты летишь ко мне. Серебряный пилот собрал какое-то количество желающих улететь, раздал всем по паре крыльев, приказал ухватиться за веревку и махать руками. Вот и полетели: раз-два, раз-два… Снизу так красиво смотрится!
…Человек произошел от человека. Когда об этом хорошенько забыли, появился тот, кто должен был проверить, так ли все сделано и не нужна ли какая-нибудь помощь? Оказалось – нужна. Оказалось, что не все так хорошо, как планировалось. То ли климат не подошел, то ли атмосфера слишком разреженная, но мозг сузился, конечности вытянулись, зубы потускнели и заострились. Убили посланника. Научно доказали свое происхождение от обезьяны. А какой с обезьяны спрос?..
Когда начнется Всемирный потоп, зеркала перевернутся и примут нас. Примут ли остальных – не знаю. Нас – примут! Потому что мы знаем, что человек произошел от человека. Они, те, что шьют белыми нитками, орут: «Мы – от обезьяны!» И все пытаются пролезть с черного хода. (Я так тебя люблю, что не представляю себе, как можно так вот запросто сказать: «Где ты шляешься?» Возможно, это тоже нужно – как доказательство самой большой близости, ведь посторонней так не скажешь?..)
Люди сомкнуты в единую болевую цепь: сколько раз ударишь ты, столько ударят и тебя. Поэтому никогда не нужно суетиться, чтобы отдать или получить свое. Сейчас я открою тебе самую большую тайну. Когда ТАМ идет дождь, здесь, на моей груди – под твоей рукой слева, – тоже идет дождь. Во сне ты сжимаешь пальцы, и они вздрагивают от того, что чувствуют, как глубоко под ними идет дождь.
Они, твои пальцы, не могут видеть звезды, но они умеют всё чувствовать. Они умнее тебя. Всё у нас – умнее головы. Хотя нам кажется, что – наоборот. Голова – только химическая лаборатория слов и событий, в ней происходят реактивные реакции. А так – пространство между твоими пальцами совпадает с одним моим пальцем. И наоборот. Все твои промежутки совпадают с моими непромежутками. И когда буквально все промежутки совпадают со всеми непромежутками, голове совсем нечего переваривать. Все становится несущественным. В ней вращается космос.
За все приходится платить. А таким, как мы, – вдвойне. И именно поэтому так трудно по своей воле отрывать промежутки от непромежутков.
Люблю – значит: иди куда вздумается, делай что хочешь. Не люблю: иди туда, принеси то-то и то-то, завтра будет вот так, в следующем году – иначе. Люблю – значит: завтра я умру. Слушай же, как шумит дождь под твоей ладонью!
«Я скоро приду», – сказала ты. Когда – скоро? «Ну, очень быстро. Вот эта ночь пройдет, вот вторая пройдет, а после будет длинный-длинный день. Будем собирать в лесу грибы, покупать кукол у цыган и чернику в стеклянных банках. Только бы хватило сил переждать все ночи, с их люминесцентными лунами…»
Ты говоришь со мной лучше, когда тебя нет. Люди вообще говорят друг с другом лучше, когда молчат.
…Ты так странно уходила от меня сегодня. Ты сказала: «Обними меня, пока я еще теплая. А потом не обнимай больше – меня здесь не будет». А где ты будешь? «О, это лишнее, не переживай! Я буду еще лучше, когда уйду. Ты же меня совсем не знаешь! А я – не такой уж большой подарок. Когда ты снова найдешь меня, ты почувствуешь, что ТАМ, где ты меня потерял, – пусто. Просто я буду стоять рядом с тобой. Это так просто. Нужно только не бояться, не думать о страхе. И когда – сейчас или лет через пятьдесят – прохладные руки опустятся тебе на плечи, не визжать, как обезьяна. Ты будешь любить меня сильнее еще и потому, что захочешь быть со мной все время – других желаний у тебя не будет. Как это случалось со мной, когда я видела россыпи звезд и лун…»
Чтобы тебе было спокойнее, я не скажу, что знаю о тебе все. Ты можешь чуточку хитрить, если хочешь. Ты можешь говорить красивые, одной тебе понятные слова. Я не буду спорить. Твои луны сполна смешались с моими – в них не было болезненных непромежутков. Получилось одно золотое море. И ты стояла на берегу, беленькая, как ангел. И дыхание было легким. И сон был белый. И ты стояла рядом – беленькая, как ангел…»
«Вот оно что, – подумала Влада, выключая бра и плотнее укутываясь в теплый плед. – Значит, она всегда там, с ним… Что ж, пусть будет так…»
А еще она поняла, что болезнь не отступает и не отступит, пока не соединит эти две половинки в одно целое.
За окном уже светало. Влада накрыла голову пледом – она всегда любила спать так – и наконец заснула.
* * *
– Кажется, Макс влип в какую-то авантюру! – говорила Владе за два года до событий, о которых идет речь, Жанна. Они сидели на кухне, пили чай и по очереди подходили к плите, чтобы во второй или в десятый раз разогреть ужин для Максима – котлеты с жареной картошкой.
– Ложись спать, – сказала Жанна. – Я дождусь сама. Макс, наверное, не будет ужинать… – И она решительно выключила огонь под сковородой.
Ее немного раздражало, что на кухне их двое. Если бы Влады не было, у нее было бы совсем другое настроение, не такое миролюбивое.
– Эти котлеты уже превратились в угли! – улыбнулась Влада. – Неужели нельзя откуда-нибудь позвонить и предупредить, чтобы мы не волновались!
– А чего тебе волноваться? – хмыкнула Жанна. – Я вообще считаю, что ты должна подумать о своей личной жизни, а не нянчиться с нами.
Влада обиженно засопела, картинно вздохнула:
– Хорошо, встречай своего Дон Кихота сама… – и покорно отправилась в свою комнату.
Жанна только того и ждала – убрала со стола тарелки, выставила сковороду на балкон и пошла в ванную. Она не считала нужным торчать на кухне и выглядывать в окно мужа, но такой порядок ввела заботливая Влада. И Жанна не могла уйти спать, зная, что сестра будет сидеть на кухне хоть до утра. Знала она и то, что Макса возмущают такие полуночные дежурства, особенно, если их устраивает ее сестра. Но сказать об этом Владе она не решалась, знала, что та обидится. А еще хуже – может съехать с квартиры, чтобы «не мешать молодым», а съезжать Владе было некуда.
Жанна вышла из ванной и сразу услышала скрежет ключа во входной двери. Наконец! Жанна заметила, что за дверью Владиной комнаты скрипнул диван, наверное, сестра оторвала голову от подушки, прислушиваясь к звукам в прихожей.
– Привет! – Макс поцеловал Жанну в нос и тут же повел ее за руку на кухню, тихонько прикрывая за собой дверь. Он бросил плащ на стул и достал из своей сумки бутылку вина.
– Сейчас что-то расскажу, – шепотом сказал он и прижал палец к губам, взглядом указывая в направлении спальни Влады.
Жанна села напротив и смотрела, как он разливает вино в смешные пузатые кружки.
– Это очень хорошее вино, – сказал Макс.
Они тихонько чокнулись и одновременно, не сговариваясь, прижали пальцы к губам. Это их рассмешило, они залились беззвучным смехом и снова сделали один и тот же жест – строго показали друг другу сжатый кулак. Это вызвало новую волну смеха, они просто задыхались, стараясь не выпустить этот смех наружу.
– Мы идиоты! – сказала Жанна, вытирая слезы.
– Ш-ш-ш… А то придет фрекен Бок!
– Ты несправедлив, – серьезно сказала Жанна. – Влада столько нам помогает… Просто у нее никого нет. Вот выйдет замуж – еще вспомнишь ее котлеты…
Здесь она вспомнила, во что превратились котлеты, которые они, опережая друг друга, подогревали весь вечер, и ей снова стало смешно.
– Господи, а я так хотел серьезно с тобой поговорить! – с деланым разочарованием сказал Макс.
– Я тебя внимательно слушаю, – в тон ему ответила Жанна, подпирая рукой подбородок.
– Сейчас расскажу.
Но вместо этого он снова беззвучно рассмеялся, глядя на то, как Жанна сидит напротив него в зеленом халатике, по-лягушачьи поджав под себя ножки, и делает вид, что и в самом деле слушает очень внимательно.
– Ну?
– Хорошо, шутки в сторону, – наконец успокоился Макс. – Ты куда хочешь поехать – в Париж или в Токио?
– В Токио, – не задумываясь ответила она. – А из Токио можно и в Париж!
– Не смейся, я не шучу. Сегодня я встречался с одним переводчиком из Пен-клуба (не буду нагружать тебя подробностями), словом, мне предлагают представить новые рукописи для издания за рубежом. Обещают издать книги быстро. И это еще не все. Мне выплатят приличный аванс! А потом – очень хороший гонорар. Я согласился. Может, со временем сможем даже купить квартиру для нашей фрекен Бок. И вообще, хватит сидеть на картошке. Завтра же я отнесу все, что есть, в агентство. Как ты на это смотришь?
– Может, нужно сначала напечатать романы здесь?
– А что мне помешает сделать это позже? Я это оговорю.
– Как знаешь, – сказала Жанна. – Лишь бы тебя не обманули, сейчас все возможно…
Они еще долго сидели на кухне, пили вино, снова разогревали котлеты и смеялись. Потом вместе пошли в ванную. А когда, мокрые и счастливые, тихонько крались в темноте мимо комнаты Влады, Жанна снова услышала знакомый звук – Влада не спала. И ее охватило острое чувство жалости и раскаяния, будто она украла у сестры половину ее жизни.
«Ну что же у нее никак не складывается?..» – подумала Жанна. Но в тот же миг забыла обо всем – Макс снова целовал ее влажное лицо.
* * *
Та весна была очень красивой. Она наполняла все вокруг запахом сирени и каштанов. Он проникал в самые дальние уголки уставшего от суровой зимы города, тоненькими змейками заползал в ноздри очерствевших от забот горожан, и самые впечатлительные из них со священным трепетом вдыхали эти возбуждающие ароматы, будто наркоманы последнюю порцию героина. Особенно хмельными они были здесь, на окраине, где маленькие «хрущевки» и «гостинки» чередовались с панельными неуклюжими небоскребами.
Несмотря на то что сестры жили далеко от центра, они обожали свой район, который весной утопал в зелени, а зимой по самые уши накрывался шапкой снега – его здесь почти никогда не убирали вплоть до первой оттепели.
Здешние жители тоже были особенные. Именно в этом районе происходило «великое переселение народов»: сюда переселялись жители сел, устраивая на своих балконах настоящие курятники (чтобы быть всегда с мясом и яйцами), некоторые даже умудрялись держать не только кур, а еще и коз или поросят. Сюда стекались беженцы не только из ближнего зарубежья, но и встречались африканские и даже афганские общины. И в коридорах жилищно-коммунальных комбинатов, в этих отдельных государствах в государстве, где хозяйничали тучные женщины с громкими голосами и сожженными «химией» прическами, стояли фантасмагорические очереди из темнокожих граждан, которые на ломаном украинском требовали выдать им талоны на сахар. Весной, особенно в выходные, район превращался в цех по выбиванию ковров: в каждом дворе, под каждым окном и на каждой спортивной площадке женщины, мужчины и дети длинными палками колотили по развешанным коврам. И это напоминало священный весенний ритуал, смысл которого казался непостижимым для изумленных мусульман, которые давно уже имели современные пылесосы. Ковры выбивали с утра до вечера. А потом усталые и довольные соседи выносили на деревянные столики бутылки с водкой, бутерброды и кувшины с домашним квасом и до ночи пели песни, что тоже было непостижимым для смуглых детей юга.
…Утром следующего дня сестры так же сидели на кухне и пили кофе, перед тем как отправиться на службу. Жанна работала младшим научным сотрудником библиотеки, Влада находилась в поиске того единственного места работы, где бы она могла сполна раскрыть свои способности. И поэтому ее «трудовая книжка», этот пережиток прошлого, пестрела несколькими десятками всяких записей.
– Куда так рано ушел Макс? – спросила Влада. – Он хоть позавтракал?
– Ты же знаешь, он никогда не завтракает рано, – сказала Жанна. – А пошел он ксерить свои романы, а потом еще куда-то…
– Зачем?
Жанна поняла, что ей не отвертеться от объяснений и, собственно, не из чего делать тайну.
– Ему предложили подать рукописи для издания за границей. В переводе, конечно. Надо же оставить экземпляры для себя. Если бы у нас был компьютер, все было бы намного проще…
– Господи, зачем ему эти переводы? Пусть бы напечатался сначала здесь.
– Здесь это сделать сложнее. Кроме того, за книги пообещали сразу же выплатить гонорар.
– Разве так бывает? Бесплатный сыр – только в мышеловке! – улыбнулась Влада. – Откуда у Макса появились такие благодетели?
– Честно говоря, Макс пойдет сейчас на все, чтобы мы хоть немного выбрались из этой нищеты. Вообще, давай прекратим эти разговоры. Особенно с ним, хорошо?
– Как скажешь… Но я считаю, что вместо того, чтобы участвовать в сомнительных проектах, мы могли бы наконец продать тот родительский камешек. По крайней мере, хотя бы выяснить, что это такое. Может, что-то ценное? Вдруг именно из-за него приезжал тот французский дядечка, помнишь?
– С ума сошла! – Жанна засмеялась. – Откуда в нашей семье «что-то ценное»? Не верю. Это во-первых, а во-вторых… Не забывай, что этот камешек вместе с прадедом прошел сибирские лагеря, с бабушкой – эвакуацию, а папа считает его семейной реликвией.
– Но, помнишь, когда-то отец рассказывал о какой-то иностранной графине, в честь которой якобы тебя назвали? Думаешь, это ложь? А если вы действительно – аристократка, ваше высочество?
– Отец всегда был хорошим сказочником. Он рассказывал не только эту сказочку! А потом – если это действительно так, думаю, никто никогда не узнает правды. Не забывай, какие были времена. Если прадед что-то и знал о, как ты говоришь, иностранных корнях, его заставили об этом забыть.
– А как же папин французский? – не сдавалась Влада. – Ведь я точно помню, как он говорил с тем Флери!
– Ты просто фантазерка.
– Какая ты неромантичная… – вздохнула Влада. – Ну посмотрим на камешек еще разок, умоляю. Отец же недаром оставил его нам – мы можем делать все что вздумается!
– Смотри! – пожала плечами Жанна.
Она знала, что сестра с детства обожала разглядывать эту семейную реликвию, когда отец был в хорошем настроении и позволял это делать. А за годы их самостоятельной жизни они еще ни разу не прикоснулись к свертку, просто забыли о нем. Влада радостно соскочила с табурета и побежала в комнату шарить в ящиках. На кухню она вышла с маленьким свертком в руках. Жанна пила кофе и с улыбкой наблюдала, как сестра осторожно разворачивает и раскладывает на столе пожелтевшие тряпицы, некогда, возможно, бывшие носовыми платками, а возможно, и клочками дедовской портянки – отец хранил все в том виде, в каком получил от предков.
Наконец Влада развязала последнюю веревочку, и на куче тряпья появился темно-синий камень, по форме напоминавший слезу. Жанна взяла камешек и подбросила его на ладони:
– И по-твоему, это – драгоценность?
Влада поскребла поверхность камня ногтем, и из-под толстого слоя краски тускло блеснуло стекло.
– Не трогай! – возмутилась Жанна. – Тебе все надо попробовать на вкус! Этому камешку уйма лет. Пусть все останется так, как есть!
– Я понимаю… – тихо произнесла Влада. – Я не имею на это такого права, как ты…
Это был запрещенный прием, и Жанна снова почувствовала к сестре жалость и нежность. Она быстро сгребла тряпки и камешек со стола, бросила все в ближний ящик и ласково обняла сестру.
– Дуреха! Делай с ним что хочешь. Просто я сейчас думаю совсем о другом. Я хочу, чтобы у тебя была своя жизнь, своя квартира, чтобы ты не стояла у плиты, чтобы мы нажрались. Это ненормально. И если у Макса все сложится хорошо, ты сможешь жить иначе, лучше.
– Но я хочу жить с вами. Я вас так люблю, – ответила Влада, тоже сжимая сестру в объятиях. – Я никогда не буду жить так хорошо, как вы…
– Господи! – засмеялась Жанна. – Ты нас идеализируешь, а мы просто стараемся не ругаться при тебе.
Сестры еще немного посидели. Затем началась обычная утренняя суета с препирательствами, кому первому идти в ванную и кто у кого взял и не вернул косметический карандаш.
…До работы Жанна добиралась на автобусе, потом пересаживались в метро. Сегодня она забыла взять с собой книгу, поэтому ей пришлось наблюдать за дорогой, глядеть на лица, прислушиваться к разговорам. Сзади сидели две девушки, которым можно было дать и восемнадцать, и в то же время двадцать восемь: простенькие накрашенные лица, громкие голоса…
– Что же мне подарить тебе на свадьбу? – спросила одна.
– Да что угодно, мне все равно, не бери в голову, – отвечала вторая.
– О, придумала! Это будет как в анекдоте – куплю тебе вазу и вручая разобью… На счастье…
– И… у него на голове! – со смехом добавила «невеста».
– С удовольствием!
Они громко расхохотались и начали обсуждать фасон будущего свадебного платья. Простота бытия – вот что всегда удивляло Жанну в людях, заставляло ее сто раз пересматривать собственное отношение к жизни. Она порой ненавидела себя за постоянные внутренние монологи, за картины, которые она могла вызвать в своем воображении. Ей казалось, что она бы не загрустила и не пала бы духом даже в тюрьме: к ней «в гости» приходили бы все, кого бы она пожелала увидеть. Они пришли бы из небытия, из книг, живописных полотен, из звуков музыки (особенно ее любимых Грига и Моцарта), из всех времен… Они давно жили в ее воображении, она поселяла их в своей голове, предоставляя каждому персонажу отдельную чистенькую комнатку. Она была хозяйкой своего воображаемого отеля и имела полное право на непринужденный разговор с гениями и героями о погоде или свежести утренних булочек.
В одной из таких комнаток всегда жил Макс. Только сейчас, с течением времени, она могла пожертвовать беседой с ним ради собственных мыслей. Иногда бывало такое, что она (мысленно, конечно же!) запрещала себе даже приближаться к той двери в своем воображаемом «отеле мира», за которой поселила Макса, много раз даже пыталась выселить оттуда докучливого квартиранта со скандалом и обвинением в краже «отельного имущества». Напрасно! Он возвращался. И она понимала, что он здесь навсегда.
Простота бытия привлекала только как альтернативный, неприемлемый для ее психики образ жизни – легкий и необременительный, в котором нет места размышлениям о старости, страхе и смерти. Встреча с Максом сделала невозможным простоту ее бытия. Когда она впервые увидела его – не обрадовалась, как радуются все девушки настоящей (или притворно настоящей) любви с перспективой женитьбы.
* * *
Она никогда не мечтала о браке! Мысли о том, что один человек может принадлежать другому, вызывали у нее отвращение. Жанна сама не знала, откуда порой берется эта необузданность, эти безумные приступы яростного сопротивления всему, что окружало ее с детства. Ее согревала мысль о том, что отец (которого она всегда про себя называла не иначе как Оливером) – потомок какого-то древнего рода. Лучше было бы – чтоб цыганского! Это многое бы что объяснило и в характере самой Жанны. Дорога, высокие костры, ветер, свист кнутов, трубка с крепким табаком и водоворот шальной страсти, когда разрешается все, – вот какая сущность скрывалась за ее напускной сдержанностью. Она представляла себя всадницей в черной кожаной шляпе с широкими полями, белокурой ведьмой перед судом инквизиции, уличной циркачкой, танцующей босиком на раскаленных углях… О, надо было видеть ее в такие минуты! И Макс увидел ее именно такой.
…«Таких нет…» – подумал он, заприметив ее впервые на одной из студенческих вечеринок – тех нелепых ночных посиделок в общежитии, когда теряется реальность времени, хлопают двери и «на огонек» (а точнее – на запах незамысловатой еды) слетаются все, кто способен выставить на стол очередную бутылку «чернил». Он пришел уже на хорошем подпитии, в компании друзей из художественного института. В маленькую комнатку набилось душ тридцать, рваные облака табачного дыма висели в воздухе, как паутина в подвале, от музыки «Пинк Флойд», слишком широкой для узких стен этой студенческой кельи, содрогались окна, в полумраке светились красные огоньки сигарет, будто глаза тайных сыщиков.
Девушка сидела на подоконнике. Полная луна, которая, как огромное блюдо, висела за ее спиной, золотой полосой освещала только контур. Но что это был за контур! На ней, видимо, была длинная широкая юбка с красным отливом, короткие рукава-фонарики белой блузки были похожи в темноте на маленькие крылья, высокая прическа придавала всему образу средневековый вид. На ее руке позвякивала гроздь медных колец-браслетов.
– Привет вам, обитатели преисподней! – крикнул Макс и выставил на стол бутылку коньяка. Компания радостно загудела, зашевелилась, освобождая места новым гостям. Макс время от времени поглядывал на неподвижный силуэт на подоконнике. Девушка казалась ему мраморной статуей. Макс плеснул в стакан коньяку и протянул его в темноту:
– Ваш бокал, миледи!
Потом все закрутилось в его голове, как колесо. Когда он вспоминал хронологию событий того вечера, они казались ему сном или… рассказом. Возможно, это и был рассказ, плод его больного воображения? Но рассказ этого вечера в устах Макса звучал бы так: «Тридцать сумасбродных, горячих, растрепанных голов гоготали, сталкивались, как бильярдные шары, перекатываясь с туловища на туловище. От духоты и спиртного плавились пластилиновые лица, теряя индивидуальные черты. Облака тяжелого дыма и мощной музыки поднимались к потолку и, отяжелев, плотной, душной и липкой сетью спускались вниз, вызывая тошноту.
– Воды! – приказала она низким хрипловатым голосом, отбрасывая с лица прядь медных волос. – Ты! – указала на одного из тридцати.
Тот напряг шею, как бык перед бандерильей тореадора, и в его глазах желтым огоньком засветилась ненависть. Он тяжело поднялся и, сопровождаемый взглядом ее расширенных черных зрачков, покорно вышел из комнаты. Двадцать девять других взглядов вскипели той же опасной желтизной, впиваясь в ее тело, как пираньи, с наслаждением вырывая из него самые вкусные куски. Она смеялась под выстрелами этих взглядов, как от щекотки. Длинные кудри, будто клубок сплетенных змей, дрожали на ее плечах.
Тот, кто пошел за водой, вернулся со стаканом в руках. Он поставил его на маленькое блюдце и протянул ей. Она улыбнулась. Ей хотелось развлечений. Или – опасности.
– Пей! – сказала она и больше не смотрела на него, а уже смеялась с кем-то другим, наверняка зная, что стакан опустеет через мгновение. Ее поза, взгляд, смех, каждое движение – все, что было в ней страстно-обольстительного, – разжигало в глазах других массу смешанных чувств: от отчаянного восторга до экстатической ярости. Тот, кто принес воду, продемонстрировал пустой стакан и посмотрел на нее тяжелым взглядом.
– Еще! – сказала она. И это короткое слово было для него хуже выстрела. Он вышел снова.
Тишина обрушилась с потолка и раздавила под собою остальных псов-рыцарей. Тишина длилась до тех пор, пока тот, что принес воду, вернулся во второй раз… Было слышно, как стучало его сердце. Он так же протянул ей стакан. И так же, как в прошлый раз, сам выпил воду, стараясь не смотреть на лица остальных. Он знал, что так поступил бы на его месте каждый из присутствующих. Но лучше бы он выпил расплавленное олово!
В третий раз она выплеснула воду на стекло за своей спиной, и по нему поплыли размытые ночные звезды…
– Ха! – затаили дыхание двадцать девять грудей.
– Ха! – подскочила дьяволица, метким ударом ноги в стол упредила быстрое движение нападающего – стол перевернулся и сделал ее недосягаемой. А тот уже не мог контролировать себя. Мутным взглядом обвел он присутствующих, в его руке блеснуло лезвие.
Легкой походкой подошла она на расстояние удара к ножу, который, как рыбка, плыл в сумерках, и поймала лезвие маленькой ладонью. Рыбка ныряла и сопротивлялась в ее на удивление крепкой руке. И наконец замерла. Тот, что принес воду, отступил, выпуская из пальцев рукоятку.
Она медленно раскрыла ладонь и стерла с нее кровь белоснежным носовым платком. Укрощенный нож упал на пол. Представление закончилось… И только где-то в глубине, на самом донышке ее пульсирующего зрачка вздрогнула и на мгновение пронзила мозг молния боли.
О, если бы было возможным сейчас запрячь черных коней и промчаться по ночному городу, круша все на своем пути! Слушать у себя за спиной рев увешанного колокольчиками и лентами медведя, перекличку цыган, веселый звон бубнов и бус, от которого разлетаются на осколки окна обывателей, и звяканье тусклых бутылок со старым вином в тяжелых, плетенных из лозы корзинах!
Вот шальной кортеж влетает во двор старинного замка. И цветистая стая во главе с созданием, которое одновременно похоже и на ангела и на черта – женщиной в кожаной шляпе с широкими полями, – вмиг нарушает тихую заводь бала. Хрупкие блондинки прикрывают лицо пушистыми веерами, чтобы… скрыть зависть к той, которая может ВСЕ! Кавалеры, оберегая нравственность своих подруг, немедленно спроваживают их домой, чтобы… вернуться сюда уже без острых крахмальных воротничков.
Ха!
Прочь все, кто живет россказнями о крепости вина и поцелуев! Кто способен променять миг свободы на сто лет сытости!»
…Макс не помнил, как проводил Жанну домой, все смешалось в его голове – фантасмагория и реальность. Они целовались на лестнице как безумные и тогда же выжгли надпись на подоконнике «Макс + Жанна…»
А она, совсем юная, в тот же вечер поняла, что отныне наконец будет иметь на спине «свой» крест и никакого другого уже не будет.
Почему крест? Потому что теперь мысль о том, что один человек может принадлежать другому, больше не пугала ее – каждому судился СВОЙ крест, важно лишь отыскать его среди тысячи похожих.
Но все же Жанна чувствовала, что кто-то помогает ей в этой каждодневной работе, и сейчас уже точно знала, что это сестра пытается ухватиться хоть за краешек этого символического креста. Это порой выглядело трогательно, порой смешно, а порой – раздражало.
* * *
…Вечером сестры снова сидели на кухне, снова по очереди подогревали остывший ужин.
– Тебе не кажется, что у нас обеих – дежавю? – спросила Жанна.
– Это мне больше напоминает фильм «День сурка», – ответила Влада. – Помнишь, герой все время просыпается в одном и том же дне, идет одним и тем же путем, встречает тех же людей с теми же проблемами и вопросами?..
– Но в конце там все-таки что-то меняется…
– У нас тоже изменится. – Влада мечтательно подперла рукой подбородок. – И однажды утром мы проснемся и увидим за окном…
– …Небо в алмазах!
– Да! – серьезно отозвалась Влада. – Я в это верю.
В дверь позвонили, и сестры взволнованно переглянулись – у Макса был свой ключ.
– Я сама! – упредила Жанна сестру, которая уже вскочила со своего места. – А тебе лучше уйти – ты же знаешь, Макс не любит посиделок на кухне.
– А я, может, феминистка, и мне все равно, что́ не любит твой муж! – буркнула Влада, но все же послушалась и пошла в свою комнату.
Макс ввалился в прихожую как мешок и сразу же начал медленно сползать по стене на пол. Жанна едва успела подхватить его и, ведя в комнату, пыталась понять: он крепко выпил или случилось нечто похуже. Макс упал на диван, прижимая к груди руку. Только сейчас Жанна заметила, что его лицо покрыто синяками, а запястье как-то неестественно вывернуто.
– Что случилось? – преодолевая ужас, спросила она.
– Ничего страшного, – сквозь зубы произнес он. – Меня избили – обычная история в нашем районе. Жаль только – сумку украли! Денег там не найдут, разве что рукопись. Надо будет утром пошарить по помойкам – должны выбросить…
Его лицо медленно покрывалось капельками холодного пота.
– Господи, у тебя, наверное, перелом! Я вызову «скорую»!
– Не надо! Утром пойду в больницу. А сейчас дай мне что-нибудь обезболивающее…
Жанна знала, что спорить с ним бесполезно. Она побежала на кухню, где уже хозяйничала сестра, перерывая аптечку. Наконец они нашли сильный анальгетик и решили, что надо дать Максу еще и снотворное.
Он покорно выпил все, что принесла Жанна. Потом она сделала ему компресс, отерла лицо влажным полотенцем и осторожно раздела.
– Кажется, мне уже получше…
– Давай я все же позвоню в милицию. Ты видел, кто на тебя напал?
– Господи, оставь меня в покое! Какая милиция? А тех подонков я даже не рассмотрел в темноте…
Он со стоном перевернулся на бок.
– Возьми там… деньги… Они к ним не добрались… – Это последнее, что она услышала от него.
Жанна полезла во внутренний карман его пиджака и достала оттуда пятьсот долларов.
* * *
Утром Жанна отпросилась с работы и повела Макса в районную поликлинику, а Влада побежала на поиски папки с рукописью. Через три часа они снова сошлись у себя на кухне. Рука Макса была загипсована. Влада доложила, что она тщательно обыскала все мусорные контейнеры, даже съездила в соседний район, а еще обследовала чуть ли не все урны на троллейбусных остановках, но ничего не нашла.
– Ну и бог с ним! – успокоил ее Макс. – Выйдет книга – можно будет потом ее перевести. А может, и не нужно – у меня полно других идей. Не волнуйтесь, девушки, все будет хорошо! Всё – забыли! Давайте лучше обедать. Ближайшую неделю нам есть на что жить. И это лишь малая толика того, что мне обещали.
Во время обеда Макс рассказал, что в офисе зарубежного издательства его приняли весьма уважительно, он подписал соглашение, ему выдали небольшой аванс и пригласили прийти через две недели, чтобы получить остальную сумму.
Потом Владе были торжественно вручены деньги на все нужды, и она радостно побежала по магазинам и рынкам, а Жанна осталась дома. Несмотря на то что рука у Макса еще болела, они вместе провели замечательный день. Сломанное запястье Макса красноречиво свидетельствовало о том, что, по крайней мере, ближайшие две недели они не будут никуда спешить. И наконец хоть немного изменится монотонный ритм их жизни с разогревом позднего ужина.
– Будем валяться и смотреть телевизор! – сказал Макс.
– Будем пить пиво! – сказала Жанна.
– «Асти-Мартини»! – поправил ее Макс.
– С ананасами! – добавила Жанна.
– А еще… – и он, отведя в сторону загипсованную руку, привлек ее к себе.
* * *
…Писатель Жан Дартов собирался на поэтический вечер, который должен был состояться в библиотеке Киево-Печерской лавры. На вечер приглашены гости литературного семинара, посвященного славянской письменности, – московские и петербургские поэты, литературные критики, и именно ему, Жану Дартову, единственному из всей местной братии, поручили открыть вечер да еще и принять участие в литературных чтениях. Вообще, «Жан Дартов» – это был не совсем удачный псевдоним главы творческого объединения «Логос», в который входили в частности писатели-«семидесятники», маскировавшиеся в свои лучшие времена под комсомольских работников или эрудитов-сантехников.
На самом деле Жана Дартова звали просто – Иван Пырьенко. Но в молодости, в бытность функционером райкома комсомола, он издал свою первую книжечку патриотических стихов и, на всякий случай, подписался этим странноватым псевдонимом. Книжечка понравилась «в верхах», стихи из нее стали использовать на торжествах и праздниках.
Трогательные малыши в белых чулочках по очереди звонко произносили стихотворные строки Жана Дартова и срывали шквал аплодисментов политически сознательной аудитории. Референты отделов культпросвещения всех уровней получили приказ разыскать талантливого поэта-патриота. Вскоре гений отыскался сам. Скромно опустив глаза, молодой комсомольский вожак признался на партсобрании, что именно он и является пламенным певцом суровой и прекрасной действительности. Правда, его немного – совсем по-отечески – пожурили за слащавый псевдоним, но имя гения уже прочно вросло в сознание масс, и Жан Дартов остался Жаном Дартовым. Только теперь он начал получать гонорары за каждый концерт, на котором звонкоголосые ангелочки произносили его бессмертные строки. Так скромный комсомольский лидер Ваня, утомленный отчетами о сборе взносов и многочасовыми выступлениями в цехах заводов и фабрик, исчез из поля зрения общественности. Зато появился молодой литератор Жан Дартов и начал свой нелегкий путь в искусстве.
Тогда он и не представлял себе, каким он окажется сложным! Если бы юный Ваня полностью осознавал, что времена имеют свойство меняться, он, возможно, никогда бы не решился вступить на этот путь.
Безумный ужас охватил уже довольно известного, но еще молодого стихотворца, когда он впервые прочитал Пастернака, Мандельштама, а позже – Маланюка и Плужника. Только тогда он догадался, на какую скользкую дорожку толкнуло его причудливое желание прославиться. Нет, это была даже не дорожка, это был канат над пропастью, из которой на него всегда смотрели чьи-то насмешливые глаза. И эти глаза он ненавидел, тщательно обдумывая каждый свой следующий шаг.
Со временем поддерживать имидж становилось все сложнее. Патриотические темы исчерпались. Даже новая, хорошо изданная книга очерков «Мы – дети УПА» пылилась на полках книжных магазинов. Молодежь гребла Кастанеду и Павича, из «своих» – Андруховича и Шкляра, бывшие идеологи-патриоты сменили лексику и раскололись на множество враждующих лагерей, друзья-сверстники тоже разбились на два лагеря: первые – не выпуская из рук «мобилок», руководили мифическим процессом интегрирования родной страны в цивилизованный мир, вторые – слонялись по дешевым забегаловкам и цинично называли своего бывшего приятеля «дешевой подлюгой». Жан остался на распутье.
Честно говоря, ему очень хотелось и самому засесть за деревянным столом пивнушки вместе с посиневшими знатоками Сартра и невзначай – на удивление этим закоренелым циникам – прочитать хорошее стихотворение, в котором они почувствовали бы ледяное дыхание Серебряного века. Но такого стихотворения в арсенале Жана Дартова не было. И он был вынужден поддерживать свое реноме среди «малиновых пиджаков», которые жаждали приобщиться к высокому искусству более опосредованным образом. А кроме того, время от времени щедро финансировали выход очередной книги кумира своей бурной юности. Несмотря на это, Жан вовсе не был бездарным. За годы своей литературной карьеры он научился довольно умело и даже талантливо синтезировать в своих творениях стихи именитых предшественников. Иногда это получалось неплохо. И позволяло как-то держаться на плаву. Но Жан чувствовал, что самого главного в его жизни так и не произошло. Его знали, его охотно печатали, его приглашали вести вечера и форумы, с ним хотели познакомиться, его посылали на международные сборища и конференции по вопросам защиты прав человека. И он старался. Накупал книг, «наедался» ими под завязку, сходил с ума, терял аппетит и сон, чтобы в одну из ночей высидеть, вымучить, выдавить из себя, как плод, стихотворение или рассказ. Его способность синтезировать заменяла талант. Но как же он боялся того, что впоследствии кто-то – возможно, какой-то новоявленный критик-сопляк, тщедушный гений-филолог, выпускник Киево-Могилянки со своим собачьим нюхом на настоящее мясо раскусит синтетическую продукцию известного и знаменитого писателя Жана Дартова и выплюнет из себя (а они, эти молодые наглецы с длинными волосами, способны замахнуться на какие угодно имена) грубую статейку в газетенке вроде «Книжник-ревю» или «Литература плюс».
И единственным его защитником окажется верная и уважаемая образованной общественностью «Литературная Украина».
«Кстати, надо поинтересоваться, будет ли сегодня корреспондент из «Литературки», – подумал Дартов, подбирая галстук. – Фото с московскими коллегами не мешало бы сделать…»
На плите что-то зашипело – это вылился кипяток, в котором варились четыре толстых сардельки. В свои сорок с хвостиком Жан еще ни разу не был женат, хотя женщин у него было много и на любой вкус: от молоденьких поэтесс из провинции, живших у него по нескольку недель, до изысканных окололитературных дам, которые «забегали на огонек» и охотно выслушивали пламенные речи литературного мачо. Жан не решался признаться даже себе самому, что не может жениться не только потому, что это ограничит свободу, которую должен иметь художник, а скорее из-за безумного страха раскрыть тайну своей литературной лаборатории. Этот страх был сильнее любви.
Сегодня он должен был выступать вместе со своими сверстниками из «ближнего зарубежья», знакомым по прежним молодежным семинарам, которыми он восторгался и которые, по незнанию языка, считали его своим «братом по цеху». Но высокие эмоции давно ушли в прошлое. Жан гордился тем, что именно он будет выступать «на уровне». Потому что смог удержаться, потому что не спился и имеет хороший презентабельный вид в отличие от непризнанных любителей Борхеса, которые все еще толкутся в дешевых забегаловках, сбивая с толку юных бакалавров-филологов.
Жан Дартов поужинал, надел лучший костюм, прихватил с собой пачку новых книг, небрежно бросил их на заднее сиденье «мицубиси» и отправился в лавру, мысленно проговаривая свою речь.
Разочарование постигло его с первых минут встречи с гостями. Дартов с удивлением и чувством внутреннего дискомфорта сразу заметил, что один из гостей – поэт из поколения «восьмидесятников», который якобы сейчас жил в одной из европейских стран, был одет в дешевую синюю курточку и помятые брюки. К тому же он стоял в окружении таких же нереспектабельных собратьев и на глазах у всех отхлебывал из плоской бутылки водку, закусывая после каждого глотка пирожками сомнительного вида.
Жан все же подошел и напустил на себя такой же богемный флер, который, правда, не очень вязался с его шикарным костюмом и безупречно подобранным галстуком. Московский гость тут же положил ему на плечо свою жирную от пирожков ладонь, и Жан понял, что он как писатель, как талантливый представитель своего поколения все же существует, что его приняли, что он – свой.
Начались разговоры на общие темы, воспоминания, цитирование стихов, прикладывание по очереди к залапанной бутылке водки. Жан тоже, преодолевая отвращение, сделал глоток и предложил всем пачку «Голуаза». И с тем же неприятным чувством наблюдал за тем, как шумная толпа моментально разметала сигареты, а поэт, снисходительно похлопывая его по спине, прихватил целых пять. В то же время Жан на уровне подсознания ощущал, что этот круг – а в нем были и свои, те самые, что околачиваются по дешевым кабакам, – насмехается над ним, презирает и использует его. Публика уважительно обходила этот богемный кружок и направлялась в зал библиотеки, молодежь останавливалась и под предлогом «давайте перекурим…» глазела на писателей, девушки в очках прижимали к груди книжки, с которыми мечтали подойти к авторам, чтобы получить автограф или приглашение на кофе. Жан заметил, что ни у одной их них не было его шикарного издания «Украина моя калынова» – только тоненькие сборники гостей и совсем плюгавенькие книжечки «восьмидесятников».
Поэт наконец сбросил тяжелую руку с плеча Жана и замахал кому-то из толпы, тыча своего приятеля в бок: «Сейчас я тебя познакомлю… Это мой друг – классный мужик и большой талант! Хоть будет перед кем бисер метать!»
Жан с интересом посмотрел в ту сторону, куда было обращено внимание поэта. Из толпы показался Макс с загипсованной до локтя рукой. Рядом с ним шла удивительно красивая стройная женщина в потертых джинсах. Жан вздрогнул…
– Привет, Иван! – через плечо бросил ему Макс и сразу же попал в медвежьи объятия поэта.
– Чертяка! Ну ты как всегда! – кричал поэт, указывая на сломанную руку Макса. – В морду кому-то, небось, заехал? А это кто такая – любовница или жена? Везет же тебе на баб! Ничего, если я вдруг блевану? – обратился он к женщине.
– Только не на мое вечернее платье! – просто ответила она.
– Абажаю ваш язык! – продолжал фонтанировать поэт, вежливо наклоняясь и целуя руку Жанне. – А ты маладец!
Дартова оттеснили, и он гадливо, но с завистью наблюдал, как непринужденно общаются эти совершенно разные люди, как легко находят они общий язык, и этот язык был ему незнаком.
Поэт представил всем Макса, без конца повторяя всякие банальности вроде «вот человек, тоже просидел в совдеповской заднице, а себя не предал…» – и Дартов вздрагивал, принимая эти слова как выпад против себя…
Он вздохнул с облегчением только тогда, когда всех наконец пригласили в зал. Но настроение было испорчено. Он утешал себя тем, что, вопреки всему, выступать перед гостями будет именно он, а не какой-то выскочка-неудачник с загипсованной рукой.
* * *
Время пролетело незаметно. Макс сидел на больничном, Жанна взяла отпуск за свой счет, и они беспечно тратили деньги. Сумма в две с половиной тысячи гривен казалась им безразмерной. Влада, как всегда, занималась своими делами, и они часто оставались дома наедине. Порой они даже не застилали постель, и зеленый халатик Жанны был для Макса самым изысканным нарядом в мире.
Они никогда не останавливались так надолго в погоне за хлебом насущным, и эти дни, растянутые во времени и пространстве, как густой мед, капали с небесной ложки, сгущались, консервируя в себе каждое слово, каждый жест и движение. Они давно привыкли понимать друг друга без слов, но теперь эта пауза во времени позволила им по-новому осознать, насколько они близки. Даже вечерние вторжения Влады с ее безумными идеями и болтовней, к которым они уже давно привыкли и с которыми смирились, вызывали почти физическую боль, как укол в десну при посещении стоматолога.
– Мы просто эгоисты! – говорила Жанна, когда они закрывались в своей комнате и делали вид, что в восемь часов вечера уже спят, лишь бы не выходить на кухню.
Утром они находили ужин, который служил им завтраком, и «строгую» записку с инструкциями: «Купить хлеба» или «Разморозить курицу».
Однажды утром в записке былосказано: «Сумасшедшие! Во-первых: настал срок снимать гипс (врач работает с 14.00), во-вторых: деньги закончились! Целую. Влада».
– Она права, – сказал Макс, – нужно браться за ум. Пошли в больницу, а потом вместе заглянем в агентство. Узнаем, как дела с переводом, и получим обещанную часть гонорара. А поужинаем в ресторане.
Через час они уже ехали в центр. Макса освободили от гипсового нарукавника.
– Надо размять руку! – повторял Макс и обнимал Жанну всю дорогу – в троллейбусе, в метро, на ступеньках эскалатора.
«Вот босяки!» – обругал их какой-то старичок, и они засмеялись, ведь и впрямь напоминали двух распущенных подростков в рваных джинсах.
– Кстати, дед метко подметил, – сказал Макс. – Знаешь, что мы сейчас сделаем? Получим деньги, и я поведу тебя в лучший бутик – купим тебе вечернее платье и туфли на высоких каблуках. Какого цвета ты хочешь платье? Зеленого?
– Господи, это какой-то лягушачий цвет! – засмеялась Жанна. – Я его никогда не любила.
– А я люблю тебя в зеленом… В нем ты похожа на боттичеллиевскую Венеру.
– Насколько я помню, она – раздета…
– Какая разница! Ты даже в скафандре будешь выглядеть как раздетая!
– Ничего себе! – притворно строго сказала Жанна. – Ведите себя прилично, господин миллионер!
Наконец эскалатор поднял их наверх, и Макс заглянул в свой блокнот – он никогда не запоминал адреса.
– Это тут, недалеко, – сказал он.
В тихом переулке длинной цепочкой протянулись маленькие частные кафе, мелкие фирмы и магазинчики.
– Это здесь, – сказал Макс, еще раз сверяя адрес по записной книжке.
– «Салон модной одежды “Пани Амелия”», – прочитала вывеску Жанна, – ты ничего не путаешь?
– Ничего. Может, салон взял здесь помещение в аренду – тогда его, кажется, не было… Зайдем.
В салоне стоял запах духов и дорогих вещей, девушка-продавец, взглянув на их одежду, даже не встала со своего стула – только, на всякий случай, незаметно положила палец на кнопку вызова охраны. Она с недовольным видом подтвердила, что салон действительно открылся неделю назад, а раньше помещение принадлежало горсовету и долгое время находилось в состоянии перманентного ремонта. О существовании издательского представительства она слышала впервые.
Макс с Жанной обошли еще несколько магазинов и кафе, но поиски не дали никаких результатов…
– Я идиот… – сказал Макс, когда они, уставшие и измотанные, наконец присели в одной из кофеен. – Тебе нельзя жить со мной… Можешь бросить меня в любой момент. И, пожалуйста, не говори мне, что «рукописи не горят»! Я всегда знал, что нельзя жить с литературы. Я ненавижу само это слово. Я бы отстреливал таких идиотов, как я. Молчи. Я больше ничего не хочу слышать!
Но она ничего не говорила. Она видела, как большая черная воронка разверзлась перед ними и затягивает Макса в свое чрево. И она, Жанна, была бессильна перед ней, она только могла держать его за руку. Просто – держать за руку, пока он сам не захочет отпустить ее пальцы…
* * *
Прошло уже несколько месяцев, но Дартов все еще с отчаянием вспоминал тот поэтический вечер в библиотеке. Однако теперь к зависти, обиде и недоумению примешивалось совсем другое – предчувствие будущего триумфа. От него, Дартова, ждали чего-то невероятного – и он создаст это невероятное любой ценой! Его колесо закрутилось давно, но теперь он не будет сидеть в нем, как никчемная белка. Он будет раскручивать его снаружи. И – в ту сторону, в которую ему, Дартову, захочется!
«Человек приходит в этот мир не для того, чтобы писать произведения, – с улыбкой вспоминал он хмельное бормотанье московского гостя в старой курточке. – Это все – херня, мифы для графоманов, которые не понимают, что искусство – уничтожает…»
Ха! Хорошо ему говорить! Дартов снова и снова вспоминал, как тот, пошатываясь перед завороженной публикой и отхлебывая из термоса «якобы кофе», читал свои стихи. Дартов не понимал, почему его слушают. Слушают даже после того, как этот писака едва не устроил в зале настоящий скандал, когда кто-то позволил себе слишком громко разговаривать во время его выступления. Поэт прервал себя на полуслове и неожиданно топнул ногой: «Вон из зала!»
– Да мы тут… обсуждаем… – робко пояснили ему.
– На хрена мне ваши обсуждения! – бросил тот, прикладываясь к термосу, и вдруг, благодаря едва слышной реплике той же женщины в потертых джинсах, затих, как разъяренный носорог после укола со снотворным, и уже миролюбиво добавил: – Ну хорошо, поехали дальше…
Почему, почему они слушали его? Потому что и сами были юродивыми? Или секрет заключался в чем-то другом? В полной безнаказанности? Но что дало ему ту безнаказанность и ту власть над толпой? Неужели только зарифмованные слова? Неужели публика не видела его неопрятности, грубости и презрения?
Он представлял, как уже совсем скоро выйдет на другой уровень, по крайней мере, не на эту жалкую сцену монастырской библиотеки. Нет! В зале почтительно будут стоять – именно стоять! – люди в изысканных нарядах: фраки, бабочки, вечерние платья, бриллианты… И он будет иметь полное право топнуть на них ножкой и отхлебнуть из стакана вино… Он достаточно поработал, чтобы поставить в конце именно такую точку.
Несколько долгих месяцев он жил, как робот, запрограммированный на определенное число – день триумфа. И этот день настал. В середине апреля он наконец получил конверт с иностранным штемпелем от своего литературного агента. Кроме письма, в нем было несколько газет. Он развернул первую – «Гардиан», – и заголовок на четвертой странице на мгновение заставил сердце и дыхание замереть: «Литературный гений третьего тысячелетия грядет с востока!».
* * *
…Сёстры больше не сидели на кухне вместе. Жанна ложилась рано, и Влада подозревала, что этот ранний сон сестры, которая в семье слыла «совой», имеет свои опасные причины – Жанна начала употреблять крепкие снотворные. Макс все чаще засиживался до утра в сомнительных компаниях, а то и вовсе не приходил ночевать. Первые месяцы Влада пытались вести с ним «воспитательные беседы», но они не доходили до затуманенного алкоголем сознания. Макс бросил работу, Влада никак не могла найти для себя приличного места, работала только Жанна. Но ее жалкий заработок не мог обеспечить семье нормального существования. Равнодушие вошло в их жизни, как входит старость – незаметно и надолго, до конца дней. Они избегали друг друга, почти не включали телевизор и экономили на газетах.
Однажды вечером Макс вернулся на удивление рано. Влада хорошо помнила, что именно в тот вечер они с сестрой почему-то все-таки собрались на своей любимой кухне и пытались наладить хоть какой-то контакт. Макс вошел и молча положил на стол газету. Его лицо было бледным. Он хотел что-то сказать, но сумел сделать только какой-то неопределенный жест, потом улыбнулся судорожной улыбкой и, не раздеваясь, пошел в свою комнату, громко хлопнув дверью.
Влада схватила газету первой, просмотрела ее и наконец дала выход своему гневу:
– Он просто с ума сошел! Долго это будет продолжаться? Что, собственно, произошло, ты мне можешь объяснить?
Пока Влада изливала в монологе свой гнев, Жанна углубилась в чтение рецензии на новый роман известного писателя Жана Дартова. Сообщалось, что Дартов – единственный автор, который не только прорвался на европейский рынок, но и несколько его новых романов выдвинуто на престижную международную премию. Далее была сама рецензия.
…Чем больше Жанна вчитывалась в строки и цитаты, тем сильнее билось ее сердце: это была рецензия на романы Макса!
Дочитать она не смогла. Влада со страхом смотрела, как сестра, обхватив голову руками, стала бегать по кухне, сметая на своем пути табуреты, потом на пол полетели тарелки…
В приступе гнева Жанна была прекрасна – ее глаза и щеки пылали, тугой пучок волос распался и они волной рассыпались по плечам. Влада никогда не видела сестру в таком состоянии.
– Сволочь… – шептала Жанна. – Я убью тебя, сволочь!
Наконец она затихла и, не отрывая ладоней от лица, сползла по стене на пол. Влада бросилась к ней с валидолом, но та отвела ее руку и посмотрела на сестру совершенно спокойным взглядом. Влада содрогнулась: это был холодный взгляд человека, принявшего решение. Больше они не разговаривали. Влада наблюдала, как сестра листает страницы адресного справочника. Наконец она нашла то, что искала, сделала коротенькую запись на листке бумаги, положила его в карман плаща и стала быстро собираться.
– Ты куда? – спросила Влада. – Я пойду с тобой, уже поздно…
– Оставь! – Это было сказано таким тоном, что Влада не осмелилась возразить.
– Я скоро вернусь! – крикнула Жанна, заглядывая к Максу.
Ответом ей была тишина. Тишина и темнота…
* * *
Она не вернулась… Утром следующего дня Влада изо всех сил трясла Макса за плечо, но он смотрел на нее сквозь сон и поводил в воздухе рукой, словно отгоняя назойливую муху. Влада решила подождать до вечера. Вечером Макс выполз на кухню и жадно пил из крана ржавую воду. Грязная рубашка прилипла к его спине. Влада только сейчас заметила, как он похудел.
– Ты не знаешь, куда подевалась Жанна, ее нет почти сутки? – решилась спросить она.
Макс оторвался от крана и глянул на нее мутными глазами:
– Она имеет право… Я слишком долго мучил ее… Она заслуживает лучшего.
Такой ответ Владу не устроил. И она еще полночи обзванивала всех знакомых, друзей, потом – дрожащей рукой набирала номера моргов и больниц. В милиции ей сказали, что подавать в розыск нужно после трех дней отсутствия пропавшего.
На следующий день, выйдя на кухню, Макс застал Владу в той же позе у телефона. Он уже выглядел лучше.
– Где Жанна? – спросил он. – Она звонила?
Влада молча покачала головой. Макс быстро оделся и выскочил из квартиры. Он вернулся вечером, и по выражению его лица Влада поняла, что поиски не дали никаких результатов…
Потом они подали в розыск. И началась череда вызовов в отделение милиции, визитов следователей и бессонных ночей, когда они сидели на кухне, не спуская глаз с телефонного аппарата.
Так прошел месяц.
В один из таких вечеров случилось то, о чем Влада до сих пор вспоминала с ужасом… Еще в начале поисков Макс потерял сон, изнурял себя бесконечной беготней по улицам города, по сто раз на день заходил к знакомым с одним и тем же вопросом: не видели ли они Жанну, и в итоге – попадал в отделения милиции, избитый и пьяный. «Кажется, у него поехала крыша!» – говорили Владе друзья.
Она не верила, пока не случился тот приступ, во время которого Макс почти что разгромил квартиру и едва не прирезал соседа, который зашел поинтересоваться, что происходит.
Именно тогда он, находясь в состоянии крайнего отчаяния и безумия, схватил Владу за плечи и вдруг затих:
– Жанна!
Вспоминая этот миг, Влада понимала, почему не позволила бригаде санитаров, которую вызвали соседи, забрать Макса. Никто и никогда не обращался к ней – пусть и с чужим именем – с такой нежностью.
– Жанна… Жанна… – повторял Макс, сжимая ее плечи, погружаясь лицом в ее волосы. На какое-то мгновение она почувствовала, что сама теряет рассудок, представила, что все самое страшное позади, что она и есть Жанна, новая Жанна, которая вернулась, которая давно ждала этой нежности. Но Макс тут же оттолкнул ее:
– Ты – не Жанна…
Он опустился на стул и заплакал – так страшно, как это могут делать только мужчины. В дверь уже стучали, звонили, и Влада, воспользовавшись моментом затишья, заставила Макса выпить несколько таблеток снотворного и только потом открыла дверь.
С этого дня она стала закрывать Макса в комнате, давала ему лекарства и решила начать собственные поиски. А для этого нужны были деньги. Много денег…
Соло
* * *
Влада проснулась в половине девятого. После ужина с Максом она заснула не раздеваясь, усталая и раздраженная чтением его безумного опуса. Как всегда, она должна была зайти в комнатушку Макса, влить в него, полусонного, очередную порцию лекарств, убрать, вынести мусор, оставить еду, воду и стопку чистой бумаги. Эти утренние визиты в обитель отшельника становились для нее все более тягостными. Но дело понемногу сдвинулось с места, и бросать все на полпути не имело смысла. Ей все же удалось вытянуть из Макса историю с похищением романа и связать ее с исчезновением сестры. Полтора года назад она даже высказала свою гипотезу следователю, и тот поговорил с Дартовым, который теперь имел не только славу, но и коттедж в престижном районе города и личного телохранителя. После разговора следователь заверил Владу, что она ошибается, и посоветовал не вмешиваться в ход дела. Правда, он скрыл то, что встреча имела весьма неофициальный характер и состоялась в элитарном ресторане «Националь».
– Вам не стоит распространять сплетни о таком человеке, как Дартов, – миролюбиво сказал следователь. – Вы же не хотите отвечать перед судом за клевету?
Влада, конечно, этого не хотела. Она поняла, что подступиться к такой фигуре, как известный писатель и общественный деятель Дартов, сможет лишь тогда, когда будет иметь возможность войти в круг его общения.
Эта мысль пришла к ней в одну из ночей, когда она с тревогой прислушивалась к тяжелому дыханию Макса, спавшего в своей комнате прямо на полу. Но это окружение было для нее чужим. Влада это знала наверняка. Там были мужчины со «стерильнымы лицами» – такие лица она видела в старых кинолентах: мужественные скулы, четко очерченные брови и губы, а главное – фанатичный взгляд честного борца за справедливость. Однажды, когда ей было лет десять, пересматривая фильм «Адъютант его превосходительства», она спросила у отца: ходит ли главный герой в туалет? Положительная ответ стал для нее пулей в сердце – Влада была шокирована. С тех пор, рассматривая портреты сильных мира сего, она представляла, что у этих небожителей такие же нужды, как и у всех других людей. И это позволяло ей никогда и ни перед кем не комплексовать.
За свои двадцать семь лет Влада сменила кучу профессий и теперь радовалась, что многочисленные записи в «трудовой книжке» уже не играли такой серьезной роли при приеме на работу. Ей никогда не казалось геройством то, что лет десять назад воспевалось в печати, – «тридцать лет на одном месте» или «трудовая династия Сидоренко отработала на родном заводе в целом сто двадцать лет!» Она и тогда с ужасом представляла себе этих людей, связанных по рукам и ногам определенной профессией, которые из года в год ходили одной и той же дорогой, видели одни и те же лица и сами становились частью безликой массы, биоматериалом для ненасытного молоха системы. У нее сформировалось довольно ироничное отношение к жизни, а внутренний протест заставлял вечно идти против течения. Даже если это было во вред себе. По велению неведомой ей силы она должна была делать все иначе, чем это делают другие: сидеть, когда все стоят, смеяться в самые торжественные моменты и бесноваться посреди моря благодушия.
Довольно четко она осознала противоречивость своей натуры на концерте симфонической музыки, куда ее однажды пригласила одна из подруг. Концерт проходил в рамках какой-то международной акции, в оркестре играли музыканты со всего мира. Партер оперного театра переливался блеском бриллиантов, благоухал французскими духами, звенел плебейскими мелодиями мобильных телефонов. Дамы сияли обнаженными спинами и напоминали стаю блестящих морских котиков. Они грациозно вытягивали длинные – и не очень – шеи, высматривая в зале «своих», и листали программки: «О! Бетховен! О! Брамс!» И Влада очень пожалела, что не надела свои простые джинсы. Дух противоречия терзал ее. К тому же она хотела есть. И с первыми же звуками музыки образ вареника закрутился в ее голове: оркестр, расположившийся на сцене полукругом, напоминал ей большой вареник с аккуратно завернутыми «ушками». Это вовсе не означало, что искусство было ей непонятно. Наоборот. Но безумный дух сопротивления заставил ее представить именно вареник…
Рассматривая напыщенную публику в вечерних платьях и смокингах, она остро чувствовала неестественность происходящего, и ей хотелось быть еще более ненастоящей, чтобы довести ситуацию до полного абсурда. Если бы у нее были чипсы, она бы стала их жевать. И «вечерние платья» с презрением поглядывали бы на нее, считая ниже своего достоинства делать замечания всякому «сброду». Публика старательно хлопала между частями циклических произведений, и Влада вздрагивала от неловкости и видела, что эти аплодисменты вызывают у дирижера саркастическую усмешку.
Ирония и авантюризм родились раньше нее, а дух сопротивления стал ее движущей и разрушительной силой, против которой было не устоять! Удивительная музыка, которую она не способна была воспринимать в респектабельном окружении, не вызывала в воображении картин и грез, как это бывало детстве и юности. Теперь она наблюдала за оркестрантами: видела красные от напряжения лица, обнаженные руки скрипачек, дрожащие, как студень, при виртуозных пассажах. Она пыталась пристыдить себя за неспособность воспринять всю фантасмагорию звуков. Но все вокруг казалось ей невероятно смешным. Толстяк с литаврами покорно и грустно сидел на круглом стуле в ожидании своей партии. Когда настала его очередь, он торжественно встал и выполнил серию звонких ударов – он сделал это так, будто это был последний звездный час в его жизни.
Музыканты, отметила Влада, были похожи на свои инструменты: виолончелистки отличались тяжелыми бедрами и узкими плечами, длинноносые альты напоминали испуганных птиц, выклевывающих с пюпитров ноты, как корм. А все вместе они напоминали марионеток, подчиняющихся воле дирижера. Возможно, это и раздражало больше всего. Сейчас Влада отдала бы предпочтение уличной скрипочке, напевающей под окнами или в метро. Но есть ее собственное СОЛО. Только соло имеет право на существование!
– Тебе не понравилось? – спросила подруга во время фуршета, который состоялся после концерта.
– Почему же? Понравилось. Особенно вон тот скрипач… – и Влада указала на одного из музыкантов, которые толпились за соседним столиком.
– Вот всегда ты так… – упрекнула ее подруга. – Здесь высокое искусство, а ты… Это такой гений! Если бы я могла подойти к нему, я бы, кажется, с ума сошла от счастья!
– Я тоже о высоком, – сказала Влада. – Хочешь, фокус покажу? Учись, пока я жива!
И, не дожидаясь ответа, взяла свой бокал и грациозной походкой направилась к музыкантам, чувствуя спиной изумленный взгляд подруги.
С тех пор, как неосуществимая любовь вошла в ее жизнь, она воспринимала реальность как большую игру. А когда она поняла, что эта любовь никогда не станет реальностью, – игра приобрела опасные трагикомические черты. Порой Влада чувствовала себя молодой вдовой, которой просто нужно жить, существовать, чтобы сохранить свой биологический механизм. Именно поэтому она не боялась быть отчаянной, забавной, вызывающей – ведь во всех перипетиях ее бурной личной жизни не шла речь ни о любви, ни о смерти. Были только ставки, которые она с каждым шагом удваивала, ведь почти никогда не проигрывала. И именно потому, что это была ее игра – легкая и непринужденная, – Влада всегда имела огромный успех у мужчин, ею восхищались подруги, жившие совсем по иным законам.
Влада приблизилась к музыканту, с мастерством психолога вычисляя, какой тип выражения лица ему бы больше понравился.
– Никогда не слышала Малера в такой интерпретации… – сказала она так, будто продолжала ранее начатый разговор.
– Вам нравится Малер? – живо отозвался тот на ломаном языке.
– Именно в вашем исполнении… – сказала Влада.
Вечер закончился в роскошном гостиничном номере, куда Крис – так звали музыканта – заказал шикарный ужин на двоих. Через час Влада отправила его в душ и… тихонько прикрыла за собой дверь номера. Партия была сыграна, путь к цели был важнее, чем ее достижение. Она понимала, что подобные приключения не дадут того, что ей было нужно, – по крайней мере, путь к Дартову лежал не через постель заезжего гастролера.
Вот так она оттачивала свое мастерство общения и соблазнения без малейших душевных мук со своей стороны. Она тренировала свою наблюдательность, как спортсмены тренируют тело, готовясь к ответственным соревнованиям.
Особым этапом в этих тренировках были… кражи в бутиках и супермаркетах. Нет, вещи были ей не нужны, но факт, что она способна на отчаянные и опасные поступки, веселил ее и придавал уверенности в своей непобедимости. Она уже не могла отказаться от наркотических выбросов адреналина, первый из которых произошел тогда, когда Влада впервые вышла из магазина в модном платье «для коктейля» под своим скромненьким нарядом. Конечно же, надо было выбирать магазины, в которых еще не были введены всякие новации вроде сигнализационных бирок и телекамер.
Влада заходила в отдел как королева, придирчиво отбирала кучу вещей, заставляла продавщиц суетиться вокруг себя, пока они не теряли терпение и бдительность. В изысканных нарядах она пробиралась на разные презентации и фуршеты, и ни разу никто не поинтересовался ее приглашением. Нетрудно догадаться, что почти каждый такой вечер заканчивался так же, как это было с музыкантом по имени Крис: в последний момент Влада сбегала. Она всегда сбегала, оставляя позади сотни возможностей изменить свою жизнь. Того единственного шанса, которого она ждала, пока что не было.
Судьба улыбнулась ей позже.
* * *
Первая осень без Жанны не была похожа на осень – в середине октября люди еще ходили в легкой одежде, и выражение детского удивления не сходило с их лиц. Прохожие будто говорили друг другу: «Ну, как вам такая погодка!» И улыбались своим мыслям.
Влада вообще очень любила осень, это была ее пора. Она, в отличие от других, тех, кто в это время мысленно уже готовится к зиме, расцветала и словно светилась изнутри, как светятся поздние осенние яблоки в саду. В тот вечер она возвращалась от очередного любовника и ее разбирал смех. Ей сделали предложение! Ей, Владе! Свадьбу с торжественной церемонией во Дворце (который в народе называли «Бермудским треугольником»), с куклой и воздушными шариками на капоте автомобиля, с толпой гостей и подарками, с гуляньем в ресторане и учтивым знакомством со всеми новыми родственниками!
Она просто рассмеялась. И теперь этот смех, как ежик, шевелился у нее в горле, и Влада подозревала, что он вырвется наружу вместе с потоками слез… Она знала, что дома ее ждет окаменевшая статуя Макса, которую нужно осторожно уложить в постель.
Но домой идти не хотелось. Осень заставляла жить и дышать. Ее тянуло в толпу, она с удовольствием заглянула бы в какое-нибудь приличное местечко, где можно было бы поужинать и послушать джаз, но денег на это катастрофически не хватало, несмотря на то что на ее запястье красовался тоненький золотой браслетик – «свадебный подарок». Влада утешала себя мыслью, что чувство абсолютной свободы деньги дают в двух случаях: когда их совсем нет или когда их слишком много. И первое означало, что она еще долго будет находиться в состоянии полной независимости.
Рассуждая подобным образом, Влада не услышала, как рядом с ней затормозила машина. Водитель радостно выскочил из нее и обнял Владу за плечи:
– Господи, неужели это ты? И такая женщина ходит пешком? Абсурд!
Влада медленно сняла руку со своего плеча и посмотрела на наглеца. Перед ней стоял незнакомец в темно-синем костюме-тройке, модном дорогом галстуке.
– Мы знакомы? – строго спросила Влада.
– Владка, не прикидывайся! Я же – Олег! Олег Величанский. Неужели я так сильно изменился? Как ты? Чем занимаешься?
Влада даже присвистнула. Лет пять назад Олег не раз приходил к ним в гости, именно он делал с Максом интервью и пытался поволочиться за ней. Но тогда это был худощавый, неуверенный в себе юноша с вечно влажными ладонями.
– Как Макс? Я слышал, у вас что-то случилось? – продолжал расспрашивать Олег. – Ты, кстати, великолепно выглядишь! У тебя есть время?
Влада наконец нашла повод выпустить свой смех, и Олег воспринял это как хороший знак.
– Слушай, тут недалеко есть одно классное местечко – пошли поужинаем и поговорим? Я так рад видеть тебя!
– Что за местечко?
– Один закрытый ресторанчик клубного типа, там хорошо кормят.
– Как же нас пустят, если он закрытый?
– О, женщина! Довожу до вашего сведения, что для меня нет ничего закрытого. Я сам помогал его обустраивать одному известному депутату. Ну что, поехали?
И он раскрыл перед ней дверцу своей машины. Влада села, напряженно вспоминая, что́ на ней надето под легким белым плащом. Слава богу, сегодня на ней было одно из платьев Жанны, которое могло сойти за стиль ретро.
Олег припарковал машину в небольшом тихом скверике, галантно предложил ей руку, и они вошли в аккуратный особнячок, на котором не было никакой вывески. Это был маленький ресторан с двумя залами, оформленными в стиле барокко. С разных концов зала Олегу сразу замахали руками приятели, официантка мгновенно принесла меню, зажгла на столе гелевую свечу и вежливо замерла перед ними с маленьким блокнотиком в руке. Влада выбрала себе только фруктовый салат и бокал вина – она собиралась заплатить за себя сама.
– Я ужинала, – пояснила она Олегу, когда он попытался заказать для нее что-то более существенное.
– Тогда принесите мне то же самое, – вздохнул Олег, – только вместо вина – коньяк. А там посмотрим…
Он выложил на стол пачку сигарет, мобильный телефон и большой кожаный блокнот.
– Ничего не поделаешь, я все время в такой гонке… – смущенно объяснил он появление этих атрибутов. Сразу же, словно в подтверждение этих слов, громко зазвонил телефон.
Краем уха Влада слышала, что он что-то говорит о тоннах бумаги, которые стоит брать только в том случае, если их не менее двух вагонов, и что-то еще совсем для нее непонятное и неинтересное…
Она разглядывала публику. На каждом столике тоже лежали записные книжки, мобильные телефоны, папки, велись оживленные разговоры. На одной из стен Влада заметила большой стенд с фотографиями, который портил весь дизайн клуба. На фотографиях были изображены почетные гости. Среди них Влада узнала самодовольное лицо Дартова…
– Прости! – сказал Олег, откладывая трубку. – Но я никогда не могу его выключить!
Принесли заказ.
– Как это тебе удалось? – спросила Влада. – Кажется, ты работал в какой газетенке?
– Это все так неинтересно… – пробормотал Олег. – Сначала работал на «предвыборке»…
– А как же твои идеи о личной независимости?
– Не смеши. Где ты видела независимость, в особенности в СМИ? Это сказочки для начинающих. Все мы зависимы – если не от работодателя или политической партии, то от собственного начальства или идеологии, которую пропагандирует издание. Независимые представители прессы никому не интересны да, пожалуй, и не нужны. А если это так, то лучше продаться за большую цену. Что, собственно, я и сделал. Видишь, – он с гордостью повел рукой, – это все моих рук дело, и мой шеф (обойдемся без фамилий, хорошо?) этим очень доволен. Зачем ему знать, как я отношусь к его партии, – это мое личное дело. Кстати, именно здесь он решает многие вопросы, ведь клуб пользуется популярностью среди политиков и предпринимателей. Эту известность создал я.
– А ты изменился…
– Возможно. Но что касается тебя… Давай выпьем за шальные приключения юности. Помнишь, как мы вчетвером пили шампанское на крыше вашего дома? Тогда ты казалась мне удивительной женщиной – особенной и недосягаемой… Ты и сейчас такая же неприступная?
– Твой депутат имеет какой определенный вес – или так, чья-то шестерка? – перебила его Влада.
– Думаю, у него большое будущее – прет, как танк…
– Ты знаешь Дартова? – продолжала расспрашивать она.
– Лично нет. Но он частенько здесь бывает. Большинство речей хозяину пишет именно он. Хреново пишет, должен заметить…
– Ты не считаешь его хорошим писателем? – улыбнулась Влада.
– Последние романы у него замечательные, почти гениальные. Прорвало чувака. Говорят, на свою премию он построил шикарные хоромы, держит в саду павлинов…
Вдруг лицо Олега вытянулось – в клуб входил мужчина в черном костюме, за ним маячило еще двое, а официанты, бармены и администратор вытянулись и вмиг выстроились в шеренгу.
– Сам… – прошептал Олег.
«Сам» поздоровался со всеми, а заметив Олега, подошел и быстрым движением выбросил вперед мягкую ладонь. Тот поспешил встать, пожал протянутую руку, а «Сам» уже положил глаз на его спутницу.
– Как вы едите такую гадость? – с видом «своего парня» спросил он ее.
– А почему у вас такую гадость готовят? – улыбнулась Влада, хотя превосходство, с которым был задан вопрос, не предусматривал ответа. Взгляд «Самого» остановился на ней.
– Олег, это твоя жена? – спросил он.
– Это моя старая знакомая, – поспешил ответить тот.
«Сам» повел бровью – стоит или нет? – и склонился над рукой Влады, которую она протянула. Это длилось лишь мгновение, но этот миг показался Владе вечностью. Она увидела перед собой небрежную прическу, отметила, что галстук завязан неумело, и это позволило ей сделать определенные выводы. В тот же миг перед ней всплыл один из кадров любимого с детских лет старого фильма «Девчата»: одна из героинь – уверенная в себе красавица, которую играла Светлана Дружинина, – говорит какому-то заезжему начальнику: «А шляпу сейчас так не носят!»
Тугая пружина, которая до поры до времени спокойно дремала внутри, вдруг выстрелила, рулетка закрутилась и остановилась на счастливом числе.
– С такой внешностью вам никогда не заполучить нужного количества электората, – сказала она, выбивая из пачки Олега сигарету. – Вам об этом, наверное, никто не решается сказать?
Краем глаза она заметила, как побледнел ее спутник. «Сам» на мгновение опешил и механическим жестом поправил галстук:
– Что вы имеете в виду?
– Если вам интересно, могу рассказать, – сказала Влада, выпуская изо рта струйку дыма. – Прошу! – И она указала ему на свободный стул рядом с собой. О, как она обожала это состояние – оно накатывало, как девятый вал, поглощало ее, а потом оставляло на берегу жизни совсем другую Владу: женщину из другого измерения, которая способна не считаться с титулами и правилами этикета.
Острым взглядом она сразу заметила, что «Сам» не так давно переехал в столицу и старательно скрывает свое происхождение под маской светского льва.
– Начнем с прически. Волосы надо распрямить – вьющиеся да еще и рыжие волосы не вызывают доверия, галстук должен соответствовать ширине лацканов пиджака, а по длине – только немного прикрывать пряжку ремня. Дальше: чтобы взгляды концентрировались на вашем лице, нужно носить костюмы коричневых или синевато-серых тонов, рубашки для неофициальных встреч можно надевать пастельных цветов – они вызывают больше доверия, чем официально-белые. Если же вы выступаете на телевидении…
За несколько минут Влада с уверенным видом выложила все знания, полученные ею на курсах имиджмейкеров, многое прибавляя от себя.
Олег бледнел и краснел, несколько раз выходил в туалет, надеясь, что разговор скоро закончится, мечтал о минуте, когда выведет Владу из заведения. Но «Сам» заинтересованно слушал ее.
Потом он заказал для них шикарный ужин, извинился, что нет времени посидеть с приятными гостями, и, вставая из-за стола, протянул Владе свою визитку:
– Будет время, зайдите ко мне в офис завтра в одиннадцать. Мне нужны специалисты вашего уровня. Поговорим.
* * *
Сомнительные шестимесячные курсы имиджмейкеров Влада посещала, еще когда училась в школе. Там она даже получила желтенькое свидетельство. Но знания нужно было немедленно возобновлять, и она засела за книги. Во время встречи с «Самим» за свои услуги она назначила кругленькую сумму, и, на ее удивление, эта сумма не вызвала возражений. Более того, со временем она удвоилась, ибо уже через месяц ее работы тучный и довольно нереспектабельный мужчина превратился в подобие джентльмена, правда, со слегка помятым лицом завсегдатая ночных клубов и любителя поразвлечься в сауне. Она выпрямила и подкрасила его кудрявые волосы, тщательно подобрала гардероб, заставила следить за ногтями, приобрела галстуки на все случаи жизни, носки и обувь. Она прочитала ему кучу лекций, чтобы «Сам» усвоил свой новый образ – образ «хорошего сына», который должен положительно влиять на людей среднего класса. Она неожиданно для себя так увлеклась этой работой, что порой, наблюдая за выступлением своего «подопечного» по телевизору, спешила после этого позвонить ему на мобильный телефон и выразить идею «сексуальной трехдневной щетины» для следующего выступления перед студенческой аудиторией. Ее идеи всегда срабатывали.
Владу устраивало прежде всего то, что «Сам» вел себя с ней обходительно, и их отношения имели только деловой характер. Как оказалось при более близком знакомстве, он был прекрасным семьянином и верным мужем своей дородной жены, не любил шумных вечеринок и как огня боялся приемов. Это было довольно трогательно и напоминало ситуацию из какого-то фильма об итальянской мафии, когда кровавый магнат трепещет перед неизменной спутницей своей бурной жизни.
«Рядом с вами иногда должна появляться красивая молодая женщина. Особенно в неофициальных ситуациях, – советовала Влада. – Я могу договориться с модельным агентством. Ее совсем не обязательно делать своей любовницей».
Но на «семейном совете» было решено, что такой спутницей может стать сама Влада. И она согласилась, запросив за это немалую прибавку к своей зарплате.
Со временем круг ее обязанностей расширился: Влада теперь занималась не только внешним видом политика, она заставляла его ходить на все модные спектакли и концерты, чтобы люди видели в нем заядлого театрала и человека образованного, внимательно следила за новинками литературы и скупала кассеты с записями классической музыки. «Сам» почти по-отечески заботился о ней и однажды, узнав, что она живет на окраине, предложил купить ей квартиру.
Сменить жилье Влада не согласилась, но поняла, что пора сделать дома грандиозный современный ремонт. Тогда у нее и возникла идея поселить Макса в звукопоглощающих стенах маленькой кельи, ведь оставлять его одного в квартире становилось все опаснее – он часто заводил речь о самоубийстве. Особенно тогда, когда Влада не успевала вовремя дать ему необходимую дозу успокоительного. Кроме того, Влада наконец вплотную подошла к главной цели: разгадать тайну исчезновения сестры.
Но… Было одно маленькое «но» в ее стремлении вернуть все на свои места. Это «но» всплывало во снах, неожиданно возникало в самые неподходящие моменты ее нынешней жизни, предательски выныривало из ее мыслей, как игла, оставленная неумелой швеей в кружеве детской распашонки. Хотела ли она этого возвращения на самом деле?
Иногда, просыпаясь в своей (теперь – своей!) просторной квартире, Влада удивлялась уюту, царившему в ней. А главное – и она это чувствовала наверняка – маленькая коварная змейка тревоги под названием «ревность» выползла из ее сердца. Пусть и таким образом, но Макс все же принадлежал ей! Она согласна была ухаживать за ним, беспомощным, затерянным в дебрях своей больной психики. А была ли его психика такой уж больной?.. «А не ты ли, дорогуша, – порой думала Влада, – делаешь его таким беспомощным?» Возможно, Владе следовало бы прекратить давать ему снотворные, успокаивающие и другие небезопасные таблетки…
Но как отказаться от власти над ним, от права говорить ему каждый вечер: «Милый, пора ужинать…» или даже больше: «Солнышко, я приготовила тебе ванну…»
Как сладко прикасаться расческой к его волосам, подавать полотенце, выбирать в магазине белье и новые рубашки!
Вот если бы он мог хоть немного привыкнуть к ней, смириться с тем, что отныне только она будет рядом и только она будет стелить ему постель! О, как она надеялась на это все два долгих года! Были мгновения, когда его затуманенный взгляд теплел… И она надеялась, что вот сейчас он скажет: «Хватит!» И поймет, что возврата в прошлое не будет, что она и только она, Влада, единственная женщина в его жизни. Но он упорно называл ее именем сестры, и Влада снова покупала таблетки, чтобы все оставалось так, как есть.
У Влады не хватало мужества сказать Максу прямо то, что она чувствовала наверняка: Жанны уже нет на этом свете. А как могло быть иначе? Все эти годы Влада исправно покупала газеты и вырезала статьи из криминальных рубрик. Иногда там попадались жуткие фотографии полуистлевших женских тел, найденных в окрестностях города. В каждой из них Влада видела Жанну… Будто случайно она подсовывала эти статьи Максу. И тогда приходилось удваивать дозу лекарства…
«Но если она жива… – рассуждала Влада, – если тогда, два года назад, просто ушла к какому-то тайному любовнику (она всегда была темной лошадкой даже для меня!) – я приведу ее сюда за руку, я открою Максу глаза, и он сам прогонит ее! И это будет даже к лучшему!»
Пароход
* * *
…Он представлял себе свой разговор с Кундерой.
– Знашь, Милан, – говорил Дартов, – жизнь, пожалуй, не стоит того, чтобы превращать ее в литературу. Это все равно, что блеск осколка стекла выдавать за сияние бриллианта и заставлять публику верить в это. Стекло останется стеклом. Кто может поручиться, что мы слышим одни и те же звуки или видим одни и те же цвета? Я в этом не уверен. А мы пытаемся систематизировать мир, привести его к общему знаменателю. И миллионы людей, как зомби, повторяют за нами, что море – «изумрудное», а пшеница – «золотая». Разве это не преступление? Мы порождаем духовных дальтоников. Истина всегда остается за пределами сознания…
Дартов протянул руку в темноту, нащупал на тумбочке пепельницу, поставил ее себе на грудь и стряхнул туда пепел с тлеющей сигареты. Он лежал в широкой кровати, на которой свободно мог бы разместиться взвод солдат. Ветви акаций и вишен, которыми густо был обсажен двор, в лунном сиянии создавали на стене сюрреалистические узоры. Два дога – белый и цвета маренго – мирно спали на ковре у камина. Дартов затушил сигарету и прислушался к звукам, которые, как густое вино, блуждали по его многокомнатному, оборудованному по последнему слову современного дизайна жилищу. Он напрягал воображение и слышал бормотание сонной воды, скрытой в трубах, шорох бархатных портьер, перешептывание книг на полках. Воображаемый разговор с Кундерой наполнил его существо немалой гордостью. В особенности радовала эта возможность сказать «мы» – он, Дартов, и другие! Неужели это стало реальностью!
Огонек очередной сигареты, отраженный в зеркале, стоящем в противоположном углу комнаты, казался ему язычком сатаны, который дразнил его из потустороннего мира. Он не мог смоделировать ответ Кундеры и поэтому продолжал говорить:
– Совсем скоро меня здесь не будет. Я наконец вырвусь отсюда. Я тоже буду жить в Париже, дышать одним воздухом с тобой и буду есть – преодолевая отвращение! – чертовых улиток и лягушачьи окорочка. И никто не заставит меня написать ни строчки. Хватит с меня этих мук…
Он неплохо поработал этот год – за книгой, которая получила такой резонанс, он – не без помощи наемных «негров» из провинции – сделал пару сценариев. По одному уже был снят многосерийный фильм, второй выкупила одна из известных зарубежных киностудий, и кругленькая сумма уже ожидала своего хозяина в надежном швейцарском банке. Оставалось лишь не спеша свернуть свою деятельность здесь. И это нужно было делать очень осторожно.
На ночном столике неожиданно зазвонил белый телефон. Дартов посмотрел на часы – половина первого ночи. Доги повели ушами и, не меняя позы, напряглись. Это были элитные собаки – хитрые и умные.
Дартов снял трубку.
– Разбудил? – услышал бодрый голос своего старого приятеля по бывшей комсомольской юности Семена Атонесова.
– Какое это имеет значение?
– Действительно, никакого, если ты взял трубку, – согласился Атонесов. – Я к тебе так поздно вот по какому поводу. Через несколько дней, ты ведь знаешь, прибывает огромная делегация на литературные чтения. Будет грандиозный круиз по Днепру с выходом в Черное море, а по вечерам – в каждом портовом городе. Конечный пункт назначения – Коктебель. Там будет шальная гулянка. Конечно же, все хотят видеть в составе нашей делегации тебя. Ты как, согласен?
– А кто из наших будет?
– Ну кто-кто – как всегда: ты, я, Портянко и Араменко. Кто нам еще нужен? Остальные – все правление нашего творческого союза и местные козлы, которых мы будем подбирать в каждом пункте, и, конечно же, иностранцы – писатели, переводчики, литературоведы, издатели и т. п. Десять дней отдыха! Правда, придется повыступать в каждом городке – но тут уж ничего не поделаешь. По крайней мере, развлечемся и, думаю, хорошо повеселимся. Кстати, заодно покажешь свою новую виллу в Крыму – мы же будем неподалеку. Вот и обмоем покупку! Ну как?
Дартов поморщился. В последнее время он пытался избегать старых приятелей – только они еще имели право разговаривать с ним пренебрежительным тоном, даже шантажировать: слишком много приключений пережито вместе, слишком много ненужной откровенности, много банальной зависти… В наше время друзья становятся опасными, думал Дартов, но почему бы не воспользоваться случаем выяснить отношения? Он согласился и положил трубку. Доги расслабились. Тишина и темнота вновь обрели свою первозданность.
…Их называли «четверкой отважных», они дружили давно. Вместе работали в райкоме комсомола, вместе посещали молодежь в районах, не пренебрегая возможностью покутить и развлечься. Их связывали общие тайны бухгалтерских махинаций и безумных любовных приключений. Атонесов первый почувствовал ветер перемен и занялся рекламным бизнесом на одном из телевизионных каналов, Портянко обзавелся маленьким пивным заводиком, Араменко снискал славу разоблачителя-эссеиста в одной из столичных газет. Вместе с Араменко Жан Дартов сделал обоим друзьям по несколько тоненьких сборничков рассказов и принял друзей в свое творческое объединение. Попивая пиво по субботам в сауне Дартова, друзья радовались своей приобщенности к творческой элите. Но со всем этим надо завязывать, снова подумал Дартов. Он начал замечать, что шутки товарищей становятся все опаснее для его репутации. К тому же, их дружба все чаще походила на сговор. Они достаточно хорошо и достаточно долго знали друг друга. Реплика Атонесова о «вилле в Крыму» разволновала его. Надо ставить всех на место! И делать это немедленно.
Дартов еще долго крутился в постели, снова курил, пытался вызвать сон. А вместо этого перед глазами возникала ТА картина, и Дартов покрепче сжимал зубы, чтобы не выпустить наружу длинный волчий вой…
На улице поднялся ветер, и ветви деревьев стали стучать в стекло. Дартов вздрогнул, подскочили со своего ковра и зарычали собаки. Этот стук не давал ему покоя уже давно. Дартов включил свет, нащупал в тумбочке брелок и, взяв за ошейник белого дога, вышел из спальни…
* * *
После звонка старому приятелю Семен Атонесов отошел от стойки и направился к столику, где его ждали Вадим Портянко и Ярик Араменко.
В ночном клубе «Чикаго» жизнь только начиналась. На небольшом круглом подиуме отплясывали две полуголые дамы, над столиками вился сигаретный дым, официанты разносили напитки и закуски, публика ожидала выступления заезжей эстрадной звезды.
– Ну, что он? – спросил Портянко, отправляя в рот большой кусок мяса по-французски.
– Поедет, – коротко ответил Атонесов и налил себе рюмку коньяка. – Смотри, какая девочка!
– Подожди ты с «девочками», – остановил его порыв Араменко. – Точно поедет?
– А как же! – Атонесов опрокинул рюмку и подцепил вилкой тигровую креветку. – Почему бы ему с нами не поехать?
– А с чего бы ему ехать? – вспыхнул Араменко. – Он, если захочет, сам может такой круиз устроить! На собственной яхте!
– Да нет у него яхты, Ярик! Это я точно знаю. Домик в Крыму купил, жену из Турции привез, «мерс» купил, а вот яхты пока нет, могу поклясться!
– Откуда ты все это можешь знать? – присоединился к разговору Портянко. – Жан всегда был темной лошадкой, а сейчас – тем более… А не кажется тебе, дружище, что надо эту темную лошадку вытащить на свет? Слишком он стал высокомерным.
– Завидуешь? – улыбнулся Араменко.
– А ты – нет?
– Конечно же, ситуация немного обидная… Но Жан талантливее нас, и с этим нужно считаться.
– Вот и сочтемся в поездке! – отрубил Портянко. – С друзьями надо делиться. И время для этого, думаю, настало.
– Не ссорьтесь, ребята! – Атонесов разлил по рюмкам коньяк. – Лучше выпьем за успех нашего общего дела! И… посмотрим вон на тех девочек…
– Кстати, я вчера познакомился с такой женщиной! – заблестели глаза у Араменко. – Куда этим курицам до нее! Представьте себе светловолосую итальянку или белокожую мулатку – короче, полный абсурд, фантасмагория – негатив картины Врубеля! А главное – с ней можно раз-го-ва-ри-вать!
– Этого еще не хватало! – пережевывая очередной кусок мяса, улыбнулся Портянко.
– Где ты ее снял? – спросил Атонесов.
– В клубе у «Самыча». Вчера днем зашел пообедать, а там – она. Кстати, сказала, что читала мои опусы в газете, знает, что я дружу с Жаном…
– Так она хотела через тебя познакомиться с Дартовым?
– Да нет! – обиделся Араменко. – Дартов ее не интересует. Он не способен заинтересовать ТАКУЮ женщину! Знаете, что она мне сказала: «Друзья ничего не стоят в этой жизни, они забывают о тебе на другой день после твоей смерти…» У нее прекрасное, нездешнее имя – Милена…
Над столом повисла пауза. Портянко сосредоточенно жевал, Атонесов, выпуская кольца дыма, смотрел на одну из танцовщиц, которая осталась в одних кружевных трусиках. Ярик Араменко взял со стола полупустую бутылку коньяка и сделал прямо из горлышка несколько глотков. Он был раздражен тем, что приятели не услышали его. Он вспоминал лицо вчерашней новой знакомой и мысленно возвращался к тому неприятному чувству, которое все чаще накатывало на него, – это было чувство чего-то неосуществимого. Все трое уже хорошенько набрались.
– Семен, ты можешь сделать так, чтобы она попала с нами на пароход? – спросил Ярик Атонесова.
Тот оторвал хмельной взгляд от танцовщицы.
– Не расстраивайся, дружище, там будет столько разных телок… Все места забронированы.
– Но Дартова ты, наверное, записал с его бабой? – не унимался Араменко. – Сделай и мне две каюты!
– Пошел ты! – отмахнулся Атонесов и встал, чтобы подойти ближе к подиуму.
– Еще пожалеешь, гаденыш! – крикнул ему вдогонку Араменко.
– Да черт с ним! – громко икая, сказал Портянко. – Сейчас не о бабах надо думать. Пусть наш друг Жан поделится тем, что у него есть. В конце концов, кто все это ему организовал? А?!
Портянко закричал так громко, что на них обратили внимание два бритоголовых охранника.
– Тихо, Вадик, – успокоил друга Араменко. – Поквитаемся со всеми…
Он снова потянулся за бутылкой, но она была уже пуста. Если бы они сидели не в ночном клубе, а в забегаловке времен своей юности, он воспользовался бы моментом и запустил ею в стену. Но вместо этого Ярик неуверенным жестом поправил галстук и, не ожидая обещанного выступления гастролера, пошел на улицу.
В дверях он, пошатываясь, оглянулся и снова оглядел прокуренный зал, интерьер которого больше походил на интерьер преисподней – пьяный Атонесов засовывал купюры в трусики стриптизерши, Портянко налегал на новую порцию горячего, принесенное официантом, красные и ядовито-зеленые огоньки прыгали по лицам гостей… Группка женщин танцевала возле подиума. Их лица были красные и лоснились. Ярик поймал себя на мысли, что все женщины сейчас одинаковые – смешные и довольно жалкие. После пяти минут разговора с хорошенькой дамой становится понятным, что ей нужен твой кошелек, и ради него она готова на все в первый же вечер знакомства. «Ску-у-чно, господа!» – подумал Ярик. «Я знаю все наперед, – сказала ему недавняя знакомая. – То, что вы скажете мне, и то, что я должна буду ответить вам…» О, она не была похожа ни на одну из этих разгоряченных бабенок!
«Где тебя искать, Милена? – со щемящей болью в груди подумал Араменко. – Ты не дала мне номера своего телефона, не оставила адреса… А была ли ты вообще, Милена?..»
Хмельная слеза потекла у него из правого глаза. Ярик Араменко с силой захлопнул дверь и вышел на свежий воздух. Ночь пахла сиренью…
* * *
…Эта ночь пахла сиренью.
– Ты слышишь, какой запах? – спросила Влада Макса.
Они, как это теперь иногда бывало, сидели за столом при свечах и ужинали. Влада открыла окно, легкий ветерок колыхал язычки пламени. Они трепетали, как флажки в руках пароходного сигнальщика.
«Интересно, о чем они говорят с нами?» – подумала Влада. Сегодня Макс чувствовал себя лучше, она даже обошлась без своего фокуса с зеркалом. Единственное, что сейчас волновало ее, – как сказать Максу, что она должна оставить его одного на целую неделю, и выдержит ли он эту неделю полного одиночества.
– Знаешь, – сказал Макс, – я давно уже не могу воспринимать запахи, особенно такие – они возвращают к жизни. Не будем об этом…
– Хорошо, не будем, – согласилась она. – Что тебе сегодня снилось, дорогой?
– Не говори со мной как с ребенком! Думаешь, я не понимаю, что со мной происходит? Долго ты будешь держать меня в той комнате?
– Пока не найду Жанну, – холодно ответила она. – Пусть она решает, что делать дальше…
– Я хочу искать сам…
– Хорошо, хорошо, – поспешила успокоить его Влада. – Мы будем искать вместе. Начнем прямо с утра, да? Сейчас поужинаем, поспим, а потом…
– Посмотри, какая тень на стене, – вдруг перебил ее Макс. – Она похожа на старьевщика в столовой для бездомных… Два стакана кефира перед ним и один окурок «Примы». Это я после смерти… Ты ТАМ не была, ты не можешь знать. Ты не знаешь чувства, которое зовется: «Мне ничего не нужно». В это «не нужно» входит все то, чего ты так безумно хочешь. Это так страшно. Наверное, пришло время платить за свое место на земле? Но почему так скоро? А может, мы с тобой уже заплатили – Жанной? Я – за свою писанину, за эти бесконечные рефлексии, за то, что все обращал в слова, за муляжи из слов, которые свисают с бумаги, как вот эти спагетти – дохлые и отвратительные, как черви. А ты… Думаешь, что я ничего не знаю?.. Есть такая картина Магритта – женщина счищает с себя тень мужчины, но она все равно остается на ней… Разве мужчина виноват в этом? Я хочу видеть людей. Мне теперь кажется, что у всех них, даже у мужчин, твое лицо… Когда ты отпустишь меня, Жанна?
– Скоро…
– Когда – скоро?
– Вот переживем эту ночь…
– Мы не переживем ее – она слишком долгая, Жанна… Я устал…
– Мы с тобой разные лягушки… – задумчиво произнесла Влада. – Я – та, что барахтается в кувшине с молоком, пока не собьет под собой масло.
– Знаешь, какие слова молитвы нравятся мне больше всего? «…да будет воля Твоя»! Только в них есть для нас большой смысл и надежда, остальное – жалкие потуги доказать, что бывает как-то иначе. Не бывает! Увы…
Макс опустил голову на руки. Влада знала – чтобы не начался приступ, нужно говорить. Говорить о чем-то другом, отвлечь его непринужденной болтовней.
– Слушай, Макс, помнишь, ты описал ту историю, что тебе рассказывал отец о бриллианте? Как ты думаешь, это правда или вымысел?
– О каком бриллианте?
– Ну, о том крашеном камешке, который нам оставил отец. Ты говорил с ним о нем, а потом написал рассказ… Расскажи мне, что ты об этом знаешь.
– А-а, ты про подвески Марии Антуанетты! – Влада увидела, что его глаза ожили. – Я не знаю, правда ли это… Но история интересная… Это сказка о маленькой Жанне в зеленом платье…
«О господи!» – подумала Влада.
– Расскажи мне эту сказку, хорошо?
– Это сказочка о маленькой Жанне, – снова повторил Макс. – Тогда она была фрейлиной королевы – самой красивой из всех фрейлин. Ей очень хотелось иметь бриллиантовые подвески, ведь в детстве у нее не было даже приличного платья. И она решила написать письмо от имени королевы епископу Страсбурга кардиналу де Роану с просьбой заказать у ювелиров очень дорогое украшение. Когда подвески были готовы, маленькая Жанна бежала с ними в Англию. А доверчивого кардинала арестовали и посадили в Бастилию. Вот и вся история…
– И это все?
– Маленькая Жанна прожила на эти бриллианты всю жизнь. А чтобы никто не мог доказать, что это те же украшения, она приказала одному из мастеров-ювелиров добавить на каждый камешек еще одну грань – двадцать восьмую. Во время следствия это и спасло ее от разоблачения, ведь на суде ювелиры, которые делали драгоценности по заказу кардинала, утверждали, что камни имеют только двадцать семь граней. Хитрая маленькая Жанна…
– А наш камешек, о котором рассказывал отец, не может быть тем бриллиантом?
– Я устал… – Макс откинулся на кресле. – Что ты от меня хочешь, Жанна?
Влада поняла, что больше она от него ничего не добьется. Все, о чем она сейчас услышала, она уже читала в одном из его рассказов. Обо всем, кроме количества граней. Но это была его сегодняшняя выдумка. По крайней мере, он успокоился и переключился на другое.
– Пошли, милый, я уложу тебя спать.
Влада осторожно взяла его за руку. Теперь главным было то, чтобы он не взбунтовался на пороге в свою келью, выпил таблетки и позволил сделать укол. Она поцеловала его руку и тихо повела в темную пещеру за стеллажом. Он не сопротивлялся, покорно позволил сделать ей все необходимое. Влада тихо вышла из комнаты, заперла дверь, сдвинула половинки стеллажа. Она решила ничего не говорить ему о своем грядущем отсутствии – время без Жанны все равно остановилось для него.
Влада прибрала на столе, оставила только одну свечу и бокал с красным вином. Было уже поздно, но спать не хотелось. Да она бы и не смогла заснуть, мысли наступали на нее, как стая голодных волков.
Ночь пахла сиренью и немного – морем. В открытое окно Влада видела темное небо, по которому неслись рваные облака, в них тонул тонкий серпик молодого месяца. Порой он взблескивал, как нож, вспарывал длинное полотно какого-то облачка и снова нырял в темноту, как коварный маленький злодей. А края вспоротых облаков розовели, будто и вправду заливались кровью.
Влада замерзла, надо было закрыть окно, но вид неба, течение которого было похоже на трепетание разорванной киноленты, завораживал ее. И такие же разорванные, взбудораженные мысли, словно тучи на небе, проносились в ее голове.
Вчера, обедая в ресторане своего патрона, она познакомилась с Яриком Араменко. Именно он рассказал своей новой знакомой, что через несколько дней состоится «творческий поход» на пароходе, и даже пообещал «выбить» для нее место. Но это было лишним. В тот же день «Самыч» с удовольствием резервировал для Влады отдельную каюту. Правда, она находилась на нижней палубе, но для Влады это было несущественным.
Ярика Араменка она узнала сразу, как только он вошел в клуб в безупречном черном костюме и взглядом, в котором светилось презрение и высокомерие, окинул присутствующих и направился к стойке бара. В его облике было нечто инквизиторски-привлекательное. Свободных мест было достаточно, но Влада уже наверняка знала, что этот тип непременно подсядет к ней. Так и случилось.
– Не люблю есть, когда на меня смотрят, – сказала она ему.
– Я с вами полностью согласен, – ответил он. – Но ничего не поделаешь, я проголодался и обещаю смотреть только в свою тарелку.
Хотя он все же не сдержался, заказал два бокала самого дорогого вина.
– Простите, – сказал Ярик. – Я не привык пить один… Позволите вас угостить?
Они разговорились. Почему Владе захотелось изменить имя, она и сама не знала. В тот день, почувствовав, что приближается к своей мифической цели попасть в окружение известного писателя Жана Дартова, Влада превзошла саму себя. Мужчина, сидевший напротив, через каких-то полчаса принадлежал ей, как кошелек, как сумочка, как тонкая серебряная цепочка. Он был нарочито холодным, но зажигалка, которую он время от времени подносил к ее сигарете, дрожала у него в руке.
«Неужели он понравился мне? – думала сейчас Влада. – Возможно, что и так. Понравился, как может понравиться начало игры…» За все годы ее бытности рядом с семьей сестры она не встретила ни одного человека, который мог бы по-настоящему заинтересовать ее. Это, возможно, происходило потому, что ее не привлекала взаимность. В нелюбви к ней Макса, в его недосягаемости было нечто естественное и одновременно роковое.
Иначе просто не могло быть, считала Влада.
Она начала без памяти влюбляться в довольно юном возрасте, скорее по своей неутолимой потребности любви в ее чистом виде – без будничной суеты, пересудов с подругами и потных от первых объятий ладоней. Она сваливала глыбы своей любви на первого попавшегося мальчика, который ничего не подозревал и который еще был готов тайком играть моделями самолетов и автомобильчиков. Но эти глыбы перемещались внутри нее и никогда не цепляли посторонних. Эта замкнутость пространства гиперболизировала ее чувства, приводя, в конечном итоге, к приступам полного безразличия.
Нелюбовь Макса поставила последнюю точку в ее попытках наладить чувственные контакты с миром – мир законсервировался в ней в виде острых глыб любви, которые перемалывали ее нутро. Но это ее устраивало, ведь она не понимала неэкстремальности отношений большинства своих знакомых. Она не признавала любви, приближающейся медленно, как поезд: один едет в нем, другой – стоит с букетом цветов на перроне. Потом эти двое идут в кафе, разговаривают «о кино», назначают друг другу свидание, знакомятся с родителями, переживают с десяток дождей, болезней, маленьких праздников, пока не решат, что нужно жить вместе. Для самой Влады все это было неприемлемо. Макс был синонимом ее обреченности на круговорот глыб внутри ее естества, и эти, порой болезненные, подвижки давали ей ощущение того, что она еще жива. Ведь неторопливость поезда и тупость ожидания на перроне не укладывались в ее понятие любви. Если бы здравый смысл мог прорваться хотя бы в ее сны, она бы увидела, что она свободна – настолько, насколько может быть свободным чучело музейной птицы: красивая оболочка без каких-либо следов тления.
…Влада протянула руку, взяла бокал и отпила вино. Она не знала, от чего дрожат ее руки – от прохладного воздуха или от предвкушения предстоящей поездки. И еще одна мысль вдруг овладела ее воображением. Хотя она почти никогда и не покидала ее: именно сейчас настал тот момент, когда никто не запретит ей снова достать семейный талисман.
«Пусть будет так!» – подумала Влада. Заветная коробочка с камешком хранилась на антресоли. Влада подставила табурет, открыла дверцу и начала сбрасывать на пол вещи, которые рука не поднималась выбрасывать: пачки перевязанных лентами писем от родителей, свертки со старыми вещами, какие-то плюшевые игрушки. Наконец у нее в руках оказался тот сверток. Влада закрыла окно, потушила свечу и, щелкнув включателем, села в кресло. Последний раз она разворачивала талисман в присутствии Жанны, и сейчас на нее нахлынуло неприятное чувство, будто она делает что-то подлое и запретное. Окрашенный какой-то ядовитой синей краской, камешек, величиной с фасоль, лежал в ее ладони.
Влада вспомнила, что где-то после ремонта оставалась полупустая бутылка с растворителем, и снова полезла в антресоль. Она перерыла все, пока не нашла бутылку. Еще с полчаса она старательно счищала с камешка слои засохшей краски – из-под синей появилась серая, потом – зеленая…
Краска въелась в стекло и не хотела отстираться. Влада забыла надеть резиновые перчатки, и ее пальцы уже горели от едкой жидкости. Наконец последний слой был стерт. Влада пошла в ванную, включила воду и тщательно, с шампунем, промыла камешек, завернула его в полотенце и вернулась в комнату. Когда она вытерла свою находку и развернула полотенце, ее на мгновение ослепили сотни ярких лучей. Пальцы задрожали так, что она едва удерживала в них яркую капельку. Положив камень на стол, стала считать грани…
Все время сбиваясь и не веря собственным глазам, она наконец поняла: граней было ровно двадцать восемь…
* * *
…На причале играл духовой военный оркестр. Юные курсанты в безупречно отутюженных формах старательно надували щеки, чтобы выжать из золотистых труб печально-торжественный мотив «Прощания славянки». За парапетом толпились случайные прохожие, с удивлением наблюдая за счастливчиками, которые собирались возле белого трехпалубного парохода. Счастливчиков было немало. Все они стояли отдельными группками, к которым время от времени присоединялись все новые члены делегации. Причем каждый из вновь прибывших безошибочно выбирал свою группку, ведь и без табличек можно было определить, кто к какой из них относится. Под акацией собрались старые писатели, преимущественно пенсионеры-льготники, имевшие талоны на бесплатные обеды в столовых творческих союзов: по разнарядке их должно было быть двадцать – старше шестидесяти. Это путешествие было для них подарком от мэрии. Им предстояло выступать перед молодежью в первом отделении общей программы со стихами патриотической направленности. Почти все они были в стареньких, но опрятных костюмах, которые провисели в шкафах лет двадцать, почти у всех на поседевших от времени лацканах пиджаков красовались медали и всякие значки. И все они в своем торжественно-суетливом настроении напоминали смущенных воспитанников детского дома, которых впервые повели в местный цирк. «А питание трехразовое?», «Каюты отдельные или на троих?», «А сколько стихов надо читать, вам сказали?» – беспокоились ветераны. Сюда же присоединились и несколько их ровесников из диаспоры, которые выгодно отличались в этой черно-торжественной стайке своими игривыми шортами, футболками с надписью: «Выучил ли ты родной язык?» и ремешками на груди, на которых висели фотоаппараты и видеокамеры.
Чуть поодаль собирались художницы, вышивальщицы и поэтессы. Они говорили все рáзом, громко смеялись, заботливо протягивали друг другу зажигалки и оглядывались по сторонам, отыскивая знакомых. Рядом с этой группой стояла куча чемоданов. Все они съехались из разных уголков страны, и теперь им не терпелось поскорее почитать свои стихи и узнать новости, которые им охотно пересказывали их столичные подруги. Эта стайка пестрела вышитыми сорочками провинциальных членов общества «Берегиня» и новомодным «прикидом» поэтесс-феминисток.
Следующая группа людей – современные авторы модерновой литературы, которые при нынешних заслугах (не только на литературном фронте) все же старались сохранять на лицах престижное клеймо «непризнанных гениев», – вела себя спокойнее, с видом полного безразличия ко всему, что происходило вокруг. Здесь царило совсем другое настроение. Их интересовало, кто сколько взял бутылок в дорогу, стоило ли участвовать в этом «зверинце», можно ли будет покинуть делегацию на полпути. Каждый оттачивал свое мастерство в саркастических замечаниях, пересказывая непристойные, но довольно смешные байки о представителях из группы «ветеранов». Среди творцов среднего возраста выделялась небольшая когорта «неформалов» – членов литературной группы «Йо-йо-йо», пара-тройка «девятидесятников», сторонников ненормативной лексики, и кобзарь Зозуленко, репертуар которого состоял из песен ливерпульской четверки «Битлз», переведенных им на украинский язык.
Хор, оркестр народных инструментов, трио бандуристов, группа аутентичного пения из села Конопли, ансамбль народного танца «Вервица», квартет «Поющие казаки» и группа закарпатских дрымбарей стояли отдельной группой, за кипой громоздкого реквизита. Группа газетчиков и телевизионщиков беззаботно пила пиво, от души радуясь возможности прокатиться «на шару», а заодно подготовить кучу полуфабрикатов для будущей «жарко́го» в своих газетах и на каналах.
Художник Скун, известный своими скабрезными картинами в стиле «китч» и перманентным алкогольным синдромом, служил связующим звеном между всеми группами – он слонялся от одной группки людей к другой, произнося приветствия, которые скорее напоминали искусно обработанные трехэтажные ругательства. Ему везде наливали разной крепости напитки в пластиковую рюмку, которая призывно висела на конце длинного платка, приколотого к его нагрудному карману.
Было еще много разного народа, включая делегацию братских стран, родственников организаторов праздника и стройных девушек неизвестного происхождения.
Дартов с друзьями подъехал к причалу на своем автомобиле под завистливыми взглядами ветеранов литературного фронта, которые сразу же закивали в его сторону головами, вспоминая, как «когда-то я его продвигал в союз, а теперь смотрите-ка, какой классик!..» Портянко, Атонесов и Араменко вышли из машины и стали доставать из багажника свои чемоданы. Дартов, обойдя машину, почтительно открыл переднюю дверцу и подал руку спутнице. В этот момент, кажется, даже оркестр заиграл намного тише. Из автомобиля вышла женщина. Газетчики тут же взялись за фотоаппараты. Наконец они могли воочию убедиться в том, о чем давно уже слагались легенды: жена (или любовница) известного писателя и правда оказалась турчанкой, с ног до головы закутанной в черную блестящую паранджу.
Дартов, несмотря на возражения стюардов, повел женщину по трапу и через минуту опять вернулся к причалу уже без нее – нужно было осмотреться и поздороваться со знакомыми. Он стоял посреди толпы, как король, прибытия которого все ожидали. Наконец он заметил своего давнего московского оппонента. Тот, как и тогда, два года назад, стоял в кругу своих поклонников в мятой футболке и отхлебывал из бутылки коньяк. Но на этот раз закусывал бананом. Дартов снисходительно улыбнулся. Теперь они были на равных. Даже более того – скандальный успех московского писаки не шел ни в какое сравнение с международной славой Жана Дартова. Дартов направился к нему. Теперь он не стеснялся своего изысканного костюма и мог позволить себе любой тон.
– Ну что, – без приветствия обратился он к коллеге, – выучил человеческую речь?
И сразу же, неожиданно, получил сильный удар прямо в переносицу. Толпа качнулась и замерла. Портянко бросился поднимать друга.
– Ты, гнида, никогда не докажешь мне, что ты чего-то стоишь! – стараясь говорить без акцента, прошипел поэт. – Пошел ты…
Дартов полез в карман за платком, кровь залила белую рубашку.
– Это тебе даром не пройдет, мета-фо-рист! – процедил он сквозь разбитые губы. Портянко и Атонесов отвели его к парапету и водой из фонтанчика стали обмывать окровавленное лицо.
Этот инцидент не попал в поле зрения Араменко – он с восхищением смотрел в противоположную сторону. Ни один катаклизм в мире не заставил бы его оторвать взгляд от женщины, которая как раз в эту минуту выходила из машины. Сердце его радостно трепетало: «Милена!» Женщина элегантным жестом захлопнула дверцу черного «мерседеса», помахала рукой водителю и, подхватив свой чемоданчик на колесах, направилась к трапу. Объявили посадку. Вся толпа радостно ринулась к лестнице.
* * *
После сорокаминутной суеты Влада, как и все, наконец получила ключ от своей каюты. Члены делегации весело разбрелись по коридорам, отыскивая свои номера. Вставляя ключ в замочную скважину, Влада краем глаза заметила, что рядом с ней будет жить одна из певиц, а дверь напротив пытается открыть уже в стельку пьяный художник Скун.
Влада вошла в свою каюту и огляделась: круглый иллюминатор, зашторенный веселой голубой занавеской, письменный столик, вмонтированный в стену, кровать с белоснежным бельем, туалет с душем. Маленькая, но вполне удобная комнатка. Из коридора доносились голоса, смех, перекличка соседей, но тут было уютно. Влада отодвинула занавеску и увидела темную воду с бликами вечерней зари. Пароход покачивался на волнах. Еще никогда Влада не испытывала такого убаюкивающего спокойствия, а главное, не знала такого приятного одиночества, когда чувствуешь себя полноправной хозяйкой жилища, пусть и временного.
До отхода парохода оставалось несколько минут. Влада разобрала вещи, приняла душ и легла на прохладную кровать, не расстилая постели. Она слышала, как волны ритмично стучат о стену ее каюты. Где-то сбоку и наверху кипела жизнь, возбужденные пассажиры сновали по палубам, а ей казалось, что она находится глубоко под ними, в барокамере на дне реки, куда не доносится ничего лишнего, суетного и ненастоящего. Влада закрыла глаза.
…Когда через час она проснулась, пароход уже отплыл за город. Влада открыла иллюминатор, и свежий воздух, словно сотканный из брызг и лунного света, ворвался в комнату. Темные берега с редкими огоньками казались ей спинами крупных доисторических животных, раскинувшихся у воды.
«Вот это и есть покой, – подумала Влада. – Подводная недосягаемая барокамера. – И одиночество Макса впервые не показалось ей ужасным. – Может быть, жить нужно ради достижения этого состояния – полного покоя. Прав Булгаков, предоставляя Мастеру эту привилегию! Не любовь, не благополучие, не жалкую борьбу за выживание – есть только покой, ради которого стоит пройти семь кругов одиночества…»
Резкий звук бортового радиоузла ворвался в ее мысли. Гнусавый мужской голос объявлял, что настало время ужина, приглашал всех в ресторан. Покой был нарушен. Влада закрыла иллюминатор и начала одеваться. Перед выходом она долго стояла перед большим зеркалом в узком коридорчике каюты и поймала себя на мысли, что выходить не хочется. Так младенцу, который находится в теплом чреве, наверное, не хочется выходить на свет. Но команда «Нужно!» вырывает его из сна и бросает на потребу многим другим «нужно», которые будут сопровождать его всю жизнь…
Влада решительно открыла дверь и направилась в ресторан, присоединившись к веренице пассажиров, находящихся в поисках выхода на верхнюю палубу. Широкий освещенный зал ресторана был украшен цветами. На входе гостей встречали стюарды и провожали к столикам. Места были расписаны по номерам. Владе достался столик с номером 17. Она прошла через зал, осматривая присутствующих и пытаясь предугадать, кого посадили рядом с ней, ведь за столиками сидели по четыре человека. Наконец она увидела на одном столике карточку со своим номером. За ним уже сидели трое – кобзарь Зозуленко, новеллист Куртя и… Ярик Араменко. Все они с восторгом наблюдали за ее шествием. Влада знала, что в черном вечернем платье, расшитом стразами, она выглядит великолепно. Новеллист, опередив остальных, вскочил и отодвинул стул. Влада поздоровалась и села напротив Ярика.
– Вам не повезло! – улыбнулся он. – Вы же не любите есть в чьем-то присутствии… Но я очень рад видеть вас здесь! Это для меня просто подарок судьбы!
Официанты начали разносить блюда.
– О, креветки! О, судак в белом соусе! Анчоусы! – по очереди комментировали кобзарь и новеллист. – Пища богов!
За другими столиками, особенно там, где сидели ветераны, тоже наблюдалось большое оживление. «Неформалы» уже разливали, прикрывшись краем скатерти, водку – ведь на столиках стояли только бутылки с пивом. Алкогольные напитки продавались в баре на верхней палубе и – по бешеным ценам.
Араменко замахал рукой троице, вошедшей в ресторан последней. Портянко, Атонесов и Дартов направлялись к соседнему столику, за которым уже скучала одна из женщин-«берегинь» в большом цветастом платке, накинутом на плечи. Увидя мужчин, направляющихся к ней, она смутилась.
– Привет, предатель! – воскликнули друзья почти хором и с интересом посмотрели на Владу. Взгляд Дартова задержался на ней дольше. Приятели сели за свой столик и, не скрываясь, выставили несколько бутылок. «Берегиня» покраснела, поправляя свою прическу.
За каждым столиком велись оживленные разговоры, почти все члены делегации были знакомы друг с другом, все шумно делились впечатлениями от своих номеров, кухни и встреч со знакомыми. В течение получаса Влада и Ярик были вынуждены выслушивать байки новеллиста Курти, который жевал и говорил одновременно.
– Когда-то, в середине семидесятых, вызывают меня в КГБ, – рассказывал он, многозначительно поглядывая на собеседников. – А я знаю, что они уже собрали на меня кучу компромата, да и думаю – вы хитрые, а я еще хитрее! Так вот, спрашивают меня: «Вы знаете поэта такого-то?» А я себе думаю: «Они же ожидают, что я отпираться буду!» И говорю им прямо: «Знаю!» – «А вы читали его рукопись такую-то?» – продолжают и думают, что я буду возражать. «Читал!» – обезоруживаю их я. «А давали ее читать тем-то и тем-то?» – называют они фамилии моих знакомых и, дураки, думают, что я не знаю, что они знают, что давал. «Конечно!» – говорю. Была еще куча вопросов – сплошная провокация. Но меня не обманешь! Зачем отрицать то, что им известно? Так они и остались ни с чем…
– Да, – меланхолически вставил Араменко, – а потом все те, кого ты назвал, загудели в лагеря… Тоже мне – хитрец!
– Ложь! Ложь! – заорал Куртя.
По тяжелому взгляду Ярика Влада поняла, что сейчас вспыхнет ссора. Но в зал вошел художник Скун, и все внимание присутствующих переключилось на него.
– Привет вам, растения, птицы и звери! – голосом древнегреческого актера продекламировал художник, став посреди зала. – По вкусу ли вам тело Христово?
Испуганный официант поспешил провести дебошира к его столику, но Скун еще долго бродил по залу, целуя ручки дамам и провозглашая свои сентенции. Именно сейчас он был в запое и не потреблял ничего, кроме водки.
– Дамы и господа! – обратился к собравшимся один из организаторов праздника. – После ужина приглашаем всех на верхнюю палубу. Там начинается дискотека. Бар работает круглосуточно. В кают-компании для вас работает бильярдная. Но прошу не засиживаться, берегите силы – завтра в семь часов утра первая остановка и литературные встречи!
– Потанцуете со мной, Милена? – спросил Ярик Владу.
Они поднялись на верхнюю палубу, где уже звучала музыка. Почтенная публика нерешительно мялась по краям палубы, а посередине танцевали только два подвыпивших румынских переводчика. Их движения, полные непристойной двусмысленности, в мелькании цветомузыки напоминали движения марионеток.
* * *
Араменко пригласил Владу на танец. Через его плечо Влада видела, что рядом с палубой, в баре, увитом зеленью, сидят всего двое посетителей.
– Это ваши друзья? – спросила она Ярика, кивая головой в сторону бара.
– Так я и думал! – наигранно вздохнул Араменко. – Вас больше интересует известный писатель Дартов, чем я… Но имейте в виду, он здесь со своей пассией…
– Меня вообще давно никто не интересует, – ответила Влада.
– …и я в том числе?
– Я еще не решила.
Краем глаза она все же следила за двумя собеседниками. Для людей, которые собрались отдохнуть и повеселиться, они имели слишком напряженный и серьезный вид…
– Не кажется ли тебе, Ваня, что сейчас удобный момент, чтобы выяснить отношения и расставить все точки над «і»? – говорил тем временем Вадим Портянко Дартову.
– Что ты имеешь в виду? – лениво спросил тот, поглядывая на танцплощадку, где Ярик слишком жарко обнимал свою соседку по столику, а та в своем черном блестящем платье с глубоким декольте на спине напоминала женщину начала XX века.
– Давай выпьем, – предложил Портянко, разливая по рюмкам «Наполеон». Они выпили молча.
– Так вот, – отважился Портянко. – Вот уже два года, как к тебе пришла безумная, можно сказать мировая, слава. И она, думаю, имеет для тебя неплохой материальный эквивалент. Ты стал звездой. А мы? Разве тебя не учили делиться с друзьями, мальчик? А тем более с такими, которые могут рассказать много интересного… Хоть сейчас…
В этот момент в бар ввалилась группа журналистов в сопровождении длинноногих девушек-«маркитанток».
– Господа журналюги! – закричал им уже хорошенько подвыпивший толстяк. – Вот перед вами сидит известный писатель Жан Дартов! Сейчас вы услышите о нем сенсационную новость!
– Ты что – совсем с ума сошел? – прошипел ему Дартов и приветливо махнул журналистам рукой, мол, вы же видите – человек не в себе.
– Страшно? – хихикнул Портянко. – Вот так-то, брат… А помнишь ту телку в 86‑м, которую мы вчетвером?.. Кто тогда замял дело, а? Правильно – я, благодаря своему дядюшке из органов. Кстати, все протоколы до сих пор хранятся у Атонесова… Занятные документики. Ты тогда, помнится, начал первым… Пора рассчитаться со старыми приятелями, не так ли?
– Так вот для чего вы меня сюда пригласили…
* * *
…Он пытался об этом забыть. Смыть с памяти, как пятно от кофе с белого воротничка. В конце концов, его фантазия позволяла это сделать. Руководствуясь психологической установкой (он специально перерыл гору литературы такого сорта), Дартов много раз возвращался в тот день и проигрывал его заново, так, пока на своем месте не начал представлять совсем другого человека – хмельного незнакомца со стеклянными глазами, чужого, к которому он, Ваня, не имеет никакого отношения. Потом, когда образ незнакомца окончательно запечатлелся в сознании, он стер неприятный случай многолетней давности из своей биографии.
Тогда они вчетвером приехали в небольшой живописный поселок со странным названием – Зеленый Угол. Они выполняли благородную миссию: успешные столичные ребята приняли приглашение местной литературной студии посетить это забытое богом село и провести несколько литературных вечеров. Их ждали. Как это всегда бывало в самых отдаленных районах, для них устроили такой прием, которому мог бы позавидовать истинный гурман.
Правда, перепелов, запеченных в свином брюхе, здесь не было, но жареного, нашпигованного овощами и специями мяса было вдоволь, самогон, настоянный на всяком зелье, лился рекой. Председатель колхоза произносил тосты, а юные студийцы смотрели на гостей глазами, полными восхищения, и со священным трепетом слушали стихи Дартова, претенциозные рассказы Портянко и Араменко. Семка Атонесов взял на себя миссию критика-литературоведа и рассказывал молодежи о «подводных камнях» творчества, не забывая внимательно присматриваться к женской половине студийцев. Вечера проходили в местном клубе, обеды и ужины – на природе.
Приятели одновременно обратили внимание на девушку, которая почти все время молчала и смущалась, поглядывая на важных гостей. Она была не похожа на других девушек – румяных, веселых, которые охотно опрокидывали стаканы самогона и заливисто и громко смеялись.
– А это что за экзотика? – спросил Атонесов у руководителя студии.
– Это наша сиротка, – объяснил тот, обнимая Семена за плечи, – общаться со столичными литераторами было для него особой честью. – В этом году закончила школу, талантливая девочка. Кстати, завтра уезжает на учебу – поступила в университет на филологический факультет. Если захотите остаться здесь дней на пять (у нас замечательная рыбалка!), можете ночевать в ее доме – он будет свободным. В прошлом году у Оксаночки умерли родители, а теперь и она уезжает от нас…
Остаться на рыбалку они не захотели. И на следующее утро, загрузив «газик» продуктами и рукописями студийцев (из которых они собирались сделать костер, как только выедут за пределы села), четверка отправилась в путь. За рулем сидел их неизменный «Санчо Панса» по кличке Серый, парткомовский водитель, привыкший молчать и ничему не удивляться. Все четверо еще не отошли от выпитого накануне, кроме того, они продолжали прикладываться к бутылкам, которые им дали в дорогу заботливые студийцы. Машина ехала лесом. На одном из поворотов они увидели живописную картину: на залитой солнцем лужайке сидела юная нимфа – та самая девочка Оксана. Видимо, она направлялась к железнодорожной станции и присела отдохнуть, ведь идти нужно было километров десять-пятнадцать…
Девушка переплетала косу. Ее заостренное лицо будто светилось изнутри, худенькие руки и ножки казались фарфоровыми. Для полной завершенности картины не хватало разве что маленькой козочки рядом и птицы на ее плече.
– Останови!
Они воскликнули это почти одновременно и так же одновременно перебросились мутными от самогона взглядами…
Нет, нет, позже думал Дартов, ничего подобного, того, что произошло потом, он не хотел! Разве не было понятно сразу, что четверо уважаемых гостей просто остановились, чтобы поговорить с красивой девушкой и предложить подвезти до станции?..
Чисто джентльменское предложение! Откуда же появился тот КТО-ТО, которого он, Дартов, позже представлял на своем месте? И этот КТО-ТО вовсе не был джентльменом. Да и зачем им быть, если мозги вот уже несколько дней омрачены алкоголем, а достойного объекта, чтобы снять напряжение, так и не подвернулось… Кроме этой, которая все время молчала и не приблизилась ни на шаг.
Дуреха-деревенщина! Не знает своего счастья! А оно вот – четыре супермена, которые способны осыпать с ног до головы чем угодно – цветами, деньгами, счастливыми билетами в будущую жизнь!
…Она сопротивлялась так, что обе ее руки оказались вывихнутыми в запястьях. Только тогда наконец затихла. А потом потеряла сознание. Серый невозмутимо сидел за рулем, даже не повернув головы. Когда они, разгоряченные, довольные, возбужденные приключением, уже шли к машине, Дартов вернулся к девушке и прислушался – она прерывисто дышала. Он быстро сунул в ее сжатую ладонь пачку смятых рублей и побежал догонять друзей. Это движение привело ее в чувство. Она подняла голову и посмотрела вслед мужчинам.
– Я вас всех запомнила! Вам это так не пройдет! – услышали они ее слабый голос. – Ненавижу!
Они остановились. Мгновение постояли, не оборачиваясь. Их взгляды почти одновременно остановились на длинном ровном поваленном стволе молодой березы, который перегородил тропинку. Первым за него взялся Дартов. Поняв его намерение, к нему присоединились остальные. Стараясь не смотреть в лицо девушки, они положили ствол на ее тонкую шею. Оставалось только нажать.
– Разом! – скомандовал Дартов…
Потом они снова ехали в машине и до беспамятства глушили самогон.
На поляне, уже укрытой сумерками, не осталось даже холмика. Ровный ствол они предусмотрительно бросили в реку. И он поплыл, крутясь в волнах, смывая с себя все следы…
* * *
– Так вот для чего вы меня сюда пригласили, – повторил Дартов, вглядываясь в глаза старого приятеля.
– А ты как думал? Тебя же сейчас нигде не поймаешь – такая цаца!
– Что ж, – Дартов снова наполнил рюмки коньяком, – давай поговорим серьезно. Я и не думал о вас забывать, не волнуйся. Все мои бумаги – в том числе и иностранные банковские счета – оформлены «на предъявителя». Вопрос в том, на сколько частей их делить – на четыре или, может быть, на две?.. Зависит от тебя, Вадим.
Он заметил, как у Портянко заблестели глазки.
– Не думаю, что Ярик и Семен согласятся с таким раскладом, – пробормотал он. – Разве что… А сколько там денег?
Дартов медленно выпил свою рюмку и неспешно зажевал ломтем лимона.
– Ну, если делить на двоих, по полмиллиона зеленых наберется… И конечно же – еще столько же за старания того, кто даст нам возможность разделить сумму именно на двоих… – Он закурил и выпустил струйку дыма Портянко в лицо, которое вдруг побледнело и приобрело стеклянное выражение.
– Ты хочешь сказать, что…
– Я ничего не сказал! – отрезал Дартов. – Разве я что-то сказал?
Портянко потер лоб, мгновенно осушил свою рюмку и налил снова.
– Тебе лучше дружить со мной, Вадим, – вот и все, что я хотел сказать. А там, как говорил Остап Бендер, купишь себе белую шляпу – и в Рио-де-Жанейро…
– Мне надо подумать…
– Ну-ну, – улыбнулся Дартов. – Подумай, но не затягивай. Бумаги у меня всегда с собой, путешествие такое приятное, но короткое. А река такая бурная… Смотри, на небе ни звездочки – пожалуй, завтра будет дождь. Как там у Гоголя – «редкая птица долетит до середины Днепра…» А еще, помнишь, было такое кино – «И дождь смывает все следы»? Не помнишь? Э-э, совсем ты стал старый, братец… И – не пей много, – добавил он, вставая из-за столика и притворно зевая. – Пойду спать. Это вы, молодые и свободные, а меня ждет жена…
Он помахал приятелю ручкой и вышел из бара. «Я знаю, голубчик, что часы в твоей пустой головке уже запущены, – подумал он, бросая последний взгляд на сосредоточенное лицо Портянко. – Тот инцидент с активисткой нашего литобъединения – не единственное, что нас связывает. Есть еще другие… Ты так же боишься каждого из нас, как и я… А белая шляпа тебе будет, обещаю. Вместе с белыми тапочками…»
Дартов про себя усмехнулся и направился к своей каюте.
А на палубе продолжалась дискотека. Ярик с Владой танцевали уже четвертый танец…
* * *
…Ярик с Владой танцевали уже четвертый танец. Постепенно к ним присоединилось несколько пар. А еще через час, разгоряченные напитками, принесенными с собой на палубу, члены делегации уже прыгали, завзято отплясывая бессмертную «Летку-енку».
– Уйдем отсюда, – предложил Ярик и повел Владу в тот самый бар, где час назад разговаривали приятели.
Портянко там уже не было – его куда-то увел Атонесов, который до этого бегал по палубам, выискивая достойные объекты для приятного знакомства.
– Милена, я влюбился по уши, – сообщил Ярик, как только удалился официант, принесший десерт – ситрон бланманже по-ирландски, и наполнил бокалы красным французским вином.
– Эту фразу я слышала тысячу раз. Это скучно и неинтересно, – сказала Влада. – Что вы мне можете предложить? Ужин в ресторане? Номер отеля два раза в неделю? Летнее путешествие на Кипр? А потом – разговоры о носках, налоги и мигрень? Шелковые простыни, ортопедический матрас фирмы «Венето»?
– Обожаю злых женщин! – улыбнулся Араменко. – Почему вы так плохо думаете о мужчинах? Поверьте, мне есть что вам предложить…
– Что же это – гамбургеры в «Макдональдсах» Сан-Франциско?
Ярик рассмеялся. Женщина нравилась ему все больше.
– Я действительно многое могу, Милена! Просто я слишком ленив, чтобы что-то делать для себя. А вот если бы рядом были вы…
– Конечно. Это мы тоже проходили… Вам нужен второй костыль, чтобы встать на обе ноги. Но я – не костыль и даже не крыло, если уж вам хочется романтики.
– Поверьте, Милена… – снова начал Ярик, но женщина прервала его.
– Вы даже сами не представляете, насколько смешно звучит эта фраза – она для десятиклассниц… Кстати, их здесь много – советую вам, Ярик, не терять времени.
Он смотрел на нее сквозь стекло бокала, и в пурпурном ореоле она казалась ему восхитительной. Такой восхитительной в своей ледяной холодности, что мурашки побежали у него по спине.
– Милена, Милена, – горячо заговорил он. – Я больше не произнесу этой фразы, вы правы, это смешно – мне не двадцать лет. И именно потому то, что я сейчас скажу, прошу принять как слова человека, который влюбился впервые и раскрывает перед вами все карты. Мне нет смысла лгать, поверь… Ох, пардон!
Они оба рассмеялись и весело чокнулись.
– Так вот, – продолжал Араменко. – Пару лет назад я и трое моих знакомых – не буду называть фамилий, это неважно, – задумали одну авантюру, которая неожиданно принесла одному из нас немыслимые доходы… Но каждый имеет право на свою долю. И время для дележа дивидендов настало. Ваше появление в моей жизни может ускорить события. И не гамбургеры, пусть и в Сан-Франциско, я хочу предложить вам, а… замок, настоящий замок на берегу Тихого океана. Сбежим вместе отсюда, Милена?
– И вы хотите, чтобы я в это поверила? Какая же «авантюра» может дать такие доходы?
– О, об этом долго рассказывать…
– Вы спешите?
– Нет, совсем нет. Но… – он сосредоточенно потер виски – привычка, которая осталась с детских лет, когда он маленьким стоял у школьной доски. Наконец он что-то решил для себя и снова заговорил:
– Хорошо, я расскажу вам кое-что. Вам – можно. Два года назад четверо предприимчивых людей выманили у одного писателя-неудачника несколько рукописей – механизм этой аферы был очень прост, ставка делалась на его доверчивость и непрактичность. Это подлинные бестселлеры, которые были изданы под именем другого – уже довольно именитого писателя, его уже много лет кряду выдвигали на соискание международной премии. Но оснований для этого было мало. Книга, напечатанная за границей и переведенная на многие языки, предоставила возможность получить эту многотысячную премию. А дальше все понеслось по закону снежного кома: переиздание, киносъемки, контракты и все такое. Теперь даже за жалкое эссе он получает по штуке баксов…
– Дартов?.. – выдохнула женщина.
– Умоляю вас, Милена, обойдемся без фамилий… Для нас они не имеют никакого значения. Главное то, что каждый из этой четверки предприимчивых людей имеет право на свою долю.
– И один из них – вы?
– Мы. Мы, Милена… – поправил ее Ярик.
Он был взволнован своей откровенностью и не замечал, как изменилось лицо женщины, как стал хриплым ее голос, а глаза превратились в две льдинки.
– А что случилось с несчастным, которого вы обманули?
– Я не знаю. Никогда этим не интересовался. Кажется, последнее, что я прочитал о нем в одной газетенке, это то, что у него пропала жена, а сам он то ли покончил с собой, то ли переехал жить в другой город. Я не интересуюсь глупцами и слабаками, Милена… Ну как, теперь вы верите мне?
Женщина молчала довольно долго.
– Что ж, – наконец произнесла она и непринужденно перешла на «ты», от чего у Ярика сладко затрепетало сердце, – ты действительно сильный человек… Но, думаю, никто тебе не отдаст твою долю добровольно. Ты очень ценишь своих друзей?
– Мы связаны несколькими «подвигами» юности…
– Что ж, – снова повторила женщина, – тогда возникает вопрос: стоит ли делить все на четверых?.. Думаю, один из вас уже давно все для себя решил…
Араменко с удивлением посмотрел на нее. Мысль, которую озвучила эта удивительная женщина, давно уже вертелась в его голове.
– Подумай об этом… Времени у тебя немного… А река такая бурная и глубокая.
Если бы она могла знать, что какой-то час назад, на этом самом месте, другой человек говорил почти такие же слова и так же равнодушно и спокойно смотрел в глаза своего визави!
– Значит, если… получится так, как ты хочешь, ты поедешь со мной в Сан-Франциско? – улыбнулся Ярик, поднося ее руку к своим губам.
– …Даже буду есть гамбургеры! – засмеялась она.
Ярик Араменко чувствовал себя таким счастливым, что не заметил в ее голосе ледяного эха, предшествующего сходу снежных лавин.
* * *
В тот же полночный час в каюте Семена Атонесова наяривала музыка, которая лилась из его маленького приемника (правда, и весь пароход, возбужденный началом путешествия, гудел, как улей: за дверьми каждой каюты происходили бурные события). На столике стоял натюрморт из полупустых и полных бутылок. Сам Атонесов, в шелковом халате оранжевого цвета, с видом турецкого султана раскинулся на подушках, лениво поглаживая по головке пухленькую барышню из хора аутентичного пения. На кровати напротив храпел Портянко. Из душевой комнаты доносился шум воды, смех и крики.
Наконец в сопровождении второй дамы (Атонесов не мог вспомнить, кто она – бандуристка из хора «Поющие казаки» или художница-керамистка) оттуда вывалился московский гость. Оба были обернуты в большие махровые простыни. Московский гость бесцеремонно сбросил Портянко с постели (тот даже не проснулся) и тоже разлегся на подушках, пристроив рядом свою спутницу.
– Эх, харошие вы ребята! – сказал поэт. – Ну что – мир?
Атонесов чокнулся с ним бутылкой пива.
– А тот ваш «классик» и правда сволочь! – продолжал поэт. – Убил бы на месте!
– Так убей! – пьяно отозвался Атонесов. – А я тебе помогу!
– Сам сдохнет скора, падла! На этом свете долга не живут две категории людей: гении и шестерки. Так что ему адин канец, кем бы он себя не мнил! Наливай!
Семен Атонесов с удовольствием слушал тираду московского коллеги. Наливать коньяк было некуда – все стаканы были полны окурков, и он протянул гостю бутылку.
Они еще с час выкрикивали отрывочные фразы о различных способах убийства «этой сволочи», пока не забыли, о какой «сволочи», собственно, идет речь. Потом ели белый хлеб, густо намазанный майонезом, – другой закуски уже не было, выпили еще бутылки две водки. Потом, переложив обеих женщин, которые давно уже уснули, на одну койку, уселись рядом, положив ноги на спящего Портянко, и еще долго выясняли, кому все же принадлежит Черноморский флот. Портянко обиженно сопел во сне.
– А чего ты так не любишь моего друга? – вернулся к теме Атонесов.
– Какова?
– Ну того, как его… – Атонесов покрутил пальцем у себя перед носом, и этот жест сразу же вызвал у московского гостя правильную ассоциацию, которая могла возникнуть только в родственных алкогольных мозгах.
– А-а-а! Чево же это – не люблю? Я ево абажаю! Хочешь, пряма сичас пайду и пацелую? Харошие вы все ребята!
– Пошли! – как всегда после хорошей выпивки, потянуло на подвиги Атонесова. – Я знаю, в какой он каюте! Только тс-с-с-с! – приложил он палец к губам. – Он не один. Знаешь, какая у него баба?!! О! Черная такая! Вся черная!
Они тихонько вышли из каюты и, поддерживая друг друга под руки, пробрались к палубе, на которую выходил иллюминатор каюты Дартова.
Они начали стучать в стекло.
– Жа-а-ан! – кричал Атонесов. – Выходи! Выпьем вместе с нашим гостем – он такой хороший парень! Я ему все рассказал, слышишь? «Чуеш, братэ мий?..» – заорал он песню.
– Спит, падла! – рассердился московский гость. – Не уважает!
На него вдруг навалилась тоска – первый симптом агрессии.
– А пашли вы все! – вдруг вырвал он свою руку из руки Атонесова и, пошатываясь, исчез в темноте.
Атонесов остался стоять на палубе. Свежий ночной ветер постепенно отрезвил его. Он переклонился через перила и наблюдал за мощным потоком воды, на большой скорости обтекающей борт парохода.
Он не услышал за своей спиной чьих-то легких шагов…
* * *
…Влада вернулась в свою каюту поздно. Она была уставшая и в то же время возбужденная событиями, происходившими вокруг нее. Ей хотелось сосредоточиться, но в голове вращался безумный калейдоскоп впечатлений.
«Что в таком случае говорила себе Скарлетт О’Хара? Подумаю об этом утром!» – решила Влада, сбрасывая платье прямо на пол. Она зашла в душ, а уже через пять минут крепко спала под ровный гул двигателя. Этой ночью ей совсем ничего не снилось.
…Дартов просидел в кают-компании чуть не до утра. Сначала его обступили журналисты, и он с большим удовольствием дал несколько пространных интервью, потом его пригласил к богато накрытому столу капитан парохода, а когда ужин закончился, пришло время для покера. Из комнаты он выходил только раз – за своими сигарами, пренебрегши сигаретами, которые ему предложил капитан. С недавних пор он курил только гаванские сигары.
…Проводив Владу-Милену к ее каюте, Ярик Араменко еще долго бродил по палубам. Ему совсем не хотелось спать. Впервые за несколько лет перед ним предстала хоть какая-то перспектива, жизнь приобрела смысл и на горизонте замаячила цель. В неполных сорок он наконец встретил женщину, которая могла стать его женой. Он давно мечтал именно о такой – яркой, неприступной, сильной. Ради нее стоило бы продолжать свою бессмысленную жизнь. Ветер приключений дул ему в лицо, как в юности.
…Портянко проснулся от внезапной тишины, наступившей в каюте. Напротив сопели две незнакомки. Надо было перебираться к себе. Он нащупал в кармане ключ от каюты. «Надо меньше пить, – сказал сам себе Портянко. – В следующий раз буду только вид делать, что пью…»
Он тихо закрыл дверь каюты Атонесова и решил идти к себе не по внутреннему коридору, а по палубе.
Ночь действительно была темная, а река – бурная…
* * *
Внезапно наступившая тишина заставила проснуться. Мотор не гудел, пароход покачивался на волнах, звучание которых напоминало ленивые аплодисменты. Сквозь штору пробивался тоненький острый лучик солнца, в коридорах и на палубах было тихо, как на борту «летучего голландца». Пароход, видимо, стоял на причале. Влада выглянула в иллюминатор. Действительно, это был небольшой причал провинциального городка К.: наспех выкрашенная в сине-белый цвет кафешка, за которой начинались живописные холмы, и – ни души на берегу. Было шесть утра.
Это означало, что она спала четыре часа. Но Влада почувствовала, что не только выспалась, но и готова к дальнейшим действиям. Она села в постели, обхватила голову руками – ей казалось, что так она сможет лучше сосредоточиться, ведь мысли начали прыгать, как кузнечики, и их надо было привести в порядок. Теперь она знала наверняка, что произошло с Максом. Надо было продумать, как все поставить на свои места. Это одно. А второе – Ярик Араменко, который так неожиданно влюбился в нее! Несомненно, ей повезло с этим знакомством, и значит, подобраться к развязке будет проще.
Влада бодро вскочила с кровати, приняла душ и разложила на столике содержимое объемной косметички. Через полчаса включился бортовой радиоприемник. Тот же голос, который вчера приглашал на ужин, возвестил о том, что пора просыпаться и к семи часам утра собираться на причале, откуда всех членов делегации повезут в город. Там, разбившись на группы, писатели и артисты будут приглашены на торжественный завтрак и посетят различные предприятия.
Также в расписание сегодняшнего дня входила экскурсия в краеведческий музей и заключительный литературный вечер во Дворце культуры. Вечером пароход должен был отчалить.
Постепенно коридоры наполнялись звуками. После бурной ночи проснуться было довольно трудно.
Влада первой сбежала по шатким ступенькам на причал и направилась к кафе, которое было уже открыто. У полусонного официанта заказала чашечку кофе.
День обещал быть жарким. Влада не пожалела, что надела легкий сарафан на тоненьких прозрачных бретельках. Сквозь мутное окошко кафе она наблюдала, как народ медленно выбирается на берег, лениво расползается по причалу в поисках тени. В толпе увидела Ярика, который сразу же начал озираться по сторонам, выглядывая ее. Вид у него был довольно усталый и помятый. Как, кстати, и у всех членов делегации. Влада вышла из своего убежища. Ярик бросился к ней, поцеловал руку.
Артисты выносили свой реквизит – музыкальные инструменты, костюмы – и загружали их в автобусы, стоявшие невдалеке. Их замедленные движения напоминали барахтанье пчел в банке с медом.
– Сегодня будет трудный денек! – сказал Ярик. – Если бы не ты, я с удовольствием вернулся бы первым же рейсовым автобусом…
Такое же желание было написано на лицах многих пассажиров. Только иностранцы бодро фотографировались на фоне холмов, снимали друг друга на кинокамеру и весело возбужденно разговаривали. Неподалеку от себя Влада заметила девушку-радиожурналистку, которая усердно настраивала свою доисторическую аппаратуру – громоздкий магнитофон, висевший у нее на плече, и собиралась начать репортаж.
Наконец она приладила шнур микрофона, настроилась на запись и, стыдливо озираясь, стала надиктовывать свои впечатления.
– Вы слышите это шуршание шагов по раскаленному асфальту? Это спускаются на берег члены делегации… – Девушка недовольно покачала головой, перемотала назад пленку и снова поднесла микрофон к губам: – Вот мы, члены делегации, уже на берегу! На берегу славного города К… – Она снова перемотала пленку и включила запись. – Погода отличная! Настроение бодрое, – продолжила она. – А мы, члены делегации, готовимся посетить славный город К…
Влада улыбнулась. Девушка, перехватив ее взгляд, покраснела и поспешила отойти подальше, где бы ее никто не слышал, и снова что-то забормотала в микрофон. Причал напоминал улей. Люди медленно приходили в себя после бессонной ночи, мужчины жадно прикладывались к бутылкам с пивом. Жизнь налаживалась.
Последним с лестницы сошел Дартов – свежий, как всегда, в белом пиджаке и светлых бриджах. Он был один.
Не спеша члены делегации уселись в автобусы, и запыленная колонна отправилась в город.
В окне Влада видела убогий пейзаж промышленного центра: при въезде на высоком постаменте стоял заржавевший трактор начала 30‑х годов, на большинстве троллейбусных остановок мирно дремали бомжи. Серость улиц и однообразие пятиэтажных «хрущевок» контрастировали с витринами частных бутиков и маленьких уличных кофеен. По городу слонялись стайки смуглых сыновей Кришны в ярких хитонах, сшитых из крашеных простыней. Хмурые мужчины толпились вокруг цистерн с теплым пивом. Уличные торговцы, разложив на тротуарах газеты, продавали рыбу.
Автобусы остановились на центральной площади – здесь должен был состояться митинг. Делегацию уже встречали одетые в вышиванки женщины и дети, местный духовой оркестр и сам городской голова, который уже стоял у микрофона, позируя газетчикам городской многотиражки. После многочасового митинга, во время которого Влада и Ярик просидели за пластиковым столиком неподалеку от площади, попивая вино, начались такие же помпезные встречи на предприятиях.
Автобусы разъехались по разным уголкам города. Каждое предприятие давало обед для гостей, в основном на природе, за большими, расстеленными прямо на траве скатертями.
В семь вечера состоялся концерт.
Только в десять автобусы с гостями отправились к причалу. Влада мечтала о ду́ше и прохладных простынях. Но не успела она зайти в свою каюту и с облегчением перевести дух, как бортовой динамик пригласил всех к ужину.
Пароход уже отчаливал от берега, и ровное гудение мотора убаюкивало. Влада почувствовала, что проголодалась, и решила все же принять участие в застолье. Она натянула джинсы – на этот раз решила одеться как можно проще – и вышла в коридор.
Зал возбужденно гудел. Лица делегатов за день, проведенный на солнце, обветрились и покраснели, глаза женщин сияли, отовсюду доносились шутки и смех. Некоторые сменили свое место за столиком, перебравшись к тем, с кем успели подружиться в течение дня. Состав Владиного столика остался прежним. Мужчины встретили ее приветливыми возгласами, Зозуленко отодвинул стул, Ярик смотрел влюбленными глазами, новеллист Куртя облизал губы, готовясь рассказать новую порцию анекдотов… За столиком Дартова состав тоже остался прежним. Женщина сменила наряд и прическу и уже смело руководила действиями своих визави – Дартовым и Портянко, которые поочередно наливали ей вино и угощали купленным в городе ананасом. Атонесов опаздывал.
– Семен, наверное, спит? – обратился к соседям по столику Ярик, и Влада заметила, как нервные красные пятна расползлись по его и без того покрасневшим щекам.
– Пожалуй, что так… – лениво ответил Дартов.
– А я его сегодня вообще не видел, – добавил, пряча глаза, Портянко. – Вчера ночью он куда-то ушел с тем, как его… – Портянко кивнул в сторону столика, за которым разливал водку себе и художнику Скуну московский гость.
Он не придал значения заговорщицкой улыбке Дартова.
И потом, когда ужин был закончен, не обратил внимания на реплику товарища: «Молодец. Я думал, что ты – размазня!»
Он привык слышать от своего друга оскорбительные замечания и поэтому совсем не удивился…
* * *
Несмотря на усталость, после ужина почти все члены делегации не спеша сползались на верхнюю палубу, где на танцплощадке снова звучала музыка. Пароход уже давно отчалил и шел своим курсом на большой скорости – через пару суток он должен был выйти в море.
Черная поверхность воды ночью поблескивала, как масло, и была такой же тягучей. Казалось, что отражение луны застыло в ней и, словно приклеенное, медленно покачивается в такт волнам. Ярослав пригласил Владу прогуляться по палубам.
Кроме танцев, гостям было предложено несколько культурных мероприятий: в выставочном зале развесили свои вышивки и гобелены народные мастерицы, здесь в окружении поклонников исполнял свои причудливые композиции Зозуленко. В другом зале шел авторский вечер крымского поэта Вениамина Божко. Ярик с Владой немного постояли в дверях, наблюдая, как коренастый бородач с длинными волосами густым басом медитировал в пространство полупустого зала:
Оксамитом вкрились гори,
Як дівчина, квилить чайка,
I барвисте гонить море
Хвиль смарагдовії зграйки!
Дальше стихотворение пестрело образами – «рубінові зорі», «кришталеві бризки», «вітрило-одинак», «батько-Криму-пан-Волошин». Цикл «Кримські замальовки» Вениамин Божко-Крымский (дополнение к фамилии был его псевдонимом) написал на украинском языке специально в честь этого литературного круиза и теперь был горд собой и той непринужденностью, с которой ему удалось перейти с одного языка на другой. С трудом сдерживая улыбки, Влада и Ярик направились дальше от залов и кормы, где танцевали разомлевшие парочки.
Наконец они нашли уютный уголок на второй палубе, и Влада остановилась. Ветер трепал ее волосы, закрывал ими лицо. Ярик взял ее руку и поднес к губам. Он был далек от мысли сразу затянуть Владу в постель, да она, видимо, на это и не согласилась бы, рассуждал он. Ему хотелось растянуть удовольствие от знакомства. Стремительно развивающиеся связи никогда не привлекали его.
– А ты молодец… – произнесла женщина бесцветным голосом, и он не понял, какие нотки зазвучали в нем – усталость, нежность, а возможно – ужас… – Если так пойдет дальше, то за двое суток мы уже сможем планировать что-то более конкретное…
– Ты о чем? – не понял Ярик и почувствовал, как дрогнула ее рука в его ладони.
– Не буду досаждать тебе лишними вопросами, – сказала она. – И вообще, я устала. Проводишь меня в каюту?
– Да, – сказал он и приблизил к ней лицо. – Только – один поцелуй…
Он уже был готов поцеловать ее, видел вблизи ее лицо в паутине спутанных ветром волос и вдруг отпрянул:
– Что с твоими глазами? – взволнованно произнес он.
Владу передернуло. Сколько раз ей приходилось слышать этот вопрос!
– «Средство Макропулоса», действие второе! – пошутила она. – Вы, сэр, не оригинальны!
Ярик усмехнулся, отгоняя от себя наваждение, и осторожно поцеловал ее холодные губы.
– Больше не буду задавать тебе театральных вопросов. Ты просто загадочная женщина, и мне нужно к этому привыкать…
Он галантно подал ей руку. На пороге каюты он осмелился поцеловать ее во второй раз.
– Спокойной ночи, Снежная королева! Встретимся завтра в восемь утра в баре. Хорошо?
– Да, – сказала женщина, придерживая дверь рукой. – В восемь, в баре! И… удачной охоты, мой рыцарь!
Она проскользнула в каюту. Ярик на мгновение прижался щекой к отшлифованной поверхности двери, и холодная игла страха пронзала его насквозь. В каюте не было слышно ни шороха, будто женщина ни на шаг не отошла от двери.
* * *
Влада с минуту постояла перед закрытой дверью, прислушиваясь к звукам в коридоре, и опять поймала себя на мысли, что ее каюта на нижней палубе чересчур тихая, словно расположена глубоко под водой. Эта тишина волновала, внушала ужас. «Что с вашими глазами?» – этот вопрос задавал ей даже доброжелательный «Самыч», а Макс как-то в шутку назвал ее «женщиной с мертвыми глазами»…
Господи, неужели он так и не догадался – ее глаза умерли из-за него! Этого сумасбродного, невнимательного к ней, невозможного во всех своих поступках мужчины, над которым она теперь имела неограниченную власть и который теперь, как зверь, сидел в своей келье за тысячу километров отсюда и безумно любил другую…
«Пусть будет так!» – говорила сама себе Влада. Она уже смирилась с этим, приняла это, прониклась чужой любовью и попыталась существовать рядом с ней, спасаться возле нее, как спасаются от холода у костра одинокие и затерявшиеся в снегах путники… Но всякий раз, когда она пыталась протянуть руку поближе, огонь обжигал ее, до черноты прожигал ладонь. И она возвращалась к своим снегам. Она понимала, что принадлежит к той категории людей, которые не способны безболезненно преодолевать сильные эмоции и наполняться до краев другими впечатлениями. Макс непроизвольно убил в ней эту возможность. И поэтому ее глаза всегда будут удивлять своей пустотой.
Влада накинула легкую ночную рубашку, расстелила постель, включила небольшую лампу над ней и достала из маленького бархатного ридикюля, который всегда носила с собой, сверток с камешком… В полумраке каюты он, как павлин, сразу же распустил свои яркие лучи, осветил лицо, заставил сиять ладонь и трепетать сердце. «Это – я», – вдруг подумала Влада.
Холодный мертвый камень светился и заставлял светиться все вокруг. «Кто ты? – обратилась она к нему. – Неужели ты – обычная стекляшка? Откуда ты взялся? Зачем? Кто и когда создал тебя и почему расстался с тобой?..» Она вспомнила, как недавно читала книгу Милорада Павича «Русская борзая»: «Настоящий ли бриллиант – проверить нетрудно: положите его на язык и вкус во рту изменится…» Влада положила камешек в рот. Великий мистификатор не ошибся – во рту разлился прохладный мятный вкус. «Господи! Я совсем сошла с ума! – подумала Влада. – Разве можно верить писателям?»
Тихий стук прекратил ход ее отрывочных мыслей, она быстро спрятала камень, накинула пеньюар и подошла к двери. Снова видеть Ярика ей не хотелось. Она приоткрыла дверь. На пороге стоял Жан Дартов…
* * *
…На пороге стоял Дартов – в своем безупречном белом костюме, с бутылкой «Асти-Мартини» в одной руке и розой в другой…
– Не кажется ли вам, что спать в такую чудесную ночь – преступление?
– Мы знакомы? – надменно спросила Влада.
– Почти, – спокойно ответил тот. – Из-за вас потерял голову мой лучший друг. Кроме того, вы стали объектом пересудов всех мужчин этого парохода.
– Мне кажется, что я не давала для этого никаких оснований.
– Вы дали эти основания одним своим присутствием в этом зверинце!
– Вот как?.. Вы пришли меня наказать?
– Конечно же! Вы – тот бриллиант, который должен блистать. А вы спите…
– А вы способны отличить бриллиант от обычного стекла?
– Да. Разрешите? – он сделал шаг вперед и протянул ей розу.
Она размышляла лишь мгновение.
– Подождите.
Влада закрыла дверь, застелила постель, поправила прическу и украдкой бросила взгляд в зеркало.
– Проходите, – пригласила она незваного гостя.
Дартов вошел и поставил бутылку на столик, потом достал из карманов два высоких хрустальных фужера. Влада улыбнулась. Во всех его движениях чувствовалась уверенность.
– Итак, вы пришли спасать своего друга…
– Боюсь, ему уже ничего не поможет… – Он внимательно посмотрел в ее глаза. Это был именно тот «коронный» дартовский взгляд, от которого теряли рассудок поклонницы, – взгляд обольстителя Паратова в исполнении Михалкова.
– Он что, умер? – непринужденно спросила Влада, разбивая вдребезги этот бархатный взгляд.
Дартов рассмеялся.
– А это должно произойти? Вы – преступница? Представляете, какой сюжет! Таинственная женщина на пароходе, который впоследствии превращается в «летучий голландец»!
– Ну, это вы мастер таких сюжетов, вам виднее… Итак? – она, теряя терпение, посмотрела на него. – Что вас привело сюда?
– Итак, – подхватил он, – выпьем этот чудесный напиток. И познакомимся поближе. Вы писательница?
– Нет.
– Неужели вышивальщица – по вас не скажешь…
– Нет.
– Слава богу! Тогда вы – автор того каменного панно, которое мы везем в Ялту и которое, как святыню, охраняют три цербера в гражданском…
– Чушь! – засмеялась Влада. – Я тут сама по себе. Вот и вся тайна.
– Нет, нет, нет! Тайна должна быть! – улыбнулся Дартов, откупоривая вино.
– Посмотрим… А вас я знаю.
– Читали что-то? – быстро отозвался он, бросая на нее острый взгляд.
– Первый роман – «Белым по белому», кажется… («Еще когда он не был бредом сумасшедшего…» – добавила она про себя.)
– Понравилось?
– Это похоже на допрос, – снова улыбнулась она. – Понравилось. Но… Не представляю, как это мог написать такой успешный человек, как вы. Это суровая проза… Она не сочетается с вашим… костюмом. Вы пытаетесь говорить на равных с известными личностями, даже спорите, а… ваши интервью слишком тривиальны. Как такое может быть? Впрочем, меня это не касается! Ваше здоровье!
Он пил, не сводя с нее взгляда профессионального ловеласа, и она поняла, что немало невинных жертв не устояло перед этими глазами, черными и затягивающими, как два тоннеля.
– Вы действительно интересная женщина. Теперь я понимаю Ярика… – он ненадолго замолчал. – Я давно думал о том, что вы сказали. О своем (он сделал ударение на этом слове) праве говорить с тем, с кем хочу! Тот, кто берется за перо, волей-неволей вступает в диалог со своими кумирами. И разница лишь в том, что для одних собеседниками или оппонентами становятся Гамсун, Воннегут или Кортасар, а для других – авторы комиксов о черепашках Ниндзя! И этот диалог определяет отношение к миру или, наоборот – противопоставление миру себя и себе подобных. Без оппонента был только Господь Бог. Он спорил или соглашался с самим собой. Ведь сказано в Священном Писании: «И увидел Бог, что это хорошо!» Но с чем он сравнивал то, что смастерил, чтобы определить это как «хорошо»? Вот в чем вопрос. Скажи, с кем ты говоришь, и я скажу, кто ты… Я отдаю предпочтение беседам с великими мира сего. И мой костюм при этом не имеет никакого значения!
Влада заметила, что, жестикулируя, он пролил чуточку вина на свой стильный белый галстук.
– Снимите галстук, вы его совсем испортили. Надо замыть…
– А? Да… да… – отозвался Дартов и покорно снял с шеи галстук. – Можно, я закурю?
– Пожалуйста. Я открою иллюминатор…
Свежий воздух ворвался в каюту.
– Извините, я вас напугал, – опомнился Жан.
– Нисколько. Я не хотела вас обидеть. Костюм у вас просто замечательный! И закончим на этом.
– Закончим… – согласился он и опустил голову на грудь.
– Вам пора в постельку! – улыбнулась она. – Думаю, вы сегодня немного перебрали и этот бокал был вашей последней каплей, не так ли? Идите к себе! Насколько я знаю, вас ждет жена. Кстати, гораздо загадочнее, чем я! Все только о ней и судачат. Мол, это ваша турецкая пленница… Вы создали себе демонический имидж!
– Жена? – отвлекся от своих мыслей Дартов. – Да, да, жена… Я забыл… Это не жена…
– Неужели – молодой холостяк? – продолжала иронизировать Влада. Дартов поднял на нее свои тяжелые хмельные глаза, и она сразу прекратила веселиться: что-то знакомое и близкое мелькнуло в этом взгляде – «что с вашими глазами?..»
– Вы любили когда-нибудь? Вы знаете, что такое любить пустоту? Что вы можете об этом знать!
Он быстро поднялся и, сдержав свои чувства, сказал:
– Простите. Мне пора. Рад был с вами познакомиться… Кстати, Ярик говорил, что у вас удивительное имя, забыл, кажется…
– Милена, – подсказала Влада и протянула ему руку. Он пожал ее, и Владе показалось, что рука попала в тиски.
– Доброй ночи, – попрощался Дартов, – мы еще встретимся…
– …В аду?
– Это была бы замечательная встреча!
Он осторожно закрыл за собой дверь. Его белый залитый вином галстук осталась лежать у нее на столе.
* * *
Дартов нетвердой походкой преодолевал длинный коридор, покрытый красной ковровой дорожкой. «Эта тоже ничего, – рассуждал он. – Хотя, по большому счету… Все – пустыня…»
…Ему всегда всего не хватало, всего казалось мало. Если бы мог, он бы заглотил весь мир. Но это не спасло бы его от вопроса – что дальше? Он понимал, что эта ненасытная жажда – следствие давней «детской травмы», когда от родителей, людей простых (мать и отец работали на металлургическом заводе), услышал: «Ты – ничтожество! Из тебя никогда ничего не получится! И не старайся!» С тех пор он постоянно пытался доказать им, себе, миру, что он – есть на белом свете. Фокус с тем давним стишком-гимном удался и позволил двинуться дальше. Но теперь он мечтал остановиться и понимал, что есть только одно, что способно дать забвение: ТА женщина…
…Он увидел ее в Париже, дома у переводчика Огюстена Флери. Если бы не дождь в сумерках, в шорох которого так органично вплеталась музыка Леграна, лившаяся из приемника, если бы Огюстен не оставил его одного, выйдя за чем-то в магазин, если бы не чудаковатое пристрастие хозяина к старинным канделябрам, которые вечером освещали помещение, если бы не еще с десяток подобных мелочей-совпадений, действующих на подсознание, Дартов, возможно, избежал бы той болезни, которая поразила его в половине девятого вечера в самом центре Парижа осенью во вторник года 1992‑го.
Дождь в Париже… Красные и синие зонтики, шуршание шин, шелест плащей, сумерки и музыка где-то внизу, сиреневые пятна света на тротуарах… Он сидел, по плечи утопая в кресле, и блики от десятка свечей играли на обитых шелком стенах. Дождь в Париже вечером имел имя и лицо Жака Превера…
«Помнишь ли ты, Барбара,
Как над Брестом шел дождь с утра,
А ты,
Такая красивая,
Промокшая и счастливая,
Ты куда-то бежала в тот день, Барбара?..
Бесконечный дождь шел над Брестом с утра[2]…»
процитировал Дартов и поднес к лицу бокал с бордо: в нем тут же запрыгали пурпурные искры. Дартов взял в руки тяжелый канделябр и решил пройтись по квартире. Идти дальше гостиной без сопровождения хозяина было неловко, но любопытство взяло верх. Дартов открыл белую дверь, ведущую в спальню. Здесь тоже горела свеча. Она тускло освещала только один угол, и в том углу он увидел ЕЕ. Картину. Она была небольшого размера, немного затертая, старинная, в тяжелой облупленной раме. Но все это не имело значения! На него смотрела женщина. Ее лицо было таким живым и подвижным, что Дартов невольно прислушался – ему показалось, что она с ним разговаривает.
– Что?.. – даже прошептал он.
Более того! Ему показалось, что перед тем как он открыл дверь, эта женщина ходила по комнате – шуршала своим платьем, звенела браслетами и стучала каблуками, а теперь мгновенно спряталась за раму. Ее русые пряди, закрученные в плотные спиральки, еще подрагивали от сквозняка над тонкой обнаженной шеей, в глазах прыгали зеленоватые бесики…
«…И с тобою мы можем уйти
И вернуться,
Уснуть и проснуться,
Забыть, постареть
И не видеть ни солнца, ни света…
Можем снова уснуть,
И о смерти мечтать…»
Все в этот вечер было под знаком Превера. Дартов стоял перед портретом потрясенный, раздавленный. Выцарапать эту женщину из ее времени было невозможно…
– Нравится? – услышал он за своей спиной голос Огюстена и чуть не уронил на пол канделябр.
– Кто она? – едва смог выговорить, пряча глаза от хозяина, будто тот застал его со своей женой.
– Это одна… м-м-м… авантюристка… Кстати, ее следы затерялись где-то в вашей стране. Этот портрет подарил мне мой дядя Антуан. Он, кажется, был увлечен им не меньше, чем ты сейчас. Даже отдал его мне. Чтобы совсем не потерять рассудок. Чудак Антуан! Всю жизнь пытается раскрыть тайну ее сокровищ, мол, бриллиантовые подвески – кстати, те самые, о которых писал Дюма-отец, – эта женщина вывезла-таки с собой сначала в Англию, а потом – куда-то еще дальше. Он даже выяснил, что одиннадцать камешков всплыло. Где-то остался еще один. Кстати, он, возможно, залег в вашей удивительной стране…
Но Дартова история с сокровищами не заинтересовала. Он не спал той ночью. Дождь скребся в окно… Дартов смотрел на размытую водой луну, и перед его глазами снова и снова возникало лицо с портрета. Он не мог осознать, что женщина существует только на холсте. Ее глаза – зеленые и продолговатые, как у египетской кошки, – говорили о другом. Она шутила с ним, дразнила. Она лежала рядом на шелковом покрывале в виде неуловимого пятна лунного света – прозрачная, невесомая, соблазнительная. И он обнимал ее…
Он не смог выторговать у Огюстена этот портрет. Все три недели, проведенные в Париже, Дартов с диким упорством обходил антикварные магазины и «блошиные» рынки, на которых можно было купить все. Но изображения той женщины так и не нашел. Он похудел, глаза его блестели, словно у больного лихорадкой. Он простаивал под портретом все вечера, игнорируя конференцию, на которую приехал. И Огюстен Флери смилостивился. Нет, портрета он не отдал, но заказал с него миниатюру, которую вправил в старинный, яйцевидной формы, серебряный медальон.
– Видно, правду говорят, что эта стерва сводила с ума нашего брата одним взмахом ресниц… – сказал Огюстен, провожая Дартова на самолет. – Берегись, не стань фетишистом…
Но почтенный Жан Дартов не уберегся. С тех пор он повсюду искал ее. Он ненавидел ее, как тяжелобольной ненавидит свою болезнь, но вынужден всячески лелеять ее, подавлять боль наркотиком и со страхом ждать новой волны.
Да, Жан Дартов тяжело болел любовью к… пустоте. И это была величайшая тайна, которой он стеснялся и которую тщательно скрывал даже от друзей.
«Эта тоже ничего… – снова подумал Дартов, перед тем как открыть дверь своей каюты. – Но у нее совсем пустые глаза… Пустые, как пустыня… Берегись, братец Ярик…»
* * *
…В восемь утра Влада сидела в баре на верхней палубе. Ей хотелось поскорее рассказать Ярику о ночном визитере и отругать его за то, что он сообщил ему номер ее каюты. В баре было пусто, у стойки скучал только один бармен, остальная обслуга суетилась в зале ресторана, куда уже медленно начали стекаться заспанные члены делегации. Надо было идти на завтрак, но Ярик все не появлялся. В углу за соседним столиком мирно дремали художник Скун и московский гость. Казалось, что они вообще ни разу не заходили в свои каюты, не переодевались и не брились с самого начала поездки. Влада нервно выстукивала на поверхности столика какую-то мелодию длинными отполированными ноготками.
– Что-нибудь будете заказывать? – спросил ее бармен.
Влада заказала кофе с коньяком и вспомнила, что не взяла с собой кошелек. «Что за жлобская поездка! – вспылила она. – Все напитки – платные, даже кофе!»
– Запишите на мой счет! – кивнула она бармену.
Художник Скун открыл один глаз, мутным взглядом обвел помещение, воскликнул: «Всем – водки!!!» и снова удобно устроился на широком плече своего товарища.
Еще через десять минут Владе надоело ждать. Да и пора было идти в ресторан. После завтрака пароход должен был причалить еще в один пункт, и вся вакханалия встреч, обедов на траве и официального вечера во Дворце культуры должна была вновь повториться. Только на этот раз – с большей помпой, ведь пароход причаливал в крупном областном городе О.
Войдя в зал, Влада сразу же заметила за столиком своего вчерашнего гостя – Дартова. Он сиял своей фарфоровой улыбкой, поблескивал массивным золотым перстнем и благоухал терпким мужским ароматом французских духов. Он, как и вчера, поднял на Владу свой бархатный взгляд.
За своим столиком Влада увидела Куртю и Зозуленко, но Ярика не было и здесь.
– Наш коллега, видимо, решил остаться голодным! – сказал Куртя, подвигая Владе стул.
На завтрак подавали салаты, овсянку, йогурты и холодную телятину. Влада едва притронулась к еде, выпила немного ананасового сока. Она заметила, что за соседним столиком отсутствует Атонесов.
– Ребята потихоньку бегут с парохода, – сказал Зозуленко, перехватив ее взгляд. – Не удивлюсь, если на этой остановке мы утратим еще несколько персон.
– Конечно же! – подхватил Куртя. – Все им кажется скучным! Вот если бы это был кругосветный круиз…
– Патриоты хреновы! – согласился с ним Зозуленко.
На этом разговор за столиком прекратилася, каждый был занят содержимым своей тарелки.
После завтрака Влада решила все же разыскать Ярика и решительно направилась в его каюту, которая находилась на второй палубе.
На стук никто не ответил. Влада подергала ручку, и, к ее удивлению, дверь открылась… Сразу же мощный сырой сквозняк закружил в своем вихре какие-то бумажки, лежавшие на столике, поднял облако пепла из пепельницы. На ветру затрепетала занавеска: в каюте был открыто окно. Влада быстро вошла вовнутрь и поспешила закрыть дверь.
– Ярослав, это я! – крикнула она, прислушиваясь к звукам в ванной комнате.
Но ответом ей была тишина. Без сомнения, Ярика в каюте не было, на столе стояла грязная чашка из-под кофе и бутылка коньяка…
Влада тронула разостланные на кровати простыни – они были холодные и влажные от мелких брызг, летящих из открытого окна. Значит, постель оставалась пустой, по крайней мере, часа два-три… Владе стало холодно, она решила закрыть иллюминатор. Она уже взялась за ручку и вдруг заметила на круглой пластиковой раме бурый след, такой, будто кто-то выплеснул в окно остатки кофе. Влада достала из ридикюля свой носовой платок, тщательно протерла белую раму и, прежде чем выбросить платок в реку, поднесла его к глазам. Потом пожала плечами, свернула из носового платка мягкий шарик, бросила в воду и закрыла окно. Нужно было незаметно выйти. Она уже стояла у двери в узком коридорчике, когда заметила, что ручка на двери тихонько поворачивается, словно кто открывает ее с той стороны. Влада плотно прижалась к стене и затаила дыхание. Она не ошиблась – кто-то осторожно и тихо открывал дверь. Влада плотнее вжалась в стену, наткнулась на спасительные двери ванной комнаты и так же осторожно и бесшумно начала отступать в темноту этой небольшой кабины, потом так же бесшумно скользнула в тень и спряталась за пластиковой шторой душа. Дверь ванной она закрыть не успела – в каюту уже кто-то входил…
Как в кривом зеркале, сквозь мутный пластик длинной шторы Влада разглядела, что это был один из друзей Дартова – Вадим Портянко. Лысый толстяк так же, как и она, удивленно оглядел пустую каюту, несколько раз окликнул друга, бросил взгляд на приоткрытую дверь ванной, прислушался, несколько раз растерянно повторил: «Ничего не понимаю…» и, прихватив со стола бутылку, так же тихо удалился.
Влада с облегчением вздохнула и, посчитав в уме до двадцати, тоже вышла из каюты.
Пароход уже причаливал к берегу, все члены делегации собрались на палубе, – Влада вышла в пустой коридор и поспешила присоединиться к остальным… День обещал быть жарким.
* * *
– Клянусь тебе, Жан, еще раз повторяю… – Портянко, несмотря на то что рядом с бутылкой стояла рюмка, приложился к горлышку и жадно, не чувствуя вкуса, сделал три больших глотка. – Богом клянусь или чертом… если хочешь…
Они снова сидели в баре.
Так же гудел мотор, так же играла музыка, так же изрекал свои сентенции художник Скун. Пароход отчалил от славного города О., в котором за каких-то десять часов состоялось более двадцати встреч, творческих вечеров, гала-концерт и грандиозная праздничное гулянье в живописном историческом музее под открытым небом. Члены делегации уже прилично загорели, перетасовывались между собой, как колода карт, и пароход им стал как дом родной. Дартов улыбался и разглядывал свои безукоризненно подстриженные ногти.
– Вадик, ты блефуешь? – спросил он.
– Клянусь тебе, Жан… – в который раз дрожащим голосом повторил Портянко.
– Замолчи, гнида! – злобно процедил Дартов. – Надоело слушать! Но запомни, если ты решил достать меня – у тебя ничего не выйдет.
– Кля… – снова начал было Портянко и безнадежно махнул рукой.
– Завтра мы будем несколько часов стоять в бухте неподалеку от моей новой дачи, – сказал Дартов. – Там мы высадимся, я возьму все бумаги, и мы спокойно поделим наши дивиденды, обещаю… А сейчас иди, тебе надо проспаться! Ты хорошо поработал!
Портянко снова махнул рукой, тяжело поднялся из-за столика, пошел к выходу, но на мгновение остановился и снова подошел к Дартову:
– Жан, ты идиот! Ты не слышишь, что я тебе говорю. Увы… Но запомни: «НА НАС КТО-ТО ОХОТИТСЯ!» И я не знаю, кто из нас будет следующим…
– Ты мне угрожаешь?! Ты? – Дартов оттолкнул приятеля, и тот полетел в объятия московского гостя, который как раз входил в бар.
– О! Гавно само плывет в руки! – констатировал московский гость и ласково обнял Портянко за плечи. – Пашли выпьем! У меня в каюте есть классный самагон, не то что пойло в этом баре!
Увидев товарища, художник Скун поднялся из-за своего столика:
– Нальем-ка, братья! – закричал он и обнял Портянко с другой стороны. Так втроем они вышли из бара, сопровождаемые скептическим взглядом Жана Дартова.
Фантасмагория продолжалась, играла музыка, по всем углам целовались парочки, а в залах выступали и жаждали внимания творцы. Пароход выходил в море.
Есть лишь покой
* * *
– А поворотись-ка, сынку! – кричал Скун, выставляя Портянко из каюты. Тот пьяно сопротивлялся, хватаясь руками за дверной косяк. Скун оценил его подходящую позу и во всю силу залепил коленкой в толстый зад. Портянко потерял равновесие, выпустил из рук дверь и улетел в противоположную сторону коридора, а довольный Скун захлопнул дверь. Портянко полежал на ковре, устилающем коридор, прислушиваясь к тишине. Был третий час ночи.
После полного беспредела и разгула, происходящего в каюте, тишина показалась Портянко зловещей, неестественной и сразу же будто отрезвила его. Он поднялся с пола и, хватаясь руками за стены, побрел на вторую палубу, судорожно пытаясь вспомнить номер своей каюты и разыскать в карманах ключ.
«Клянусь тебе, Жан… – бормотал он. – Ты – настоящая сволочь, Жан… Я еще тебе покажу, вот увидишь…»
Узкий коридор, покрытый алым ковролином, тусклый свет маленьких круглых лампочек за матовым стеклом плафонов навевал неприятные ассоциации.
«Вот и дорога в ад…» – бормотал Портянко.
Пошатываясь, он наконец добрался до лестницы и поднялся в коридор второй палубы. За стеклянной дверью, ведущей наружу, мелькнула легкая тень.
«Люди!» – обрадовался Портянко и решил остаток пути пройти по палубе.
Он открыл дверь и полной грудью вдохнул свежий ночной воздух. В голове немного прояснилось.
«Нет, Жан, тебе меня не достать! – подумал Портянко. – Нет, нет и еще раз нет!»
Крупные неподвижные звезды стояли у него над головой, ветер холодил лысину. Портянко расправил клетчатый галстук, вытер им потное лицо, успокоился и взялся за ручку двери, чтобы вернуться в коридор.
– Не спится? – услышал он тихий голос за спиной. Из кромешной тьмы палубы выступил силуэт…
Портянко приветливо улыбнулся, чувствуя неловкость от того, что от него несет водкой…
* * *
…Влада проснулась опустошенной и разбитой и решила целые сутки не выходить на палубу, не появляться в ресторане и на танцплощадке. Она заказала завтрак в каюту.
Официант с недовольным видом принес ей поднос с кофе, соком, порцией жареной картошки и отбивной по-французски. После завтрака Влада удобно устроилась в постели, задернула занавески и решила сегодня вообще не снимать ночную рубашку.
Она лежала на высокой подушке в полутьме (занавески были двойные, а нижние, пластиковые, были темно-синего цвета) и смотрела на узор теней, создаваемый тонким лучиком солнца, каким-то чудом проникшим сквозь крохотную, едва заметную дырочку в занавеске…
Она сложила руки на груди и вспомнила, что мать всегда делала ей замечания из-за этой любимой ее позы, мол, так лежат мертвецы. Теперь Влада лежала именно так и думала о том, что эта поза – когда обе руки сложены на сердце – утешающая, усыпляющая, умиротворенная, недаром кто-то давно придумал ее для тех, кто больше не будет суетиться. Она представляла себе, как рано или поздно застынет именно в такой позе, в полной темноте, в одиночестве с никому не нужной ритуальной атрибутикой, и завеса из белого гипюра будет лежать на ее заостренном лице… Будет ли она чувствовать что-нибудь?..
Сейчас дыхание ее было ровным, приглушенным, как во сне. На мгновение Владе показалось, что совсем рядом она слышит такое же приглушенное дыхание. «Бред! – уговаривала себя Влада. – За спиной – только стена…»
Но, как это бывает с людьми с больным воображением, она ясно чувствовала, что за спинкой кровати, плотно придвинутой к стене, кто-то есть, и сто́ит только поднять глаза, как она увидит складки одежды мышиного цвета, мягко раскачивающиеся над ее головой…
От кончиков пальцев ног стала медленно подниматься вверх волна холода, тело затекло, наполнилось острыми иглами страха. Влада зажмурилась и все же отважилась сквозь завесу ресниц взглянуть в верхний угол кровати. Серый хитон действительно покачивался над ее головой, как паутина…
Прохладная рука потянулась через ее голову, накрывая лицо невесомой тканью рукава, и легла на скрещенные на груди руки. Тело окаменело настолько, что подвижными остались только глаза – Влада проводила взглядом ладонь, и она показалась ей знакомой: с характерной мозолью от авторучки на указательном пальце… И сразу ей стало тепло, потом жарко, и волна холодных иголок уже превратилась в многотысячные язычки пламени, расплавившие ее тело, превратившие в воск – и она все равно оставалась прикованной к постели, распластанная этим горячим теплом.
«Как ты тут оказался? – хотела сказать Влада, но губы тоже расплавились и не прошептали ни звука. Не снимая ладони с ее рук, тень переместилась и села на край кровати. – Я что, умираю?» – снова беззвучно спросила Влада. «Ты не умираешь – умираю я… – услышала в ответ сквозь плотный капюшон хитона, – мне темно. Лампочка перегорела…» – «Ты не умрешь, я так люблю тебя…» – «Я это знаю…» – «Что ты можешь знать о любви к бездне?» – процитировала она чьи-то чужие слова. – «Бездна окружает нас…» – «Скоро все будет иначе. Но скажи мне – как ты здесь очутился? Почему ты не даешь мне самой разобраться с ними? Я только-только подобралась к развязке. Я уже все знаю!» – «Что ты знаешь?» – «Я знаю, как вернуть тебе имя и… деньги. Много денег. Они совсем рядом…» – «Мне не нужны деньги, ты знаешь, ЧТО мне нужно…»
Тень наклонилась над самым ее лицом.
Последним усилием Влада смогла оторвать голову от подушки: «Я все делала ради тебя! Все! Я не виновата… Мы будем жить!..»
– Мы будем жить в Сан-Франциско! – сказала Влада и наконец услышала свой голос. Он прорвался, как через ватное одеяло, и заставил проснуться. Ей показалось, что прошло не более пяти минут, но за занавесками иллюминатора уже была ночь.
– Макс! – позвала Влада и опомнилась: «Господи! Ему плохо, он умирает – там, в одиночестве, в полной темноте… Он приходил за мной…»
Она не могла больше лежать, вскочила с кровати, стряхнув с себя остатки сна, натянула джинсы, наспех расчесала волосы и, захватив с собой ридикюль, выскочила на палубу.
* * *
Пароход стоял в бухте перед горной грядой, которая на фоне темного неба напоминала стаю мифологических гигантских зверей. На нижней палубе стояла тишина. Держась за поручень, Влада пошла на странный звук, который донесся до ее слуха с кормовой части парохода.
То, что она увидела, не удивило ее: в маленькой шлюпке за бортом парохода сидел человек и изо всех сил крутил колесо лебедки, спускаясь вниз, на воду. У Влады не осталось никаких сомнений – это был Жан Дартов.
– Мавр сделал свое дело? – крикнула ему Влада из темноты и впервые увидела выражение отчаяния на его всегда уверенном лице. Более того, ей показалось, что его руки и губы дрожат.
– Не подбросите даму до берега? – снова крикнула она, нарочито спокойно. – Мне тут порядком надоело!
– Что ж, может, так будет и лучше… – наконец откликнулся Дартов. – Садитесь!
Он закрутил колесо в обратном направлении, и Влада ступила на борт шлюпки.
– Вот, решил прогуляться, – сказал Дартов, навалившись на весла. – Здесь недалеко моя дача… Хотите со мной?
– С удовольствием, – согласилась Влада и посмотрела ему прямо в глаза. – А где же все ваши приятели?
Дартов снова вздрогнул.
– Не знаю! Я им не нянька!
Больше они не произнесли ни слова. Луна, полная и ясная, высвечивала на воде широкую золотую дорожку.
Через полчаса Дартов начал приискивать место, чтобы причалить к каменистому берегу. Наконец он выбрал удобный пологий склон и направил шлюпку туда. В двух метрах от берега лодка наткнулась на что-то большое и мягкое, покачивавшееся на волнах, как туша мертвого дельфина.
– Этого еще не хватало! – в сердцах сказал Дартов и взялся за весло, чтобы оттолкнуть неизвестный предмет. Влада пристально наблюдала за его действиями. Дартов оттолкнул тушу веслом, и она, переворачиваясь, выплыла в свет лунной дорожки и замерла на мели.
Влада прикрыла рот ладонями, глаза Дартова вытаращились, как у рака: перед ними покачивался утопленник. Волны накатывались друг на друга и приподнимали его под руки – казалось, что большой толстый человек поводит ними, призывая к себе. На лице мертвеца сидел большой морской рак.
Дрожащим пальцем Влада указала на квадратик пластикового бейджа, который был закреплен у покойника на лацкане пиджака. Такие же бейджи были у всех членов делегации. Сомнений не было – это был труп Вадима Портянко…
* * *
Дартов посмотрел на Владу ошалелым взглядом и как безумный снова налег на весла. Добравшись до берега, он накинул трос на первый попавшийся камень, выскочил из лодки и обессилено опустился на песок. Владе пришлось самой выбираться из шлюпки. Ее трясло.
Дартов достал из кармана трубку и пытался ее раскурить, но, махнув рукой, вынул из кейса (Влада только сейчас заметила, что с ним был небольшой кожаный чемоданчик) пачку сигарет.
– Что скажете? – обратился он к Владе.
– Пожалуй, его нужно вытащить… – отозвалась та.
– Нет, я не могу… – он обхватил голову руками. – И вообще, я ничего не понимаю… Вадим предупреждал, что я буду следующим. Я боюсь…
– Поэтому вы и удрали с парохода?
– А почему удрали вы? – вдруг пристально посмотрел на нее Дартов. – И куда вы дели Ярика? И кстати, кто вы такая? Почему вы поехали со мной?
Он отодвинулся от нее подальше.
– Почему вас это удивляет, разве вы не привыкли к вниманию женщин?
– Таких, как вы, – нет! Что вы от меня хотите?
– Насколько я помню, вы пришли ко мне первым…
– Я был пьян… – пробормотал он, стряхивая пепел себе на колени и не замечая этого.
– Прекрасная возможность… Ну, а я… хотела вернуть вам ваш галстук. – Влада достала из ридикюля белый галстук, который Дартов забыл у нее в каюте. – Надеюсь, мы объянились?
Она встала.
– Подождите… Я все же вытащу этого беднягу!
– Вы отчаянная женщина!
Влада обошла скалу, спустилась к воде. Тело несчастного все еще покачивалось в лунном свете, а рак все так же балансировал на его лице.
Влада подкатила джинсы, зашла в воду, ухватила покойника за шиворот и вытащила на берег.
– Ну, вот и все, – сказала она Дартову. – Теперь не мешало бы выпить, я замерзла…
– Что ж, – отозвался он, – пойдем на «фазенду», она тут неподалеку. Правда, она совсем не обустроена, но, по крайней мере, крыша над головой до утра обеспечена, и у меня есть при себе бутылка водки…
Они начали подниматься по извилистой тропинке, порой продираясь сквозь густой кустарник.
Ночная прохлада пробирала до костей, деревья и кусты казались живыми существами, изогнутые стволы южных деревьев напоминали застывших путников.
– Похоже на дорогу в ад… – прошептала Влада.
– Вы угадали – мы идем в «Чертов замок», – отозвался Дартов, – по крайней мере, так называется это место…
– Это ваша фантазия? Я не вижу здесь никакого замка!
Дартов не ответил. Он молча боролся с зарослями дикого винограда, срывая его гибкие ветви с покореженного ветром и временем забора. За расчищенным забором Влада наконец увидела дом…
* * *
…За забором Влада увидела дом.
Кромешная тьма обступила их со всех сторон, как только Дартов приоткрыл тяжелые скрипучие двери. Влада опасливо ступила в узкий длинный коридор и услышала, как у нее под ногами на все лады, как орга́н, заскрипели доски пола. Сразу же, словно в ответ на это, дом ожил и наполнился какофонией таинственных звуков: на чердаке зашуршала и засуетилась стая вспугнутых мышей, с облупленных стен посыпались юркие ящерицы, где-то под полом и вдоль стен зацокали коготками крысы, на легком сквозняке заколыхалась паутина, и сотни крупных черных пауков поспешили подняться вверх в поисках безопасного места – туда, где, как фигуры черных ангелов, вниз головой висели летучие мыши.
– Я знаю, где есть свечи, – прошептал Дартов, и Влада непроизвольно ухватилась за рукав его спортивной куртки, – идите за мной!
Влада чувствовала, что начинает задыхаться. Вместе с тем первый испуг прошел, сменяясь почти эйфорическим восторгом, – в доме пахло пергаментом и воском. Казалось – еще несколько шагов по туннелю, и она войдет в вечность, в лабораторию доктора Фауста, и время поплывет вспять, туда, где средневековье встретит ее бокалом густого, настоянного на ведьмовской смеси трав вина.
Дартов наконец вывел ее в просторный зал, и так же, как в коридоре, из-под их ног выскользнули сотни потревоженных жителей. Что-то скользкое задело Владину ногу, что-то мягкое скользнуло над ухом, что-то зашуршало и исчезло в трещинах облупленных стен. Дартов щелкнул зажигалкой и высветил в углу большой резной комод.
– Здесь строители, кажется, оставили свечи…
Он потянул ящик на себя, и отчаянный писк пронзил тишину.
– Надо же! Здесь целое мышиное гнездо! – выругался Дартов. – Наверное, кого-то раздавил…
Он достал из ящика большую парафиновую свечу.
– Ну вот, сейчас согреемся…
Зыбкий огонек заколыхался и весело разгорелся, освещая комнату. Влада увидела длинный деревянный стол на массивных, покрытых мхом ножках, в углу стояла высокая кровать с истлевшим тряпьем, которое некогда было простыней, два стула с высокими спинками по обе стороны стола.
Дартов смахнул с них пыль и, накапавши расплавленный воск посреди стола, приладил свечу, потом, повозившись с кодом кейса, вынул из него бутылку водки «Абсолют».
– Извините, что не предлагаю рюмок – я тут сам только второй раз… А может, и последний раз… – задумчиво добавил он.
Влада сделала глоток и сразу почувствовала, как отступает холод.
– Теперь можем поговорить, – сказал Дартов. – До утра далеко, первый автобус останавливается на верхней трассе только в семь – вряд ли мы сможем поймать здесь машину. Это глухое место. Даже мобилка в ущелье не работает.
– Зачем вам такой дом, если вы не собираетесь здесь жить? – спросила Влада, усаживаясь на стул напротив Дартова.
– Это моя мечта – дом графини Жанны де Ла Фарре. Первой фрейлины при дворе королевы Марии Антуанетты. Фаворитки короля. Любовницы обоих кардиналов и просто красивой и загадочной женщины конца шестнадцатого века. Никогда не думал, что сумею купить его, и вот…
– Как, вы сказали, ее имя? – У Влады перехватило дыхание, тысячи молоточков застучали в мозгу, из глубины памяти всплыла фигура незнакомца с фотоаппаратом на груди, который стоял на пороге их дома… Что он сказал тогда? «Здесь ли живет мсье Оливер Фарре?» Возможно, она забыла, ошиблась? Надо будет это обдумать позже, ведь он, хозяин, уже смотрит на ее озабоченное лицо слишком пристально.
– Что вас так поразило?
– Никогда не поверю, что этот дом принадлежал французской графине. Это, скорее, легенда? – пожала плечами Влада.
– И все же это правда. И есть много доказательств, я имел доступ к документам, поверьте мне. А миниатюра с портрета этой женщины всегда со мной. Хотите посмотреть?
Он пошарил в кармане, вытащил оттуда зеленоватый, покрытый патиной круглый медальон размером с яйцо, открыл его и протянул Владе.
Ей показалось, что еще миг, и она потеряет сознание…
«Маленькая Жанна в зеленом платье…» – словно услышала она безумный шепот Макса.
– Нравится? – самодовольно спросил Дартов, будто речь шла о его жене или дочери.
– Кто это? – шепотом спросила Влада.
– Графиня Жанна де Ла Фарре. Та самая, что когда-то стала прототипом леди Винтер в знаменитых «Мушкетерах» Дюма. Но в действительности он все выдумал, все было иначе. Особенно история с подвесками. Кстати, дама изображена именно с ними.
Влада не могла отвести глаз от лица на портрете и только теперь заметила на плече женщины гроздь бриллиантов. Влада уже знала наверняка, что у всех у них есть одна непропорциональная грань… Она сжала в руке свой ридикюль – ей показалось, что именно сейчас камешек прожжет бархат и упадет на стол горячим угольком.
– Как же она оказалась здесь, в этой дыре? И какая на самом деле история подвесок? Остались ли у нее наследники? – Влада пыталась скрыть дрожь в голосе.
– Один мой французский коллега как раз занимается этой историей. Лично я считаю ее глупостью и в существование бриллианта не верю. А о женщине могу рассказать с удовольствием – у нас куча времени… – произнес Дартов, закурил сигарету, выпустил в потолок струйку дыма. – Посмотрите на этот портрет – перед вами женщина на все времена. Не знаю, что чувствуете вы, но мужчины сходили с ума от одного ее взгляда. Конечно же, вокруг нее крутились сплетни, интриги. В какой-то момент она почувствовала, что может вершить судьбы других, даже если эти другие – сановные особы. А выросла она в полной нищете. Может, это и стало причиной авантюры с бриллиантами. Графиня де Ла Фарре заказала дорогое украшение известным парижским ювелирам от имени своей лучшей «подруги» – королевы Марии, подделав королевскую подпись, послала им письмо. Получив подвески и пообещав, что Мария вскоре рассчитается за работу, она бежала в Англию. Правда, королева посылала туда нескольких своих верных слуг, но… все они попали под чары этой женщины и друг за другом добивались ее руки. Она отказала. И тогда все четверо стали ее заклятыми врагами, от которых она вынуждена была бежать сюда, под защиту императора Александра. Но и он не устоял перед ней и, тоже получив отпор, решил сдать ее французскому правосудию. Тогда, преследуемая всеми, она тайно купила этот дом и превратила его в перевалочный пункт контрабандистов. Все годы она жила на деньги, которые получала от продажи бриллиантов. Кто знает, где эти камни теперь, – их развезли по всему миру. До самой старости эта удивительная женщина ездила верхом и умерла от того, что упала с коня…
– А у нее были дети? – спросила Влада.
– Неизвестно… Но любовников и поклонников у нее было множество до самой старости… Правда, живет здесь неподалеку в поселке женщина, которая якобы приходится родственницей служанки графини. Я разговаривал с ней, она сказала, что ее прабабушка рассказывала – а ей пересказывала ее прабабушка, – якобы после смерти графини сюда приезжал ее сын или внук, которому служанка передала сверток. Что было в том свертке, служанка не смотрела, очень боялась проклятия графини. Кстати, – задумался он, – нужно рассказать об этом Огюстену…
– И правда, интересная легенда, – дрожащими губами произнесла Влада, едва сдерживаясь, чтобы не рассказать хозяину о давнем визите старого француза в ее семью.
– Это не легенда! – рассердился Дартов, отхлебнув водку из горлышка. – Эта женщина была на самом деле! Она была восхитительна…
Он снова сделал глоток, и Влада заметила, что жидкость в бутылке почти закончилась. Дартов опустил голову на руки:
– Вот и все…
* * *
– Вот и все, – сказал Жан Дартов. Рассказ утомил его.
– Не все, – сказала Влада и судорожно сжала в руке медальон. – Вы забыли рассказать еще об одной Жанне – маленькой Жанне в зеленом платье…
– А-а-а… – поднял глаза Дартов. – Так называется одна из глав моего романа…
– … Который вы украли и издали под своим именем! – вдруг выкрикнула Влада.
– Я так и знал! Я чувствовал, что вы здесь неспроста! Выходит, Ярик все-таки раскололся! – сжал кулаки Дартов.
– Раньше, чем вы его убили! – добавила Влада и увидела в его глазах ужас.
– Я никого не убивал! – взвизгнул он. – О, теперь я знаю, что все это подстроили вы! Кто вы такая? Что вы от меня хотите? Денег? Черта с два! Я тебя уничтожу!
Он опрокинул стул и начал надвигаться на нее, доставая из кармана и растягивая в руках свой белый галстук, который ему вернула Влада. Она отступала, отгородившись от темной фигуры стулом, и в отчаянии, не помня себя, раскрутила медальон на цепочке и что есть силы швырнула его в голову нападающего, потом обернулась в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить орудием защиты. Но следующее действие противника заставило ее замереть – Дартов захрипел и, сделав шаг назад, вдруг повалился на пол, вздымая клубы пыли. Тяжелое серебряное яйцо сработало как праща – у виска Дартова медленно расплывалась черная лужа крови.
Владе показалось, что дом снова ожил – зашуршал, задвигался на своих невидимых курьих ножках, откликнулся хохотом ночной птицы, наполнился тенями призраков. Влада перекрестилась и, не сводя глаз с неподвижного тела, попятилась к выходу. Свеча на столе горела, освещая часть мертвого лица Дартова, а рядом с ним – серебряное яйцо с миниатюрой. От удара медальон раскрылся, и на Владу смотрели знакомые зеленоватые глаза сестры…
– Вот что ты натворила, Жанна… – прошептала Влада, отступая в темноту коридора. Она изо всех сил уперлась во входную дверь, и та открылась. Сразу же совершенно иной воздух наполнил ее грудь – воздух душистой крымской ночи, пропитанный густым сладким запахом жасмина. Влада уже хотела закрыть дверь, как вдруг вспомнила: «Кейс»!
Пришлось возвращаться. Она снова нырнула в средневековую затхлость дома. Пытаясь больше не смотреть на мертвеца, взяла кейс – к счастью, Дартов не успел закрыть его на код! – положила на стол и откинула крышку.
Под белой рубашкой и парой носков лежали бумаги. Влада поднесла их поближе к огню и внимательно рассмотрела: это были чековые книжки, банковские счета «на предъявителя» и другие ценные бумаги швейцарского и американского банков. Оставалось только вписать имя, а кое-где – подделать размашистую подпись Дартова…
Влада осторожно вложила бумаги в файл и уже собиралась забросить кейс куда-нибудь подальше, но тут на самом дне увидела еще один конверт. Она распечатала его – «Я, Иван (Жан) Владимирович Пырьенко (Дартов) этим документом УДОСТОВЕРЯЮ… что в 1998 года присвоил и издал под своим именем несколько романов малоизвестного писателя (дальше стояло имя Макса)… Дата. Подпись…» Чуть ниже были отпечатки пальцев самого Дартова.
– Для кого ты писал эту расписку? – гневно обратилась Влада к неподвижному телу и испугалась собственного голоса. Свеча уже почти догорела, и маленький язычок синего пламени конвульсивно вздрагивал, умирая на конце черного скрученного фитиля. Влада свернула мягкий файл в трубочку и сунула ее в свой ридикюль, туда же положила конверт и со всех ног бросилась прочь из этого дома.
Она знала, что следует делать дальше: нужно немедленно возвращаться на пароход, пока никто не заметил ее отсутствия и не связал его с исчезновениями пассажиров, потом добраться со всеми до следующей остановки и незаметно скрыться. А потом она даст ход делу с похищением романов Макса, разберется с бумагами и подготовит переезд куда угодно, куда захочет Макс…
– Мы будем жить в Сан-Франциско! – вспомнила она слова Ярика и невольно улыбнулась…
Через несколько минут Влада уже была на берегу. Она отвязала шлюпку, залезла в нее и бросила прощальный взгляд туда, где на берегу лежало распростертое тело Вадима Портянко.
– Твой убийца мертв… – сказала ему Влада и налегла на весла.
* * *
…Был третий час ночи. Ладони ее горели от весел, от каната, по которому ей пришлось подниматься на борт (шлюпку она оставила в море). Влада вернулась к себе в каюту, слава богу, что ни души не встретила ни на палубе, ни в коридоре. Ей не верилось, что за несколько часов она пережила настоящую приключенческую эпопею, результатом которой стал труп… Влада приняла душ и уже собиралась залезть под одеяло, как вдруг новая мысль посетила ее – дартовская «наложница», или молодой парень, или невесть кто… Куда он ее подевал? Она должна быть здесь, на пароходе! «Если он не избавился от нее так же, как и от своих сообщников!» – мысленно произнесла Влада. Любопытство взяло верх, и она снова натянула джинсы и свитер, ей не терпелось заглянуть в каюту Дартова. Влада снова вышла в коридор и тихонько прокралась на верхнюю палубу, где были «люксовские» номера. Каюта Дартова была в конце коридора. Влада прислушалась – из-за двери не доносилось ни звука, на ручке двери висела казенная табличка с надписью на английском и украинском языках «Прошу не беспокоить…» с припиской самого Дартова: «…в ближайшие четверо суток. Пишу роман!» Оставался открытым вопрос – как открыть дверь? Влада осторожно вставила в замочную скважину свой ключ. Ключ немного посопротивлялся и – о чудо! – внял Владиным мольбам и хоть и с трудом, но прокрутился.
Влада приоткрыла дверь. Каюта была двухкомнатная. В первой царил порядок и покой, на столе в большой вазе стоял букет белых роз. Влада открыла еще одну дверь и сразу отшатнулась: ей в лицо ударил горячий воздух, будто она открыла дверь в знойную пустыню. На кровати она увидела тело, с головой накрытое пледом…
Влада протянула руку и со страхом стала стягивать плед.
Но как только из-под клетчатой ткани показалась прядь рыжеватых волос человека, лежавшего на животе со связанными руками и ногами, Влада уже не сдерживала себя и, не страшась больше ничего, быстро сбросила плед на пол. Потом она перевернула тело лицом к себе и в полном отчаянии стала хватать жаркий воздух, как рыба на берегу: своими зеленоватыми глазами на нее смотрела Жанна…
Она дышала. Она была жива…
* * *
Она была жива. Только черты ее лица заострились, вокруг глаз залегли темные тени, подчеркивая и без того высокие скулы. Но… Но – Влада даже тряхнула головой, чтобы сбросить с себя наваждение, – теперь она еще больше напоминала женщину с миниатюры. Жанна не могла вымолвить ни слова, она только с изумлением смотрела на сестру так же, как и та смотрела на нее. Наконец Влада развязала тугие узлы веревки и буквально на руках вынесла сестру из душной комнаты.
– Воды… – прошептала Жанна, на ее потрескавшихся сухих губах выступили капельки крови.
Влада поспешила принести ей воды, и Жанна наконец с облегчением вздохнула.
– Почему… ты… здесь?.. – произнесла она. – Где он?
– Он мертв…
– Мертв? – бесцветным голосом отозвалась Жанна. – Значит, все напрасно?.. Когда, когда он умер?
– Несколько часов назад.
– Ничего не понимаю…
– Дартов умер пару часов назад, – объяснила Влада.
– Дартов? Дартов? Господи, я думала, ты говоришь о Максе!
– С Максом все хорошо… Почти… Мы искали тебя, мы думали, что ты умерла… Как ты могла так поступить с нами?
– Да… – Жанна посмотрела на сестру, и Влада снова вздрогнула: это был взгляд графини де Ла Фарре с дартовского медальона. – Я умерла. Я умерла на два года. На два долгих года… А не сегодня-завтра должна была умереть навсегда…
– Но зачем ты – с ним! Как это могло случиться!
* * *
«Не уверена, что ты меня поймешь, но тогда, два года назад, я просто не видела другого выхода, – говорила Жанна, когда сестры перебрались в каюту Влады. – Ты знаешь, как мы жили, ты своими глазами видела, как медленно сгорал над своими рукописями Макс. Иногда мне даже казалось, что он не видит никого, кроме своих вымышленных героев, – все превращается в слова, слова, массу слов… Я всегда была уверена, что наша жизнь должна иметь другой смысл. По крайней мере, Макс того стоил… И вот все рухнуло. Что я могла сделать? Я, серая библиотечная мышь?!»
…Она лукавила. В тот момент, когда газета с рецензией на «новый роман Жана Дартова» разлетелась в ее руках на клочки, она почувствовала отнюдь не мышиную ярость. Ей показалось, что так же, как эту газету, кто-то скомкал всю ее жизнь…
Слой за слоем слетала с нее многолетняя чешуя равнодушия, замешанного на животной покорности действительности. Быстрыми шагами она преодолевала квартал за кварталом, забыв о маршрутках и автобусах, и с каждой минутой, с каждым шагом все менялось в ней. Прядь волос, всегда так аккуратно собранных в пучок, расползлась по плечам, будто клубок рыжих змей, лицо пылало.
Уверенность во всех движениях была взвешенной и стремительной, словно она направлялась на ристалище, чтобы продеть ногу в стремя и крикнуть через плечо чужим, похожим на ведьмовской клич голосом: «Все, кто меня любит, – за мной!» Она не замечала, что на нее оглядываются, смотрят ей вслед, будто за ее плечами и впрямь развевается пурпурная мантия.
«Я выскочила из квартиры с твердым намерением уничтожить негодяя собственными руками, я знала, что возврата для меня не будет. У меня оставались деньги, и я поехала в охотничий магазин. Там оказалось, что для того, чтобы купить даже газовый пистолет, нужно собрать кучу справок. Тогда я просто зашла в ближайший хозяйственный магазин и купила кухонный нож».
…Она хотела убить. Даже тогда, когда приступ ярости прошел, она не отказалась от своего замысла. Обратной дороги – в отчаяние, нищету, холодность, которая наметилась в отношениях с Максом, – не было. С ножом в кармане своего белого плаща она бродила под коттеджем Дартова, как одинокая волчица. Поздно вечером он подъехал на своем шикарном «мерседесе», и фары автомобиля высветили женский силуэт на фоне темного высокого забора.
Она не искала повода подойти – он сам вдруг выскочил из машины и направился к ней. Совсем близко она увидела его темные глаза, но в них было отчаяние… Этого она не ожидала.
– Это вы? – сказал он. – Я верил, что встречу вас…
«В этот момент он выглядел безумным. Я думала, что он узнал меня как жену Макса, ведь однажды мы виделись на каком-то литературном сборище. Я подумала, что он должен был испугаться меня».
Но он смотрел на нее, как смотрят на икону или птичку, которая неожиданно садится на протянутую ладонь.
– Мне нужно поговорить с вами, – решительно произнесла Жанна, сжимая в кармане рукоятку ножа.
– Пожалуйста, прошу! – он даже забыл о машине и, бросив ее на мостовой перед домом, открыл перед ней ворота.
Если бы она могла знать, что чувствовал Дартов в тот момент! Он не вспомнил тот случай, когда мельком увидел ее впервые в кругу приятелей на поэтическом вечере в Киево-Печерской лавре несколько месяцев назад, – тогда лишь неуловимая тревожная ассоциация мелькнула в его воображении и быстро растаяла, ведь тогда его голова была занята совсем другим. Но теперь!.. Белый плащ, яркая прядь волос, зеленые огоньки в глазах… Это была она, Женщина с парижского портрета. Сколько раз он представлял себе эту встречу, как гнал от себя прочь мысль, что это невозможно, как боялся поверить в нелепость своей мечты. И вот она появилась именно теперь, когда ему было куда привести ее, было что бросить к ее ногам.
Дартову показалось, что это он, именно он материализовал ее своей страстью, вызвал из потустороннего мира, вытащил из времени. У него дрожали руки. Он не знал, что сделать для нее. Он суетился, как мальчик на первом свидании.
«Мы вошли в коттедж. Меня поразила его изысканность, богатство, пышность и… И все это принадлежало Максу! Можешь себе представить, что я чувствовала, разглядывая эту роскошь – картины, технику, антикварные полки с книгами, дубовую мебель… Он отпустил домработницу и сам выложил на стол кучу вкусной еды».
Стоя перед горой неведомых ей яств и напитков, она почувствовала, что проголодалась и силы ее на пределе. Дартов вертелся вокруг нее, как пес.
– Вы не разденетесь? – протянул он руки, чтобы помочь сбросить плащ.
– Нет! – строго ответила она.
– Как хотите, – не настаивал он. – Все – как вы пожелаете!
Он быстро и умело накрыл стол, разлил по бокалам вино.
– Я ждал вас! – сказал, поднимая свой бокал. – Да, да, не удивляйтесь! Со временем я все объясню. Но сейчас я хочу выпить за вас, за то, чтобы вы стали хозяйкой этого дома!
«Я была поражена. Я даже выпила вино, а потом… А потом сказала, что этот дом и так принадлежит мне…»
Она опьянела от первого же глотка, решительно встала, в ее руках блеснуло лезвие. В тот же миг на нее набросились два дога, которые были на страже в темноте коридора. Один сбил ее с ног, другой стал лапами на грудь. Жанна потеряла сознание.
«Я очнулась в просторной белой комнате на широкой кровати с шелковыми простынями. Было свежее весеннее утро. Я не могла понять, что со мной. Нежно-розовые цветы стояли на подоконнике… Знаешь, что я тогда подумала? Мне показалось, что я проснулась в другой жизни и, возможно, в другом времени – все осталось позади: запах жареной и сто раз перегретой картошки, котлеты из моркови, подъезды без лампочек, автобусы… Все… А тут даже кружевные края подушки пахли моими любимыми духами. Но потом иллюзия развеялась. На пороге я увидела двух роскошных догов – они внимательно следили за каждым моим движением».
В комнату вошел Дартов. Он был в бархатном халате с малиновыми отворотами.
– Теперь я знаю, кто вы… Но это ничего не меняет… Напротив, теперь я понимаю, что это – не сон. Я прошу меня простить за вчерашнее поведение. Оно связано с определенными личными причинами, которые вас не касаются… Итак, вы пришли меня убить? Это довольно оригинальный повод для визита.
«И тут я сказала, что все равно не оставлю его в покое, ему проще будет убить меня! Но он предложил другое. И это было страшнее смерти. Он изложил мне свое условие: через два года он вернет Максу все права (мол, к этому времени у него уже будет та сумма, которую он мечтает собрать от всех зарубежных экранизаций и переизданий) и под другим именем исчезнет из этой страны навсегда. Но все это время я должна быть с ним. Иначе он будет вынужден уничтожить Макса физически».
Он думал над этим решением всю ночь, пока гостья спала после укола сильнодействующего снотворного. Он не мог ее отпустить!
Дартов быстро выяснил, кто она такая, вспомнил, что когда-то уже видел эту женщину. Но это уже не имело значения. Когда она лежала беззащитная, без сознания, он перенес ее в постель и долго вглядывался в ее лицо. Он зажег свечу – так же, как тогда, в доме Огюстена Флери перед портретом, и рассматривал ее внимательно, как реставратор рассматривает картину, прежде чем прикоснуться кисточкой к священному раритету. Так он просидел перед ней без движения несколько часов, пока окончательный план не созрел в его мозгу. Потом его охватила жажда деятельности. Дартов расчистил гараж, находившийся под его спальней, собственноручно вымыл пол, постелил ковер, перетащил туда диванчик, поставил маленький телевизор и полку с книгами, не забыл даже о вазонах с букетами цветов. На первое время, решил он, сойдет… Позже можно будет сделать лучше, красивее.
Он все время уговаривал себя, что делает это ради своей безопасности, но… Он знал, что уже не сможет не видеть ее. Вот если бы у него был ТОТ портрет! Он не виноват, что эта женщина имела неосторожность быть похожей на ту, единственную, один взгляд на которую действовал, как самый сильный наркотик…
«Я приняла это условие. Но заставила его написать расписку. Возможно, это было смешно, но я настояла, чтобы он поставил на ней не только подпись, но и отпечатки пальцев! Все это вместе с остальными бумагами он всегда носил с собой в кейсе. Я уговаривала себя, будто я как бы сажусь в тюрьму (если бы я действительно убила его, мой срок был бы намного больше!) И это надо перетерпеть. Единственное, на что я не согласилась, – это делить с ним постель».
Правда, Дартов на этом не настаивал. Он испытывал к ней нечто совсем другое, большее, чем плотская страсть. Это чувство можно было бы назвать ужасом, восторгом, комплексом. Порой он даже подумывал о мумификации и некоторое время изучал по книгам это древнее искусство египетских жрецов. Но тогда, рассуждал он, не сохранились бы ее глаза, ее румянец, ее дыхание… И он отказался от этой идеи. Ее сменила другая. Дартов надеялся, что со временем она привыкнет к нему, что он постепенно укротит ее, уговорит быть с ним, принадлежать только ему.
Теперь он каждый вечер проводил дома, отказывался от поездок, конференций, выступлений. Он спускался к ней со свечой в руках (только так, как тогда, в Париже, он мог воспринимать ее) и вел долгие беседы, пересказывая ей события своей жизни год за годом, словно на исповеди у священника. Он устроил во дворе просторный вольер, по которому днем бегали собаки, и ночью выпускал ее в сад подышать свежим воздухом.
«Я не могла понять его поведения. Я согласилась быть в заточении и не ожидала никакой милости, кроме хлеба и стакана воды. Но он добивался другого. Даже не любви, а скорее – прощения… Было время, когда он приходил пьяный и валялся у меня в ногах, иногда он приводил с собой своих псов и угрожал. Самым трудным было, когда он, по его словам, «лишал меня сладкого» в виде отказа сделать для меня ванну или вывести в сад на прогулку и т. п… Со временем, проводя дни и вечера в изматывающих беседах, я все же узнала, каким образом он и его приятели прокрутили аферу с похищением рукописей.
Тогда у меня возникла мысль, как ему отомстить. К концу первого года я уже мало напоминала человека, время для меня остановилось. Но мысль о мести возродила меня. Я ждала случая, чтобы выбраться отсюда, и изменила свою тактику. Я сделала вид, что начинаю к нему привыкать и даже влюбляться. И когда он сообщил, что отправляется в путешествие, да еще вместе с теми подонками, я превратилась в саму любезность. Тем более, что срок моего заключения истекал…»
Мысль о том, что скоро ее придется отпустить, с каждым днем становилась Дартову невыносимее. Поставив несколько жестких условий, он решил взять ее с собой.
– Мы расстанемся в городе Н. – я буду вылетать оттуда. Пока ты доедешь домой – я буду далеко, – пояснил он. У него уже были готовы все документы. Но билетов на самолет до Амстердама он заказал два… Он не представлял себе, что она откажется лететь с ним.
«А потом началась эта поездка. Он всегда запирал меня в каюте. Однажды, когда он вышел, я по телефону вызвала стюарда, мол, «муж случайно закрыл дверь на ключ», и, когда стюард открыл замок запасным ключом, попросила оставить его мне. Я превратилась в охотничьего пса, я выслеживала каждого из них, и мне везло! Первым попался Атонесов – я просто столкнула его за борт. Так же поступила и с пьяным Портянко… Не смотри на меня так! Разве ты сама была здесь не ради этого? А я знала о каждом из них гораздо больше, чем ты. Дартов исповедовался во всем. Все они – убийцы. Они уничтожили не только Макса, меня и, в конце концов, тебя тоже – на их руках настоящая кровь. Это давняя история. Может, именно она и перевернула мое представление о добре и зле. Мне хотелось отомстить не только за нас, но и за ту неизвестную девочку, которую эта четверка изнасиловала и закопала где-то в лесу двадцать лет назад. У нее даже могилы нет…
На этом пароходе я стала их ангелом-мстителем. Мне это даже нравилось. После того как этот подонок Атонесов исчез в волнах, я почувствовала настоящее облегчение.
Труднее было с Араменко, я же не могла так часто выходить из своего убежища. Пришлось пойти ва‑банк и подкараулить его у двери каюты. Я очень спешила. Я уже не помню, что говорила ему, – молола что-то о Дартове, попросила откупорить вино… Я не знала, что делать, пока не увидела, как он открывает бутылку длинным штопором… Потом я вытолкнула его в иллюминатор, и он оказался за бортом. Оставался Дартов. И мои нервы сдали…
Последний вечер с ним был невыносим – он весь трясся от ужаса, что на него охотятся, он не мог понять, куда подевалась его свита, и настаивал, чтобы мы немедленно покинули пароход. Он начал быстро собираться, торопить меня. Я сказала, что настало время выполнить обещание – отдать расписку и отпустить меня…
«Неужели ты еще не поняла – ты всегда будешь со мной! – сказал он. – Я лучше убью тебя. Мысль, что ты вернешься к нему, для меня невыносима! Ты, графиня де Ла Фарре!!!» – он назвал меня каким-то чудным именем, и я поняла, что он окончательно сошел с ума. Он остался последним… Но он был сильнее и осторожнее других. Я растерялась. Он заставил меня переодеться, начал связывать руки. Я сопротивлялась… «Я вывезу тебя по кускам!» – закричал он. От сильного удара я потеряла сознание… Остальное ты знаешь. Наверное, он думал, что я умерла…»
* * *
– Неужели все напрасно?.. – тихо произнесла Жанна, закончив свой рассказ.
За разговором сестры не заметили, как пароход тронулся с места и сквозь занавески пробился первый луч солнца. Ночь закончилась…
– Ты еще не выслушала меня, – сказала Влада. – Но уже почти нет времени, через час мы будем в порту.
Она достала из ридикюля сверток с бриллиантом и синий конверт.
– Возьми, это принадлежит тебе.
Еще с полчаса ушло на рассказ Влады о событиях последних суток.
– Если ты не против, я возьму документы. Тебе остается бриллиант и… Макс…
– Разве ты не вернешься со мной?
Влада криво усмехнулась:
– Нет, с меня хватит. Мы попрощаемся здесь, в порту, – ты купишь себе билет на поезд, а мой билет – вот он, – она помахала билетом в Амстердам. – Перерегистрирую его на свое имя. Я знаю, что делать дальше. Собирайся. Времени больше нет.
Пароход уже причаливал к берегу. По радио снова объявляли о «культурной программе» на этот день.
– Я не могу тебя провожать, выйдешь незаметно сама, – сказала Влада. Сестры стояли на пороге каюты.
– Постой, я забыла, – сказала Влада и достала из чемодана ключи. – Это от квартиры…
Потом она долго смотрела в иллюминатор, наблюдая, как Жанна бредет по сонной улочке, которая вела с причала к трассе, – маленькая фигурка в дымке утреннего тумана…
В конце улицы Жанна остановилась, подняла руку, проголосовала какой машине. Хлопнула дверца, и наступила тишина. Тишина разомлевшего от жары южного города…
«Господи! – вдруг спохватилась Влада. – Я же не сказала о Максе!» Но в тот же миг волна безразличия и усталости накатила на нее. «Пусть это будет их последним испытанием… Или…» Она не решилась закончить мысль, которая была слишком зловещей и формулировалась примерно так: «… или он не достанется никому!..»
* * *
…Жанна ехала в поезде, охваченная странным чувством отрешенности от всего, что происходило вокруг нее. Соседи по купе ломали жареную курицу, хрустели огурцами, громко икали от колючих пузырьков «Спрайта», тучная проводница заставляла поднимать ноги и вздымала тучи пыли, подметая и без того душное купе. Жанна даже не расстилала постель, хотя заплатила за нее положенные гривны, и никак не реагировала на заигрывания соседа.
Окружающие звуки проникали в нее, как иглы, и высасывали остатки живой крови. Она потеряла ощущение времени, и когда утром поезд прибыл в столицу, ей показалось, что прошло полчаса… Гнев, который давал ей силы выжить, превратился в глубокую западню пустоты. На вокзале она взяла такси и механически назвала адрес.
Она ехала по городу и не узнавала его – он был перерыт, как будто безумные жители все как один бросились на поиски сокровищ. Везде стояли бульдозеры, высились строительные краны и сновали люди с лопатами. Жанна бессильно откинула голову на спинку сиденья, и прямо над ней проплыла ужасная зеленая фигура женщины с золотым лицом – новый монумент, который возвели посреди площади. Жанна вздрогнула – женщина напоминала утопленницу… «Сколько можно выполнять команду – «Руки вверх»? – подумала она. – Все мы стоим, загипнотизированные этой командой, даже памятники…»
Рядом с ее домом все осталось так, как и было. В квартиру она поднималась пешком, и каждый этаж казался ей вершиной трансильванских гор, которую она преодолевала из последних сил. Вот и полустертая надпись на подоконнике: «Жанна + Макс…»
Макс! Сможет ли она любить его так же, как прежде?
Жанна с удивлением заметила, что дверь квартиры теперь была обшита настоящим деревом и имела респектабельный вид.
Она со страхом вставила ключ в замочную скважину…
Квартиру она не узнала – ее встретила просторная светлая студия, с большими окнами, модными полками и отгороженной суперсовременной кухней. Только знакомый стеллаж с книгами остался на противоположной стене. Ни одной вещи не было брошено на спинки роскошных кожаных кресел, в шкафу-купе висели незнакомые вещи – красивая модная женская одежда, несколько мужских костюмов, совершенно новых… Ужас и отчаяние охватили ее. Сколько раз она мечтала о пристойном жилье, но теперь все здесь было для нее чужим. Жанна даже обрадовалась, что в квартире никого нет. Макс ушел отсюда, это было ясно с первого взгляда – ни одна вещь не указывала на его присутствие. Жанна обхватила голову руками – она не знала, что делать дальше. Она мечтала вернуться сюда иначе – в объятия и слезы радости, она представляла, как будет рассказывать о пережитом и выложит перед Максом признание Дартова. Она ходила по студии, как по лабиринту, из которого нет выхода…
Единственное, что было здесь ей знакомо, – книги. Ровные ряды книг – библиотека, которую собирал еще отец, а потом Макс. «Он не забрал даже своих книг!» – подумала Жанна. Как во сне она зашла на кухню, там тоже стояли удобные кресла. Жанна медленно включила все четыре газовые конфорки, открыла дверь духовки и пустила газ… Потом села в одно из кресел. «Теперь все будет хорошо… – подумала она. – Все будет, как следует…»
Она начала проваливаться в сон, вдыхая полной грудью невидимую смерть. Она плыла по белому коридору, с обеих сторон которого к ней тянули руки зеленые размытые силуэты. «Скоро станет легче… – слышала она чей-то знакомый голос в полусне. – Ты придешь ко мне, графиня, я знал, что ты все равно придешь ко мне…» На мгновение ей и впрямь стало легче, зеленые тени исчезли, коридор приобрел золотистый оттенок – где-то в его конце всходило яркое солнце, отгороженное от ее взгляда чьим-то силуэтом. «Это Макс…» – подумала Жанна и ускорила свой полет. Темная фигура приближалась, она протягивала к ней руки. И вот уже совсем близко засветились угольки черных глаз, из пропасти, которая еще за миг до этого напоминала очертания губ, раздался голос: «Иди ко мне, графиня Жанна де Ла Фарре!!!»
– Макс! – закричала Жанна и открыла глаза.
В тот же миг она услышала, как со стороны книжного стеллажа кто-то отчаянно застучал в стену. Этот звук взбудоражил и заставил ее опомниться. Стена тряслась так, что с полки упала книга. Жанна подбежала и прислушалась: звук нарастал, ей даже показалось, что кто-то будто бы из подземелья зовет ее.
«Может, это и есть смерть?» – мелькнула мысль, и Жанна даже дернула себя за волосы – боль была живой. Ее взгляд упал на страницу раскрытой книги – «…он вознес в теле своем наши грехи, дабы нам быть мертвыми для греха…» На месте, где стояла книга, Жанна увидела ключ. Не осознавая, зачем она это делает, Жанна стала яростно сбрасывать книги со стеллажа, под ногами выросла целая гора, а звуки ударов стали более четкими. Более того, она все яснее слышала, что каждый следующий удар в стену сопровождается криком: «Жанна! Жанна! Жанна!» – и это уже был не сон. Она сбросила почти все книги и дернула деревянные перегородки стеллажа – он удивительно легко подался и раздвинулся. За ним была дверь. Жанна дрожащей рукой вставила в замочную скважину ключ. И замерла: на той стороне все стихло. Она стояла и не решалась сделать последнее движение. Это было похоже на сумасшествие. За дверью кто-то дышал. Наконец она услышала знакомый шепот: «Жанна…»
Изо всех сил она распахнула дверь…
2003 год, пригород Сан-Франциско
…Неподалеку от берега океана стоит небольшая трехэтажная вилла, со всех сторон окруженная зарослями декоративного винограда. Раз в году, летом, когда волны приобретают бархатную нежность и становятся густыми, как мед, сюда приезжает не известная никому из местных жителей женщина. По вечерам она отпускает садовника и горничную, чтобы никто не нарушил ее покоя, и долго сидит в патио в шезлонге с бокалом красного вина в руке. О ней говорят всякое. Но наиболее вероятной жителям кажется версия вездесущей миссис Ланг, которая знает наверняка, что эта женщина – «черная вдова» и к тому же – иностранка.
Женщина слушает, как шумит море, и пьет вино.
Если бы соседи знали ее язык и спросили, что для нее самое важное в этой жизни, она, наверное, улыбнулась бы и ответила: «Есть только покой…»