Книга: Литературный путь Цветаевой. Идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи
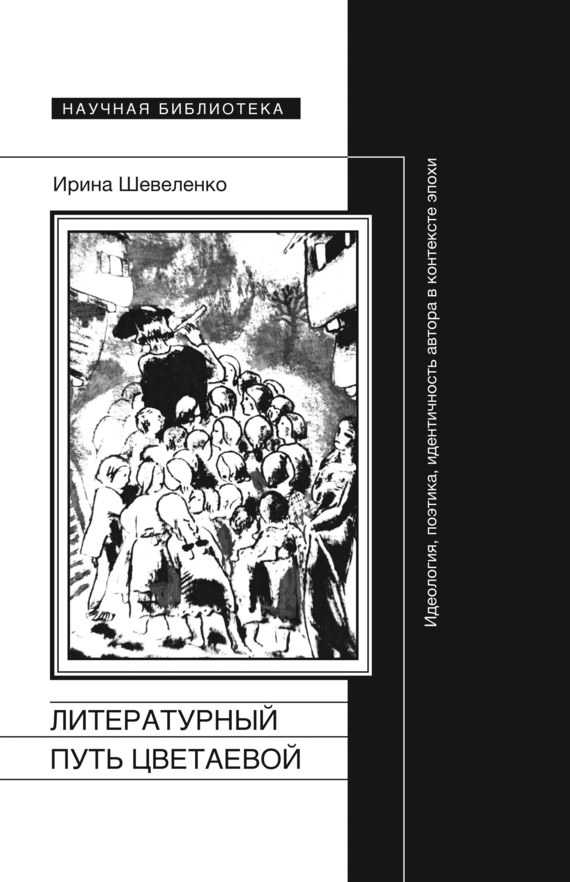
Литературный путь Цветаевой Идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи
Памяти моего учителя
Зары Григорьевны Минц
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Первое издание настоящей книги вышло в 2002 году и представляло собой существенно переработанный и дополненный вариант моей докторской (Ph. D.) диссертации, защищенной в Стэнфордском университете (США) в 1998 году. Задумав около трех лет назад подготовить переиздание, я первоначально предполагала ограничить изменения лишь исправлением фактических неточностей и обновлением ссылок. Однако остаться в этих рамках не удалось. Текст книги был целиком заново отредактирован, и хотя общая ее концепция осталась прежней, многие формулировки претерпели изменения, отдельные небольшие фрагменты были исключены или существенно переработаны, а интерпретации ряда произведений Цветаевой расширены и уточнены.
Значительные изменения были внесены в исследовательский аппарат. Отчасти это дополнения, обусловленные знакомством с новыми первоисточниками, архивными и печатными (опубликованными после 2001 года). Более существенная часть изменений в аппарате вызвана появлением новых изданий. Это касается, например, писем Цветаевой к Анне Тесковой, Борису Пастернаку, Николаю Гронскому, которые прежде были опубликованы лишь частично, а целиком были доступны только в рукописях; теперь они полностью изданы. Целый ряд статьей о Цветаевой таких исследователей как Т. Венцлова, Р. Войтехович, С. Ельницкая, Е. Коркина, И. Кудрова, О. Ревзина и некоторых других, прежде публиковавшихся в сборниках и научной периодике, был собран в авторские книги. В расширенном объеме были опубликованы и воспоминания о Цветаевой. Всё это побудило меня существенно обновить библиографические ссылки: ряд архивных ссылок из первого издания заменен ссылками на теперь уже опубликованные источники; ссылки на старые публикации заменены ссылками на новые и более доступные издания. Единственная категория источников, по отношению к которой такое обновление не было сделано, это прижизненная критика, посвященная произведениям Цветаевой. Она частично собрана в первом томе двухтомника «Марина Цветаева в критике современников» (М., 2003); однако учитывая, сколь важное место занимает анализ прижизненной критики в настоящей книге, мне показалось более удобным сохранить в ней ссылки именно на первые публикации.
Наконец, в последние двенадцать лет появились как новые работы о Цветаевой, так и исследования о русском модернизме, затрагивающие важные для этой книги темы. Редактируя книгу, я, за небольшими исключениями, не вносила в текст специфических изменений, вызванных появлением новых работ. Однако я посчитала важным дополнить аппарат ссылками на ряд новых исследований, которые нельзя не упомянуть сегодня, обращаясь к той или иной теме или произведению.
В заключение мне хотелось бы повторить с небольшими дополнениями слова благодарности из предисловия к первому изданию.
Начав заниматься творчеством Цветаевой в годы своего студенчества в Тартуском университете, я получила первые уроки профессионального воспитания от моего научного руководителя профессора Зары Григорьевны Минц. Ее внимание, требовательность и терпение были несомненным даром судьбы, и потому ее светлой памяти я посвящаю эту книгу.
Я признательна руководителю моей диссертации в Стэнфорде профессору Лазарю Флейшману за многократное чтение черновиков, критическое участие и неоценимую поддержку в моей работе.
Я благодарна также моим коллегам и друзьям, общение с которыми на протяжении ряда лет помогло оформиться идеям этой книги: Е. В. Берштейну, А. Б. Блюмбауму, Р. С. Войтеховичу, С. И. Ельницкой, Е. Б. Коркиной, И. В. Кудровой. За годы, прошедшие со времени первого издания, многие коллеги поделились со мной своими замечаниями и комментариями, которые были с благодарностью учтены при подготовке нового издания.
Наконец, мне приятно поблагодарить все программы и фонды, которые финансово поддерживали меня в период работы над диссертацией, легшей в основу этой книги: кафедру славистики Стэнфордского университета, Stanford Humanities Center, Graduate Research Opportunity Program (Stanford School of Humanities and Sciences), Stanford Center for Russian and East European Studies, а также Mrs. Giles Whiting Foundation (Нью-Йорк). В последнее десятилетие поддержка Фонда Александра фон Гумбольдта (Германия) сделала возможной поездку в 2005 году в Базель для знакомства с хранящимся там архивом Цветаевой, а Vilas Associates Award Висконсинского университета облегчил подготовку рукописи второго издания книги к печати.
Эта книга посвящена литературной биографии Марины Цветаевой, поскольку повествование в ней строится как рассказ о текстах, созданных автором. Эта книга посвящена литературной биографии Цветаевой, поскольку эти тексты анализируются как развертывающаяся во времени цепочка смыслов и способов их выражения, составляющих историю писательского опыта автора.
Эта книга посвящена также истории взаимоотношений автора с эпохой вообще и литературной эпохой в частности, в которой он жил и которая живет в его текстах.
Наконец, это книга о том, как формируется и развивается идентичность автора, почему она так формируется и что это значит для понимания его текстов и его литературной судьбы.
Существующая на сегодняшний день биографическая (или функционально близкая к ней) литература о Цветаевой подробна1, и мы на нее опираемся в своем повествовании. Собственно биографическая информация вводится в наш анализ в том объеме, который необходим для понимания разбираемых текстов и контекстов.
Литература, посвященная творчеству Цветаевой, очень обширна, и мы остановимся здесь лишь на наиболее принципиальных для нашего исследования типах работ2.
Мотивно-тематические разборы поэзии Цветаевой составляют существенную часть в литературе о ней. Наиболее обширная работа такого плана, книга С. Ельницкой3, по своему подходу очень далека от установки нашего исследования. «Поэтический мир» Цветаевой рассматривается в ней как статическое целое, вне категорий развития и изменения, а также вне соотнесения с историко-литературным контекстом. Эта книга, однако, дает в руки исследователя компендиум тем и мотивов, которые можно «диахронизировать» (т. е. рассмотреть в развитии), а также попытаться вписать в контекст иных «поэтических миров» модернизма, дабы оценить пункты расхождения Цветаевой с ними.
Более частные мотивно-тематические анализы цветаевского творчества, как правило, строятся как диахронные, с акцентом или на видоизменениях, или на постоянстве конкретного мотива/темы в ее произведениях. Примером первого рода является статья Н. Г. Дацкевич и М. Л. Гаспарова «Тема дома в поэзии Марины Цветаевой»4, примером второго – статья А. Крот (A. Kroth) «Androgyny as an Exemplary Feature of Marina Tsvetaeva’s Dichotomous Poetic Vision»5. Контекстуализация анализируемого материала в культурных рамках эпохи обычно не входит в задачи подобных работ, что существенно отличает их от установки настоящего исследования. С другой стороны, целью таких исследований, как правило, является не только формулирование некоторой частной концепции, но и соотнесение результатов анализа с общим развитием Цветаевой как поэта, что родственно нашей установке.
Существенный пласт в литературе о Цветаевой составляют исследования по мифопоэтике. Одним из первых к этой теме обратился Е. Фарыно, затем появились книги О. Хейсти, Н. О. Осиповой, А. Динеги6, не говоря о многочисленных статьях. Разные по методам анализа, все эти работы близки нам своим стремлением к выявлению некоторого целостного миросозерцания автора, которое проявляет себя в его пристрастии к тем или иным мифологическим кодам и схемам, повторяющимся (либо видоизменяющимся) при разработке разных сюжетов и тем. Это направление исследований пересекается с интертекстуальными разборами, поскольку «размыкает» текст, контекстуализируя его в некотором литературном и культурном пространстве.
Из преимущественно интертекстуальных исследований следует отметить книги М. Мейкина и А. Смит7; в каждой из них в своем ключе анализируется стратегия и техника работы Цветаевой с чужими текстами (последняя из книг одновременно примыкает к работам по мифопоэтике). Вообще поиски подтекстов, а значит, контекстов произведений Цветаевой – это исследовательская тенденция, которая «выправляет» односторонность доминировавших прежде «внеконтекстуальных» работ о Цветаевой, произведения которой представлялись напрямую вытекающими из свойств ее личности.
В последнее десятилетие существенным новым явлением в литературе о Цветаевой стали работы, посвященные детальному анализу отдельных крупных текстов или групп текстов (таковы книги К. Хаушильд о «Мóлодце» и К. Грельз об автобиографической прозе Цветаевой)8; их аналитический инструментарий принципиально эклектичен, что связано с установкой на синтетическое толкование отдельных произведений, позволяющее также делать широкие обобщения о свойствах авторской поэтики и творческой идеологии. Другая тенденция последнего времени – интерес к анализу тех или иных периодов в творческом развитии Цветаевой через призму определенной темы: таково, например, исследование поэтического этоса Цветаевой в книге У. Шток, разбор трансформаций образа Психеи у Цветаевой в исследовании Р. Войтеховича, прослеживание творческого диалога Цветаевой с Пастернаком в книге К. Чепелы9.
Что касается настоящей книги, то ее главной задачей было предложить цельный взгляд на историю развития Цветаевой как поэта и прозаика10. В качестве принципиального условия исполнения этой задачи нам виделось возвращение ее творчества контексту той эпохи, в которой она жила и писала, и – насколько это в силах исследователя – отвлечение от более поздних исторических контекстов, в которых читались и читаются ее произведения. Такой подход не противостоит большинству перечисленных выше подходов, но задает несколько иную рамку для всех них.
Эта рамка прежде всего требует историзации как текстов автора, так и стратегий его литературного поведения. Она требует внимания к культурному контексту эпохи и ее ключевым дискурсам и идеологемам, с которыми автор соотносит свое слово. Она требует понимания того, из какого спектра возможностей выбирает автор свой литературный modus vivendi. Она требует, наконец, включения поэтики в контекст идейной – в широком смысле этого слова – эволюции автора. «У поэта <…> всё, что зовется манерой и стилем, – есть выражение духовной его личности. Изменение стиля свидетельствует о глубоких изменениях душевных, причем степень перемены в стиле прямо пропорциональна степени перемены внутренней»11, – записывал в 1920 году Владислав Ходасевич. Такое понимание поэтики едва ли универсально, но к случаю Цветаевой оно подходит как нельзя лучше. Ее поэтика объективно идеологична, поэтому анализ узловых «перемен в стиле» в творчестве Цветаевой строится в нашей работе как анализ «перемен внутренних», мировоззренческих.
Охват всего творческого пути Цветаевой является столь же сложной, сколь и принципиальной задачей нашего исследования. Чем избирательней исследователь в привлечении текстов для анализа, тем легче ему выстроить последовательную концепцию, но она может оказаться малоубедительной для тех, кто знаком с другими текстами. С другой стороны, утопический проект писания «про всё» никогда бы не позволил нам закончить эту книгу. Поэтому мы всего лишь постарались включить в обсуждение такое количество текстов, чтобы свести к минимуму вероятность существенного искажения материала.
Принципы анализа этих текстов в работе вытекают, в частности, из их количества, а также из следующих соображений.
Творчество поэта представляется читателю, открывающему его собрание сочинений, нагромождением текстов. Исследователь, открывающий то же собрание сочинений, в этом нагромождении ищет логику. Одна из стратегий поиска логики – попытка сквозь «толщу» текстов нащупать стержень, который их как‐то связывает между собой. Каждый текст – пучок значений, разными читателями в разное время и в разных местах выстраиваемых в разные иерархические ряды. Но каждый текст (или большинство из них) какими‐то своими значениями скреплен с этим стержнем, т. е. сопричастен его «материализации». На этих «стержневых» смыслах и будет сосредотачиваться анализ отдельных произведений в нашем исследовании, оставляя открытыми дальнейшие возможности детализации, умножения и усложнения интерпретаций каждого текста или их групп.
Наша работа строится в основном хронологически, что не исключает многочисленных возвратов назад и забеганий вперед, естественных в таких повествованиях. Единственным существенным отклонением от хронологического принципа являются три раздела последней главы: «Эпос», «Пушкин и Пастернак», «Поэт и время». Они следуют друг за другом, хотя все три описывают приблизительно один и тот же временной период в творчестве Цветаевой; каждый, однако, посвящен разным его сторонам и текстам. Такое изложение показалось нам оправданным, и хочется надеяться, что оно не окажется неудобным для читателя.
Обширность существующей литературы о Цветаевой делает невозможным включение в наш текст отсылок ко всем работам, так или иначе анализировавшим те же произведения, что анализируются нами. Мы ограничили себя обязательными отсылками лишь к тем исследованиям, на которые непосредственно опирается наше повествование, которые прямо дополняют наши наблюдения, с точкой зрения которых мы солидаризируемся или не соглашаемся. Во всех остальных случаях ссылки даются избирательно.
* * *
Все поэтические произведения Цветаевой, вошедшие в СП, цитируются в нашей работе по этому изданию как единственному научному изданию поэзии Цветаевой. Остальные поэтические тексты, а также проза и многие письма Цветаевой цитируются по СС. Эти и другие часто цитируемые издания Цветаевой включены в список принятых сокращений, который находится в конце книги.
(1908–1912)
Литературные дебюты имеют свою «нормативную поэтику», и кавычки здесь нужны лишь потому, что ее правила не писаны. Изменяясь во времени и являясь составной частью литературной культуры любой эпохи, эти правила одновременно и отражают и программируют структуру литературной жизни. Успешность или неуспешность дебюта впоследствии может восприниматься как совершенно второстепенная составляющая творческой биографии автора. Соответствие или несоответствие дебюта существующему обычаю, т. е. «ритуальная», конвенциональная его сторона, раскрывает модель поведения, которую сознательно или спонтанно избирает для себя начинающий автор, и часто отражает важные особенности его культурной личности, в основе своей остающиеся неизменными.
В биографической литературе рассказ о литературном дебюте Цветаевой в той или иной мере основывается на ее собственном описании этого события, данном в очерке «Герой труда» (1925):
Первая моя книга «Вечерний альбом» вышла, когда мне было 17 лет, – стихи 15‐ти, 16‐ти и 17‐ти лет. Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, – взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно (СС4, 23).
В то время, когда писались эти строки, Цветаева вполне сознавала всю необычность своего дебюта с точки зрения существовавших конвенций. Однако выведенная здесь на первый план внелитературность побудительных мотивов, стоявших за ее первым литературным поступком, имела лишь косвенное отношение к существу этой необычности. Более важным, хотя и лишенным программного звучания, был следующий, поясняющий, пассаж: «Книгу издать в то время было просто: собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету, – всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII кл.»12 (СС4, 23). Псевдонаивный перевод рассказа о литературном дебюте в термины торгово-деловых отношений между автором и типографией был тем приемом, который маскировал действительную необычность первого литературного шага Цветаевой: отсутствие у него координат в области литературных отношений, приписанное выше специфически личным мотивам публикации сборника.
Разумеется, издание книг, в том числе и стихотворных сборников, «за счет автора» было распространенной практикой в начале ХХ века. Однако такая практика являлась уделом дилетантов, не рассчитывавших на выход за рамки узкой, дружеской читательской аудитории. Рассказывать о выпуске сборника за свой счет как о чем‐то само собой разумеющемся было для поэта, претендовавшего на совсем иное место в современной словесности, по‐своему вызывающим, – что и соответствовало духу очерка «Герой труда», посвященного законодателю литературных правил Валерию Брюсову. Пожалуй, смягчало впечатление вызова указание на гимназический возраст автора: издание книги за свой счет в столь юном возрасте было по‐своему экзотично и само по себе свидетельствовало о неординарных амбициях «гимназистки VII класса». Между тем, рассказывая о выходе «Вечернего альбома», Цветаева умолчала об одной важной подробности, – о том, что это была не просто ее первая книга, но вообще первое появление ее стихов в печати.
Невзирая на то, что «книгу издать в то время было просто», начинать литературные выступления сразу с выпуска сборника было не принято. Этот путь опять‐таки мог быть уделом дилетанта, не имевшего иных возможностей увидеть свои стихи напечатанными. Для тех же, кто рассчитывал на внимание литературной среды, нормой был дебют в журнале или альманахе, связывавший имя начинающего автора с тем или иным литературным кругом, направлением, группой. Подобная «связанность» не обязательно должна была быть глубинной в эстетическом или идейном плане, – она могла иметь и чисто прагматический смысл: интенсивность и многообразие литературной жизни эпохи были таковы, что принадлежность новичка к некоторой группе давала ему больше шансов быть замеченным. А поскольку свой круг или группу нужно было найти или образовать, печатному дебюту должен был предшествовать и сопутствовать некоторый ряд литературных отношений автора. Когда же, после журнальных публикаций, дело доходило до издания сборника, то и он, как правило, нес на себе печать какой‐то группы – в виде названия издательства, его выпустившего. Цветаева пренебрегла и этим13.
Итак, отсутствие публикаций, предшествовавших выходу сборника, и отсутствие поддержки со стороны каких‐либо литературных сил сближали цветаевский дебют с дилетантским. (При этом, как будет ясно из дальнейшего, Цветаева могла с легкостью избежать и первого, и второго.) Довершал это сходство и впечатляющий объем «Вечернего альбома»: сто одиннадцать стихотворений! Дело здесь было не просто в количестве – оно лишь отражало принцип, легший в основу составления сборника. Юный автор явно не желал отбирать стихи, заместив принцип избирательности принципом по возможности полного представления своих поэтических опытов, – т. е. тем принципом, который естественен был бы именно для поэта-дилетанта.
Следует ли приписать странности поэтического дебюта «гимназистки VII класса» ее полной литературной неискушенности или же непомерности честолюбия? Чем самой Цветаевой в то время мог представляться сделанный ею шаг? В какую цепочку событий и переживаний он был включен?
В толковании, данном Цветаевой в 1925 году выходу своего первого сборника – «взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе», – говорится лишь о решающем толчке к изданию книги. Не очень ясные по своим деталям, но несомненно чрезвычайно важные в душевном опыте юной Цветаевой14, ее взаимоотношения с Владимиром Оттоновичем Нилендером, окончившиеся разрывом в начале 1910 года, оставили глубокий след на страницах «Вечернего альбома», – так что ничего психологически недостоверного в цветаевских словах о причинах издания сборника нет. Тем не менее эти слова поясняют лишь финальный импульс к публикации сборника, пожалуй – и источник его названия15, но никак не объясняют ни его состава и композиции, ни избранного способа издания.
Даже то немногое, что известно о «допечатной» литературной биографии Цветаевой, свидетельствует об интенсивности ее ранних опытов. Позднее она упоминала, что стихи писала с шести лет (СС4, 622). Но если бы этих упоминаний и не было, техника стиха, демонстрируемая ею в первом же сборнике, позволяла бы утверждать, что навыки стихотворчества были усвоены ею достаточно давно. Да и сам объем стихотворной продукции, представленной в двух полудетских сборниках16, поразителен: почти две с половиной сотни стихотворений. В этом отношении Цветаеву не с кем сравнить из ее литературных сверстников, потому что никто из них сопоставимого корпуса столь ранних стихов не оставил.
Свидетельства о литературных опытах Цветаевой, предшествовавших выходу «Вечернего альбома», немногочисленны, но вполне конкретны. В 1906–1907 годах она пишет повесть (или рассказ) «Четвертые» (по другой версии – «Четверо»)17. В 1908–1909 годах переводит драму Э. Ростана «Орленок». В 1908 году пишет свою автобиографию18, которую дает читать близким знакомым. Известно, кроме того, о многочисленных дневниках, которые Цветаева вела с детства19. Наиболее существенным источником для характеристики внутреннего развития и интересов юной Цветаевой являются ее письма 1908 года к Петру Юркевичу, старшему брату ее гимназической подруги. Эти письма впечатляют и наличием вполне выработанного авторского стиля (хотя и несущего отпечаток языковых штампов эпохи), и явно выраженным интересом к современной словесности. Одновременно они свидетельствуют о поглощенности юной Цветаевой революционными настроениями, которые она развивает в индивидуалистическом неоромантическом ключе. Теме ожидания революции посвящены проникновеннейшие строки писем. Однако развитие этой темы в одном из таких писем шестнадцатилетней Цветаевой поражает, прежде всего, неожиданностью признания, к которому оно приводит автора:
Радует меня то «нечто», чем пахнет в воздухе. Только не могу, не смею верить я, что оно действительно осуществится. Не забастовка, нет, но боевая готовность, уснувшая даже в лучших, жажда грозных слов и великих дел.
Нет больше пороха в людях, устали они, измельчали, и не верю я, что эти самые, обыкновенные и довольные, могли бы воскресить революцию. Не такие творят, о нет! <…> Можно бороться, воодушевляясь прочитанным, передуманным (никакими экономическими идеалами и настоящими марксистами нельзя воодушевиться), можно бороться, воодушевляясь мечтой, мечтой нечеловеческой красоты, недостижимой свободы, только недостижимой!
Красота, свобода – это мраморная женщина, у ног к<отор>ой погибают ее избранники. Свобода – это золотое облачко, к к<оторо>му нет иного пути кроме мечты, сжигающей всю душу, губящей всю жизнь. Итак, бороться, за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту я буду бороться в момент подъема. Не за народ, не за большинство, к<отор>ое тупо, глупо и всегда неправо. Вот теория, к<отор>ой можно держаться, к<отор>ая никогда не обманет: быть на стороне меньшинства, к<отор>ое гонимо большинством. Идти против – вот мой девиз! Против чего? спросите Вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма (нет, не во имя его, а за мечту, свою мечту, прикрываясь социализмом), против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!
Нет ничего реального, за что стоило бы бороться, за что стоило бы умереть. Польза! Какая пошлость! Приятное с полезным, немецкий педантизм, слияние с народом… Гадость, мизерия, ничтожество!
Умереть за… русскую конституцию. Ха ха ха! Да это звучит великолепно. На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня. «Это громкие слова», скажете Вы. Пусть громкие слова! Громкие красивые слова выражают громкие, дерзкие мысли. Я безумно люблю слова, их вид, их звук, их переменность, их неизменность. Ведь слово – всё! За свободное слово умирали Джиордано Бруно, умер раскольник Аввакум, за свободное слово, за простор, за звук слова «свобода» умерли они.
Свободное слово! Как это звучит! (СС7, 730–731)
Не подготовленное ни заданной темой, ни предшествующим ее развитием финальное признание в любви к словам, к «их виду, их звуку, их переменности, их неизменности» есть, пожалуй, самый личный аккорд в этом рассуждении. Заявленная вначале тема ожидания социальных сдвигов и собственного участия в «борьбе» тут же оборачивается своей ницшеанской, неоромантической стороной: «борьба» оказывается актом индивидуального самоутверждения, способом бытия личности – и утрачивает всякую связь с социальными задачами. Более того, непременным условием «борьбы» объявляется сознание недостижимости ее цели, ибо «нет ничего реального, за что стоило бы бороться, за что стоило бы умереть». И именно за этим выводом следует решающий скачок темы: единственной реальностью, увлекающей автора, объявляются слова, «громкие красивые слова», выражающие «громкие, дерзкие мысли». За слова, за их «звук», а не за существо определяемой ими цели, оказывается, и боролись самые лучшие.
Все это рассуждение могло бы быть названо юношеским и книжным – и не заслуживало бы внимания, если бы его основные мотивы не отозвались затем многократным эхом в размышлениях и мироощущении зрелой Цветаевой. Именно поэтому и самую динамику рассуждения шестнадцатилетнего автора не следует обходить вниманием: романтическая мысль о жизненном пути как постоянном стремлении к недостижимой цели (ибо все достижимые не заслуживают усилий) находит противовес в осознании «слова», даже «звука слова», в который претворена прекрасная цель, как самодостаточной ценности, компенсирующей все несовершенство жизненного ряда, а быть может, как раз и сообщающей жизненному ряду совершенство, в нем как таковом отсутствующее. Приведенный отрывок из письма Юркевичу позволяет наблюдать за рождением того смысла, который с ранней поры и до конца жизни приписывается в цветаевской рефлексии творческому импульсу и его результатам. Однако путь от спонтанного признания в любви к словам до утверждения словесного творчества как области основных жизненных интересов окажется в жизни Цветаевой еще долгим и непрямым.
Основная часть стихов «Вечернего альбома» написана в 1909 и первой половине 1910 года. О литературных привязанностях и влияниях, отразившихся в этих стихах, пойдет речь несколько ниже. Но одна из таких привязанностей выделяется из общего ряда: она заявлена непосредственно в посвящении сборника и задает определенный модус его прочтения. Свой дебют Цветаева посвящает «блестящей памяти Марии Башкирцевой».
«Дневник» Марии Башкирцевой был настолько популярен в России в конце XIX – начале ХХ века20, что кажется естественным предположить очень раннее знакомство Цветаевой с его текстом. Однако документально это не подтверждается. Среди литературных имен, упоминаемых в письмах Цветаевой 1908–1910 годов, имени Башкирцевой нет. Да и в самих стихах «Вечернего альбома», среди множества прямых и косвенных свидетельств о книжных увлечениях юной Цветаевой, следов Башкирцевой не найти. Исключение составляет открывающий сборник сонет «Встреча», своим положением вне разделов структурно примыкающий к посвящению, а содержащимся в нем рассказом о видéнии автору образа некой умершей устанавливающий связь между автором и адресатом посвящения. Посвящение далее «подтверждается» структурой сборника, имитирующей дневник: названия трех его разделов – «Детство», «Любовь», «Только тени» – задают дневниковую рамку, в которую Цветаева помещает свои творческие опыты. То, что фактически стихи в сборнике расположены не в порядке написания, не скрывается автором и не смущает его: реальная хронология написания стихов еще не воспринимается Цветаевой как самодостаточный структурный принцип21, и дневниковость привлекает ее пока лишь как композиционная находка.
В какой же момент складывается идея такого сборника? В какой момент личность и дневник Башкирцевой оказываются в центре творческих размышлений Цветаевой?
Есть лишь одно косвенное свидетельство на этот счет. В воспоминаниях сестры Цветаевой первое упоминание имени Башкирцевой относится к началу 1910 года, т. е. ко времени, окрашенному переживанием разрыва с Нилендером. Весной того же года, согласно этим воспоминаниям, происходит знакомство сестер Цветаевых с художником Леви, знавшим когда‐то Башкирцеву в Париже. Мемуаристка упоминает также о переписке с матерью Башкирцевой, в которую вступает в это время Марина Цветаева22. Иначе говоря, именно в первой половине 1910 года Башкирцева начинает завладевать мыслями Цветаевой, и хотя трудно предположить, чтобы ее дневник был совершенной новостью для Цветаевой в это время, чтение его и размышления над ним рождают творческий отклик и дают толчок самоопределению именно теперь.
Почва оказывается чрезвычайно благодатной. Переживание разрыва с Нилендером (продолжающееся в стихах, по крайней мере, до осени 1910 года) обостряет авторефлексию, и встреча со столь мощным образцом чужой авторефлексии, каким является «Дневник» Башкирцевой, подсказывает Цветаевой форму для ее собственной. Уже сложившаяся потребность претворения своих жизненных переживаний в слово находит себе в примере дневника Башкирцевой новое обоснование. Все происходившее в жизни отдельного человека может, оказывается, быть достойным внимания человечества: «…это всегда интересно – жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки»23. А раз так, можно и даже дóлжно с максимальной полнотой описывать собственную жизнь, не заботясь различиями между интимно-личным и общечеловеческим, домашним и общественным, ибо ценна индивидуальная жизнь целиком, включающая в себя все это.
Из этого пафоса и рождается замысел обширного стихотворного сборника. Он выкристаллизовывается, по‐видимому, во время летней поездки 1910 года в Германию и к осени этого года принимает окончательную форму. Анастасия Цветаева уверена, что ее сестра могла бы предложить свой сборник «Мусагету» или «Скорпиону», но «не захотела никакого контроля над собой»24. Наличие контактов с кругом московских символистов, прежде всего через Эллиса и Нилендера, действительно позволяло Цветаевой предложить свой сборник одному из модернистских издательств; она также могла бы через них устроить в печать отдельные свои стихотворения25. Однако любое из издательств, если бы готово было в принципе принять к изданию сборник Цветаевой, потребовало бы от нее совсем иного сборника, – не того, что она задумала. «Контроль» со стороны издательства прежде всего заключался бы в требовании сократить объем книги; между тем, отбор стихов означал бы разрушение того замысла, который сформировался у Цветаевой. Иными словами, сборник, каким он был задуман, мог быть издан лишь на средства автора.
То, что литературно более престижному варианту – изданию своей первой книги под маркой издательства – Цветаева предпочла точное следование собственному замыслу, немало говорило о юном авторе. О последствиях своего пренебрежения правилами серьезной литературы (сходстве своего сборника с дилетантской поэзией) Цветаева, очевидно, даже не задумывалась. Зато она позаботилась указать, по чьим стопам решила идти, и сонет «Встреча», посвященный таинственной связи между нею и автором знаменитого «Дневника», должен был объяснить читателю предначертанность такого пути.
В соответствии с выбранным кредо Цветаева могла бы вообще не производить отбор стихотворений при подготовке «Вечернего альбома»: ценность принадлежала не отдельным стихам, но цельности и полноте повествования. Тем не менее некоторый отбор был ею произведен, и ряд стихотворений, скорее всего, по условиям технического (или финансового) ограничения объема книги был Цветаевой отброшен26.
Видимо, именно потому, что при подготовке «Вечернего альбома» количественные ограничения имели место, у Цветаевой, воодушевленной благоприятными отзывами на сборник, сразу возникло намерение издать второй – близнечный по структуре и пересекающийся по хронологии – сборник, «Волшебный фонарь» (1912). К стихам, не включенным в «Вечерний альбом», она добавила те, что были написаны за истекший год с небольшим, и снова распределила по трем разделам. На этот раз они назывались ироничнее – «Деточки», «Дети растут», «Не на радость», – но дневниковая рамка была соблюдена, и при «наложении» разделы двух сборников совпадали по существу обозначаемых ими «этапов». Этим подчеркивалось, что новый сборник не столько продолжал, сколько дополнял предыдущий, т. е. восстанавливал некоторые выпавшие из прежней публикации «дневника» звенья, а заодно и включал вновь появившиеся. Потому впоследствии, в 1922 году, Цветаева и утверждала по поводу двух своих первых сборников, что они «по духу – одна книга» (СС5, 5).
Это единство двух книг имело и еще одно, композиционное, выражение. Если «Вечерний альбом» открывался посвящением Башкирцевой и примыкающим к нему сонетом «Встреча», то в «Волшебном фонаре» Цветаева подтвердила свою приверженность примеру Башкирцевой в финальном стихотворении сборника – «Литературным прокурорам». В нем она уже не просто обозначила свое следование примеру Башкирцевой, но нашла собственные слова для передачи того пафоса, который одушевлял и ее и Башкирцеву. Стихотворение это можно считать первым в творчестве Цветаевой опытом литературной декларации:
Всё таить, чтобы люди забыли,
Как растаявший снег и свечу?
Быть в грядущем лишь горсточкой пыли
Под могильным крестом? Не хочу!
Каждый миг, содрогаясь от боли,
К одному возвращаюсь опять:
Навсегда умереть! Для того ли
Мне судьбою дано всё понять?
Вечер в детской, где с куклами сяду,
На лугу паутинную нить,
Осужденную душу по взгляду…
Всё понять и за всех пережить!
Для того я (в проявленном – сила)
Всё родное на суд отдаю,
Чтобы молодость вечно хранила
Беспокойную юность мою.
Достаточно сопоставить с этим стихотворением хотя бы некоторые фрагменты «Дневника» Башкирцевой, чтобы понять, что Цветаева сознательно говорит в унисон с ней. «К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда, остаться на земле во что бы то ни стало»27, – эти слова, открывавшие предисловие к дневнику, написанное Башкирцевой за полгода до смерти, были на слуху у многих читателей поколения Цветаевой. В финальной же части предисловия, говоря о своих самых мучительных предчувствиях, Башкирцева писала:
…после моей смерти перероют мои ящики, найдут этот дневник, семья моя прочтет и потом уничтожит его, и скоро от меня ничего больше не останется, ничего, ничего, ничего! Вот что всегда ужасало меня! Жить, обладать таким честолюбием, страдать, плакать, бороться и в конце концов – забвение… забвение, как будто бы никогда и не существовал…28
О тех же переживаниях говорила и другая, более поздняя, чем предисловие, запись дневника:
Мы знаем, что все умрем, что никто не может этого избежать, и все же у нас хватает духу жить под этой вечной страшной угрозой!
Не боязнь ли полного конца, внезапного прекращения существования, толкает людей непременно оставить что‐нибудь после себя? Да, те, которые сознают неизбежность конца, страшатся его и хотят пережить самих себя.
Не служит ли этот инстинкт доказательством, что существует бессмертие, или же что мы его, по крайней мере, жаждем?29
Таким образом, стихотворение «Литературным прокурорам», авторизуя башкирцевские темы, предлагало читателям первый опыт концептуализации Цветаевой своей «любви к словам». Открытый юной Цветаевой смысл творчества был таков: жизнь автора, в совокупности всех ее переживаний, заносится им на бумагу потому, что для него, автора, это способ не «умереть навсегда»; последняя мысль невыносима автору оттого, что ему «судьбою дано всё понять», т. е. оттого, что свою человеческую одаренность он оценивает как исключительную; и наконец, автор с таким бесстрашием отдает «всё родное» на суд публики потому, что лишь «проявленное» (т. е. сделанное доступным прочтению) имеет силу над забвением, в которое может погрузиться юность автора с наступлением новой поры в его жизни.
Если бы у стихотворения не было заглавия, его смысл, пожалуй, этим бы и ограничивался. Заглавие однако придавало стихотворению не только программный, но и полемический смысл, тем самым отсылая к литературному контексту, в котором читались и оценивались первые сборники Цветаевой.
Известно, что «Вечерний альбом» был встречен критикой заинтересованно и доброжелательно. Во многом прием, оказанный сборнику, объяснялся сложившейся литературной ситуацией: доминантой ее было ощущение конца символистской эпохи и открытость новым поэтическим веяниям. В конце 1909 – начале 1910 года, как известно, прекратили свое существование два главных символистских журнала – «Золотое руно» и «Весы». В редакционной заметке «К читателям» в последнем номере «Весов» прекращение издания мотивировалось тем, что цель, некогда поставленная себе журналом, была достигнута: «Вместе с победой идей символизма в той форме их, в какой они исповедовались и должны были исповедоваться “Весами”, ненужным становится и сам журнал»30. То, что именовалось здесь «победой», было окончанием большого этапа в истории русского нового искусства. Возникшие на этой почве дискуссии и попытки осмысления наследия символизма31 стали той питательной средой, в которой происходило самоопределение нового литературного поколения и вырабатывался новый критический язык.
Предваряя обзор новых поэтических сборников, в который попал и «Вечерний альбом» Цветаевой, Валерий Брюсов так охарактеризовал ситуацию в русской поэзии на рубеже 1900–1910‐х годов:
…есть одна черта, которая объединяет всех, черта, вместе с тем глубоко характерная для всего нашего времени. Я говорю о поразительной, какой‐то роковой оторванности всей современной молодой поэзии от жизни. Наши молодые поэты живут в фантастическом мире, ими для себя созданном, и как будто ничего не знают о том, что совершается вокруг нас, что ежедневно встречают наши глаза, о чем ежедневно приходится нам говорить и думать32.
Отмечая далее, что русская поэзия действительно когда‐то нуждалась «в освобождении от давивших ее оков холодного реализма», Брюсов сетовал, что она пошла по этому пути слишком далеко, «захотела летать в стране мечты, отказавшись от крыльев наблюдения, захотела синтезировать, не имея за собой опыта, фактов». В результате, по мнению критика, эта поэзия была обречена на подражательность: «Когда художник не хочет наблюдать действительность, он невольно заменяет личные наблюдения подражанием другим художникам. Это именно и случилось с большинством современных молодых поэтов»33.
После такой преамбулы мнение Брюсова о сборнике Цветаевой выглядело несомненной похвалой:
Стихи Марины Цветаевой <…> всегда отправляются от какого‐ нибудь реального факта, от чего‐нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить в поэзию повседневность, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее стихам жуткую интимность. Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние34.
В сборнике Цветаевой Брюсов не обнаруживал именно тех недостатков, которые он считал наиболее характерными для современной поэзии, – за что и выделял автора из общего ряда. Тем не менее критик тут же подчеркивал, что, не разделяя общих недостатков современной поэзии, стихи Цветаевой грешат иными, индивидуальными недостатками: «…непосредственность, привлекательная в более удачных пьесах, переходит на многих страницах толстого сборника в какую‐то “домашность”. Получаются уже не поэтические создания (плохие или хорошие, другой вопрос), но просто страницы личного дневника, и притом страницы довольно пресные»35. Невольно высказывая пренебрежение к «дневниковому» замыслу автора, Брюсов подчеркивал неоправданность присутствия в сборнике целого ряда стихотворений, снижающих его общий поэтический уровень. О том же в своем в целом хвалебном отзыве говорила и Мариэтта Шагинян: «Есть стихи весьма слабые, неинтересные ни в ритмическом, ни в образном смысле и совершенно пустые по содержанию. Они только “милы”, той миловидностью, которой подчас отличаются разговоры талантливых людей, – но воспроизводить их и делать известными публике вряд ли нужно»36.
Таким образом, Цветаевой недвусмысленно было указано, что ее сборник оценивается по канонам литературы, т. е. именно как сборник стихов, а не как дневник, который автор по каким‐то экстралитературным соображениям хочет отдать на суд публике. Точнее, критика не возражала против дневниковости как композиционного приема, но идеала дневниковой полноты и подробности, который избрала для себя Цветаева, не принимала. Посвящение «Вечернего альбома» памяти Башкирцевой, призванное объяснить читателям точку зрения автора на свой сборник, рецензентами вообще не воспринималось как существенное. Лишь один из них, Николай Гумилев, бегло упомянул об этом посвящении в своем благожелательном отзыве: он заметил, что оно, равно как и эпиграф из Ростана, «наводит только на мысль о юности поэтессы»37.
Существенно отличался от приведенных суждений отзыв на «Вечерний альбом» Максимилиана Волошина. Те черты сборника Цветаевой, которые вызывали неудовольствие других рецензентов, в его интерпретации приобретали совершенно особую ценность:
Это очень юная и неопытная книга – «Вечерний альбом». Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности. Если же прибавить, что ее автор владеет не только стихом, но и четкой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг, то это укажет, какую документальную важность представляет эта книга, принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передать наблюдение и чувство38.
Невольно или сознательно подчиняясь прагматике авторского замысла, Волошин указывал на дневниковость как на свойство, придающее книге особенный статус и требующее адекватного читательского отношения. Показательна реакция Цветаевой на отзыв Волошина в письме к нему от 23 декабря 1910 года: «Примите мою искреннюю благодарность за Ваши искренние слова о моей книге. Вы подошли к ней как к жизни, и простили жизни то, чего не прощают литературе» (СС6, 39).
Отзыв Волошина в сущности помог кристаллизоваться, словесно оформиться творческому кредо юной Цветаевой39. Намеченное в приведенной фразе противоположение «жизни» и «литературы» стало тем основанием, на котором Цветаева еще долго строила свое творческое самоопределение. С «жизнью» связывались такие понятия, как спонтанность, полнота самовыражения, творческая свобода, с «литературой» – условность, каноничность, связанность правилами. Потому, рассказывая в 1925 году в «Герое труда» о своем литературном дебюте, Цветаева так настойчиво, с первой же строки, стремилась отделить себя от «литературы» и «литераторов». Отсюда и название стихотворения «Литературным прокурорам»: за изложенной в нем авторской программой стояло убеждение, что литературная мерка, с которой подошли к ее первому сборнику некоторые критики, была неуместна.
В другом открыто полемическом стихотворении «Волшебного фонаря» – «В. Я. Брюсову», – отвечая на брюсовское замечание из отзыва на «Вечерний альбом»40, Цветаева декларировала свое сознательное отмежевание от тем и настроений, которые считались выражением духа современности:
Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, —
Не изменишь, всё равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.
Нужно петь, что всё темно,
Что над миром сны нависли…
– Так теперь заведено. —
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!
Недюжинная потребность и способность к самоопределению через отказ от рамок, предлагаемых для такого самоопределения литературным контекстом, безусловно была продемонстрирована Цветаевой в самом начале литературной карьеры достаточно убедительно. Однако рассказывая впоследствии в «Герое труда» о деталях своего раннего не-литературного поведения, она склонна была сверхконцептуализировать все обстоятельства и факты своей ранней литературной биографии, так чтобы даже наивность юного автора приобрела идейную основу – сознательное нежелание следовать «корпоративным» литературным правилам. При этом свою наивность Цветаева несколько преувеличивала. Так, она утверждала: «Ни одного экземпляра («Вечернего альбома». – И. Ш.) на отзыв мною отослано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы – не сделала бы: напрашиваться на рецензию!» (СС4, 24). Между тем факты говорят об обратном. Дело было, конечно, не в том, чтобы «напрашиваться на рецензию», однако издание «Вечернего альбома» было для Цветаевой поступком столь большой внутренней важности, что она нуждалась в отклике на него в той или иной форме. 18 ноября 1910 года сборник был отослан в «Мусагет», и можно лишь гадать, была ли эта посылка формой оповещения издательства о вышедшей книге или же способом передачи ее конкретному читателю – Нилендеру. 1 декабря того же года сборник был подарен Волошину (с которым Цветаева прежде знакома не была) после одного из его публичных выступлений. Наконец, 4 декабря экземпляр «Вечернего альбома» был послан Брюсову «с просьбой просмотреть»41.
Последняя посылка была весьма знаменательна: по‐видимому, если чьего‐то отзыва Цветаева ждала, то это был Брюсов. Разумеется, она знала о той роли, которую играл Брюсов в современной литературной жизни. Однако дело было не только в его литературном статусе. В 1909–1910 годах Брюсов – один из главных авторов в читательских интересах Цветаевой. Ее пометы на собственном экземпляре трехтомника «Пути и перепутья» свидетельствуют о глубоко личном прочтении брюсовских стихов42. Им Цветаева посвятила и свой самый ранний из известных прозаических набросков – «Волшебство в стихах Брюсова», относящийся, по‐видимому, зиме 1910/1911 года43. Если добавить к сказанному, что в марте того же года она решилась на эпистолярное обращение к Брюсову, тема которого – оценка Э. Ростана – была для нее очень лично значимой, то станет ясно, какое важное место принадлежало Брюсову в размышлениях юной Цветаевой44. От Брюсова она очевидно ждала большего, чем просто литературной оценки. И как раз то обстоятельство, что в ответ на сборник Цветаева получила именно и только литературный отзыв (а не, скажем, личное письмо), бесстрастную, хоть и благожелательную оценку (а не слова понимания и творческого сочувствия), – должно было по‐настоящему задеть ее. Язвительный стихотворный ответ в «Волшебном фонаре» на напутственные слова брюсовской рецензии свидетельствовал прежде всего об остроте переживания по поводу обманутых ожиданий.
Невзирая на то, что лишь в отзыве Волошина Цветаева нашла сочувствие замыслу своего сборника в целом, она встретила в критике другое: почти единодушные похвалы своему поэтическому мастерству и «новизне» сборника. Гумилев писал прямо апологетически: «Многое ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно) интимность; новы темы, напр., детская влюбленность; ново непосредственное, бездумное любование пустяками жизни. И, как и надо было думать, здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга – не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов»45. В устах Гумилева «новизна» оказывалась своеобразным «паролем», новым критическим штампом, отмечавшим признаки поиска автором иной тематики и миросозерцания, чем те, что ассоциировались с идейным символизмом. В этом смысле и Брюсов и Гумилев, благосклонно отзываясь о стихах Цветаевой, говорили об одном и том же. «Вечерний альбом» так пришелся ко двору в 1910–1911 годах именно потому, что читался как один из ответов на запрос времени, на запрос новой поэзии, от которой пока еще никто не требовал совершенства – лишь бы она была действительно нова. Тематический отрыв Цветаевой от символистской традиции, при усвоении ею символистской культуры стиха, – такое сочетание качеств казалось удачным. Мариэтта Шагинян, характеризуя поэтическую манеру юного автора, отмечала:
Радует отсутствие риторики, обдуманность и самостоятельность в выборе тем; почти удивительно для начинающего поэта отсутствие заметного влияния модернистов. Видна хорошая поэтическая школа, и при всем том нет ни заученности, ни сухости наших молодых поэтов, излишне школьничающих после неумеренного попрания авторитетов46.
Соседство утверждений об «отсутствии заметного влияния модернистов» и о наличии «хорошей поэтической школы», кажется, смущало и саму рецензентку, и она стремилась объясниться:
С одной стороны дарование Цветаевой выросло вне-культурно, т. е. как бы в стороне от исторического, текущего ее хода; с другой – оно всё насквозь пропитано культурой. Марина Цветаева не скрещивала шпаг, не заимствовала, не мерилась и не боролась ни с кем; она вышла со своею книгой абсентеисткой, не участвовавшей ни в одном из литературных движений нашего времени. Но абсентеизм ее – не по неведению и не по слабости. Достаточно сознательная и блестяще вооруженная, она, не борясь ни с чем, готова на всякую борьбу47.
Все, что не простилось бы литературному новичку еще год-два тому назад, теперь, в момент «кризиса символизма», вызывало интерес и казалось многообещающим. Хронологическая точность попадания первого сборника Цветаевой в благоприятный литературный контекст была несомненной. Через год с небольшим, когда вышел второй ее сборник «Волшебный фонарь», Цветаевой пришлось убедиться в том, сколь изменчив этот контекст.
Однако, прежде чем говорить об этом, обратимся к стихам «Вечернего альбома».
Если вдохновленность примером «Дневника» Башкирцевой определила идею и композицию «Вечернего альбома» как целого, то сами стихи сборника несут на себе отпечаток разнообразных литературных впечатлений юного автора. И поэтика и тематика «Вечернего альбома» эклектичны; его стихи демонстрируют равное желание Цветаевой поэтически осваивать темы детско-юношеского чтения и символистской мистики, с отчетливым преобладанием романтической оркестровки.
Однако по своему техническому исполнению это прежде всего произведения внимательного и благодарного читателя символистской поэзии, читателя, который получил представление о русском стихе именно из рук поколения поэтов-символистов. Свое резюме, набросанное на посланном ему экземпляре сборника, Брюсов не случайно начинал словами: «Хорошая школа»48. И «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь» пронизаны образцами стихотворческого экспериментаторства, вдохновленного старшими учителями. Даже на фоне склонной к широте строфического репертуара символистской поэзии изобретательность юной Цветаевой в этой области, ее способность выдержать в стихотворении весьма причудливо заданную строфическую и метрическую форму впечатляет49.
Что же касается тем и мотивов стихов юной Цветаевой, то здесь символистский субстрат часто прочно спаян с общеромантическим: немецкая романтическая поэзия, творчество Ростана и русских символистов в цветаевских поэтических опытах накладываются друг на друга. Из русских символистов Цветаева лучше всего знает в это время поэзию Бальмонта и Брюсова. Блок пока еще далеко позади50, хотя об идейно-мистическом символизме Цветаева имеет представление – главным образом, благодаря Эллису. Именно его появление в стихах Цветаевой влечет за собой переход автора на язык мистических образов:
Рот как кровь, а глаза зелены,
И улыбка измученно-злая…
О, не скроешь, теперь поняла я:
Ты возлюбленный бледной Луны.
<…>
Вечный гость на чужом берегу,
Ты замучен серебряным рогом…
О, я знаю о многом, о многом,
Но откуда – сказать не могу.
Оттого тебе искры бокала
И дурман наслаждений бледны:
Ты возлюбленный Девы-Луны,
Ты из тех, что Луна приласкала.
«Лунная» образность (с ней связан и «серебряный» цвет), получившая широкое распространение в символизме, была своеобразным кодом, за которым стояла целая картина мира. Как показал А. Ханзена-Лёве51, лунный мир у символистов изначально связан с «диаволическим» (в терминологии исследователя) началом: это вторичный, отраженный мир, противоположный истинному, солнечному. Женские коннотации луны, соответственно, противоположны образам истинной «царицы небес», «жены, облеченной в солнце». Однако диаволическая лунная образность также может быть связана с общей идеей отрицания жизни (солнечного начала), аскетизма, мистической религиозности52. Бодлеризму, «сатанизму» и мистическим увлечениям Эллиса Цветаева, таким образом, присваивает совершенно «правильный», с точки зрения символистского языка, «ярлык»: «Ты возлюбленный бледной Луны». Можно отметить, что сама она от выбора между «солнечным» и «лунным» лучом отказывается, т. е. самоопределяться в символистских терминах не хочет: «Буду любить, не умея иначе – / Оба луча!» (СС1, 87).
Однако столь непосредственные отсылки к конкретным мистико-символистским комплексам сравнительно немногочисленны в «Вечернем альбоме». Метафизику идейного символизма Цветаева в целом воспринимает достаточно поверхностно, – скорее как совокупность языковых и мотивных клише, чем как систему идей. В любовной лирике сборника, обращенной к Нилендеру, это хорошо видно:
Не гони мою память! Лазурны края,
Где встречалось мечтание наше.
Будь правдивым: не скоро с такою, как я,
Вновь прильнешь ты к серебряной чаше.
<…>
Здесь не надо свиданья. Мы встретимся там,
Где на правду я правдой отвечу;
Каждый вечер по лёгким и зыбким мостам
Мы выходим друг другу навстречу.
<…>
Это грезы. Обоим нам ночь дорога,
Все преграды рушащая смело.
Но, проснувшись, мой друг, не гони, как врага,
Образ той, что солгать не сумела.
И когда он возникнет в вечерней тени
Под призывы былого напева,
Ты минувшему счастью с улыбкой кивни
И ушедшую вспомни без гнева.
Мотивные комплексы, на которых строится стихотворение (противоположение «здесь» и «там», «дня» и «ночи»), вполне укладываются в общеромантическую идеологию, лишь дополнительно актуализированную символизмом. Нельзя, впрочем, не отметить одной поразительной детали: и мотив «лазурных краев» и мотив встреч во сне (и некоторые другие романтические мотивы других стихотворений сборника), которые потом на целое десятилетие исчезнут из поэзии Цветаевой, обретут новую жизнь в ее творчестве в период его наивысшего взлета – в 1920‐е годы. «Вечерний альбом» – до некоторой степени юношеский конспект «будущей Цветаевой»; в нем автору не хватает лишь своего, неповторимого, голоса, который бы сделал клишированный мотив – индивидуальным.
На нескольких примерах интересно проследить механизмы творческой реактивности Цветаевой – то, как осваивает она чужие тексты в этот ранний период своей поэтической биографии.
Одной из стратегий такого освоения является сознательная имитация чужого текста. Стихотворение «Колдунья», например, пишется Цветаевой как бы «по контуру» одноименного и изометрического стихотворения Бальмонта. Любопытно и то, что оно помещено Цветаевой в разделе «Только тени», тогда как бальмонтовское напечатано в его сборнике «Только любовь». Играя с чужим названием, Цветаева отдает дань литературности (реальную полемичность тут усмотреть трудно). Когда она пишет собственное стихотворение, она вступает в более свободную поэтическую игру:
Бальмонт:
– Колдунья, мне страшно так видеть тебя.
Мне люди твердили, что ты
Живешь – беспощадно живое губя,
Что старые страшны черты:
Ты смотришь так нежно, ты манишь, любя,
И вся ты полна красоты53.
Цветаева:
Я – Эва, и страсти мои велики:
Вся жизнь моя страстная дрожь!
Глаза у меня огоньки-угольки,
А волосы спелая рожь,
И тянутся к ним из хлебов васильки.
Загадочный век мой хорош.
«Колдунья» Цветаевой – тот случай поэтического экспериментаторства, который наиболее наглядно раскрывает «творческий метод» автора «Вечернего альбома» вообще54. Этот метод подражательный в своей основе, что естественно для начинающего поэта. Однако подражательность Цветаевой «формальна» по преимуществу, и чужая форма ее ни к чему не обязывает содержательно. Легкость, с которой она «осваивает» и «присваивает» форму оригинала, иллюстрирует то свойство дарования Цветаевой, которое заставляло современников – минуя все щедро разбросанные по ее стихам следы «заимствований» – воспринимать эти стихи как лишенные «влияний».
«Смешение языков» – еще один продукт цветаевского освоения разных пластов современной словесности. Из этого смешения рождаются любопытные стилистические гибриды:
Нас двое над темной роялью
Склонилось, и крадется жуть.
Укутаны маминой шалью,
Бледнеем, не смеем вздохнуть.
<…>
Мы цепи таинственной звенья,
Нам духом в борьбе не упасть,
Последнее близко сраженье,
И темных закончится власть.
Причудливое смешение революционной и символистской лексики при описании детско-романтических переживаний тут явно неумышленно. У него, впрочем, может быть вполне определенное историко-литературное объяснение: в те годы, когда Цветаева становится читателем символистской поэзии, эта поэзия получает сильнейшую «прививку» социально-политической тематики, связанную с периодом первой русской революции. Как и большинство подростков, Цветаева переживает увлечение революцией, которое, как мы видели, и в 1908 году для нее еще по‐своему актуально. Чтение революционной поэзии является необходимой составляющей этого увлечения, и возможно даже такой запрещенный цензурой сборник, как «Песни мстителя» (1907) Бальмонта, попадает в руки Цветаевой. В нем, во всяком случае, есть стихотворение под названием «Темным».
Любопытным примером обработки Цветаевой символистской темы, является ее стихотворение «Ошибка»:
Когда снежинку, что легко летает,
Как звездочка упавшая скользя,
Берешь рукой – она снежинкой тает,
И возвратить воздушность ей нельзя.
Когда пленясь прозрачностью медузы,
Ее коснемся мы капризом рук,
Она, как пленник, заключенный в узы,
Вдруг побледнеет и погибнет вдруг.
Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быль —
Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!
Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!
Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!»
Твоя любовь была такой ошибкой, —
Но без любви мы гибнем, Чародей!
Известно, что это стихотворение обращено к Эллису и является поэтическим ответом на предложение, сделанное им Цветаевой55. Необычность структуры цветаевского поэтического послания состоит в том, что лицо, к которому оно обращено, названо лишь в последней строке, а указание на то, что стихотворение имеет конкретного адресата, появляется всего строкой выше. Риторика текста, какой она задается вначале, заставляет читать его как образец медитативной лирики, и даже императивные формы, появляющиеся в четвертой строфе, вполне укладываются в риторические рамки лирического размышления. Но последние две строки совершенно переориентируют читательское восприятие стихотворения, сообщая и всему предыдущему тексту смысл более адресный. На нем и следует остановиться подробнее.
Знакомство Цветаевой с Эллисом произошло в 1908 году, и в течение ближайших двух-трех лет он был для нее не только старшим другом, но и главным проводником тех новых веяний, которыми была отмечена литературная современность. Естественно, что существенное место в разговорах Эллиса занимали его собственные искания этого времени, сменившие революционные увлечения недавней поры56. Андрей Белый, в то время близкий с Эллисом, впоследствии так характеризовал его миросозерцание этих лет: «Сам же он проповедовал нам теорию собственного раздвоя, напоминавшую учение о двойной истине; но базировал ее на поэзии соответствия Бодлера: в центре сознания – культ мечты, непереносимой в действительность, которая – падаль‐де; она – труп мечты»57. Как бы ни было распространено слово «мечта» в символистском языке, можно предположить, что употребление этого слова в стихотворении, обращенном к Эллису, специфически маркировано и отсылает не к вообще символистской, но именно к эллисовской его трактовке. Более ясное представление о последней можно составить по предисловию Эллиса к опубликованному в 1907 году его переводу драмы Ж. Роденбаха «Покрывало», книге, наверняка вошедшей в круг чтения юной Цветаевой.
«Покрывало» – символическая драма, сюжет которой сводится к следующему. Герой пьесы влюбляется в монахиню, временно живущую в его доме и ухаживающую за его больной родственницей. Функцию хранителя символической тайны, которой обладает героиня, выполняет головной убор, которым она, по уставу своего ордена, должна всегда покрывать свою голову, делая волосы невидимыми. Воображение же героя пытается проникнуть за это покрывало, его мечта создает идеальный образ скрываемых волос. Однажды, благодаря случайному стечению обстоятельств, он видит монахиню без головного убора, и идеальный образ рассыпается:
Ее я женщиной земною увидал:
Ее чела покров, как прежде, не скрывал,
И волосы ее с их нежными цветами,
Доступные очам, рассыпались волнами.
Увы! моя любовь, что грезу соткала
Из неизвестности, навеки умерла!..
Лишь поднят был покров, всё, что мечту пленяло,
Исчезло без следа – сестра другою стала!
И увидав ее, вдруг взор утратил мой
Ту, что казалась мне когда‐то неземной!
Теперь же вдруг она явилась предо мною
Обыкновенною – и образ, что мечтою
Любовь отшельника невольно облекла
И в белый ореол покрова убрала,
Исчезнул без следа… Любовь не переносит
Обидной ясности и вечно тайны просит!..58
Такова развязка сюжета. В своем предисловии Эллис трактует ее так:
Любовь не переживает того, что является ее жизненным нервом, что питает и возвышает ее, т. е. тайны, ибо «любить» означает «мечтать», а сущность мечты – неумолчное созидание нового мира, более прекрасного и идеального, чем всегда слишком грубая и печальная действительность. Мечта – цветок, растущий в таинственном мире идеала и мгновенно увядающий при всяком соприкосновении с реальностью59.
Таким образом, стихотворение Цветаевой едва ли не «возвращает» Эллису его собственные слова. Даже концовка «Ошибки» с ее амбивалентно звучащим «Твоя любовь была такой ошибкой, – / Но без любви мы гибнем, Чародей!» имеет соответствие в словах эллисовского предисловия: «Любовь вечно ищет тайны, но тайна всегда ускользает от любви, а без любви сердце умирает – такова главная идея символической драмы Ж. Роденбаха “Покрывало”!»60
Стихотворение «Ошибка» оказывается вариацией на тему, заданную Эллисом, – заданную, возможно, и в его устных разговорах с Цветаевой, а не только в тексте, на который мы вынуждены опираться. При всей своей смысловой близости к оригиналу вариация эта отмечена очевидным сдвигом в образной структуре, по которому можно судить о характере восприятия Цветаевой символистского текста. Конфликт драмы Роденбаха на образном уровне строится вокруг символики «покрывала», унаследованной символистами от романтиков и связанной с представлением о грани, отделяющей конечный, эмпирический, доступный мир от мира идеального и бесконечного («нового мира», как называет его Эллис). Лишившись своего головного убора, «покрывала», героиня целиком переходит в эмпирический мир, ничто в ее облике более не обещает раскрытия тайны мира бесконечного, которая одна и может возбуждать любовь. Об этом говорят Роденбах и Эллис. У Цветаевой эта образная и идейная система замещается совершенно иной. Стихотворение строится на приеме реализации метафоры «хватать мечту руками»: автор приводит три примера (снежинка, медуза, мотыльки), с неопровержимостью естественнонаучного эксперимента удостоверяющих, что прикосновение рук разрушает то, что до этого прикосновения было цельным и совершенным. Почему «мечта» воплощается в этих именно объектах и в чем их символическая или иная аналогичность «любви», автор не задумывается. Символистская метафизика растворяется в земной физике, и символическое иносказание заменяется метафорическим сравнением. Очевидная непроизвольность такой трансформации чужой темы и образности указывает на то, что в это время символистская идеология не задевает Цветаеву глубоко. Лишь значительно позже, в 1920‐е годы, поэтическая идеология Цветаевой сблизится с символистской, станет типологически ей родственной.
Если судить по рецензиям, современники более всего отмечали в «Вечернем альбоме» его «интимность» или «домашность», а пронизанность сборника литературными аллюзиями не останавливала особого внимания. Отчасти это можно объяснить тем, что литературный реферативный ряд, к которому отсылали стихи Цветаевой, был в значительной части столь «детским», что либо не опознавался, либо не воспринимался как литературный. Между тем стихи «Вечернего альбома» отмечены не только стилистическим ученичеством и освоением языка мотивов и образов современной поэзии, но и чисто сюжетными аллюзиями и заимствованиями, что будет свойственно и творчеству зрелой Цветаевой. Среди чужих текстов, попадающих в стихи сборника, соседствуют институтские повести Л. Чарской и «Дама с камелиями» А. Дюма-сына, «Лихтенштейн» В. Гауфа и сказки из сборника «Crurifragium» С. Соловьева, «Орленок» Э. Ростана и повести М. Твена. Можно с уверенностью добавить, что целый пласт стихов «Вечернего альбома» использует темы и сюжеты, позаимствованные из проходной и трудно теперь идентифицируемой литературы, – столь явственно присутствие в них отсылки к неназванным источникам.
Наиболее интересно проанализировать механизмы использования Цветаевой чужих текстов в тех стихотворениях, которые не содержат прямых указаний на свою «родословную». На одном таком случае мы остановимся подробнее.
Одним из самых читаемых современных детских писателей времени цветаевского отрочества была Лидия Чарская, автор более трех десятков книг для детей и юношества, которые переиздавались неоднократно. Особое место среди них занимали так называемые институтские повести: «Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская», «За что?». Можно предположить, что книги эти попали в круг чтения юной Цветаевой в 1906 году, когда она – после почти трех лет, проведенных за границей, и последовавшей по возвращении в Россию кончины матери – оказалась пансионеркой четвертого класса гимназии им. В. П. фон Дервиз в Москве. Именно к концу 1906 – началу 1907 года относится в воспоминаниях Анастасии Цветаевой свидетельство о первом прозаическом опыте Марины Цветаевой:
Я знала, что Маруся пишет повесть – «Четвертые» – в толстой клеенчатой тетради. Пишет о старших подругах, переселив их из седьмого в четвертый (Маруся училась в четвертом) класс. Проскальзывали имена: «Маргарита Ватсон», «Ирина Ляхова» и «Валя Генерозова», но скоро исчезли под тремя вымышленными именами: Инна Свет, Рита Янковская и Елена Гриднева. Преображая имена, Марина, конечно, освещала своим восхищением и сущности своих героинь. Бунтарский дух ее создавал драматические положения – те, которых она искала, поступив в интернат, нужный ей как плацдарм для собственных ее действий, проявлений ее недовольства окружающим, особенно – нестерпимым для нее духом интерната.
<…> Я не помню канву описанных Мариной событий, но жива в памяти юная романтика отношений, в последней главе – весна, разлука героинь повести61.
Повесть не сохранилась, но даже по этому описанию А. Цветаевой очевидно, что написана она под влиянием институтских повестей Чарской. Стихи «Вечернего альбома» также хранят следы цветаевского чтения Чарской – причем не всегда это эксплицитные отсылки к ее текстам, как в случае со стихотворением «Памяти Нины Джаваха». Стихотворение «Дортуар весной», посвященное одной из гимназических подруг Цветаевой почти не содержит явных референций к какому‐либо чужому тексту:
О весенние сны в дортуаре,
О блужданье в раздумье средь спящих,
Звук шагов, как нарочно, скрипящих,
И тоска, и мечты о пожаре.
Неспокойны уснувшие лица,
Газ заботливо кем‐то убавлен,
Воздух прян и как будто отравлен,
Дортуар – как большая теплица.
Тихи вздохи. На призрачном свете
Все бледны. От тоски ль ожиданья,
Оттого ль, что солгали гаданья,
Но тревожны уснувшие дети.
Косы длинны, а руки так тонки!
Бред внезапный: «От вражеских пушек
Войско турок…» Недвижны иконки,
Что склонились над снегом подушек.
Кто‐то плачет во сне, не упрямо…
Так слабы эти детские всхлипы!
Снятся девочке старые липы
И умершая, бледная мама.
Расцветает в душе небылица.
Кто там бродит? Неспящая поздно?
Иль цветок, воскресающий грозно,
Что сгубила весною теплица?
Стихотворение это естественно прочитать как чисто биографическое, и в нем почти нет указаний на недостаточность такого прочтения. Между тем интересно сравнить его с описанием ночного дортуара в повести Чарской «За что?»:
Ночник слабо освещает длинную казарменного типа комнату с четырьмя рядами кроватей. Все давно спят, и наши, и шестые. Гробовая тишина стоит в дортуаре. Только изредка слышится вырвавшийся случайный вздох из груди какой‐нибудь сонной девочки или невнятный бред прерывает на мгновение жуткую давящую тишину ночи. <…> На душе у меня грустно и больно, такая гнетущая тоска в ней, что я решительно задыхаюсь под ее бременем. Ужасная тоска62.
Совпадения двух текстов трудно считать случайными. Еще менее они покажутся таковыми, если обратить внимание на некоторые смысловые детали стихотворения Цветаевой, не имеющие прямых соответствий в приведенном отрывке из Чарской, но отсылающие к сюжетам ее повестей. Детский бред о «войске турок» совершенно необъясним, если читать стихотворение как просто автобиографическое: турецкая тема для детей поколения Цветаевой уже не актуальна. Напротив, в повестях Чарской тема русско-турецкой войны 1877–1878 годов встречается не раз: отец героини повести «За что?» участвует в ней в качестве военного инженера; отец другой героини, Люды Влассовской из одноименной повести, на этой войне погибает. Отсылают к текстам Чарской и строки о «воскресающем цветке», который «сгубила весною теплица». В повестях Чарской много рассказывается о весенних эпидемиях, порой уносивших жизни воспитанниц института: героиня повести «За что?» переносит весной тяжелую оспу, а княжна Джаваха умирает весной от чахотки. Наконец, строки «Снятся девочке старые липы / И умершая бледная мама» лишь по совпадению можно связать с биографией самой Цветаевой (упоминать о себе в третьем лице ей, однако, совершенно не свойственно): «вековые липы» и рано умершая мама возникают в воспоминаниях княжны Джавахи из повести о ней.
Использование элементов чужого текста не отменяет «автобиографичности» стихотворения. Прочитанная книга органически сплетается с собственными жизненными впечатлениями, а некоторое сходство книжной истории с личной только увеличивает шансы последней быть пропущенной через призму первой.
Похожий пример дает открывающее «Вечерний альбом» стихотворение «Лесное царство», посвященное сестре Асе и начинающееся строфой:
Ты – принцесса из царства не светского,
Он – твой рыцарь, готовый на всё…
О, как много в вас милого, детского,
Как понятно мне счастье твое!
Игрой в «рыцарей» и «принцесс», культивируемой в детской компании, пронизано детство героини повести Чарской «За что?»: сама героиня воображает себя «принцессой», а ее знакомые кавалеры берут на себя роль «рыцарей», ей служащих и ее охраняющих. Таким образом, игра, предложенная книгой, попадает в стихотворение Цветаевой как известный и пишущему и адресату способ описания жизненных отношений.
Обращение Цветаевой с чужими произведениями, будь то текст Эллиса, Чарской или Бальмонта, дает повод утверждать, что та черта ее поэтики, которую Майкл Мейкин определил как «поэтику присвоения» (poetics of appropriation)63, характеризует ее раннее творчество ничуть не меньше, чем более позднее. Материал ранней поэзии Цветаевой позволяет утверждать, что «присвоение», адаптация различных элементов чужого текста – не столько литературная установка, сколько следствие творческого склада, типа творческой реактивности, присущего Цветаевой. Цветаевой необходимо чужое произведение – как носитель темы, сюжета, мотива, идеи, а иногда и метра, – потому что собственный текст она мыслит всегда как ответ. (Не случайно утверждение, что искусство – это не вопрос, а ответ, – одна из любимейших мыслей зрелой Цветаевой.) Следствием такой творческой реактивности является постепенный переход Цветаевой от «поэтики присвоения» к «поэтике вчитывания»: чужая тема, мотив или сюжет становятся для нее носителями неизвестного, еще не открытого смысла, и свой ответ на них она видит в обнаружении (а фактически – в привнесении) некоего нового смысла. Однако это свойство поэтики Цветаевой проявляется в полной мере лишь в 1920‐е годы.
Стремление Цветаевой как можно скорее издать свой второй сборник стихотворений, «Волшебный фонарь», можно объяснить двояко. С одной стороны, в целом благожелательная реакция критики на первый сборник могла вызвать у нее желание закрепить успех, тем более, что недостатка в неопубликованных стихах, как новых, так и старых, у нее не было. С другой стороны, едва ли не более сильным стимулом должно было быть желание Цветаевой вступить в диалог с критикой и разъяснить свою позицию и свои творческие намерения читающей публике. «Вечерний альбом» был сборником совершенно «закрытым»: никакого диалога с читателем, тем более – игры или полемики с ним он не содержал. «Волшебный фонарь» оказался совершенно иным. Было придумано фиктивное издательство «Оле-Лукойе»64, что уже означало литературную игру; смысл ее, как уже упоминалось, состоял в ироническом обыгрывании правил «серьезной» литературы. Сборник открывался обращенным к читателю стихотворением («Милый читатель! Смеясь, как ребенок…»), представлявшим ему книгу опять‐таки в нарочито несерьезном ключе. Ирония была введена и в названия разделов («Деточки», «Дети растут», «Не на радость»), и в сами поэтические тексты, в том числе и в полемические. Тем не менее отношение автора к издаваемой книге оставалось вполне серьезным. Ирония (и автоирония) была средством полемики, призванным обезоружить тех, кто давал автору «литературные» советы.
Между тем в преддверии выхода нового сборника Цветаева испытывала сомнения в его достоинствах. Так, 1 октября 1911 года она писала Волошину: «…мне очень любопытно, что ты о нем («Волшебном фонаре». – И. Ш.) скажешь, – неужели стала хуже писать? Впрочем, это глупости. Я задыхаюсь при мысли, что не выскажу всего, всего!» (СС6, 54–55). Эти колебания между стремлением, на башкирцевский манер, «говорить всё, всё, всё»65 и подозрением, что достоинств сборнику это во всяком случае не гарантирует, уже предвещали творческий кризис 1912 года. Еще неувереннее Цветаева отозвалась об уже печатающемся сборнике в декабрьском письме к тому же корреспонденту: «Макс, я уверена, что ты не полюбишь моего 2‐го сборника. Ты говоришь, он должен быть лучше 1‐го или он будет плох. “En poésie, comme en amour, rester à la même place – c’est reculer?”66 Это прекрасные слова, способные воодушевить меня, но не изменить!» (СС6, 58).
Собственная «неизменность», тяготившая уже и Цветаеву, у критики нашла тем меньше пощады. Даже благожелательные отзывы на «Волшебный фонарь» отмечали именно тавтологичность сборника, хотя критики по‐прежнему склонны были отдавать должное техническому мастерству автора. Характерным был в этом отношении отзыв Михаила Цетлина:
Марина Цветаева, <…> уже выпускающая вторую книгу «Волшебный фонарь», не ищет своей формы, а с большим, слишком большим умением, пишет стихи. Но зато у нее есть своя тема: интимный, главным образом полудетский, полуотроческий мир, который она переносит в книгу со всеми его индивидуальными черточками, даже с собственными именами. Может быть, заговорить об этом для начинающего поэта труднее, требует более напряженного творческого усилия, чем воспевать какие‐то нереальные «космические» весны и зимы. Но творческим усилием найдя в первом сборнике свою тему, г-жа Цветаева пока на ней и остановилась. Снова во второй книге читать о маме, о знакомых девочках и т. п. уже немного скучно67.
Те, кто год назад приветствовали «Вечерний альбом», – Н. Гумилев, В. Брюсов и М. Шагинян – были куда категоричнее в своем неприятии нового сборника. Знаменателен отзыв Гумилева, который недавно был так воодушевлен новизной «Вечернего альбома». Он уловил и крайне негативно оценил прежде всего смену регистра поэтической речи Цветаевой при сохранении прежней тематики ее стихов. Издание сборника «в стилизованном “под детей” книгоиздательстве» плохо коррелировало, на его взгляд, с уже лишенной «неподдельной детскости» поэзией «Волшебного фонаря». Ироническая струя в сборнике была интерпретирована им как неудачное средство оправдать «подделку» под свою прежнюю поэтическую манеру. Сходство тем первого и второго сборников неприятно оттеняло, по мнению критика, угасание творческой убедительности в «Волшебном фонаре»: «Те же темы, те же образы, только бледнее и суше, словно это не переживания и не воспоминания о пережитом, а лишь воспоминания о воспоминаниях»68. Действительно, дистанцированность автора сборника от описываемых картинок жизни проявляла себя, в частности, в писании на темы прежних стихов, – уже со стороны, а не изнутри воссоздающем эмоциональный мир детства-отрочества. Программный же пафос Цветаевой – «отдавать на суд всё родное» – никто из критиков всерьез не воспринял. «Пять-шесть истинно поэтических красивых стихотворений тонут в ее книге в волнах чисто “альбомных стишков”, которые если кому интересны, то только ее добрым знакомым»69, – резко указывал Брюсов на литературно непростительную некритичность Цветаевой по отношению к собственному творчеству.
Прохладная реакция критики на «Волшебный фонарь» была связана и с некоторыми общими переменами в литературной ситуации. Если за год до того достаточно было нового звучания, чтобы завоевать симпатии критиков, то теперь, в 1912 году, «новизна» перестала быть редким товаром. Уже год с лишним под лозунгами «новизны» и «современности» шло формирование новых литературных лагерей со своей кружковой идеологией и политикой. То, что недавно казалось новым, но не вписалось в новую литературную реальность, теряло привлекательность. Цветаева эти изменения в литературной атмосфере интуитивно почувствовала, хотя и несколько упрощенно интерпретировала механизм их влияния на позицию критики по отношению к своему новому сборнику: «Интересно, что меня ругали пока только Городецкий и Гумилев, оба участники какого‐то цеха. Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду» (СИП, 140), – такова была ее первая реакция на появившиеся критические отзывы. В действительности, будь она «в цехе», она бы не выпускала сборника в издательстве «Оле-Лукойе», не включала бы в сборник такого количества стихотворений, – и Городецкий и Гумилев, конечно, не ругали бы ее.
Отношения с «цехами», т. е. с литературными группами, у Цветаевой и вправду складывались непросто. С одной стороны, она регулярно посещала кружок литературной молодежи, группировавшийся вокруг издательства «Мусагет», а также Общество свободной эстетики; участвовала в литературном конкурсе последнего, на котором получила первый приз70; стремительно расширяла круг своих литературных знакомств, что делало ее имя все более известным. С другой стороны, психологически она не была готова к «кружковой» литературной жизни и не случайно впоследствии описывала свои литературные знакомства первой половины 1910‐х годов как «встречи с поэтами (Эллисом, Максом Волошиным, О. Мандельштамом, Тихоном Чурилиным) не – поэта, а – человека, и еще больше – женщины: женщины, безумно любящей стихи» (СТ, 436). При том что в этой ремарке 1931 года было известное преувеличение (ее «встречи с поэтами» в этот период невозможно свести лишь к серии романтических увлечений), она довольно точно фиксировала неразличение личных и литературных отношений как элемент поведенческой установки, характерный для Цветаевой в этот период.
Чувство дискомфорта, которое сопутствовало вхождению Цветаевой в литературную среду, она обратила на страницах «Волшебного фонаря» в пародию на эту среду, отнюдь не безобидную, хотя поэтически малоудачную. Таково стихотворение «Эстеты» из «Волшебного фонаря»:
Наши встречи, – только ими дышим все мы,
Их предчувствие лелея в каждом миге, —
Вы узнаете, разрезав наши книги.
Всё, что любим мы и верим – только темы.
Сновидения друг другу подарив, мы
Расстаемся, в жажде новых сновидений,
Для себя и для другого – только тени,
Для читающих об этом – только рифмы.
Иронизируя здесь над посетителями Общества свободной эстетики (а быть может, и кружка «Мусагета»), Цветаева, как и в стихотворении «В. Я. Брюсову» («Улыбнись в мое окно…»), пародировала ни о чем ей не говоривший металитературный «жаргон» модернистского круга, подчеркнуто мистический или подчеркнуто технический – все равно. Подоплека этой иронии была весьма серьезна: Цветаева ощущала собственную чуждость тому сообществу, в которое привела ее судьба, собственную неспособность разделить интересы этого сообщества. О своих переживаниях она вспоминала почти четверть века спустя в очерке «Пленный дух» (1934): «На лекциях “Мусагета”, честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала <…>. Только слышала: гносеология и гностика, значения которых не понимала и, отвращенная носовым звучанием которых, никогда не спросила» (СС4, 228).
Однако полемика и ирония были направлены на страницах «Волшебного фонаря» не только вовне – в адрес Брюсова, «эстетов» или «литературных прокуроров». Автоиронический регистр в стихах сборника также присутствовал, и связан он был с отстраненным обыгрыванием отроческих романтических тем и переживаний. Характерным для этой линии было стихотворение «Гимназистка»:
Я сегодня всю ночь не усну
От волшебного майского гула!
Я тихонько чулки натянула
И скользнула к окну.
Я – мятежница с вихрем в крови,
Признаю только холод и страсть я.
Я читала Буржэ: нету счастья
Вне любви!
«Он» отвержен с двенадцати лет,
Только Листа играет и Грига,
Он умен и начитан, как книга,
И поэт!
За один его пламенный взгляд
На колени готова упасть я!
Но родители нашего счастья
Не хотят…
В сущности, это завуалированный иронический автопортрет, – ретроспективный, разумеется. Но это и невольное признание окончания определенной жизненной и творческой эпохи, окончания, чреватого неожиданными поворотами. Ближайшим из них оказывается серьезный творческий кризис.
В 1912 году поток стихов почти замирает: известны лишь два стихотворения, датированных этим годом71. Свою роль здесь сыграли обстоятельства личной жизни. Венчание в конце января с Сергеем Эфроном, свадебное путешествие за границу, в сентябре рождение дочери Ариадны (Али), хлопоты по устройству своего дома в Москве – все это совершенно изменило прежний уклад жизни Цветаевой, заполнив повседневность небывалым количеством внешних событий, а душевную жизнь острым переживанием обретенного счастья. Лирический источник, питавший ее отроческий «дневник», был исчерпан по существу.
Однако творческие планы Цветаевой какое‐то время по‐прежнему вращались вокруг уже сложившегося литературного амплуа. К 1912 году относится замысел ее третьей книги стихов – «Мария Башкирцева». Это подтверждает сохраняющуюся актуальность для Цветаевой примера той, кто вдохновил ее на первые литературные шаги и на чей авторитет она опиралась, пытаясь объяснить публике свою собственную литературную программу. Книга стихов «Мария Башкирцева» указана как готовящаяся к печати на рекламном листе издательства «Оле-Лукойе» в сборнике Цветаевой «Из двух книг», вышедшем в начале 1913 года. О сохранившемся у нее намерении издавать эту книгу Цветаева упоминает и в письме к В. В. Розанову от 7 марта 1914 года: «Осенью думаю издать книгу стихов о Марии Башкирцевой и другую, со стихами двух последних лет» (СС6, 120). Тем более загадочным остается тот факт, что никаких следов, за исключением одного стихотворения, от этого замысла Цветаевой не осталось. Если предположить здесь утрату какого‐то корпуса стихов, то утрату едва ли случайную. Возможно, творческий кризис сказался именно в том, что Цветаевой так и не удалось довести до устраивавшей ее формы целый ряд стихотворений, и она намеренно их не сохранила. Подтверждением этой гипотезы можно считать место, отведенное Цветаевой единственному известному стихотворению, которое можно отнести к этому несостоявшемуся замыслу, – «Он приблизился, крылатый…» (первоначальное название «Смертный час Марии Башкирцевой»72). Готовя в 1920 году к печати сборник «Юношеские стихи», включавший стихотворения 1913–1915 годов, Цветаева решила открыть его именно этим стихотворением 1912 года. Помещено оно было перед первым разделом сборника и, в отличие от остальных стихов, датированных конкретным числом или хотя бы месяцем, имело более уклончивую датировку: «Москва, 1912 г.». Такая форма датировки придавала стихотворению дополнительный смысл: оно выступало как «заместитель» целого этапа творчества, приходящегося на 1912 год, свидетельство о котором Цветаева стремилась сохранить, но опыт которого она, по‐видимому, сочла творческой неудачей.
Если поэтическое приношение Башкирцевой и не удалось Цветаевой, то ее творческая программа внутренне оставалась по‐прежнему «башкирцевской». Год малопродуктивных или не удовлетворивших ее поэтических опытов Цветаева завершила составлением своего «избранного» – сборника «Из двух книг» (1913). Этот сборник она предварила предисловием, эпиграфом к которому поставила заключительную строфу стихотворения «Литературным прокурорам». Тем самым Цветаева подтверждала, что заявленная в стихотворении программа для нее по‐прежнему актуальна, и устанавливала связь между прежней, поэтической, и новой, прозаической, декларацией:
Все это было. Мои стихи – дневник, моя поэзия – поэзия собственных имен.
Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым:
Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! Но не только жест – и форму руки, его кинувшей; не только вздох – и вырез губ, с которых он, легкий, слетел.
<…>
Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, – все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души (СС5, 230).
Очевидно, что в начале 1913 года, когда писалось это предисловие, творческая программа Цветаевой по‐прежнему оставалась «по ту сторону» понятия об эстетической программе. Даже если призыв ко всем «писать больше» посчитать всего лишь риторическим приемом, то отсутствие в предисловии указаний на идейные или эстетические параметры программы «всеобщего многописания» делает проблематичным сопоставление этой цветаевской декларации с близкими по времени программными заявлениями ее литературных сверстников. Коннотации цветаевского предисловия с салонно-дилетантской словесностью куда очевиднее, хотя последняя своих «программных» установок обычно не декларировала. Можно было бы посчитать имеющим отношение к эстетической программе тот комплекс тем и образов, которые Цветаева советует разрабатывать всем пишущим. Но в действительности этот перечень скорее раскрывает авторское понимание «дневника», нежели предлагает ориентиры в области поэтики. Неудивительно после этого, что, посылая в 1914 году сборник «Из двух книг» Василию Розанову, Цветаева могла дать ему такой совет: «Не знаю, любите ли Вы стихи? Если нет – читайте только содержание» (СС6, 119).
Лишь одно обстоятельство позволяет говорить о сборнике «Из двух книг» не только как о еще одной манифестации прежней позиции, но и как о косвенном свидетельстве приближающихся творческих перемен. Составляя сборник, Цветаева впервые произвела отбор, причем очень тщательный, стихов для него. Из двухсот тридцати пяти стихотворений, вошедших в первые два сборника, она отобрала лишь сорок и добавила к ним одно новое – «В. Я. Брюсову» («Я забыла, что сердце в вас – только ночник…»). Таким образом, состав сборника находился в очевидном противоречии с текстом предисловия к нему, декларировавшим программу «многописания», дневниковой полноты.
В письме к Розанову в 1914 году Цветаева назвала «Из двух книг» «книжкой [своих] любимых стихов» (СС6, 119), подчеркнув пристрастность произведенного отбора. Если вспомнить, что отбор этот производился в 1912 году, на фоне затянувшегося творческого кризиса, то психологически понятен итоговый смысл, который вкладывался Цветаевой в этот сборник. Он был итогом, в том числе, и этого творчески неблагополучного года, завершением определенного жизненного и творческого этапа. Предисловие к сборнику, написанное в момент «поэтического безвременья», невольно основывалось на прошлом творческом опыте и более походило на послесловие к двум предшествующим книгам стихов. Творческий же итог состоял в выделении из массы написанного и опубликованного небольшого корпуса стихотворений, могущих представлять поэтическое, а не собственно биографическое «я» автора. Соединившись под одной обложкой, предисловие и поэтическое «избранное» подводили двоякий итог пройденному пути: первое давало толкование творческому пафосу, руководившему автором на этом этапе, второе очерчивало круг произведений, достойных, по его мнению, представлять этот творческий этап.
Выход сборника «Из двух книг» практически совпал по времени с преодолением творческого кризиса: с весны 1913 года поток стихов вновь стал увеличиваться. Однако косвенные последствия кризиса 1912 года оказались более долговременными. Он, по‐видимому, только усилил сомнения Цветаевой в своей уместности в литературном сообществе: ее попытки заявить свою творческую программу оставались незамеченными, а наивные полемические отклики на литературную ситуацию говорили лишь о неготовности к полемике. С другой стороны, психологически Цветаева не чувствовала себя зависимой от литературного круга. Сделав первый шаг в литературе без чьей‐либо помощи, на свой страх и риск, она, по‐видимому, относила и успех, выпавший на долю ее первого сборника, исключительно на свой счет, не вникая в особенности литературной ситуации, этому успеху способствовавшей. Так или иначе – ибо в следующей главе мы посмотрим на литературное поведение Цветаевой с другой точки зрения, – преодоление творческого кризиса весной 1913 года не вызвало у Цветаевой стремления укрепить свои позиции в литературном мире, а, наоборот, возвратило ее к тому исходному положению относительного безразличия к литературной жизни, с которого она начинала осенью 1910 года.
После выхода сборника «Из двух книг» «печатная» карьера Цветаевой нарушилась почти на десятилетие: в периодике она печаталась мало, сборников ее до 1921 года больше не выходило. Ближайшим следствием такого литературного отшельничества стал разрыв между творческим развитием и текущей репутацией Цветаевой, застывшей на хронологической отметке 1912 года. И в 1915 году критика все еще подводила итог давно завершившемуся этапу ее творчества: «М. Цветаева очертила себе мирок детских впечатлений и снов; в этих пределах поэтесса свежа, наивна, искренна; ее шаги – робкие, первые; будущее определит поэтические проявления этой даровитой поэтессы»73.
(1913–1916)
Толковать перерыв в литературной (точнее – печатной) карьере Цветаевой как заранее продуманный ею шаг нет никаких оснований. Однако нельзя считать его и следствием цепочки случайностей, фатально препятствовавших изданию ее новых сборников. В происходившем была своя логика, понимание которой существенно для интерпретации культурной личности Цветаевой.
С одной стороны, круг ее литературных знакомств в 1910‐е годы постоянно расширялся; Цветаева охотно делилась с этим кругом своими новыми стихами; никаких, даже косвенных, свидетельств о том, чтобы она хоть на секунду предполагала бросит писать, нет; интенсивность ее поэтического творчества все эти годы только росла. С другой стороны, возникавшие литературные знакомства Цветаева была более склонна развивать как лично-дружеские, и ее деловые контакты с литературной средой были минимальными; она даже условно не примкнула ни к какой литературной группе; в результате в тот период, когда ее поколение активно завоевывало литературные подмостки, она осталась на обочине этого процесса. Правда, литературное поведение Цветаевой в это десятилетие не было однородным: отдаление от текущей литературной жизни, которым были отмечены первые несколько лет, уже к 1916 году сменилось пробуждением нового интереса к ней. Однако решительные шаги к укреплению своей позиции в литературе Цветаева сделала лишь в первые послереволюционные годы, а реальный эффект от этих шагов из‐за издательского кризиса того времени стал ощутим лишь спустя несколько лет.
В зрелые годы Цветаева не раз пыталась осмыслить свой «уход из литературы» в 1910‐е годы. Также как и особенности своего литературного дебюта, она описывала собственную позицию этих лет через противоположение себя-«нелитератора» другим-«литераторам». В наиболее развернутой записи на эту тему, относящейся к 1931 году, свою «выключенность из литер<атурного> круга» в 1910‐е годы Цветаева называла «самовольной, а отчасти не-вольной», а среди обстоятельств, ей способствовавших, отмечала «раннее замужество с не-литератором», «раннее и страстное материнство», «рожденное отвращение ко всякой кружковщине» и «ненависть к стихам в журналах» (СТ, 436). На первый взгляд, этот перечень кажется случайным или, во всяком случае, лишенным общего знаменателя. Он будет выглядеть иначе, если взглянуть на линию поведения, избранную Цветаевой в начале 1910‐х годов, не только как на специфический тип литературного поведения, но как на тип социального поведения вообще.
Закончив седьмой класс гимназии в 1910 году и отказавшись от продолжения образования в восьмом (педагогическом) классе или на Высших женских курсах, Цветаева до некоторой степени обозначила рамки своего социального самоопределения: перспектива вступления на какое‐либо профессиональное поприще ее не интересовала. Между тем для женщины ее класса74, воспитания и состояния мысль о профессии и карьере, а тем более – о дальнейшем образовании не была в эти годы чем‐то из ряда вон выходящим. Более того, у нее перед глазами был пример старшей сестры Валерии, дочери отца от первого брака: та окончила Высшие женские курсы и работала учительницей в провинции, порвав со стилем жизни своего сословия и увлекшись левыми политическими идеями. Общеевропейские идеи феминизма, в России прочно соединившиеся с лево-народническими и социалистическими75, никак не могли пройти мимо сознания Цветаевой, о чем косвенно свидетельствуют и ее позднейшие высказывания. Более того, еще совсем недавно мечтавшая о «революционной борьбе», Цветаева, казалось бы, легко могла пойти по стопам своей сводной сестры.
Был, однако, и другой вариант. Социальный радикализм в общем не являлся необходимым спутником женской эмансипации: получение женщинами высшего образования, профессии, а с ними и нового социального статуса вполне укладывалось в начале ХХ века в рамки общелиберальной программы. Женщины-дворянки, если только они не происходили из обедневших, фактически деклассированных семей, отнюдь не первенствовали в освоении новых социальных ролей; однако и для них посещение Высших женских курсов и профессионализация уже не были большой редкостью в это время.
Таким образом, выбор у Цветаевой был, и распорядилась она им, возможно, и не вполне сознательно, но очень определенно. Унаследовав после ранней смерти матери значительное состояние, Цветаева не нуждалась в профессии материально и в своем спонтанном социальном самоопределении исходила именно из этого. Из возможных типов поведения женщины-дворянки, имеющей достаточные средства к существованию, она избрала самый традиционный – приняла как естественный для себя круг домашней, частной жизни. Внутренняя конфликность такого выбора для Цветаевой выяснялась постепенно, проявляя себя поначалу в отклонениях от поведенческих норм, предписываемых избранной социальной идентичностью76. Тем не менее относительная психологическая комфортность этой социальной идентичности долгие годы перевешивала внутреннюю конфликтность, заложенную в ней.
Следствием такого социального самоопределения юной Цветаевой было отсутствие в ее сознании связи между поэтическим творчеством, ставшим с детства привычной частью ее жизни, и идеей профессиональной литературной карьеры как формы существования пишущего человека в обществе. Подчеркнуто частная, «домашняя», тематика ее стихов, так поразившая современников, была сопряжена с местом, которое отводилось творчеству в жизни Цветаевой. Оно принадлежало сфере частной жизни и, хотя позволяло делать частное достоянием публичности, не воспринималось автором как средство создания и поддержания публичной репутации, автономной по отношению к частной жизни, – того, что лежит в основе любой профессиональной карьеры. Именно потому замужество и материнство могли представляться Цветаевой естественным объяснением ослабления ее интереса к литературной жизни в начале 1910‐х годов: то огромное место, которое стихи занимали в ее жизни прежде, должно было закономерно уменьшиться с расширением круга иных обязанностей и ролей. Отделяй Цветаева тогда свое профессиональное «я» от частного, новые обстоятельства ее жизни обострили бы именно профессиональное самосознание, которому потребовалась бы «защита». Но этого в начале 1910‐х годов не произошло: Цветаева не собиралась отказываться от творчества, но не видела причины заботиться о чем‐то, на ее взгляд, творчеству постороннем: о поддержании своей литературной репутации – через регулярные публикации, регулярное участие в литературных салонах, ассоциированность с какой‐либо литературной группой. Скорее всего, она вообще не представляла себе механизмов, слагающих и разрушающих репутации, но если и начинала догадываться об их существовании, то относилась к ним с высокомерием человека, не интересовавшегося прагматикой профессионального самоутверждения.
Именно здесь следует искать истоки ее неприязни ко «всякой кружковщине» и «стихам в журналах». Тому, что Цветаева называет «кружковщиной», т. е. групповым объединениям литераторов, принадлежит важная институциональная функция в литературном процессе: они создают горизонтальные связи в литературном сообществе и выдвигают лидеров в профессиональной иерархии, иными словами, обслуживают интересы тех, кто определяет себя как литераторов. В свою очередь, «стихи в журналах» как одна из форм бытования литературы олицетворяют важное свойство литературного процесса – изымать тексты из их первичного, ведомого лишь автору, контекста и помещать их в новый контекст, почти не подконтрольный автору и до известной степени случайный. И то и другое выводит творчество (т. е. его продукты) из сферы частной жизни, и именно этому Цветаева инстинктивно сопротивляется. Фраза 1931 года о «рожденном отвращении ко всякой кружковщине» (курсив наш. – И. Ш.), не только метафорически подчеркивет глубину неприязни Цветаевой к данному институту литературной жизни, но и буквально отсылает к истоку этой неприязни – по рождению доставшемуся социальному статусу, не включающему профессию в число основных жизненных установок.
Действительно, позиция Цветаевой не была бы чем‐то из ряда вон выходящим еще два десятилетия назад: в России XIX века женщине-дворянке, пишущей стихи или прозу, было естественно не рассматривать это занятие как профессию. Однако ситуация начала довольно быстро меняться еще с 1880‐х годов, когда литература (включая журналистику) сделалась в России одной из самых открытых для женщин областей профессионализации77. Именно в нее и устремилось значительное число женщин, имевших необходимое для литературного труда образование и нуждавшихся в профессии материально. В результате к началу ХХ века в литературной среде сформировалось устойчивое ожидание, что женщина, однажды заявившая о себе в печати, воспринимает этот свой шаг как выбор профессии и будет всеми силами стараться закрепиться в ней. Даже те из женщин, кто материальной необходимости в профессии не имел, довольно быстро осваивались с общим стилем профессионального поведения. Различия между мужским и женским поведением в профессии быстро стирались: в конечном счете, целью тех и других было общественное признание, репутация и часто – заработок.
Таким образом, необычность позиции по отношению к литературе как институту, которую заняла в начале 1910‐х годов Цветаева, состояла лишь в ее архаичности. Это была позиция женщины-дворянки, серьезно относящейся к своим творческим опытам, но не считающей их основой для профессионального самоопределения. Разумеется, Цветаева выбирала свою линию поведения интуитивно и не воспринимала ее ни как вызывающую, ни как архаичную. Однако для характеристики ее культурной личности важно, что комфортной для нее оказалась позиция, по существу противоположная той, что стимулировалась тогдашним социо-культурным контекстом.
Избрав такую позицию, Цветаева вступила в игру, дальние последствия которой были трудно предсказуемы, а ближайшие результаты – разрушительны для ее текущей репутации. Некоторое время критика продолжала по инерции упоминать ее имя в разборах современной поэзии, закрепляя за ней то место, на котором ее давно уже не было. Стихи Цветаевой из первых двух сборников попали в ряд антологий первой половины – середины 1910‐х годов. Однако новые имена, стремительно заполнявшие литературную сцену в этот период, вытесняли имя Цветаевой на периферию.
Между тем ее знакомства в литературной среде умножались. Это и были те «встречи с поэтами <…> не – поэта, а – человека, и еще больше – женщины: женщины, безумно любящей стихи» (СТ, 436), о которых она вспоминала впоследствии. Свое амплуа в этих встречах Цветаева с иронией описывала спустя годы: «Я была НЯНЬКОЙ при поэтах – совсем не поэтом – и не Музой! – молодой (иногда трагической!) нянькой. – Вот. – С поэтами я всегда забывала, что я – поэт. А они, можно сказать – и не подозревали» (СТ, 118). Гиперболизация собственного «не-поэтического» амплуа лишь оттеняла в этом описании меру отрефлектированности былого различия между поведенческими установками тех, кого Цветаева называет здесь «поэтами», – и ее собственными. Иронический сарказм, с которым Цветаева будет рисовать в начале 1920‐х годов обобщенный портрет своих литературных знакомых 1910‐х годов, объясняется тем, что тема собственного несовпадения с «нормой» станет для нее в ретроспективе очень чувствительной:
Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи или (реже) писавшие прекрасные стихи. – И всё. – Каторжного клейма поэта я ни на одном не видела: это жжет за версту! Ярлыков стихотворца видала много – и разных: это, впрочем, легко спадает, при первом дуновении быта. Они жили и писали стихи (врозь) – вне наваждения, вне расточения, копя все в строчки – не только жили: наживались. И достаточно нажившись, разрешали себе стих: маленькую прогулку ins Jenseits78. Они были хуже не-поэтов, ибо зная, чтó им стихи стоют (месяцы и месяцы воздержания, скряжничества, небытия!), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопреклонения, памятников зáживо. И у меня никогда не было соблазна им отказать: галантно кадила – и отходила. <…>
И – забавно – видя, как они их пишут (стихи), я начинала считать их – гениями, а себя, если не ничтожеством – то: причудником пера, чуть ли не проказником. «Да разве я поэт? Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, плáчу, наряжаюсь – и пишу стихи. Вот Мандельштам, напр<имер>, вот Чурилин, напр<имер> – поэты». Такое отношение заражало: оттого мне все сходило – и никто со мной не считался, оттого у меня с 1912 г. (мне было 18 лет79) по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях – не менее пяти. Оттого я есмь и буду без имени (письмо к Б. Пастернаку от 10 февраля 1923 года; МЦБП, 33–34).
Собственная былая идентичность описывается здесь Цветаевой через метафору «причудника пера», для которого творчество – естественная и непосредственная часть жизни, не имеющая особого иерархического статуса в индивидуальном бытии человека. Грани между своим частным существованием и творчеством, выносимым на суд публики, «причудник пера» провести не в состоянии. У «других» («поэтов», «гениев») все иначе: они живут и пишут «врозь» и при этом готовы всячески ограничивать себя в «жизни» ради творческих свершений, отказывать себе в полноте жизненных переживаний ради «строчек». Различие между моделями идентичности литературного дилетанта и литературного профессионала Цветаева описывает здесь достаточно точно, хотя называет эту разницу иначе. Сама же актуальность для Цветаевой темы своего былого отличия от «других» – следствие произошедшего к 1923 году переосмысления оснований своей поведенческой установки более раннего периода. Впоследствии она будет говорить именно об «отсутствии в [ней] литератора (этой общественной функции поэта)» (СС7, 383) как о первопричине своего литературного отшельничества в 1910‐е годы. Изменит поведенческую стратегию Цветаевой только революция, и об этом пойдет речь уже в следующей главе.
В 1916 году Владислав Ходасевич писал: «В последние годы целый ряд появившихся даровитых поэтесс заставил о себе говорить. <…> Так называемая “поэзия женской души” привлекла общее внимание любителей поэзии. Специфическая “женскость” стихов стала оцениваться много выше, чем до сих пор оценивалась»80. Бурный интерес критики и вообще литературного сообщества к женскому поэтическому творчеству действительно стал одной из ярких примет русской культурной истории 1910‐х годов, – так что дебют Цветаевой еще и в этом отношении пришелся на благоприятный момент. Cущественно при этом не само по себе количество появившихся в эти годы женщин-поэтов81, но степень внимания критики к ним и их творчеству. Именно благодаря последней можно говорить о качественном, идеологически освященном феномене «женской поэзии», не «беззаконной кометой» ворвавшейся на русскую литературную сцену, но в значительной мере вызванной к жизни внутренней логикой развития литературного модернизма в России.
Разумеется, и распространение политического феминизма, и стремительное увеличение числа женщин, занятых в разных профессиях (в том числе и в литературе), и продолжавшаяся уже несколько десятилетий общественная дискуссия о «положении женщины» вообще – все это было следствием эволюции социально-экономической ситуации в России (как и на Западе), способствовавшей более активному вовлечению женщин в экономическую и все прочие сферы общественной жизни82. Однако разные следствия этой общей причины имели разную динамику развития, которую определяли уже более частные факторы. О таких частных факторах, сформировавших культурный конструкт «женской поэзии» в русском модернизме, и пойдет речь.
Именно в контексте разговора о «женской поэзии» первый сборник Цветаевой был представлен публике в первой рецензии на него, написанной М. Волошиным. В обширной преамбуле, предварявшей разговор о «Вечернем альбоме», критик отметил резкую перемену, произошедшую в самое недавнее время в творчестве женщин-поэтов. Прежде «как бы скрывавшие свою женственность», «предпочитавшие в стихах мужской костюм, и писавшие про себя в мужском роде»83, поэтессы неожиданно переменили не только грамматический род, но и манеру презентации себя в стихах.
В поисках причин замеченной им метаморфозы франкофил Волошин обращался к аналогии с современной французской словесностью. Он указывал на «загадочный и пышный расцвет женской поэзии во Франции» в последнее десятилетие, т. е. в поколении поэтов, которое «пришло после символистов». Волошин отмечал, что «в некоторых отношениях эта женская лирика интереснее мужской», что «она менее обременена идеями, но более глубока», ибо «женщина глубже и подробнее чувствует самоё себя, чем мужчина, и это сказывается в ее поэзии»84. Далее он переходил к текущей литературной ситуации в России:
В русской литературе мы можем наблюдать почти параллельное течение. Последние годы, которые были сравнительно бедны появлением новых поэтов, принесли нам стихи Любовь Столицы, Аделаиды Герцык, Маргариты Сабашниковой, про которые Бальмонт писал, что они – эти стихи – единственное, что есть интересного в русской поэзии. В «Аполлоне» за этот год были напечатаны два цикла стихотворений такой интересной поэтессы, как Черубина‐де-Габриак, и только что вышла книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом»85.
Параллель между русской и французской литературой вероятно призвана была подчеркнуть объективный характер описываемого явления. Когда же Волошин переходил к анализу причин успеха женского поэтического творчества в современную эпоху, на передний план в его рассуждении выходили культурно-мифологические представления, трактовавшие взаимоотношение пола и творчества и имевшие вполне определенный источник:
Но что же может ожидать этот двойной и параллельный расцвет женской лирики в России и во Франции? И там и у нас он наступил после творческой полосы, посвященной разработке, утончению и освобождению поэтической речи.
Женщина сама не творит языка, и поэтому в те эпохи, когда идет творчество элементов речи, она безмолвствует. Но когда язык создан, она может выразить на нем и найти слова для оттенков менее уловимых, чем способен на это мужчина. Женская лирика глубже. Но она менее индивидуальна. Это гораздо больше лирика рода, а не лирика личности. Значительность поэзии названных мною поэтесс придает то, что каждая из них говорит не только за самое себя, но и за великое множество женщин, каждая является голосом одного из подводных течений, одухотворяющих стихию женского, голосом женственной глубины. Этой силы подводных глубин не было у поэтесс предшествующего поколения, примкнувших к мужской, аналитической лирике, например, у Зинаиды Гиппиус86.
Характеристики, которые Волошин клал в основу противоположения поэзии женской и мужской, свидетельствовали о творческой переработке им идей Отто Вейнингера87, книга которого «Пол и характер» стала интеллектуальным бестселлером в России в конце 1900‐х – начале 1910‐х годов88. В своем исследовании Вейнингер постулировал закрытость области творчества для женщины, ибо у нее нет личности, нет дифференцированного «я», и ее способности целиком определяются целями родового воспроизводства89. Волошин, опираясь на предложенные Вейнингером категории «личности» (мужское начало) и «рода» (женское начало), предлагал, однако, совершенно иное ви´дение проблемы: женское начало дополняет творческую сферу культуры, ибо вносит в нее то, чего не может ей дать мужское начало. «Значительность» лирики женщин-поэтов он напрямую увязывал с воплощением в ней «родового» начала90.
Мифологизируя на свой лад литературную ситуацию, Волошин не связал, однако, ту грань, которая пролегла между старшим и младшим поколением женщин-поэтов в России с обстоятельствами более специфичными, чем завершение периода «разработки стиха и поэтической речи». Между тем самый пафос Волошина, пафос отношения к женскому началу как к источнику особых творческих возможностей и как к проводнику уникальных, без него культуре не ведомых духовных веяний, – весь этот пафос еще совсем недавно был невозможен в устах русского литератора. Возможным и актуальным сделало его предшествующее десятилетие, когда усилиями небольшой группы молодых поэтов-символистов мистико-философское учение Владимира Соловьева о Вечной Женственности было превращено в один из центральных мифов русского модернизма. С одной стороны, понимавшие «женственность» как мистико-философскую категорию, а с другой – искавшие воплощения этой категории в земном облике, символисты-соловьевцы способствовали формированию в 1900‐е годы атмосферы ожидания последних откровений, которые должны были прийти в современную жизнь через женское начало91. Даже последующее трагическое «изменение облика» небесной «жены», вдруг представавшей у Блока ресторанной Незнакомкой, уже не убивало, а развивало миф, обогащая арсенал поэтических масок будущих поэтесс.
Символисты-соловьевцы были не одиноки. Со своих позиций, но с не меньшим пафосом, рассуждал о существенности «женского вопроса» для современной жизни ведущий теоретик символизма Вяч. Иванов: «“Женский вопрос”, в его истинном смысле, ставит нас лицом к лицу не только с запросами общественной справедливости, но и с исканиями мировой, вселенской правды»92. Интеллектуальный контекст этих исканий не был исключительно (и даже по преимуществу) мистическим. Зарождение современной психологии и устойчиво развивавшийся на этой волне с конца XIX века интерес к «проблемам пола» создавали серьезное подспорье в том перевороте, который происходил в умах художественно-интеллектуальной элиты. Показательно, что и книга Вейнингера, суммировавшая представления современной медицины и предлагавшая им авторскую философскую интерпретацию, никак не остановила волны интереса к женскому творчеству, а быть может – и усилила этот интерес93. Женское творчество делалось модной темой критических дискуссий, что создавало почву для формирования особой идентичности женщины-художника, более не копирующей мужскую идентичность (на это и обратил внимание Волошин). К 1910 году перемены литературного ландшафта кристаллизовались, а то что центром дискуссии стала именно женская поэзия, объяснялось центральной ролью поэзии вообще в литературе модернизма в тот период.
Грань между двумя поколениями женщин-поэтов, о которой размышлял Волошин, пролегла именно здесь. Старшие, вступавшие в литературу до того, как символистско-соловьевская утопия и дискурс о «проблемах пола» вполне оформились, пользуясь словами Волошина, «предпочитали в стихах мужской костюм». По отношению к ним никто о «женской поэзии» и не говорил (хотя существование женщин-поэтов, конечно, отмечали и раньше), и лишь постфактум, в 1910‐е годы, они были причислены к этой парадигме. Младшее же поколение женщин-поэтов, то, что начало свой литературный путь во второй половине 1900‐х годов или позднее, стало истинным «литературным героем» эпохи. Термины «старшее» и «младшее» здесь до известной степени условны. Появление новой ниши под названием «женская поэзия» открыло путь в литературу ряду поэтесс, которые прежде не видели в ней для себя места и потому публиковаться не спешили.
Ничто так не способствовало оформлению новой ниши, как бурные дебаты в критике. Термин «женская поэзия», однажды введенный в оборот, быстро формировал и у читающего и у пишущей представление о то ли необходимом, то ли неизбежном единстве, которое должно было отмечать все, подпадавшее под данную рубрику. Соответственно, индивидуальное было обречено читаться как родовое, более того – могло уже и писаться как таковое. Но в этом и виделось достоинство «женской поэзии». Волошин не случайно полагал преимущество «женской поэзии» в том, что это в значительной мере «лирика рода, а не личности». Кризис индивидуализма, ставший частью общего мироощущения рубежа десятилетий, стимулировал именно такую интерпретацию. Ибо если от женского начала ждали открытия новых истин и путей, то ни от чего так не хотелось уйти модернисту начала 1910‐х годов, как от своего обреченно-одинокого предстояния перед лицом Вечности. В пишущей женщине, таким образом, персонифицировалась вера в то, что трагический индивидуализм современного человека преодолим.
Надежды, связывавшиеся с «женской поэзией», были утопически-неопределенными. Прежде всего от нее ждали ощутимой непохожести на поэзию мужскую, а поскольку практически вся русская поэтическая традиция была именно мужской, то сами параметры этой непохожести формулировались критикой лишь дедуктивно, на основании конкретных примеров. Для критики, стремившейся поймать в фокус специфику «женской поэзии», стихи Цветаевой как раз и оказывались одним из таких примеров. Рецензент «Волшебного фонаря» писал, например:
Стихи г-жи Цветаевой очень женские стихи. Не «дамские», к счастью, а именно женские. Лучше всего ей удаются темы интимной жизни, сцены детства, воспоминания о далеких днях <…>.
Ну, конечно, это не мировые темы. Но право же это лучше, чем хлопать мироздание по плечу и амикошонствовать с вечностью, как большинство наших «новых» поэтов94.
Усталость от «мировых тем», а точнее от комплекса философских и мистических настроений, нашедших выражение в символистской поэзии 1890–1900‐х годов, оказывалась одной из важных составляющих интереса к возможностям «женской поэзии». Символизм, частью своей идеологии проложивший дорогу женскому творчеству и ожидавший от женского начала вовсе не откровений о частной жизни, дождался увидеть в «женской поэзии» лишь одно из своих неблагодарных, «родства не помнящих» детищ.
Если ведущая роль в привитии модернизму соловьевского мифа о Вечной Женственности принадлежала литераторам-мужчинам, то и «идеологическое обеспечение» существования «женской поэзии» в 1910‐е годы оставалось в основном за ними. При этом авансы, делавшиеся женскому творчеству, были действительно впечатляющими. Критик П. Перцов писал, например:
За последнее время от наших поэтесс ждешь и находишь как‐то больше, чем от поэтов. Наступил какой‐то «суфражизм» в русской поэзии. Или, в самом деле, близится возобновленное после тысячелетий «господство женщин»? Ведь никогда сильный пол так не пасовал перед слабым, как в наш «декадентский» век?95
Дело не ограничивалось одними восторгами перед заговорившими «незнакомками». Мужчины-литераторы активно занимались формированием новой идентичности, культурной личности женщины-поэтессы. Самым знаменитым экспериментом в этом роде была мистификация Черубины‐де-Габриак, срежиссированная М. Волошиным. Она показала, насколько силен был в текущей литературной ситуации голод на загадочных «незнакомок», голод, для утоления которого неординарность личности была куда важнее оригинальности создаваемых ею текстов. Своим путем пошел В. Брюсов, решивший выступить в роли поэтессы и обогатить арсенал своих поэтических стилизаций опытом в области «женской поэзии». Его «Стихи Нелли» (1913) стали, прежде всего, индикатором престижа, который женский поэтический голос получил в текущей словесности. Брюсов сделал и нечто еще более важное: дал русской «женской поэзии» ее историю, представление о своих корнях. Он подготовил и издал в 1915 году двухтомник Каролины Павловой, стремительный взлет литературной репутации которой был предопределен назревшей необходимостью заполнить «вакансию» родоначальницы «женской поэзии» в России.
Впрочем, было бы несправедливо утверждать, что апологетический тон составлял обязательную норму при обсуждении «женской поэзии». Сергей Городецкий, например, в статье с говорящим названием «Женское рукоделие» высказывал недоумение по поводу исповедания пишущими «прав женщины-поэта на какую‐то особенную поэзию»96. Н. Новинский (Ашукин), анализируя сборники А. Ахматовой, М. Цветаевой, Е. Кузминой-Караваевой, Л. Столицы, М. Шагинян и Н. Львовой, находил, что женская поэзия «даже о душе женщины не сказала ничего нового», и делал неутешительный вывод: «В общем современные поэтессы мало внесли в поэзию своего, нового. Они говорят о том же, о чем и другие поэты, может быть, иногда по‐женски лиричнее и мягче, иногда – по‐женски слабо и неумело»97. Однако погоду в текущей литературе делали иные мнения.
Отсутствие определенного канона, связываемого с «женской поэзией», в сочетании с ожиданиями неподчинения женского творчества канонам «мужской» поэзии, давало женщинам-поэтам большую свободу в выборе своего стиля, своей тематики, своего пути – свободу, которой было куда меньше у их собратьев-мужчин, строивших свое творческое самоопределение в напряженном диалоге с традицией. Впоследствии Цветаева могла язвительно иронизировать над делением поэзии на основе «принадлежности к мужескому или женскому полу» (СС4, 38), но в первой половине 1910‐х годов литературная ситуация, поставившая «женскую поэзию» в привилегированное положение, сыграла огромную раскрепощающую роль в ее творческом развитии.
Показательно, в частности, как быстро потеряли актуальность и исчезли из стихов Цветаевой мотивы связанных с полом ограничений и табу98. Автора «Вечернего альбома» эти темы тревожили, о чем свидетельствуют такие стихотворения, как «В Люксембургском саду» или «Rouge et Bleue». Цветаева чувствовала необходимость найти формулу примирения стереотипа «женского счастья» и плохо ему соответствующих ролевых образцов, важных для нее:
Я женщин люблю, что в бою не робели,
Умевших и шпагу держать, и копье, —
Но знаю, что только в плену колыбели
Обычное – женское – счастье мое!
Несправедливо, на наш взгляд, видеть в этом стихотворении, как это делает А. Динега, противоположение себя как творческой личности другим, обыкновенным, женщинам99. Цветаева здесь никому себя не противопоставляет. Она говорит пока о внутреннем конфликте, живущем в ней: знании о традиционном образе «женского счастья» и ощущении своей склонности к иным, не предусмотренным непосредственной традицией ролям.
В «Волшебном фонаре» этот конфликт уже изживается и переводится, как и другие серьезные темы «Вечернего альбома», в игровую плоскость. В таких стихотворениях, как «Только девочка» и особенно «Барабан», Цветаева ясно дает понять, что психологически сковывавшие ее прежде стереотипы «правильного» женского поведения над ней больше власти не имеют: «Женская доля меня не влечет: / Скуки боюсь, а не ран!» (СС1, 146). В «Юношеских стихах» и в «Верстах I» тема «ролевого конфликта», связанного с предписываемыми полом поведенческими стереотипами, уже не появляется.
Если мода на «женскую поэзию» явилась важным раскрепощающим фактором для творчества большинства женщин-поэтов 1910‐х годов, то в случае Цветаевой к нему добавился еще и другой: отсутствие установки занять определенное положение в текущей литературной жизни, быть профессионалом, связанным с внутрилитературной политикой. В результате эти годы стали для Цветаевой временем такой творческой свободы, которая редко выпадает на долю поэта в любую эпоху. Излишне говорить, что свобода эта была столько же даром, сколько и испытанием.
Стихотворение «Дикая воля» из «Волшебного фонаря» лучше прочих предсказывало направление, которое приняло творчество Цветаевой в 1913 году:
Я люблю такие игры,
Где надменны все и злы.
Чтоб врагами были тигры
И орлы!
Чтобы пел надменный голос:
«Гибель здесь, а там тюрьма!»
Чтобы ночь со мной боролась,
Ночь сама!
Я несусь, – за мною пасти,
Я смеюсь, – в руках аркан…
Чтобы рвал меня на части
Ураган!
Чтобы все враги – герои!
Чтоб войной кончался пир!
Чтобы в мире было двое:
Я и мир!
Концовка этого стихотворения отозвалась в 1929 году в очерке «Наталья Гончарова»: «История моих правд – вот детство. История моих ошибок – вот юношество. Обе ценны, первая как Бог и я, вторая как я и мир» (СС4, 80). «Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди» (СС4, 79), – варьировала Цветаева эту же мысль чуть выше. Хотя 1913–1915 годы, конечно, не являются в точном смысле слова юношеским периодом в жизни Цветаевой, именно «Юношескими стихами» назвала она впоследствии сборник этих лет, так и не вышедший при ее жизни100. Работая над очерком «Наталья Гончарова» в конце 1920‐х годов, Цветаева, скорее всего, проецировала свои слова не только на «юность» вообще, но и на тот период собственной творческой биографии, который отражен в этом сборнике.
Его название, впрочем, зафиксировало уже ретроспективную оценку этого творческого этапа. Сборник составлялся в первой половине 1920 года, и все пережитое в революционные годы делало период 1913–1915 годов психологически куда более далеким, чем об этом говорила фактическая хронология. Это ощущение огромности дистанции между собой тогда и теперь Цветаева, вероятно, и вложила в название сборника. Возрастной отпечаток, интонационный и тематический, лежавший на многих стихах этого периода, дополнился навсегда на них оттиснутой печатью иной эпохи, ставшей почти в одночасье невозвратно далекой, т. е. «юношеской».
«Юношеские стихи» представляют один из самых драматичных периодов не только человеческой, но именно литературной биографии Цветаевой. Если «Вечерний альбом», по замечанию Волошина, имел особую «документальную важность» как книга, «принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передать наблюдение и чувство»101, то «Юношеские стихи» – это сборник, в котором на глазах читателя разворачивается процесс поиска автором своего стиля, процесс сознательного отбора своего поэтического инструментария. Спонтанная «вне-литературность» установки Цветаевой (в описанном выше смысле) ослабляет ее рефлексию над такими категориями, как оригинальность, подражательность, тавтологичность. Это легко позволяет ей идти по пути самоповторений и «общих мест» текущей поэтической и интеллектуальной моды – до того момента, пока копившийся потенциал творческого прорыва не «взрывает» ее творческую манеру.
Внутренний сюжет «Юношеских стихов» предопределяется той исходной позицией, которую декларировал автор стихотворения «Дикая воля». Самоутверждение перед лицом мира переходит в стремление включить мир в свою орбиту; неподчинение мира, автономность его законов по отношению к воле отдельного человека образует ядро конфликта; признание власти над собой тех сил, о существовании которых прежде не подозревал, отмечает финал.
Если справедливо назвать время «Юношеских стихов» периодом «зрячей ошибки, иллюзии» в жизни автора, то источник ее – более эпохальный, чем личный. Цветаева вообще обнаруживает в стихах этих лет куда бóльшую, чем прежде, зависимость от интеллектуальных веяний времени. Сама «безудержность эгоцентризма»102, с которой начинает автор «Юношеских стихов», есть уже первая примета этой зависимости. В этом эгоцентризме воплощается один из характерных комплексов эпохи – романтическая тема состязания «сильной личности» с законами и обычаями мира, понятая через ницшеанский код. Связанный с ней мотив непримиримой противоположности смертного человека и вечного мира (из которой рождалась идея Ницше о необходимости «преодоления человека» и о «сверхчеловеке»), вдохновляет Цветаеву на многочисленные поэтические опыты. О духе «аристократического индивидуализма», «нашедшего самого крайнего и самого прекрасного выразителя в лице Фридриха Ницше»103, Цветаева должна была слышать от Эллиса еще раньше. Однако время для ее собственного «ницшеанства» наступило только теперь, в 1913 году.
«Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле» (СС5, 230), – именно этот мотив из предисловия к сборнику «Из двух книг» становится главенствующим в стихах 1913–1914 годов. Вокруг темы конечности жизни постоянно вращается теперь поэтическое воображение Цветаевой. Тема смерти как универсальная поэтическая тема присутствовала, конечно, и в ее первых сборниках. В них смерть воспевалась как благодать и начало новой жизни: «Смерть окончанье – лишь рассказа, / За гробом радость глубока» («Памяти Нины Джаваха»; СС1, 56). Несколько стихотворений «Вечернего альбома» были посвящены и теме самоубийства104 (в том числе, собственного), которое трактовалось как добровольный уход в лучшую жизнь из несовершенной земной жизни. Такое понимание смерти отвечало духу романтико-символистской мифологии жизни и смерти. Так, например, Бальмонт в своем стихотворении «Смерть» провозглашал:
Не верь тому, кто говорит тебе,
Что смерть есть смерть: она – начало жизни,
Того существованья неземного,
Перед которым наша жизнь темна,
Как миг тоски – пред радостью беспечной,
Как черный грех – пред детской чистотой.
<…>
Живи, молись – делами и словами,
И смерть встречай как лучшей жизни весть105.
В «Юношеских стихах» смерть совершенно меняет свой смысл и облик. Она становится синонимом полноты разрушения и невосстановимой утраты всего, что составляло суть человека и смысл его бытия, а фоном этого разрушения оказывается неколебимое постоянство земной жизни:
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё – как будто бы под небом
И не было меня!
И так же будут таять луны
И таять снег,
Когда промчится этот юный,
Прелестный век.
Конечно, для того чтобы увлеченно писать одно за другим свои «стихи о юности и смерти» (СС1, 178), нужно было ощутить эту тему как лично важную. Однако подобное ощущение стимулировалось именно контекстом времени, и потому необходимо выделить в этих стихах Цветаевой тот идейный каркас, который отнюдь не личен. Ницшеанским идеям принадлежит в его конструкции решающее место. И сама Цветаева находилась в этот период под несомненным обаянием Ницше (в особенности – его Заратустры)106, и в ее кругу идеи Ницше широко обсуждались. Любопытна позднейшая фраза Вяч. Иванова о сестре М. Цветаевой Анастасии: «Она же хотела быть вторым Ницше, кончить Заратустру» (ЗК2, 169). Возможно, у А. Цветаевой действительно были такие планы, но реализованными оказались не они, а две прозаические книги, «Королевские размышления» (1915) и «Дым, дым и дым» (1916), которые по своей поэтике и идеологии были подражанием одновременно и Ницше и Розанову. В этих книгах в более «чистом», чем у М. Цветаевой, виде можно обнаружить идейные клише, которыми питалось цветаевское поэтическое «бунтарство»:
Вообще – безнадежность так проста, так ясна: мир существовал и будет существовать. Для чего и кем – неизвестно. Мы живем из всей вечности 20, 50, 70 лет. И хоть бы кругом пир, великолепие, золото, тигровые шкуры, чаши с вином, книги, вся мудрость земли, христианство, буддизм, теософия, – всё же через 50 лет нас не будет и всё будет зелено на земле107.
Именно этой «безнадежности», сознавая ее, сопротивляется «сильная личность». Смерть для нее возмутительна прежде всего потому, что, уравнивая всех, уничтожает самую возможность исключительности: «О возмущенье, что в могиле / Мы все равны!» (СС1, 192). В этом ключе трактуется смерть в целом ряде стихов Цветаевой 1913–1914 годов.
Однако подобный ракурс темы смерти не единственный. Иную рамку для интерпретации значения «мыслей о смерти» в индивидуальном бытии предлагает литературный воспитатель Цветаевой этих лет – М. Волошин. Одна из его ключевых статей «Аполлон и мышь», наверняка прочитанная Цветаевой, так трактует эту тему:
Горькое сознание своей мгновенности, своей преходимости лежит в глубине аполлинического духа, который часто и настойчиво в самые ясные моменты свои возвращается к этой мысли.
Каждая великая радость таит на дне своем грусть. Больше: вся полнота аполлинийской радости достигается лишь тогда, когда ей сопутствует грусть108.
Сходному пониманию смерти также находится место в цветаевских стихах: «Странно чувствовать так сильно и так просто / Мимолетность жизни и свою» (СП, 57). Наконец, несомненно актуальным в этот период для Цветаевой оказывается ракурс темы смерти, предложенный в предисловии Михаила Кузмина к сборнику А. Ахматовой «Вечер» (1912), который Цветаева впервые прочитала летом 1912 года:
В Александрии существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обреченными на смерть. Каждый день их, каждый час был предсмерным. Хотя предсмертное времяпрепровождение в данном обществе сводилось к сплошным оргиям, нам кажется, что сама мысль о предсмертном обострении восприимчивости и чувствительности эпидермы и чувства более чем справедлива. Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтоб насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз. Вы сами знаете, что в минуты крайних опасностей, когда смерть близка, в одну короткую секунду мы вспоминаем столько, сколько не представится нашей памяти и в долгий час, когда мы находимся в обычном состоянии духа109.
Дух поэзии Ахматовой Кузмин лишь косвенно связывал с духом «Александрийского общества»: «…мы не хотим сказать, чтобы мысли и настроения ее (Ахматовой. – И. Ш.) всегда обращались к смерти, но интенсивность и острота их такова»110. Цветаева это предисловие, конечно, помнила и, возможно даже, писала свое предисловие к сборнику «Из двух книг» в начале 1913 года с оглядкой на него. Более того, мотивы «предсмертного обострения восприимчивости» и наслаждения миром «каждую минуту последний раз» кажутся более близкими сознанию автора «Юношеских стихов», чем сознанию автора «Вечера».
В многочисленных поэтических рассуждениях Цветаевой 1913–1914 годов о вечности земных прелестей и неотвратимости индивидуальной смерти уху последующих поколений легче всего уловить неизбывное благополучие эпохи, еще не ведающей эфемерности земных постоянств. Совсем скоро исторические катаклизмы выжгут дотла и то ви´дение жизни, и то ви´дение смерти, которым дышат «Юношеские стихи». В «Герое труда» (1925) Цветаева между прочим упомянет письменный отзыв, которым сопроводил Сергей Бобров в 1920 году возвращенный ей из Лито экземпляр рукописи этого сборника: «До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти» (СС4, 31). В этих словах рецензента будет сознательное оттолкновение от всего духа предреволюционной (точнее даже – предвоенной) эпохи, который питал стихи Цветаевой. Этот «дух эпохи», впрочем, лишь по‐своему высвечивал авторскую индивидуальность.
В стихотворении о смерти Башкирцевой, которым открывался сборник «Юношеские стихи», драма ухода человека из мира передавалась через подчеркивание противоположности его земной сущности атмосфере его кончины:
Он приблизился, крылатый,
И сомкнулись веки над сияньем глаз.
Пламенная – умерла ты
В самый тусклый час.
<…>
Затерялся в море гула
Крик, тебе с душою разорвавший грудь.
Розовая, ты тонула
В утреннюю муть…
«Башкирцевский» зачин был логичен для «Юношеских стихов» не только потому, что пример ее личности вдохновлял Цветаеву на протяжении вот уже нескольких лет, но и потому, что самые темы лирики сборника как нельзя более сходились с темой жизни Башкирцевой: устремленностью к преодолению смерти. Именно в «Юношеских стихах» настоящий «башкирцевский» период творчества Цветаевой и разворачивался.
Воображая собственную смерть, Цветаева моделировала ее по образу и подобию смерти Башкирцевой: «Я, вечно-розовая, буду / Бледнее всех» (СС1, 193). Противоположность своего живого облика (с башкирцевским атрибутом «розовости») и облика той, что будет когда‐то лежать в гробу, – оказывалась поводом провозгласить мертвое тело не своим, отказать физическим останкам в «праве» на связь с когда‐то живым человеком. Подробно развивало эту тему отдельное стихотворение:
Посвящаю эти строки
Тем, кто мне устроит гроб.
Приоткроют мой высокий
Ненавистный лоб.
Измененная без нужды,
С венчиком на лбу, —
Собственному сердцу чуждой
Буду я в гробу.
Не увидят на лице:
«Всё мне слышно! Всё мне видно!
Мне в гробу еще обидно
Быть как все».
В платье белоснежном – с детства
Нелюбимый цвет! —
Лягу – с кем‐то по соседству? —
До скончанья лет.
Слушайте! – Я не приемлю!
Это – западня!
Не меня опустят в землю,
Не меня.
Знаю! – Всё сгорит дотла!
И не приютит могила
Ничего, что я любила,
Чем жила.
Ницшевское «Бог мертв»111 постоянно присутствует затекстовым фоном цветаевских стихов «по поводу собственной смерти». О своем воинствующем атеизме она вскоре будет сообщать Василию Розанову:
…я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни.
Отсюда – безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы – молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная лихорадочная жадность жить (СС6, 120).
Любопытен этот фрагмент тем, что демонстрирует, как из идеологии рождается стиль. Ибо и «безнадежность», и «безумие», и «судорожность» – суть слова, формирующие определенный стилевой регистр, необходимость в котором вытекает из нового мироощущения. Впечатление стилистической манерности, которое производят сегодня многие поэтические, эпистолярные и дневниковые высказывания Цветаевой этого времени, напрямую связано с самой идеологией ницшеанского индивидуализма и атеизма. Уходя от стилистической наивности раннего периода творчества, Цветаева «впускает» в свой язык клише и штампы, призванные быть знаками новой эмоциональности, в свою очередь являющейся атрибутом нового ви´дения мира.
Ницшеанское неверие в бессмертие («Всё сгорит дотла») уравновешивается ницшеанским же «вечным возвращением». В стихотворении «Идешь, на меня похожий…» монолог умершей героини112, обращенный к далекому потомку, по‐видимому, следует трактовать и как насмешку над всей кладбищенской мифологией с ее встающими из гроба покойниками («Не думай, что здесь – могила, / Что я появлюсь, грозя» (СС1, 177)), и как вариацию на тему «вечного возвращения». Если Цветаева уже что‐то слышала к этому времени об идеях победы над смертью и воскрешения мертвых Н. Ф. Федорова113 (полемизировавшего с Ницше прежде всего по вопросу о бессмертии), то ее стихотворение можно считать и актом открытого предпочтения Ницше Федорову: воскрешения мертвых не будет, но некто «похожий» на умершего должен когда‐нибудь вновь пройти его земным путем.
Нельзя не заметить, что среди многочисленных поэтических размышлений Цветаевой о смерти в 1913 году не найдется места одной реальной смерти, имеющей личное отношение к ней, – смерти отца в августе этого года. В апреле 1914 года в письме к В. Розанову Цветаева будет подробно говорить об этой смерти, но в стихах совершенно ее минует. Едва ли это объясняется далекими отношениями, которые в последние годы были между отцом и дочерью. Дело, скорее, в том, что тот модус размышлений о смерти, которым в это время пронизана лирика Цветаевой, вообще исключает разговор о конкретной земной смерти. «Смерть» в этих стихах – умозрительная категория, идея, которая связана с умственными исканиями, а не с событиями жизни. Последние сознательно исключаются из репертуара «поэтических поводов».
Выход из замкнутого круга размышлений о конечности жизни Цветаева находит в переносе акцента на тему самореализации «сильной личности». Талант жить, забывая о «мимолетности жизни», – вот еще одна тема «Юношеских стихов». «Судорожная, лихорадочная жадность жить», стремление к полноте самовыражения во всем – таков достойный ответ «сильной личности» миру. Одно из характерных в этом отношении стихотворений – «Генералам двенадцатого года», «очаровательные франты» которого сходят, скорее, со страниц Ницше, чем с «полустертых гравюр» исторического прошлого:
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
<…>
Вам все вершины были малы
И мягок – самый черствый хлеб,
О молодые генералы
Своих судеб!
<…>
О, как – мне кажется – могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать – и гривы
Своих коней.
<…>
Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли.
Людям, отмеченным даром жить, судьба не только покровительствует («Вас златокудрая Фортуна / Вела, как мать»), но и подчиняется («О молодые генералы / Своих судеб!»). Им не дано стать бессмертными, но полнота свершения ими своей судьбы на земле преображает облик их смерти:
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие.
Однако как только Цветаева заговаривает о самой себе, ее словарь меняется. Свою собственную смерть она заклинает словами:
В лице младенца ли, в лице ли рока
Ты явишься – моя мольба тебе:
Дай умереть прожившей одиноко
Под музыку в толпе.
Желание в смерти быть подобной тем, кому дано «весело переходить в небытие», лишь оттеняет противоположность жизненного пути автора: этот путь прежде всего «одинок». Между образами жизнелюбивых «генералов» и собственным психологическим обликом Цветаева ощущает принципиальное несходство, которое ее тревожит и питает ее лирику. В нескольких стихотворениях 1913 года («Вы, идущие мимо меня…», «Мальчиком, бегущим резво…», «Идите же! – Мой голос нем…») именно одиночество, отсутствие желаемого контакта с миром, а значит – возможности действенно жить в нем составляет основу конфликта:
Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром,
И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох…
– И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!
О летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале…
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы – если б знали —
Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.
«Героический пыл», который мог бы сближать героиню стихотворения с «генералами двенадцатого года», в действительности лишь оттеняет их несходство: этому пылу нет реального применения, жизнь растрачивается «даром», самовыражение не удовлетворяет, потому что никто ему не сочувствует. Это одиночество от переполненности собой сообщает пока лишь неясные очертания будущим конфликтам, предчувствием которых полны стихи 1913 года. Все, что нам известно о цветаевской биографии этого времени, заставляет считать ее благополучной: она увлечена воспитанием маленькой дочери, счастлива в любви, имеет живой круг общения. По-видимому, это жизненное благополучие и становится одним из самых «раздражающих» факторов для творческого самочувствия Цветаевой: неясные предчувствия обгоняют жизненный опыт, но не находят адекватного словесного выражения, заполняя вакуум неопределенностью «темной и грозной тоски» и попытками угадать свою судьбу.
В ряду таких попыток примечательно стихотворение «Сердце пламени капризней…», по неизвестным причинам не попавшее ни в одну из авторских рукописей «Юношеских стихов»114:
Сердце, пламени капризней,
В этих диких лепестках,
Я найду в своих стихах
Все, чего не будет в жизни.
Жизнь подобна кораблю:
Чуть испанский замок – мимо!
Все, что неосуществимо,
Я сама осуществлю.
Всем случайностям навстречу!
Путь – не все ли мне равно?
Пусть ответа не дано, —
Я сама себе отвечу!
С детской песней на устах
Я иду – к какой отчизне?
– Все, чего не будет в жизни,
Я найду в своих стихах!
Интонационная легкость этой романтической декларации не в ладу с ее смыслом. Формула, повторенная в первой и последней строфах, вполне выражает квинтэссенцию литературного кредо зрелой Цветаевой: вместо осуществления себя «в жизни» (о котором с таким пафосом говорится в других стихах этого времени) – осуществление себя «в слове», вместо «жадности жить» – отрешение от жизни и погружение в творчество. Пройдут долгие годы, прежде чем это станет обдуманной и раз навсегда определенной жизненной программой. Тем интереснее ее предвестия в стихотворении 1913 года, выговаривающем предчувствие своей судьбы с той же бессознательностью, с какой пять лет назад Цветаева признавалась в письме к П. Юркевичу в своей «любви к словам».
Своеобразную пару с приведенным составляет стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…»115. В нем Цветаева находит формулу своей литературной судьбы, риторической силе которой, кажется, и сама будет поражаться впоследствии:
Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
Два десятилетия спустя она скажет Ю. Иваску по поводу этого четверостишия: «Формула – наперед – всей моей писательской (и человеческой) судьбы. Я всё знала – отродясь» (СС7, 383). Тогда, в 1913 году, эти строки свидетельствовали лишь об огромности амбиций, об огромности ожиданий от себя. Не своим же полудетским сборникам стихов предрекала Цветаева жизнь в веках?! Потому, поясняя эти строки Иваску, она настаивала на своем знании судьбы наперед, на знании того, что еще только должно совершиться. Спустя год, в мае 1914 года, Цветаева так описывала свой творческий процесс: «Стихи я пишу очень легко, но не небрежно. <…> Почти всегда начинаю с конца. Пишу с удовольствием, иногда с восторгом. Написав, читаю, к<а>к новое, не свое и поражаюсь» (ЗК1, 57–58). Здесь Цветаева уже близка к той мысли, которую будет развивать в зрелые годы: истоки слова вне-личны, в слове выражается не произвол автора, а заданный не авторской волей смысл. Потому этот смысл абсолютен и с временем произнесения слова не связан: сказанное в 1913 году сопутствует авторской жизни как истина, не имеющая даты рождения.
В сентябрьском письме 1913 года к Михаилу Фельдштейну, по странной прихоти написанном по‐французски, Цветаева вновь обращается к теме собственного дара и его возможностей:
Connaissez-Vous l’histoire d’un autre jeune homme, qui se réveilla un beau matin, le front ceint de lauriers et de rayons? Ce jeune homme était Byron et cette histoire – on m’a dit qu’elle serait la mienne. Je l’ai cru et je n’y crois plus.
– Est-ce cela – la sagesse de l’âge?
Ce que je sais encore – c’est que je ne ferai rien ni pour ma gloire ni pour mon bonheur. Cela doit venir tout seul, comme le soleil116 (СИП, 162–163).
Едва ли скептическое неверие в свою поэтическую звезду, высказанное здесь, свидетельствует о переоценке Цветаевой тех прогнозов, которые она сделала совсем недавно в своих стихах. Скорее, эта изменчивость настроения говорит о чувствительности самой темы поэтического призвания для нее в это время. Два стихотворения, «приуроченных» Цветаевой в том же году к собственному дню рождения (26 сентября) и обращенных к двум великим поэтам прошлого, Байрону и Пушкину, подтверждают это. В стихотворении «Байрону» (24 сентября) развивается уже знакомая тема контраста между огромностью жизненных потенций, дарованных человеку, и бесследностью исчезновения его с лица земли:
Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре Ваших дней,
Когда очнулись демоном от сна Вы,
И богом для людей.
<…>
Я думаю о пальцах, очень длинных,
В готических перстнях,
И обо всех – в аллеях и гостиных —
Вас жаждущих глазах.
И о сердцах, которых – слишком юный —
Вы не имели времени прочесть,
В те времена, когда всходили луны,
И гасли в Вашу честь.
<…>
Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз…
О всех глазах, которые в могиле.
О них и нас.
В этой финальной «горсти пыли» очевидно эхо стихотворения «Литературным прокурорам» («Быть в грядущем лишь горсточкой пыли / Под могильным крестом? Не хочу!»). В нем как раз и говорилось о творчестве как о способе оставить по себе нечто большее, чем прах. Теперь, как и в поэтических размышлениях о собственной смерти, Цветаева сосредотачивается на мысли о неисчерпаемости жизненных потенций человека и о нивелирующей силе смерти. Драматичен и удел потомков, чья память об умершем упирается в невозможность двустороннего контакта и ставит в неизбежное сослагательное наклонение мечты «О всех стихах, какие бы сказали / Вы – мне, я – Вам» (СП, 61).
Второе стихотворение, «Встреча с Пушкиным» (1 октября), пишется как будто для того, чтобы опровергнуть эту невозможность. Инсценируя свою встречу с Пушкиным, Цветаева демонстрирует всемогущество слова: если встреча может быть описана, значит она возможна, значит даже – что она уже состоялась. «Для меня каждый поэт – умерший или живой – действующее лицо в моей жизни» (СС6, 120), – формулирует Цветаева это открытие в письме 1914 года к В. Розанову. Возможность поиска своих истинных собеседников в веках – действительно выход из тех риторических тупиков, в которые снова и снова заводили Цветаеву рассуждения об уничтожающей силе смерти. Ф.А. Степун, вспоминая беседы с молодой Цветаевой, свидетельствует, что приведенное эпистолярное признание не было лишь фигурой речи:
Получалось как‐то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гете, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире, быть может, и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево117.
В том, что именно Байрон и Пушкин, Гете и Новалис – ее истинные собеседники, Цветаева, похоже, перестает сомневаться уже в 1914 году. Закончив первую в своей литературной биографии поэму «Чародей», посвященную первому своему литературному воспитателю – Эллису, Цветаева делает довольно пространную запись:
Я не знаю женщины, талантливее себя к стихам. – Нужно было бы сказать – человека.
Я смело могу сказать, что могла бы писать и писала бы, к<а>к Пушкин, если бы не какое‐то отсутствие плана, группировки – просто полное неимение драматических способностей. «Евгений Онегин» и «Горе от ума» – вот вещи вполне à ma portée118. Вещи гениальные, да. Возьми я вместо Эллиса какого-н<и>б<удь> исторического героя, вместо дома в Трехпрудном – какой-н<и>б<удь> терем, или дворец, вместо нас с Асей – какую-н<и>б<удь> Марину Мнишек, или Шарлотту Кордэ – и вышла бы вещь, признанная гениальной и прогремевшая бы на всю Россию. А сейчас о поэме Эллису скажут: одни критики: «скучно, мелко, доморощенно» и т. п., другие: «мило, свежо, интимно». Клянусь, что большего никто не скажет.
Мое отношение к славе?
В детстве – особенно 11ти лет – я была вся честолюбие. Впрочем с тех пор, к<а>к себя помню! Теперь – особенно с прошлого лета – я безразлична к нападкам – их мало и они глупы – и безразлична к похвалам – их мало119, но они мелки.
«Второй Пушкин», или «первый поэт-женщина» – вот чего я заслуживаю и м<ожет> б<ыть> дождусь и при жизни.
Меньшего не надо, меньшее плывет мимо, не задевая ничего.
Внешне я очень скромна и даже стесняюсь похвал.
В своих стихах я уверена непоколебимо, – к<а>к в Але (ЗК1, 57).
Показательно, что Цветаева так и не делает выбора между идентификацией себя как «второго Пушкина» (т. е. человека, имеющего наивысший «талант к стихам») или «первого поэта-женщины». Мода на «женскую поэзию» велика, и она, видимо, просто не может пока решить, какой «титул» важнее. Высота поставленной себе планки и масштаб заявленных амбиций соседствуют в этой записи Цветаевой с целым рядом переживаний, свидетельствующих о ее неуверенности и дискомфорте. Ее беспокоят некоторые свойства собственного дара, которые как будто обрекают ее творчество на вечную маргинальность. Она отмечает у себя «полное неимение драматических способностей», что препятствует, на ее взгляд, созданию масштабных произведений. «Камерные» же темы, доступные ей, не могут, как ей кажется, вызвать у критики серьезного отношения: их и ругают и хвалят не всерьез. В значительной мере эти переживания Цветаевой следует отнести за счет того, что ее литературное воспитание тесно связано с эстетическим сознанием второй половины XIX века: живя в эпоху (как мы теперь знаем) лирической поэзии, Цветаева оценивает себя по иерархической шкале иного времени и тревожится по поводу своей неспособности писать эпические или драматические произведения. Высказанная же ею мечта о создании «вещи, признанной гениальной и прогремевшей бы на всю Россию», уже несомненно принадлежит дискурсу гимназических учебников по русской классической литературе. С другой стороны, Цветаева пока, по‐видимому, просто не находит достаточно точных слов, чтобы определить особенности собственного дара. Неумение выйти за круг личных, камерных тем – вот что видит она в своем творчестве. Недавно ответом Цветаевой на замечание Брюсова по поводу этих свойств ее лирики было: «“Острых чувств” и “нужных мыслей” / Мне от бога не дано» (СС1, 147). Теперь Цветаева с бóльшим беспокойством оценивает такую замкнутость своего творческого космоса, ищет способы разомкнуть его (стихотворение «В огромном липовом саду…», например, похоже на попытку выйти из этой замкнутости средствами стилизации), но по‐настоящему убедительно пока звучит лишь прежний мотив: «Я одна с моей большой любовью / К собственной моей душе» (СП, 57).
Рефлексия по поводу своего призвания постепенно изменяет отношение Цветаевой к примеру Башкирцевой. В письме к В. Розанову от 7 марта 1914 года она подтверждает глубину своего увлечения ею: «Послушайте, Вы сказали о Марии Башкирцевой то, чего не сказал никто. А Марию Башкирцеву я люблю безумно, с безумной болью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама» (СС6, 119). Это страстное признание следует, однако, соотнести с тем, что именно сказал Розанов о Башкирцевой: «Секрет ее страданий в том, что она при изумительном умственном блеске – имела, однако, во всем только полуталанты. Ни – живописица, ни – ученый, ни – певица, хотя и певица, и живописица, и (больше и легче всего) ученый (годы учения, усвоение лингвистики). И она всё меркла, меркла неудержимо…»120. Солидаризация или, по крайней мере, сочувствие Цветаевой такой оценке о многом говорит. Розанов отмечает, что у Башкирцевой не было того одного, главного, дара, через который могла бы вполне проявить себя ее незаурядная личность. Цветаева в 1914 году уверена, что у нее такой дар – есть. По-видимому, она так живо откликается на розановскую оценку Башкирцевой именно потому, что эта оценка облегчает ей осмысление пределов самоидентификации с автором «Дневника».
«До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти» в 1914 году почти исчезают из лирики Цветаевой. Пережитая в этом году реальная смерть близкого человека – Петра Эфрона, брата мужа, краткое увлечение которым отразилось в цикле «П. Э.», – служит уже поводом говорить об относительности того, что именуется словом «смерть»:
Я вижу, я чувствую, – чую Вас всюду!
– Чтó ленты от Ваших венков! —
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!
Большее место постепенно получает в стихах Цветаевой мотив автономности индивидуального существования, его внеположности интересам текущего дня: «Живу, не видя дня, позабывая / Число и век» (СС1, 214). Отсюда нежелание соотносить свое существование с такими рядами, как история или политика. Социальный статус позволяет ей ими не интересоваться; эгоцентризм натуры отторгает все, что не может претвориться в личное переживание. Отклик на вступление России в Первую мировую войну попадает в цикл любовной лирики («П. Э.»), не нарушая его:
Война, война! – Кажденья у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.
На, кажется, – надтреснутом – канате
Я – маленький плясун.
Я тень от чьей‐то тени. Я лунатик
Двух темных лун.
«Канатный плясун», хоть и пришел сюда со страниц ницшевского «Заратустры»121, но опасность, ему грозящая, лишь иносказание любовного переживания. Именно оно в этот момент отделяет героиню от мира.
О том, как мало «царские счеты» и «народные ссоры» способны затронуть ее воображение, Цветаева оставит вскоре свидетельство редкой безоглядности – стихотворение «Германии» (1 декабря 1914 года). Впоследствии она назовет именно это стихотворение своим «первым ответом на войну» (СС4, 286). Оно будет также одной из первых ярких поэтических манифестаций жизненной установки, которую Цветаева сформулировала в 1908 году в письме к П. Юркевичу: «Вот теория, к<отор>ой можно держаться, к<отор>ая никогда не обманет: быть на стороне меньшинства, к<отор>ое гонимо большинством» (СС7, 730). Первая строфа стихотворения именно эту идею и транслирует:
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну, как же я тебя оставлю,
Ну, как же я тебя предам?
Чтобы найти точку зрения, с которой современность с ее патриотическим аффектом и сопутствующим ему аффектом ненависти к противнику сделалась бы эфемерной ценностью, Цветаевой нужно всего лишь «позабыть число и век», противопоставить настоящему времени – мифологическое:
Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland,
Где всё еще по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант,
Где Фауста нового лелея,
В другом забытом городке, —
Geheimrath Goethe по аллее
Проходит с веточкой в руке.
Стихотворение «Германии» впервые было опубликовано лишь в 1936 году – в тексте очерка Цветаевой «Нездешний вечер». Однако Цветаева читала его публично, по крайней мере, раз – в доме Каннегисеров в Петербурге в начале 1916 года. Один из ее тогдашних слушателей Георгий Адамович впоследствии оставил свидетельство об этом чтении. Рецензируя в 1925 году незадолго перед тем опубликованные записи Цветаевой «О Германии», он вспоминал:
Статья («О Германии». – И. Ш.) помечена 1919 годом. Увидев пометку, я вспомнил появление Цветаевой в Петербурге, в первый год войны, кажется. Тогда все были настроены патриотически, ждали близкого суда над Вильгельмом и разделения его империи между союзниками. Цветаева, слегка щуря глаза, сухим, дерзко-срывающимся голосом, читала:
Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь!122
Восприятие современниками этого стихотворения как вызова было более чем естественно. Однако в намерения Цветаевой входило не просто бросить вызов патриотизму своих соотечественников. Эти стихи были ее первым, еще действительно «юношеским» по интонации, вызовом истории – истории, разрушающей стройность и законченность «вневременного» облика мира. Свою тяжбу с историей Цветаева будет вести на протяжении всей жизни, не единожды так или иначе повторив то, что лаконичнее всего скажется в одном из ее писем 1939 года к Анне Тесковой: «…до чего я не выношу истории, и до чего ей предпочитаю <…> “басенки”» (ПТ, 368). Именно «басенной», мифологической Германии Цветаева и клянется «в влюбленности до гроба» в финале стихотворения:
Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном – Лорелей.
Пройдет меньше года и поэтическая интонация Цветаевой резко переменится. В одном стихотворении смогут соединиться и социальный опыт человека военного поколения, и опыт внутренний, личный. «Я», прекратив свое противостояние «всем» или «миру», окажется легко переходящим в «мы»:
Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем – поэты, любовники и полководцы?
Уж вечер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу123.
После потока стихотворных признаний в любви к жизни, после многочисленных «репетиций» собственной смерти, после упоения эгоцентризмом и декларативного пренебрежения связями с миром интонация этого октябрьского стихотворения 1915 года поражает своей непосредственной эмоциональностью и сама по себе звучит как откровение. Жизнь не воспевается, а смерть не предается анафеме, авторское «я» ни в жизни, ни в смерти не противостоит «всем», оно лишь «знает правду» – ту, что всеобща и не делает исключений. Ломка поэтического голоса и рождение новой стилистики составляет сюжет творческой биографии Цветаевой в 1915 году.
В июле 1915 года Аделаида Герцык сообщала М. Волошину, жившему уже около года за границей:
Вчера получила в первый раз за лето большое письмо от Марины и Парнок. <…> Из письма поняла, что Марина, наконец, выходит из своего замкнутого детского круга – большое страдание посетило ее и выковывает из ее души новую форму. В ее новых стихах это еще почти не отражается: как все переходное, бездомное, они стали неловки, утратили свою наивную отчетливость. Но я верю в ее будущее124.
Трудно сказать, о каких стихах говорит А. Герцык: ряд стихотворений конца 1914 – начала 1915 года действительно «неловок», но уже весной 1915 года голос Цветаевой обретает новую отчетливость, далекую от «наивной отчетливости» ее прежних поэтических опытов и свидетельствующую о быстрой индивидуализации поэтической манеры.
Роман с Софией Парнок125, который будет определять настроение и темы лирики Цветаевой на протяжении полутора лет, оставит в ее человеческом опыте след, глубина которого определится временным первенством пережитой тогда душевной драмы в ряду других драм, еще ждущих Цветаеву впереди. «Часом перв<ой> катастрофы»126 своей жизни назовет Цветаева много лет спустя время разрыва с Парнок. В пору другой катастрофы, пережитой ею осенью 1923 года, Цветаева попытается найти аналитическую формулу, объясняющую смысл для нее опыта любви:
Любовь в нас – как клад, мы о ней ничего не знаем, всё дело в случае. Другой – наша возможность любви. <…> Человек – повод к взрыву. <…>
Я знаю, какая я в дне, но я не знаю, какая я на дне. Дна своего достать без другого я не могу.
Благословен ты, дающий мне меня (СТ, 293).
Способность осмыслить травмирующий опыт узнавания собственного «дна» как заслуживающий благословения в адрес его давшего целиком принадлежит сознанию зрелой Цветаевой. В 1914–1915 годах, когда этот опыт впервые входит в ее жизнь, она меньше всего готова к нему, прежде всего – к его опознанию. В ее стихах октября – декабря 1914 года сохраняется и прежняя интонация, и привычная маска жизнелюбивого своеволия:
Радость всех невинных глаз,
– Всем на диво! —
В этот мир я родилась —
Быть счастливой!
До весны 1915 года и стихи, обращенные к Парнок, и те, что косвенно связаны с переживаемым романом127, сохраняют налет легкости и создают ощущение власти автора над происходящим в его жизни. Это не умышленное искажение собственных переживаний, а следствие неадекватности интонационного арсенала, по инерции эксплуатируемого Цветаевой. Окружающим ситуация видится куда более драматичной. Е. О. Волошина, мать М. Волошина, уже в конце 1914 года пишет художнице Ю. Л. Оболенской, что ей «относительно Марины страшновато: там дело пошло совсем всерьез»128, а в январе 1915 года подтверждает свои опасения в письме к той же корреспондентке: «У Сережи роман благополучно кончился, у Марины усиленно развивается и с такой неудержимой силой, которую ничем остановить уже нельзя. Ей придется перегореть в нем, и Аллах ведает, чем это завершится»129.
Цветаева в январских стихах рисует свой портрет в эпатирующих тонах, за которыми лишь с усилием можно прочесть смятение:
Я знаю весь любовный шепот,
– Ах, наизусть! —
Мой двадцатидвухлетний опыт —
Сплошная грусть!
Но облик мой – невинно-розов,
– Что ни скажи! —
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.
Признания в том, что в происходящем действуют силы, с которыми она не может совладать, лишь исподволь проникают в стихи Цветаевой, рисующие портрет возлюбленной: «Не женщина и не мальчик, – / Но что‐то сильней меня!» (СП, 72). Даже признавая власть над собой вспыхнувшего чувства —
Сердце сразу сказало: «Милая!»
Всё тебе – наугад – простила я,
Ничего не знав – даже имени!
О люби меня, о люби меня!
– Цветаева психологически старается оставить за собой не страдательную, а активную, наступательную роль, с которой срослись ее самовосприятие и ее словарь, – роль человека, своей любовью «открывающего» другого человека:
Все усмешки стихом парируя,
Открываю тебе и миру я
Всё, что нам в тебе уготовано,
Незнакомка с челом Бетховена!
Предел этой лирической линии кладет стихотворение, написанное 28 апреля 1915 года, в котором переживаемая драма впервые получает новое интонационное выражение:
Повторю в канун разлуки,
Под конец любви,
Что любила эти руки
Властные твои,
И глаза – кого-кого‐то
Взглядом не дарят! —
Требующие отчета
За случайный взгляд.
Всю тебя с твоей треклятой
Страстью – видит Бог! —
Требующую расплаты
За случайный вздох.
И еще скажу устало,
– Слушать не спеши! —
Что твоя душа мне встала
Поперек души.
И еще тебе скажу я:
– Всё равно – канун! —
Этот рот до поцелуя
Твоего – был юн.
Взгляд – до взгляда – смел и светел,
Сердце – лет пяти…
– Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути!
«Канун разлуки» продлится еще долго, но итог пережитому будет уже подведен, как будет подведен и итог прежней поэтической манере. Стихи начала мая 1915 года покажут, сколь стремительно меняется экспрессивный арсенал Цветаевой. На время эти перемены сделают стиль неровным, зато навсегда вымоют из ее стихов прежний инфантильный эгоцентризм. Его заменит эгоцентризм трагический, стилистическая инструментовка которого потребует резких интонационных переходов:
Вспомяните: всех голов мне дороже
Волосок один с моей головы.
И идите себе… – Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.
Разлюбите меня, все разлюбите!
Стерегите не меня поутру!
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.
Цитатная концовка130 невольно тянет за собой и все финальное четверостишие стихотворения Ахматовой с его «Уйдешь, я умру», и потому не удивительно, что стихотворение, написанное на следующий день, развивает именно тему смерти. Былая уверенность в том, что «в этот мир» она «родилась быть счастливой», и сожаления о «мимолетности жизни» сменяются «счастливым» неверием в ее продолжение:
Бессрочно кораблю не плыть
И соловью не петь.
Я столько раз хотела жить
И столько умереть!
Устав, как в детстве от лото,
Я встану от игры,
Счастливая не верить в то,
Что есть еще миры.
День в день (9 мая) с этим стихотворением Парнок пишет обращенный к Цветаевой сонет. В нем можно различить причины тех переживаний, которые Цветаеву мучают:
Гляжу на пепел и огонь кудрей,
На руки, королевских рук щедрей, —
И красок нету на моей палитре!
Ты, проходящая к своей судьбе!
Где всходит солнце, равное тебе?
Где Гете твой и где твой Лже-Димитрий?131
В этих строках тот же «канун разлуки», только по‐другому высказанный: Парнок как будто и хочет написать любовное стихотворение, но у нее не находится для этого слов и, видимо, чувств. Слова и чувства находятся другие, очень важные, но любовного признания не заменяющие.
На следующий день, 10 мая С. Эфрон будет писать своей сестре Е. Я. Эфрон, находящейся в Коктебеле, чтобы та позаботилась в течение лета об Але, которая должна была вскоре отправиться в Крым вместе с Цветаевой и Парнок. Сам он продолжит работу на санитарном поезде, обслуживающем фронт. В письме, тщательно скрывающем собственное эмоциональное состояние, Эфрон говорит лишь, что ему «вообще страшно за Коктебель» и добавляет, что нужно быть «с Мариной поосторожней», так как «она совсем больна сейчас» (СИП, 196).
Если новый голос, обретенный Цветаевой в стихе, уже признал поражение и произнес слова разлуки, то время жизненного сюжета протекало в ином темпе, и он продолжался. О том, что складывало столь мучительную атмосферу взаимоотношений Цветаевой и Парнок, судить невозможно, но едва ли дело здесь было в простой несимметричности чувств. В самом начале названные Цветаевой «поединком своеволий» (СП, 67), эти отношения развивались, очевидно, именно по законам такого поединка. Письмо к Е. Я. Эфрон от 30 июля 1915 года, написанное Цветаевой из Малороссии, куда они с Парнок уехали из Крыма, подтверждает слова С. Эфрона о болезненности внутреннего состояния Цветаевой:
Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то – через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце – вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь.
– Соня меня очень любит и я ее люблю – и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, к<отор>ые надо делить, сердце всё совмещает.
Веселья – простого – у меня, кажется, не будет никогда и, вообще, это не мое свойство. И радости у меня до глубины – нет. Не могу делать больно и не могу не делать (СИП, 202).
Та «темная и грозная тоска», которая в стихах 1913 года была предчувствием, теперь обретала плоть и кровь. Открытие в жизни конфликтов, которые никаким «ожесточеньем воли» не разрешаются, давало толчок к поиску иной риторики в разговоре о себе и мире, иных образов и иной стилистики:
Быть в аду нам, сестры пылкие,
Пить нам адскую смолу,
Нам, что каждою‐то жилкою
Пели Господу хвалу!
Нам, над люлькой да над прялкою
Не клонившимся в ночи,
Уносимым лодкой валкою
Под полою епанчи.
<…>
То едва прикрытым рубищем,
То в созвездиях коса.
По острогам, да по гульбищам
Прогулявшим небеса.
Прогулявшим в ночи звездные
В райском яблочном саду…
– Быть нам, девицы любезные,
Сестры милые – в аду!
Как и в стихотворении «Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!..», здесь показательно появление обобщающего «мы», собирательного образа, в котором авторское «я» растворено. Там, где Цветаева раньше сказала бы лишь «я», она все чаще и чаще говорит «мы», становящееся маркером новой риторики, – риторики, включающей читателя в один круг с автором:
Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.
Все три стихотворения будут написаны уже осенью 1915 года. Длящийся «канун разлуки» принесет немало испытаний в душевную жизнь Цветаевой, однако ее литературная биография в последний период романа с Парнок обогатится событием исключительной важности. В конце 1915 года судьба приведет обеих в Петербург, где в середине января 1916 года, в «начале последнего года старого мира» (СС4, 291), Цветаева впервые будет читать свои стихи в кругу столичной литературной элиты, будет иметь успех и откроет новое качество своего поэтического «я» – «московскость».
Чтение в петербургском литературном салоне будет одним из последних звеньев в ряду перемен, принесенных в литературную биографию Цветаевой знакомством с Парнок. В отличие от Цветаевой с ее полу-дилетантской установкой, Парнок с 1900‐х годов была тесно и сознательно связана с литературным миром, что не мешало ей держаться независимо и вне групп. Ко времени знакомства с Цветаевой Парнок была одним из ведущих критиков возникшего в 1913 году в Петербурге журнала «Северные записки»; на его страницах она также регулярно выступала как поэт. Очевидно, именно по настоянию Парнок Цветаева изменила в 1915 году свое отношение к «стихам в журналах»132. Уже в первом номере «Северных записок» за этот год появились два ее стихотворения, а в последующих номерах за 1915–1916 годы было напечатано еще одиннадцать стихотворений периода «Юношеских стихов»133. По-видимому, не без влияния Парнок Цветаева взялась и за перевод романа Анны де Ноай «La nouvelle espérance» (цветаевский перевод названия – «Новое упование»), в 1916 году опубликованный на страницах этого же журнала.
Сближение с литературным миром актуализировало для Цветаевой рефлексию над собственным поэтическим призванием. Примечательно, что его отрицание образует вполне цельный лейтмотив в ряде стихотворений 1915 года. Если весной 1915 года ей еще всего лишь «Ненаписанных стихов – не жаль!» (СС1, 225), то в июньском стихотворении «Какой‐нибудь предок мой был – скрипач…»134 собственное амплуа как поэта рисуется с остраненной, аннигилирующей иронией. Очевидно толчок к разработке истории о предке-скрипаче дает Цветаевой фрагмент из «Юности» Толстого. Здесь герой, рассказывая о своих приятелях, так описывает род юмора, к которому они были склонны:
Характер их смешного, то есть Володи и Дубкова, состоял в подражании и усилении известного анекдота: «Что, вы были за границей?» – будто бы говорит один. «Нет, я не был, – отвечает другой, – но брат играет на скрипке». Они в этом роде комизма бессмыслия дошли до такого совершенства, что уже самый анекдот рассказывали так, что «брат мой тоже никогда не играл на скрипке»135.
Комизм в цветаевском «анекдоте» имеет иную природу: он порожден набором репутационных характеристик предка-скрипача, который приводит автора-потомка к выводу, что тот «не играл на скрипке». А затем сомнительность репутации предка переносится на потомка: «Таким мой предок был скрипачом. / Я стала – таким поэтом» (СС1, 238). Смысл рассказанной притчи вполне проясняется при сопоставлении с несколькими другими стихотворениями этого времени. В декабре 1915 года Цветаева предлагает читателю такой автопортрет:
Лежат они, написанные наспех,
Тяжелые от горечи и нег.
Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век.
И слышу я, что где‐то в мире – грозы,
Что амазонок копья блещут вновь.
– А я пера не удержу! – Две розы
Сердечную мне высосали кровь.
Стихи «написаны наспех» оттого, что жизнь пишущей заполнена любовным переживанием, не оставляющим ей власти над «пером». Цветаевский «предок-скрипач» не играет на скрипке оттого, что жизнь его переполнена: он «наездник и вор», «Любитель трубки, луны и бус / И всех молодых соседок», разбойник, продавший душу черту и носящий нож за голенищем. От этой пучины жизненных страстей отступаются и музыка и поэзия.
Канун своего дня рождения в 1915 году Цветаева встретит словами: «Лорд Байрон! – Вы меня забыли! / Лорд Байрон! – Вам меня не жаль?» (СС1, 242). Стихотворение останется недописанным, как бы символизируя покинутость автора тем, чей пример два года назад служил ему вдохновением. Зато допишется другое стихотворение, датированное днем рождения (26 сентября) и подводящее итог прошедшему году:
Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
– Видно, пока надо мной не пропоют литию, —
Буду грешить – как грешу – как грешила: со страстью!
Господом данными мне чувствами – всеми пятью!
Други! – Сообщники! – Вы, чьи наущения – жгучи!
– Вы, сопреступники! – Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, —
Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!
Индивидуальная греховность, с признания которой стихотворение начинается, разрастается к концу его до вселенских масштабов: соучастниками в грехе, наравне с людьми, становятся «деревья, созвездия, тучи» и, наконец, сама Земля. Опыт чувств оказывается формой приобщения космосу, а поэзии в этом слиянии остается незавидная роль «третьего лишнего»:
В гибельном фолианте
Нету соблазна для
Женщины. – Ars amandi
Женщине – вся земля.
В жизненном опыте страстей книги избыточны, и в свидетели этому Цветаева призывает самого автора «Искусства любви»:
Мне синь небес и глаз любимых синь
Слепят глаза. – Поэт, не будь в обиде,
Что времени мне нету на латынь!
Любовницы читают ли, Овидий?!
– Твои тебя читали ль? – не отринь
Наследницу твоих же героинь!
«Забытая Байроном», Цветаева идентифицирует себя теперь уже не просто со скрипачом, не играющим на скрипке, но с героинями-любовницами другого поэта, не только не пишущими стихов, но и не читающими книг.
Если вспомнить Цветаеву 1913 года с ее воспеванием собственной единственности и «обидой» когда‐то в гробу «быть как все», то разница между поэтом, начинавшим и оканчивающим «Юношеские стихи», станет особенно разительной. Растущее по мере приближения к концу поэтического 1915 года сознание нерасторжимости своих связей со «всеми», с «Землей», своей подверженности тем же законам, страстям и грехам, что все и вся, – закрепляет трансформацию поэтической персоны Цветаевой. Ей, «открывшей в себе и в мире внутреннее противоречие этических императивов, обуславливающее трагизм человеческого бытия»136, судьба видится уже не «златокудрой Фортуной», что когда‐то заботливо опекала ее героев, но спутницей изменчивой и коварной:
Даны мне были и голос любый,
И восхитительный выгиб лба.
Судьба меня целовала в губы,
Учила первенствовать Судьба.
Устам платила я щедрой данью,
Я розы сыпала на гроба…
Но на бегу меня тяжкой дланью
Схватила за волосы Судьба!
Под приведенным выше финальным стихотворением «Юношеских стихов» будет стоять дата «Петербург, 31 декабря 1915». В 1920 году, когда Цветаевой понадобится разделить стихи 1910‐х годов на книги, именно здесь она проведет черту под периодом своего поэтического взросления, совместив ее с хронологической границей года. Если же взглянуть в целом на то, как Цветаева делит стихи 1913–1920 годов на сборники, то нетрудно заметить, что именно срединный отрезок поэтического пути, целиком укладывающийся в хронологические рамки 1916 года, является организующим звеном в этом разделении. Иначе говоря, Цветаева делит стихи на три части: написанные в 1916 году, написанные до 1916 года и написанные после 1916 года. О смысле такого членения нетрудно догадаться: в 1920 году ей хочется отделить от всего, что было до и после, стихи того «последнего года старого мира», символический ореол которого уже навсегда витает над всем, написанным тогда. Не случайно, выбирая название для сборника стихов 1916 года, Цветаева надолго задержится на варианте «Китеж-град»137. В таком названии мотивы выделения стихов 1916 года в самостоятельный сборник предельно эксплицированы: автор преподносит запечатленный им облик России и ее жителей (включая себя) как облик канувшего в небытие легендарного града Китежа, которого уже нигде, кроме этих стихов, не найти. О том, что такое толкование своих стихов 1916 года навсегда останется для Цветаевой важным, свидетельствуют слова, сказанные ею два десятилетия спустя по поводу тематически центрального цикла этого сборника – «Стихи о Москве»:
Да, я в 1916 году первая тáк сказала Москву. (И пока что последняя, кажется.) И этим счастлива и горда, ибо это была Москва – последнего часа и раза. На прощанье. «Там Иверское сердце – Червонное, горит». И будет гореть – вечно. Эти стихи были – пророческие. Перечтите их и не забудьте даты (СС7, 408).
Тем не менее Цветаева отказывается от названия «Китеж-град» – возможно, как раз из‐за его слишком очевидной смысловой «ретроспективности». Сборник выходит под названием «Версты. Выпуск I» (далее – «Версты I»), звучащим тематически нейтрально, а идентичностью своего названия – «Версты» – с названием сборника лирики Цветаевой 1917–1920 годов подчеркивающим не разделенность, а связанность двух творческих этапов. В результате черта, подведенная под «Юношескими стихами», оказывается более жирной, чем Цветаева, видимо, сознательно желает. Довершает «изолированность» этого сборника то, что он так и не увидит света при жизни автора.
В ретроспективе, однако, хорошо видно, что поэтическая стилистика будущих «Верст I» формируется уже во второй половине 1915 года, – в тех стихотворениях, в которых Цветаева отказывается от своего «эгоцентрического реализма» в пользу масочных или собирательных образов: «Спят трещотки и псы соседовы…», «Цветок к груди приколот…», «Быть в аду нам, сестры пылкие…». Окончательно оформляется новая стилистика лишь к весне 1916 года, с началом цикла «Стихи о Москве»138. Особенность этого цикла состоит в том, что он, по‐видимому, сразу задумывается как цикл, во всяком случае – складывается как таковой уже в 1916 году и публикуется в первом номере «Северных записок» за 1917 год139, оказавшемся последним номером этого журнала. Ореол конца над цветаевскими «Стихами о Москве» возникает сразу и помимо ее воли. Георгий Адамович впоследствии будет вспоминать о них:
Я помню впечатление, которое они произвели – особенно в Петербурге. Может быть, в этом сыграло роль начавшееся тогда соперничество двух городов, – кому быть, кому не быть столицей. В Петербурге очень болезненно все ощутили тогда «конец императорского периода» – независимо от политических симпатий и чувств, конечно, – и с ревнивой опаской поглядывали на Москву. Над цветаевским циклом петербургские поэты «ахнули» – над прелестью, над неожиданностью ее Москвы.
Был последний вернисаж последней выставки «Мира Искусства», на Марсовом Поле, у Добычиной. Книжка журнала, только что появившаяся, ходила по рукам, и я до сих пор вижу Анну Ахматову, с несколько удивленным одобрением читающую вполголоса:
Этот успех Цветаевой у петербургских поэтов возвращает нас к событию, с которого начался для нее 1916 год, – к ее выступлению в столичном литературном салоне (доме Каннегисеров). Сама Цветаева описала его лишь двадцать лет спустя, и творческая задача совсем иного момента не включала в себя воссоздания психологически достоверного облика автора и других участников вечера. Тем не менее ряд обстоятельств не подлежит сомнению. Во-первых, это было первое для Цветаевой чтение стихов перед столь представительной аудиторией. Здесь были М. Кузмин, О. Мандельштам, С. Есенин, Г. Иванов, Г. Адамович, Р. Ивнев, Н. Оцуп, Г. Ландау и другие столичные литераторы, уже именитые и только начинающие. Во-вторых, скрытым от посторонних глаз фоном этого события были трагические личные переживания, ибо разлука с Парнок теперь уже действительно висела в воздухе. Не случайно в 1921 году Цветаева отметит это трагическое личное обрамление того знаменательного для нее вечера в наброске письма к Кузмину (СТ, 32–35). Тем сильнее должна была быть потребность Цветаевой взять реванш в области, не подвластной прихоти чужой воли и чувства: утвердиться как поэту, терпя поражение в любви. В-третьих, оказавшись единственной москвичкой среди петербуржцев (присутствовавший Есенин не подходил, впрочем, ни под одну из категорий), Цветаева пережила опыт новой для себя самоидентификации: если прежде все в собственном творчестве она относила за счет своей индивидуальности, то зеркало чужого восприятия открыло ей новую грань ее поэтической персоны – персоны поэта, представляющего московскую культуру. Парадокс состоял в том, что в стихах Цветаевой, которые могли быть ею читаны на вечере, не было ничего специфически «московского», но ее независимая поэтическая манера, должно быть, родила в слушателях уверенность, что стояло за ней нечто большее, чем индивидуальность автора. Рикошетом эта уверенность задела и Цветаеву – и оказалась для ее творческого самоопределения как нельзя более кстати.
Исчерпанность линии дневникового «эгоцентрического реализма» в лирике Цветаевой была очевидной. Идентичность поэтического «я» биографическому «я» автора, протокольная подробность записи смены настроений и взглядов – то, что определяло магистральную линию в творчестве Цветаевой на протяжении нескольких лет, постепенно «отработалось», а главное, пройденный этап поэтического и человеческого взросления подталкивал к поиску форм и формул достаточно стабильных, чтобы уже не нуждаться в постоянном пересмотре.
Поэтический 1916 год в творчестве Цветаевой поразителен своей «статуарностью», отсутствием смысловых конфликтов между стихотворениями, гармонией языковых переливов и тематической цельностью. Трагизм бытия автором осознан и вынесен за скобки: он не обсуждается, а лишь присутствует в стихах естественной приметой жизни. Все лично трагическое осмысляется в новом ключе, который уже не допускает дневниковой непосредственности и стилистической прямоты в регистрации своих переживаний. Эмоциональная экспрессивность достигается теперь совершенно иными средствами – путем резкого расподобления поэтической стилистики стилистике дневника или декларации. Показательно в этом отношении стихотворение «В оны дни ты мне была как мать…» (26 апреля) – последнее прощание с Парнок141. Случайно ли оно оказалось написанным почти день в день с «первым прощанием» год назад, когда слова о близкой разлуке были впервые произнесены, или это совпадение не случайно, но интонационная и эмоциональная зрелость авторского голоса в этом стихотворении лучше всего показывает, как далеко ушла Цветаева за год от своей прежней поэтической манеры:
Благодатная, вспомяни
Незакатные óны дни,
Материнские и дочерние,
Незакатные, невечерние.
<…>
Будет день – умру – и день – умрешь,
Будет день – пойму – и день – поймешь…
И вернется нам в день прощёный
Невозвратное время óно.
Новая стилистика и становится «главной героиней» стихов 1916 года. Два стилевых регистра, прежде лирике Цветаевой не свойственных, формируют стержень новой поэтики. Оба они архаизирующие: народно-песенный и опирающийся на церковно-славянизмы.
С одной стороны, вводя архаическую стилистику в свою поэтическую речь, Цветаева подключается к обширной тенденции внутри русского модернизма, которая была связана со стремлением к реабилитации, открытию или изобретению «национального» элемента в русском искусстве142. Начавшись в последние десятилетия XIX века в живописи и музыке, поиски аутентичной национальной эстетики (противопоставленной западнической) были подхвачены модернизмом и именно в первое десятилетие ХХ века стали захватывать литературу. Дебаты, сопровождавшие развитие этой тенденции, до какой‐то степени должны были попадать в поле зрения Цветаевой, и она безусловно была частью наслышана, частью непосредственно знакома с рядом современных опытов в области «эстетического национализма», будь то живопись московских неопримитивистов или архитектурные эксперименты московского модерна, «русские» балеты Стравинского или произведения А. Ремизова, С. Городецкого, Н. Клюева, С. Есенина, Л. Столицы и т. д. Таким образом, в ее обращении к архаизирующей стилистике в «Верстах I» ничего неординарного не было.
С другой стороны, в ретроспективе очевидно, что идейный смысл, вкладываемый в фольклоризацию и архаизацию языка многими представителями этой тенденции, Цветаеву в это время интересовал мало. Те возможности, которые она обнаружила в стилистической архаике и фольклорном просторечии, помогли ей решить вполне индивидуальную творческую задачу. Перемена языкового арсенала в «Верстах I» имела смысл мировоззренческий, а не только стилистический. Цветаева искала способ заменить свое конкретно-биографическое «я» – иным «я», в котором узнавались бы не индивидуальные черты автора, а типические черты, соотносимые с определенными культурными моделями. Именно поэтому можно считать стихотворение августа 1915 года «Спят трещотки и псы соседовы…» провозвестником новой эпохи в ее творчестве. Сценой его действия оказывается Кордова, героиня уподобляет себя Кармен; биографические и культурные реалии накладываются друг на друга так, что ни личный, ни оперный подтекст не имеют самостоятельного значения. Еще раз Цветаева примеривает на себя маску Кармен в стихотворении осени того же года «Цветок к груди приколот…». Однако на ближайший год не этот, «масочный», тип уклонения от дневникового биографизма станет главенствующим в ее поэзии.
Самоопределение перед лицом петербургской поэтической культуры с ее ориентацией на «литературность» референций и европейски-городскую тематику подтолкнет Цветаеву к поиску цельности, сопоставимой с той, что явлена в «петербургской поэтике». И потому не обращение к отдельным разнокультурным кодам и маскам, но последовательная «мифологизация всего лирического комплекса»143 на единой культурной основе – вот чем станет для Цветаевой творческий эксперимент 1916 года. Этой единой основой будет патриархальная Россия, воплощенная в образах «московского» культурного пространства. Авторское «я», как и лики других персонажей, проходящих через сборник, будет вписано в новый контекст, отделится от биографической оболочки и обретет свою новую жизнь в обликах жителей иного культурного «царства».
Этот переворот в образно-стилистической структуре поэзии Цветаевой не случайно назван выше мировоззренческим. Прежняя модель представления себя в стихах основывалась на презумпции превосходства индивидуального над собирательным: авторское «я» ощущало свою аутентичность, только будучи отделенным от окружения. Решительное размежевание с этим принципом, т. е. открытие потенциала образной системы, представляющей индивидуальное как частицу всеобщего, сформировало стержень лирики 1916 года. Новизна палитры цветаевского автопортрета очевидна в этом, например, стихотворении из цикла «Стихи о Москве»:
Над синевою подмосковных рощ
Накрапывает колокольный дождь.
Идут слепцы калужскою дорóгой —
Калужской, песенной, привычной, и она
Смывает и смывает имена
Смиренных странников, во тьме поющих Бога.
И думаю: когда‐нибудь и я,
Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской —
Одену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь – и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по калужской.
Разумеется, Цветаева не отождествляет себя с бредущими калужской дорогой безымянными «слепцами». Однако средства для передачи своего внутреннего состояния берутся ею теперь не из словаря абстрактной лексики, а из словаря культурных образов. Благодаря этому все индивидуальное предстает уже вобравшим в себя опыт безымянного множества. Потому так по‐новому звучит в стихотворении, открывающем «Версты I», тема разлуки с возлюбленной:
Отмыкала ларец железный,
Вынимала подарок слéзный:
С крупным жемчугом перстенек,
С крупным жемчугом.
Кошкой выкралась на крыльцо,
Ветру выставила лицо.
Ветры – веяли, птицы – реяли,
Лебеди – слева, справа – вóроны…
Наши дороги – в разные стороны.
Ты отойдешь – с первыми тучами,
Будет твой путь – лесами дремучими, песками горючими.
Душу – выкличешь,
Очи – выплачешь.
А надо мною – кричать сове,
А надо мною – шуметь траве…
Стилистика народного гаданья лишает личное переживание его индивидуального психологизма. Однако – и именно это открывает для себя Цветаева – лирическое стихотворение эта депсихологизация не обедняет, а обогащает, волей избранного стиля приобщая единичный случай к всеобщему порядку вещей. Предсказание печальной судьбы обеим (подруге – дальней дороги, себе – смерти) сочетается с полной эмоциональной закрытостью говорящей: новая стилистика «растворяет» индивидуальную эмоциональность, переполнявшую «Юношеские стихи».
Транскрибированные в соответствии с избранным культурно-языковым кодом, новые события в жизни автора выглядят теперь так:
К озеру вышла. Крут берег.
Сизые воды – в снег сбиты,
Нá голос воют. Рвут пасти —
Что звери.
Кинула перстень. Бог с перстнем!
Не по руке мне, знать, кован!
В сéребро пены – кань, злато,
Кань с песней.
Ярой дугою – как брызнет!
Встречной дугою – млад-лебедь
Как всполохнется, как взмоет
В день сизый!
Мрачная и напряженная атмосфера первой строфы – атмосфера надвинувшейся катастрофы. Во второй строфе катастрофа разрешается (происходит), благодаря чему и конкретизируется: бросать перстень в пучину волн – хоронить любовь. Третья строфа – описание нежданного чуда: взамен выброшенного перстня из волн взмывает юный лебедь; «встречной дугою» – значит, летит он к той, что только что выбросила перстень. Стихотворение датировано 6 февраля; накануне из Москвы уехал Мандельштам, приезжавший навестить Цветаеву после завязавшегося в Петербурге романа. Если верно предположение С. Поляковой, 6 февраля могло произойти и решающее объяснение и разрыв Цветаевой с Парнок144. Стихотворение рассказывает о конце романа с Парнок и о начавшемся романе с Мандельштамом, но тот образный язык, которым эта история излагается, превращает конкретный биографический сюжет в архетипический: старая любовь погибнет, но новая займет ее место. Для стихотворения оказываются не важными индивидуально-психологические детали, эмоции действующих лиц, правдивость описания жизненной ситуации; эстетически значимым становится то, как запутанные личные переживания могут укладываться в простые линейные формулы, как индивидуальное превращается в типическое. В этом квинтэссенция поэтики «Верст I».
Отдельные встречи и разлуки получают в стихах сборника обобщенное толкование, и в авторской речи их опыт сливается в нечто единое, цельное, не дробимое на частные случаи:
Собирая любимых в путь —
Я им песни пою на память,
Чтобы приняли как‐нибудь —
Чтó когда‐то дарили сами.
Когда же единичное входит в текст, оно сразу оказывается многоликим, вбирающим в себя целый спектр возможностей. Так, Осип Мандельштам предстает в стихах февраля 1916 года и «молодым Державиным», и «гордецом и вралем», и «божественным мальчиком», и «отроком лукавым». Биографическая эмпирика оказывается легко переводимой на образные языки других эпох. Индивидуальная жизнь, отразившись в зеркалах многих времен, оказывается уже не одной, а многими, не частным случаем, а типом, изменчивым и неизменным – в зависимости от угла зрения. Авторское «я» одинаково легко перевоплощается в персонажей сказочных и исторических, опознавая в судьбах тех и других частицу своей собственной или же творя из частиц чужих судеб свою новую легенду:
Кабы нас с тобой – да судьба свела —
Ох, веселые пошли бы по земле дела!
Не один бы нам поклонился град,
Ох, мой рóдный, мой природный, мой безродный брат!
Как последний сгас на мосту фонарь —
Я кабацкая царица, ты кабацкий царь.
Присягай, народ, моему царю!
Присягай его царице, – всех собой дарю!
Кабы нас с тобой – да судьба свела —
Поработали бы царские на нас колокола,
Поднялся бы звон по Москве-реке
О прекрасной самозванке и ее дружке.
Нагулявшись, наплясавшись на земном пиру,
Покачались бы мы, братец, на ночном ветру…
И пылила бы дороженька – бела, бела —
Кабы нас с тобой – да судьба свела!
Узнаваемый исторический сюжет – история Лже-Дмитрия и Марины Мнишек – используется Цветаевой вовсе не для исторических ассоциаций. В истории ее интересует то, что можно деисторизовать, универсализировать: характеры героев. Разумеется, прежде чем стать интересными автору, характеры эти «доводятся» до эпической очерченности, причем ролевая травестия перемещает фокус с героя на героиню: вместо самозванца и его жены – «самозванка» и ее «дружок». Все, что происходит с героями (точнее, могло бы произойти, – ибо стихотворение написано в сослагательном наклонении), мотивировано их характерами и помещено во вневременной стилизованный «национальный» антураж.
Большинство героев и адресатов стихов Цветаевой проходят по страницам «Верст I» инкогнито: и Мандельштам, и Парнок, и Тихон Чурилин, и Никодим Плуцер-Сарна145. Тем резче на этом фоне выступает названность двух имен – Блока и Ахматовой. Циклы «Стихи к Блоку» и «Стихи к Ахматовой»146 принадлежат, пожалуй, к наиболее неортодоксальным образцам поэтических посвящений и приношений в поэзии модернизма. «Конечно, А. Блок – большой поэт, но к чему эта истерическая психопатия?»147 – напишет впоследствии И. Кубиков, рецензируя альманах «Пересвет», в котором впервые будут опубликованы четыре стихотворения Цветаевой, обращенных к Блоку (лишь два из них – из «Верст I»). Такая реакция будет характéрной и ее причины понятными: стилистический регистр стихов Цветаевой, обращенных к ее живым современникам, будет оцениваться как немотивированно высокий. Исследователи Цветаевой впоследствии приложат немало усилий к толкованию истоков и смысла этих циклов, акцентируя внимание либо на апологетической их стороне, либо на скрытом в них самоутверждающем пафосе, либо на интертекстуальности (использовании Цветаевой образов поэзии Блока и Ахматовой), либо на их стилистике в целом148. Если вспомнить цветаевское признание В. Розанову, что для нее «каждый поэт – умерший или живой – действующее лицо в [ее] жизни», то можно увидеть в стихах, обращенных к Блоку и Ахматовой, иллюстрацию именно такой тактики. Если же учесть, что циклы эти обращены к уже широко известным поэтам, а написаны поэтом, не составившим себе пока устойчивой репутации, то можно предположить, что славословия Цветаевой – способ приобщить свое имя к именам знаменитых собратьев, самоутвердиться. Однако ее литературная игра более изысканна.
Л. В. Зубова убедительно связала стилистическое решение обоих циклов с исихастской стилистикой «плетения словес»149, в данном случае проявляющей себя прежде всего в поэтической разработке темы «имени» и «сущности», в использовании риторических приемов приближения к сущности через исследование имени, его коннотаций и скрытых в нем смыслов. Что же, однако, выводит Цветаеву на путь этих квази-исихастских имитаций?
«Руки люблю / Целовать и люблю / Имена раздавать» (СП, 116), – так начинается стихотворение, в композиции сборника отделяющее один цикл от другого. Страсть «имена раздавать» – одна из бросающихся в глаза особенностей обоих циклов. В статье Л. В. Зубовой подробно анализируются первые стихотворения каждого из циклов и отмечаются две принципиальные стратегии цветаевского «имятворчества»: 1) неназывание истинного имени, замена его иными именами и подобиями («Имя твое – птица в руке…») и 2) нарочитое подчеркивание имени, в котором как будто должна раскрываться сущность человека:
И мы шарахаемся, и глухое: ох! —
Стотысячное – тебе присягает. – Анна
Ахматова! – Это имя – огромный вздох
И в глубь он падает, которая безымянна.
Эта игра с темами имени/безымянности, называния/неназывания имени подсказана Цветаевой, по‐видимому, одним из «безымянных» героев «Верст I» – Мандельштамом. Вероятно, еще летом 1915 года Цветаева знакомится с его стихотворением «И поныне на Афоне…»150. Это стихотворение вошло затем во второе издание сборника Мандельштама «Камень», которое тот надписал и подарил Цветаевой 10 января 1916 года в Петербурге151. Стихотворение Мандельштама содержит косвенный отклик на недавние события церковной жизни, имевшие широкий общественный резонанс: распространение в конце 1900‐х годов ереси имяславия, или имябожничества, в русских православных монастырях на Афоне и официальное осуждение ее в 1913 году русской православной церковью152. Ключевым элементом ереси было отождествление имени Бога с самим Богом, провозглашение воплощенности Бога в его имени. И. Паперно так характеризует истоки и суть имяславия:
Вопрос о сущности божественного имени вырос из толкования связанной с традицией исихазма мистической «Иисусовой молитвы», известной также как «умная молитва», «умное делание», «внутренняя молитва» <…>, которая составляет один из центральных элементов православной духовной жизни. Молитва эта состоит в повторении имени «Иисус». По мере углубления мистического состояния, имя теряет свою внешнюю словесную оболочку, перестает произноситься вслух, а затем и про себя и, «срастившись с дыханием», в безмолвии пребывает в сердце молящегося. Этот акт приводит к соединению с Богом в его имени. <…>
Группа афонских монахов, называвшая себя имяславцами (они принадлежали к необразованной части монашества, монахам-мужикам), предложила дальнейшее развитие этих представлений. Идея непосредственного, мистического присутствия Христа в его имени привела их к выводу о божественности самого имени «Иисус» («воплощение имени в самую сущность Божества») и о полной идентичности божественного имени и Бога. Именно в силу этого слово «Иисус» служит посредником между человеком и Богом. «Новый еретический догмат» (как называли его противники) гласил: «Имя Божие есть Сам Бог». Возникло особое почитание имени «Иисус»; в связи с этим особую роль приобрел запрет на произнесение Божьего имени всуе153.
Стихотворение Мандельштама по‐своему отталкивалось от богословской проблематики:
И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.
В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!
Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены,
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.
Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь154.
Метафорическая ересь, в которую впадает мандельштамовский влюбленный, заставляет его губить «любовь», отождествляя ее с данным именем (возлюбленной или возлюбленного). Произведенные Мандельштамом замены («любовь» вместо «Бог», имя возлюбленной вместо имени Бога) расширяют и секуляризируют дискуссию о соотношении «имени» и «сущности». Как показывает в своей статье И. Паперно, сама актуальность афонской ереси для литераторов модернистского круга объяснялась тем, что ее догматическая проблематика представлялась им переводимой на язык общефилософский и переносимой на проблематику текущих философско-эстетических споров. Актуальная для символизма и подкрепленная в конце 1900‐х годов открытием учения А. Потебни об изначальной мотивированности значения всякого слова155 (т. е. неразрывной связи имени и сущности) тема соотношения знака (внешней оболочки) и значения (сущности) слова неизменно присутствовала в дискуссионном поле 1900–1910‐х годов. Мандельштам своим стихотворением предлагал изящный примиряющий компромисс: «имя» объективно неотождествимо с «сущностью», ибо последняя – «безымянна», но мы все (по той или иной причине) подвержены «прекрасной ереси» такого отождествления, хотя и «губим» этим «безымянную», несказанную сущность.
В дневнике С. П. Каблукова именно это стихотворение из «Камня» отмечено как наиболее понравившееся Вяч. Иванову, наряду с еще одним – «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»156. Запись сделана 7 февраля 1916 года со слов самого Мандельштама, как раз по его возвращении из Москвы, где он, помимо долгих прогулок с Цветаевой, общался с Ивановым. Более чем вероятно, что и в разговорах с Цветаевой темы этого стихотворения возникали, тем более что написанное вскоре стихотворение Мандельштама «В разноголосице девического хора…», обращенное к Цветаевой, очевидным образом обыгрывает мотив неназывания имени157. Существенно, во всяком случае, что «афонское» стихотворение Мандельштама Цветаева хорошо запомнила, цитировала его в письме А. Бахраху в 1923 году (СС6, 612). Помнила она и другое стихотворение из «Камня», «Образ твой, мучительный и зыбкий…», также связанное с проблематикой имяславия158. Цитаты из него всплывают в ее московских записях революционных лет, причем в весьма примечательном контексте:
Бог я произношу, как утопающий: вздохом. Смутное чувство: не надо Бога тревожить (знать), когда сам можешь. А можешь с каждым днем растет…
Есть у Мандельштама об этом изумительный (отроческий) стих:
…Господи! – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать…
и – дальше:
Имя Божье, как большая птица,
Вылетело из моей груди…
Нечаянно. – Но я никогда не дерзну назвать себя верующей, и это – молитвой (СС4, 517).
Важно здесь то, что строчки Мандельштама вспоминаются Цветаевой именно по ассоциации с мотивом сакрального запрета на произнесение имени Божьего всуе (т. е., «когда сам можешь»).
Возвращаясь к стихам «Верст I», бесспорной представляется связь с темой имяславия стихотворения Цветаевой «Люди на ду´шу мою льстятся…», на что уже указала К. Б. Жогина159:
Люди на ду´шу мою льстятся,
Нежных имен у меня – святцы.
А восприéмников за душой —
Целый, поди, монастырь мужской!
Уж и священники эти льстивы!
Каждый‐то день у меня крестины!
Этот – орлицей, синицей – тот, —
Всяк по иному меня зовет.
У тяжелейшей из всех преступниц —
Сколько заступников и заступниц!
Лягут со мною на вечный сон
Нежные святцы моих имен.
Звали – равнó, называли – разно.
Всé называли, никто не нáзвал.
Иронически обыгрывая тему «мужского монастыря» как места происхождения ереси, Цветаева отталкивается в своем развитии имяславской темы именно от подсказки Мандельштама: это ведь он указал на влюбленного как на главного еретика, путающего любовь с именем возлюбленной. Подхватив вначале мандельштамовскую тему, Цветаева в конце стихотворения обрывает свое ироническое повествование на серьезной ноте: среди множества называвших нет единственного, который бы «нáзвал», избрал.
За этой первой примеркой «афонской» темы и следует всего через девять дней стихотворение «Имя твое – птица в руке…», давшее начало циклу «Стихи к Блоку». Цветаевой уже не нужен текст-посредник, она пускается в самостоятельную разработку имяславской темы, поставив себе творческим условием «неназывание имени всуе»:
Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке.
Одно единственное движенье губ.
Имя твое – пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.
Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет тáк, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.
Имя твое – ах, нельзя! —
Имя твое – поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век,
Имя твое – поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим – сон глубок.
По-видимому, это стихотворение пишется еще без всякой мысли о будущем цикле. Почему выбирается Блок? Причин, помимо недавнего пребывания Блока в Москве, может быть несколько. Во-первых, он – петербургский поэт, по этому признаку ассоциирующийся у Цветаевой с Мандельштамом. Во-вторых, это поэт, чье имя (звучание имени, прежде всего – его односложность) дает простор ее поэтическому эксперименту. Не менее важно, однако, другое. Цветаева выбирает поэта, которого она чтит и никогда не видела, – и в этом он подобен божеству, и это мотивирует скрытое присутствие богословской референции. С другой стороны, Блока, не знакомого ей, не участвующего в ее жизни, она может ввести в свои стихи – и в свою жизнь – только через имя. Только повторяя его имя про себя («ах, нельзя!» относится, конечно, к запрету на произнесение имени) и ища ему языковые подобия вслух, она, творчески перерабатывая богословскую логику, может установить истинный контакт с носителем имени.
Цветаева, должно быть, не сразу обнаруживает, какую богатую творческую жилу она открыла160. Осознав это, она уже намеренно пишет стихотворение за стихотворением, разрабатывая эту жилу. Руководит ею не истовое преклонение перед Блоком, а логика поставленного поэтического эксперимента. Запрет на произнесение имени, творчески увлекший Цветаеву, превращает Блока в божество, к которому теперь и надо обращаться как к таковому. Реальная богословская логика здесь, конечно, вывернута наизнанку: тот, кого не смею назвать по имени, и есть божество. Божественность Блока, впрочем, не абсолютна; демонические, инфернальные черты в его облике подчеркиваются наравне с божественными161:
Голубоглазый
– Меня – сглазил
Снеговой певец.
<…>
Он поет мне
За синими окнами,
Он поет мне
Бубенцами далекими,
<…>
Милый призрак!
Я знаю, что всё мне снится.
Сделай милость:
Аминь, аминь, рассыпься!
Аминь.
В стихотворении, рисующем воображаемую смерть героя162, его облик как будто списывается с врубелевского «Демона поверженного»:
О, поглядите, – кáк
Веки ввалились темные!
О, поглядите, – кáк
Крылья его поломаны!
Если зарок «И по имени не окликну» (СП, 113), по логике авторского замысла, устанавливает божественность адресата, то логичным является и второй зарок: и при жизни не встречусь. Его разрабатывает пятое стихотворение цикла, «У меня в Москве – купола горят…», трактующее о возможности лишь одного свидания – посмертного.
В последнем стихотворении содержится свидетельство того, что и второе из наиболее понравившихся Вяч. Иванову в «Камне» стихотворений Мандельштама родило творческий отклик у Цветаевой. Строка «Всей бессонницей я тебя люблю» очевидно эксплицирует сцепку двух основных мотивов (любви и бессонницы) из стихотворения Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». Это, в свою очередь, заставляет предположить, что и вся вереница стихов о «бессоннице» в «Верстах I»163 подсказана именно стихотворением Мандельштама164. Вслед за С. Ельницкой мы полагаем, что творческий интерес Цветаевой к мотиву «бессонницы» (в старом правописании – «безсонницы») объясняется услышанной ею в этом слове «внутренней формой»: «без Сони»165. Любопытно, что восстанавливая в 1941 году на одном из экземпляров «Верст I» раннюю редакцию стихотворения «Коли милым назову – не соскучишься!..», Цветаева исправит правописание в печатном тексте двух слов: «черт» – на «чорт» и «бессонница» – на «безсонница»166. Очевидно, именно такая орфография этого слова ей важна. Учитывая биографическую смежность разрыва с Парнок и романа с Мандельштамом, именно мандельштамовское слово со столь непредвиденно личной для Цветаевой «внутренней формой» возможно и объясняет интенсивность разработки темы «бессонницы» в «Верстах I». И если предположить, что разговоры об имяславии должны были выводить двух поэтов к более общим разговорам о «природе слова», о соотношении знака и значения в слове (в потебнианском духе), то стихотворения «Верст I», циклизующиеся вокруг темы бессонницы, можно считать творческим ответом Цветаевой на концепцию внутренней формы слова.
Цикл «Стихи к Ахматовой»167 продолжает линию блоковского цикла, но не повторяет ее. Если в «Стихах к Блоку» Цветаева прошла логический путь от запрета на имя – к обожествлению безымянного персонажа-адресата, то в «Стихах к Ахматовой» она изменяет главное «условие игры». Цикл сразу начинается с нарушения запрета на произнесение имени героини168, хотя параллельно разворачивается тот же, что и в «Стихах к Блоку», поиск подобий или замен этому имени:
О муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас как стрелы.
И мы шарахаемся, и глухое: ох! —
Стотысячное – тебе присягает. – Анна
Ахматова! – Это имя – огромный вздох
И в глубь он падает, которая безымянна.
Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.
В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий…
– И я дарю тебе свой колокольный град
– Ахматова – и сердце свое в придачу!
Можно было бы объяснить столь легкое нарушение Цветаевой запрета на имя героини цикла тем, что в случае Ахматовой она имеет дело с псевдонимом, литературным именем, которое уже есть способ изъятия из обращения истинного, сакрального имени персонажа-адресата. Но едва ли это так. Ведь имя запрещено произносить лишь всуе, так что в ахматовском цикле Цветаева просто ставит себе иную творческую задачу: она произносит имя, чтобы оно, «срастившись с дыханием» (как говорили имяславцы), эхом звучало внутри ее строк. Совершенно не случайно, что первое же, что говорится об имени героини – это что оно «огромный вздох». Вспомним цитировавшуюся запись Цветаевой (в связи с «имяславским» стихотворением Мандельштама): «Бог я произношу, как утопающий: вздохом» (СС4, 517). «Огромный вздох» имени Ахматовой, падающий в «безымянную глубь», – не профанное нарушение запрета, а стремление через произнесение имени приобщиться сущности носящей его. Это подтверждает и третье стихотворение цикла, рассказывающее о смерти героини: «Так много вздоха было в ней, / Так мало – тела» (СП, 118). «Вздох», бывший характеристикой имени, оказывается и важнейшим атрибутом сущности героини; таким образом, имя и сущность оказываются тождественными.
Ряд стихов, обращенных к Ахматовой, пишется вскоре после того, как роман с Мандельштамом прерывается на неопределенной ноте, а возможно – вообще кажется Цветаевой исчерпанным: после его приезда к ней в Александров и затем быстрого отъезда оттуда в Коктебель169. Тем не менее и образ Ахматовой из мандельштамовского стихотворения «Ахматова» в «Камне», и несомненно имевшие место его рассказы о ней играют свою роль в зарождении цикла. Кроме того, Цветаева, по‐видимому, перечитывает Ахматову в Александрове; позже, в «Истории одного посвящения» (1931), она даже будет утверждать, что впервые читает ее там (СС4, 140), однако это не соответствует действительности.
Освободившись от присутствия Мандельштама (вся весна 1916 года прошла все‐таки в интенсивном и регулярном общении с ним), Цветаева вводит в свои стихи другого петербургского поэта, причем, с одной стороны, непосредственно из мандельштамовского круга, а с другой – связанного также и с Блоком170. И то и другое имеет значение.
В отличие от Блока, с которым встреча невозможна, Ахматова (подобно или по аналогии с Мандельштамом) следует за автором стихов, как «конвойный» за «острожником», и у них «судьба одна» (СП, 120). Ахматова вдобавок «чернокнижница» (СП, 120), а именно этим словом не так давно в стихотворении «Канун Благовещенья…» Цветаева назвала себя (СП, 94). В «культурном царстве» «Верст I» Ахматова попадает (помещается) в ту же нишу, что и сам автор сборника, что подтверждается финальным стихотворением цикла – «Ты солнце в выси мне застишь…». Это было бы совершенно справедливо, если бы не слово «муза», употребленное в качестве одного из имен героини («муза плача», «Царскосельская муза», «Муза Царского Села»). Слово это – дань петербургско-европейскому и связанному с ним классическому субстрату в конструкции образа героини. Последний, вероятно, прямо навеян и «окаменевшей ложноклассической шалью» и Федрой из упоминавшегося стихотворения Мандельштама. Однако «музой» Ахматова именуется лишь в первой половине цикла (в стихотворениях 1, 2, 3 и 5); далее происходит как бы постепенное «присвоение» героини московским культурным пространством, превращающим ее в «народную» героиню.
Молитвенная стилистика, существенная для блоковского цикла, в ахматовском цикле практически отсутствует. Христианские черты в облике героини сведены к минимуму, а появляясь, связываются прежде всего с «народной верой» («Богородица хлыстовская» (СП, 121)). Если Блок оказывался Христом и Демоном в одном лице, то Ахматова может представать и как Богородица и как ее антипод, «лже-Богородица». О ней говорится, например: «Ты, срывающая покров / С катафалков и колыбелей» (СП, 120) – т. е. совершает она нечто прямо противоположное тому, что делает Богородица, опускающая покров на страждущих (дающая им защиту).
Временнáя смежность в разработке образов Блока и Ахматовой заводит Цветаеву далеко. Именуя Ахматову «хлыстовской Богородицей», она создает, в контексте сборника, неожиданную «пару» обожествленному Блоку (Христу). Богородица и Христос – это ведь имена лидеров хлыстовской общины (корабля); Цветаева впоследствии описывала виденных ею в детстве Христа и Богородицу из тарусского хлыстовского гнезда («Хлыстовки», 1934). «Хлыстовская Богородица» наверняка и появилась в ахматовском цикле только потому, что в блоковском был уже герой, уподобленный Христу. Помимо прочего, двоящийся смысл имен Христа и Богородицы создавал по‐модернистски соблазнительную «омонимию», особенно многообещающую, если интерпретировать ее как пример «неправильного перевода» или искажения смысла имени при переходе от петербургско-европейской к народно-московской культуре. Какими в точности представляла себе Цветаева реальные отношения Блока и Ахматовой, мы не знаем. Но знаменательно, что она и десять лет спустя хотела предполагать наличие каких‐то особых личных отношений между ними. В ироническом пассаже статьи «Поэт о критике» (1926) об «изумительной осведомленности» читателей «в личной жизни поэтов» Цветаева замечала: «Блоковско-Ахматовской идиллии, кстати, не оспариваю, – читателю видней!» (СС5, 290–291). Вероятно, такая «идиллия» представлялась Цветаевой удачным подспорьем к ее собственным стихам.
Особенность и блоковского и ахматовского цикла состояла в том, что, будучи по замыслу «московскими» текстами о «петербургских» поэтах, они стали образцами петербургской поэтики в творчестве Цветаевой, – поэтики, ориентированной на цитатность и интертекстуальную игру и лишь модифицированной, по сравнению с петербургскими образцами, культурной и стилистической архаикой референций. Именно в этих двух циклах Цветаева впервые сознательно и планомерно работала с чужими текстами как со «строительным материалом» собственных стихов, – и в этом трудно не увидеть влияния Мандельштама. Подробный разбор явных и скрытых подтекстов и, в частности, широкого использования Цветаевой тем и образов поэзии Блока и Ахматовой в обоих циклах, мог бы занять еще многие страницы171. Разумеется, стимулировал Цветаеву в работе над стихами интерес к личностям и творчеству обоих поэтов. Но несомненно и то, что ни тот, ни другой цикл не являются актами преклонения и превознесения их героев par excellence. Распутывание смыслов, причудливо переплетающихся в отдельных стихотворениях и в циклах в целом, занятие увлекательное и бесконечное, ибо ускользающая от линейной интерпретации семантика – это принцип, на котором оба цикла построены. Обратившееся потом в легенду, которая поддерживалась и даже укреплялась самой Цветаевой, ее «преклонение» перед Блоком и Ахматовой было именно легендой, мифом, родившимся в процессе переосмысления собственных стихов. В 1916 году создание этих уникальных именных циклов было актом освоения и усвоения Цветаевой новой для нее петербургской поэтики, с ее игрой с чужим текстом и идеологемой, с ее семантической амбивалентностью, с ее иронией и пафосом.
К середине 1916 года уже были созданы все ключевые циклы будущего сборника «Версты I». В конце июля этого года Цветаева сообщала Петру Юркевичу о своих планах «после войны издать сразу две книги» (СС6, 25). Как собиралась Цветаева делить в это время стихи на сборники мы, впрочем, не знаем. Другой источник примерно того же времени, письмо М. Волошина к М. Цетлину, свидетельствует как будто даже о наличии у Цветаевой двух подготовленных к изданию сборников стихов172. Почти через год, рецензируя в своей статье «Голоса поэтов» сборники «Стихотворения» С. Парнок и «Камень» О. Мандельштама, Волошин напишет: «У меня звучит в ушах последняя книга стихов Марины Цветаевой, так непохожая на ее первые полудетские книги, но я, к сожалению, не могу ссылаться на нее, так как она еще не вышла»173. Трудно сказать, какой корпус текстов имеет в виду Волошин, говоря здесь о «последней книге» Цветаевой; неясно также, какими могли быть те два сборника, о которых шла речь летом 1916 года.
Помимо цикла «Стихи о Москве», считанные стихотворения 1916 года появятся в печати до выхода «Верст I» в 1922 году, и даже те, что появятся, особого внимания критики не привлекут. Вплоть до эмиграции известность Цветаевой в литературном кругу будет идти рука об руку с ее репутацией непечатающегося поэта. Инерция этого представления скажется, например, в отзыве о Цветаевой М. Кузмина в его «Парнасских зарослях»: «В Москве же находится достойная всяческого внимания Марина Цветаева, но книг ее, насколько я знаю, не выходило»174. Датированное сентябрем 1922 года, а опубликованное лишь в следующем году, это свидетельство по‐своему замечательно: Цветаева к сентябрю 1922 года не только уже почти четыре месяца как покинула Москву, но и успела опубликовать за предшествующий год не одну книгу. В конце 1922 года к ним добавился и сборник «Версты I». Попав в совершенно новый культурный контекст, он почти не удостоился тогда внимания критики175. Из этого не следует, что стихи «Верст I» остались современникам неизвестными: напротив, многим они запомнились, и в 1926 году Цветаева жаловалась, что редакторы, не принимающие ее новой стилистики, просят у нее «стихов ПРЕЖНЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ, т. е. 16 года» (ПТ, 69). Лишь в редких случаях знакомые с более ранним творчеством Цветаевой, современники в дальнейшем вели «отсчет» ее творческой эволюции именно от поэтики «Верст I».
(1917–1922)
Когда в 1931 году Цветаева напишет в статье «Поэт и время»: «Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос – нет» (СС5, 338), – за этим обобщением, как часто у Цветаевой, будет стоять глубоко личное признание. Именно революция положит предел тому самоопределению, которое она впоследствии будет описывать словами: «Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, плачу, наряжаюсь – и пишу стихи» (МЦБП, 34). Именно революция заставит Цветаеву принять ту роль, которой она избегала в предшествующее семилетие, – роль профессионального литератора. Процесс «перемены идентичности» окажется драматичным и болезненным, вызовет изменение авторской концепции самых основ собственной личности и оставит по себе внутренний конфликт, который никогда не разрешится. Но все это вместе и сформирует ту культурную личность, которая известна в истории русской литературы под именем Марины Цветаевой.
«Самое главное: с первой секунды Революции понять: Всё пропало! Тогда – всё легко» (СС4, 457), – лаконично суммирует Цветаева свой революционный опыт в «Моих службах» (1918–1919, 1925). Двадцати пяти лет, оказавшись в революционной Москве одна с двумя детьми на руках, не имея никакого навыка самостоятельного ведения дома, потеряв в результате национализации банков все доставшееся по наследству состояние, – Цветаева не имела, казалось бы, оснований видеть в революции что‐либо, кроме безжалостной всеразрушающей стихии. Тем показательнее не только позднейшие, но и такие синхронные переживаемому революционному опыту записи, как:
Большевики мне дали хороший русский язык (речь, молвь) … Очередь – вот мой Кастальский ток! Мастеровые, бабки, солдаты…
Этим же даром большевикам воздам! (СС4, 565)
Интонация этих строк нова. В ней уже не голос «женщины, безумно любящей стихи», но голос поэта, измеряющего значение исторической катастрофы мерой творческого импульса, принесенного ею в его жизнь. Творческий ответ на переживаемые события будет складываться постепенно, но о драматической перемене своего социального статуса Цветаева заговорит уже в конце августа 1918 года:
Я абсолютно déclassée176. По внешнему виду – кто я? – 6 ч. утра. Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным ремнем (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы.
Из-под плаща – ноги в серых безобразных рыночных чулках и грубых, часто не чищенных (не успела!) – башмаках. На лице – веселье.
Я не дворянка (ни гонора, ни горечи), и не благоразумная хозяйка (слишком веселюсь), и не простонародье <…> и не богема (страдаю от нечищенных башмаков, грубости их радуюсь, – будут носиться!).
Я действительно, АБСОЛЮТНО, до мозга костей – вне сословия, профессии, ранга. – За царем – цари, за нищим – нищие, за мной – пустота (ЗК1, 271).
Утрату прежнего социального статуса и связанных с ним привилегий Цветаева, таким образом, осмысляет в радикальном ключе: как выпадение из всех существующих социальных ниш, т. е. как изгойство, аутсайдерство par excellence. Она «вне сословия, профессии, ранга»; отсюда, как видно из последующей фразы, уже полшага до строк «Роландова рога» (1921), в котором Цветаева «Одна из всех – за всех – противу всех!» – в противоположность тем, кто укоренен в социуме:
За князем – род, за серафимом – сонм,
За каждым – тысячи таких, как он,
<…>
Солдат – полком, бес – легионом горд,
За вором – сброд, а за шутом – всё горб.
В более ранних стихах Цветаева не индивидуализирует свой случай столь радикально, и обобщающее «мы» в рассуждениях об исторической судьбе людей ее круга появляется не раз:
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит – Расу:
Черная кость – белую кость.
Однако постепенно для ее автомифологии представление об уникальности, единичности того, что произошло с ней, становится функционально наиболее важным. Авторефлексия Цветаевой в 1918–1920 годах будет долго кружить в поисках продуктивной позиции, творческой и человеческой, которая была бы совместима с произошедшим «выпадением» из социума. В «Роландовом роге» эта позиция и будет сформулирована: позиция поэта, принявшего свое бытие вне социума как новое, индивидуальное «условие игры».
Разумеется, нельзя считать одну лишь революцию причиной такого поворота в понимании Цветаевой себя. Революция несомненно совпала с неизбежными возрастными переменами личностного характера. Однако столь важным по своим последствиям это совпадение оказалось именно потому, что в решающий период своего человеческого развития Цветаева оказалась перед необходимостью искать опору именно и только в тех свойствах своего «я», которые помогали выживанию в ситуации социальной катастрофы. Революция, с одной стороны, раскрыла Цветаевой некоторые важные свойства ее личности, причем и быстрее и яснее, чем это могло бы происходить при обычном течении жизни. А с другой стороны, революция лишила Цветаеву многих вариантов самоидентификации, закрыла для нее какие‐то иные свойства ее «я», не востребованные новыми обстоятельствами. Революция кристаллизовала ту личность, которая могла продолжать существовать в изменившихся социальных условиях, сохраняя и охраняя свою человеческую автономность.
Стремительности внутренних перемен сопутствовало резкое раскрепощение авторефлексии Цветаевой. Все «аномальные», неординарные, в том числе и непривлекательные, черты собственной личности теперь настойчиво ею фиксировались, обсуждались, декларировались, как бы служа необходимыми для автора доказательствами собственной особости, своего положения вне всяческих социальных групп. Эта тенденция отчетливо прослеживается по записным книжкам Цветаевой 1918–1920 годов, да и по ряду стихотворений этого времени.
Именно с углубления и усугубления в себе чувства «изгойства» Цветаева начинает поиск ответа на вопрос «кто я?»177. Вслед за обнаружением непринадлежности к «сословию, профессии, рангу» она ставит под сомнение свою принадлежность к полу. «Мужчины и женщины мне – не равно близки, равно – чужды. Я так же могу сказать: “вы, женщины”, как: “вы, мужчины”» (ЗК1, 268), – это запись тех же августовских дней 1918 года, что и предыдущая – о своем положении «déclassée». «Область пола – единственная, где я не четка» (ЗК2, 79), – так формулирует Цветаева в марте 1920 года. Рассуждениями о своей необычности в области пола и в характере любовных привязанностей полны ее записные книжки революционных лет. Отделять в этих высказываниях автомифологию от действительных психо-сексуальных особенностей Цветаевой не только невозможно, но и непродуктивно. Интерпретировать ее высказывания можно по‐разному, в зависимости от цели анализа. Для понимания того, что и как будет далее писать Цветаева, важно констатировать: она вписывает сексуальную трансгрессию178 в круг тех свойств своего «я», которые обуславливают ее изгойство. И второе: свой идиосинкразический дискурс о сексуальности или дискурс об идиосинкразической сексуальности она воспринимает как творчески значимый, т. е. значимый для ее литературного «я»179.
В ноябре 1918 года Цветаева уже сводит все элементы своей новой идентичности воедино:
Бог меня одну поставил
Посреди большого света.
– Ты не женщина, а птица,
Посему – летай и пой.
В этом четверостишии в свернутом виде дана квинтэссенция идентификаций зрелой Цветаевой, строящихся на принципе замещения социальной и сексуальной идентичности – идентичностью творческой. Во-первых, она «одна», даже самая возможность социальных связей у нее отсутствует, и устроил так «Бог». Во-вторых, она «не женщина», и ее сексуальная идентичность вытеснена иной идентичностью. В-третьих, эта иная идентичность и есть идентичность поэта: она «птица», и наказал ей Бог «летать и петь».
И социальное изгойство и сексуальная трансгрессивность, которые одновременно обсуждаются в автометадискурсе Цветаевой, закрепляются в нем не как маргинальность, а как уникальность, исключающая принадлежность к группе. Собственный пол Цветаева поначалу описывает как андрогинность180, но чем дальше, тем более – как дефицит женского начала, который, однако, не восполнен началом мужским (как следовало бы по «арифметике» Вейнингера), а «заполнен» вакуумом. Иначе говоря, ее пол – это дефицит пола. Из этого следует принципиальная возможность описывать собственную сексуальность как необходимость, в вейнингеровских терминах, «восполнять» в себе и дефицит женского начала и отсутствие (либо дефицит) мужского. «Женщин я люблю, в мужчин – влюбляюсь» (ЗК2, 197), – замечает она в одном месте. В другом пускается в объяснения:
Дурак тот кто скажет, что к мужчинам меня стремит – чувственность.
1) Не стремит. 2) Не только к мужчинам. 3) У меня слишком простая кровь – как у простонародья – простая, радостная только в работе.
Нет, всё дело в моей душе (ЗК2, 78).
«Душа» здесь появляется вовсе не как клише, необходимое для перевода темы сексуальности в иную плоскость, а как имя для того вакуума пола, который Цветаева в себе обнаруживает. «Птица», с которой идентифицирует себя Цветаева, имеет в ее образном словаре этого времени два подварианта. Во-первых, это мифологическая «Птица-Феникс», несколько раз появляющаяся в ее произведениях 1918–1920 годов. Во-вторых, это Психея («душа, дыхание, бабочка» в переводе с древнегреческого)181, которая Цветаевой воображается, например, в виде ласточки: « – Возлюбленный! – Ужель не узнаешь? / Я ласточка твоя – Психея!»182 (СП, 147). Таким образом, «душа», которую вводит Цветаева в разговор о сексуальности, это «душа» из цепочки «душа – птица – пение (творчество)». «Душа» связывается с влечением к мужскому началу, и она же, будучи знаком «дефицита пола» («Ты не женщина, а птица») ведет к творчеству. Сексуальная и творческая идентичность оказываются связанными, и постепенно на дискурсивном уровне сексуальная идентичность начинает описываться Цветаевой как вытекающая из идентичности творческой, индуцируемая ею. «Женственность во мне не от пола, а от творчества, – запишет она свой вывод в начале 1922 года. – Да, женщина – поскольку колдунья. И поскольку – поэт» (СТ, 78). Стремление к мужскому (заложенное в «женственности») производно, таким образом, от творческой способности.
Рождение автомифологии вокруг темы пола и творчества, столь значимой для Цветаевой, происходило на фоне осмысления ею практических последствий своего нового социального положения. Трудно сказать, насколько продуманной была та резкая перемена литературного поведения, которой Цветаева ответила на революцию. Возможно, это было лишь спонтанной реакцией на нее. Единственной сферой, с которой Цветаева ассоциировала себя, была литература, и профессиональная идентификация с этой сферой становилась теперь единственным способом определения своего социального статуса вообще.
Изменение стратегии социального поведения Цветаевой быстрее всего сказалось в новом отношении к «продуктам» своего творчества как к товару, имеющему цену. В «Поэте о критике» (1926) Цветаева будет так вдохновенно писать о роли денег в жизни автора, что нет никаких сомнений: она и в самом деле пережила в свое время это открытие как откровение183. Ранние сборники она издавала за свой счет, от гонораров в «Северных записках», по ее словам, отказывалась184. А вот описывая свою жизнь в послереволюционной Москве, сразу подчеркнула то новое, экономическое, измерение, которое приобрело для нее творчество:
Был 1919 г. – самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню кто, кажется Ходасевич, надоумил меня снести книгу стихов в Лито. «Лито ничего не печатает, но все покупает». Я: «Чудесно». – «Отделом заведует Брюсов». Я: «Чудесно, но менее. Он меня не выносит». – «Вас, но не Ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все‐таки – пять дней хлеба» («Герой труда»; СС4, 30).
Два сборника («Юношеские стихи» и «Версты I») в конце концов действительно были сданы в Государственное издательство, и делая в июне 1920 года запись об этом, Цветаева отмечала: «Не для печатания, конечно, – деньги. Около 40.000 р. (10 руб. строчка, 4 года «работы»)» (ЗК2, 205). Закавыченное слово «работа» выражало и изумление Цветаевой перед этим новым именем стихописания, и невольное признание, что именно так оно, видимо, должно было теперь называться, раз за него платили деньги (какой бы малой ни казалась сумма).
На фоне долгого периода безразличия к своей печатной карьере энергичность, с которой Цветаева принялась за налаживание литературных отношений в пореволюционной Москве, свидетельствовала о быстроте перестройки ее самосознания. Несколько сборников стихов, подготовленных в революционные годы185, участие в коллективных альманахах, даже продажа рукописных книжечек стихов через московскую Книжную лавку писателей186 в период издательского кризиса – все это свидетельствовало о том, что самоопределение Цветаевой как профессионального литератора состоялось.
Это высветило парадоксы прежней самоидентификации Цветаевой и сделало насущной для нее задачу концептуализации собственной ранней литературной биографии. Выяснилось также, что сложившееся в предшествующее десятилетие сознание собственной независимости от текущей литературной политики уже успело стать для Цветаевой неотъемлемой частью ее культурной личности, вне такой позиции себя не мыслящей. Поэтому если ее социальная ниша после революции de facto определялась ее литературными занятиями, то психологические навыки прежней социальной идентичности, социального поведения и отношения к литературе как институту также остались с Цветаевой на всю жизнь. Они лишь перешли из разряда социально обусловленных в разряд творчески избранных. Социально-психологический комплекс женщины дворянского сословия, свободной от необходимости и лишенной потребности вступать в устойчивые отношения с профессиональными институтами, – вот что продолжало сильнейшим образом влиять на поведение и осмысление себя Цветаевой и тогда, когда социальный порядок, в котором был укоренен этот тип сознания, навсегда канул в прошлое.
У этой позиции была и другая сторона. Аристократизм частного человека, «déclassée» по выбору, уберег Цветаеву впоследствии от многих искусов, уготованных историей ее поколению, – искусов, перед лицом которых один за другим пасовали, теряя поведенческие и интеллектуальные ориентиры, многие ее современники. Определяя воспитавшую ее домашнюю атмосферу в ответе на анкету 1926 года, Цветаева нашла необходимым подчеркнуть: «Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский – рыцарский» (СС4, 622). В этом странном, на первый взгляд, противопоставлении звучит существенная для понимания Цветаевой тема – тема ее «рожденного» несовпадения ни с одним из социально-психологических типов, которым суждено будет определять интеллектуальную и духовную атмосферу современного общества. Потому так устойчив ее иммунитет к умственным эпидемиям, охватывавшим это общество; потому же так очевидно и ее одиночество в своем поколении, с которым ее не связывают общие ошибки, заблуждения и метания. «Не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней <…>. Люблю дворянство и народ, цветение и недра» (МЦБП, 239), – напишет она Пастернаку в 1926 году, прекрасно сознавая, что любит то, чего нет или уже почти нет, – исчезающие вместе с прежним строем жизни социально-психологические типы.
О своем социальном консерватизме, парадоксально уживавшемся с новаторством ее поэтики и авторепрезентации, о неотделимости собственного психологического и творческого облика от воспитавшей ее и навсегда ушедшей социальной атмосферы Цветаева однажды выскажется очень точно:
Зная только одни августейшие беды, как любовь к нелюбящему, смерть матери, тоску по своему семилетию, – такое, зная только чистые беды: раны (не язвы!) – и всё это в прекрасном декоруме: сначала феодального дома, затем – эвксинского брега – не забыть хлыстовской Тарусы, точно нарочно данной отродясь, чтобы весь век ее во всем искать и нигде не находить – я до самого 1920 г. недоумевала: зачем героя непременно в подвал и героиню непременно с желтым билетом. Меня знобило от Достоевского. Его черноты жизни мне казались предвзятыми, отсутствие природы (сущей и на Сенной: и над Сенной в виде – неба: вездесущего!) не давало дышать. Дворники, углы, номера, яичные скорлупы, плевки – когда есть небо: для всех.
То же – toutes proportions gardées187 – я ощущала от стихов 18летнего Эренбурга, за которые (присылку которых – присылал все книжки) – его даже не благодарила, ибо в каждом стихотворении – писсуары, весь Париж – сплошной писсуар: Париж набережных, каштанов, Римского Короля, одиночества, – Париж моего шестнадцатилетия.
То же – toutes proportions encore mieux gardées188 – ощущаю во всяком Союзе Поэтов, революционном или эмигрантском, где что ни стих – то нарыв, что ни четверостишие – то бочка с нечистотами: между нарывом и нужником. Эстетический подход? – ЭТИЧЕСКИЙ ОТСКОК (СТ, 152–153)189.
Цветаева так и не уточнит в этой записи, что же переменилось в ее взгляде на мир после 1920 года. И это умолчание кажется не случайным. Ибо ни жизненный опыт, ни прагматика литературного существования ее «рожденного» самоопределения изменить так никогда и не смогли.
Монолитность корпуса стихов Цветаевой 1916 года особенно наглядна на фоне последовавшего затем в ее творчестве разветвления поэтического русла. 1917–1920 годы – самый трудный для анализа период ее творческого развития. Частично это обусловлено тем, что сама Цветаева не составила из стихов этого времени ни одного «этапного», в ее терминологии, сборника: сборник «Версты II», в который, по‐видимому, должен был войти значительный корпус ее стихов 1917–1920 годов, Цветаева в своих позднейших автобиографиях и анкетах всегда помечала как невышедший. Тем самым она предостерегала против понимания выпущенного ею сборника «Версты», включавшего лишь небольшую выборку из стихов этого периода, как этапного. Ставшее уже традиционным в исследовательской литературе обозначение именно этого сборника как «Версты II» невольно узаконило неверное толкование его смысла или, во всяком случае, привело к смешению двух разных замыслов, один из которых остался неосуществленным. Те тридцать пять стихотворений, которые Цветаева отобрала для «Верст», составляли не более десятой части написанного за период с 1917 по 1920 год. О предыстории этого сборника Цветаева не оставила никаких свидетельств, но учитывая ситуацию только-только воскресающего в 1921 году после периода «военного коммунизма» издательского дела, можно с уверенностью предположить, что его объем был ограничен волей издателя. Однако то, что настоящие «Версты II» не осуществились и позже (хотя бы в виде цельной авторской рукописи, как в случае с «Юношескими стихами»), позволяет допустить, что осмысление этого периода как определенного творческого этапа было и для самой Цветаевой сложной задачей.
Уже само количество стихов, написанных в эти годы, было огромным и в один сборник никак не уместилось бы. Принципы составления этапных сборников, которые Цветаева выработала при подготовке «Юношеских стихов» и «Верст I», подразумевали хоть и не исчерпывающее, но близкое к полноте представление написанного за данный период. Это подчеркивалось и хронологической композицией, с преобладанием точных («дневниковых») датировок под стихотворениями. Едва ли и двух сборников в таком случае было бы достаточно, чтобы вместить около четырех сотен стихотворений этих лет. Еще более существенно, что разноголосица стилей и тем, ворвавшихся в конце 1910‐х годов в цветаевскую поэзию, сделали бы гипотетические «Версты II» сборником аморфным, стилистически не цельным. Даже те стихотворения, которые были отобраны для «Верст», Цветаева нашла необходимым разделить на два раздела, каждый из которых укладывался в хронологические рамки 1917–1920 годов. В цветаевской практике составления сборников такой прием уникален и является отражением нелинейности творческих поисков этих лет, их сопротивления чисто хронологическому упорядочению.
Почти одновременно с изданием «Верст» Цветаева выделила еще два русла в своей лирике революционных лет. Уже к концу 1921 года существовал план издания сборника «Лебединый стан»190, в который должны были войти стихи 1917–1920 годов, содержавшие непосредственный отклик на исторические события этих лет. Сборник не увидел света при жизни автора, но судить о его составе можно по рукописи 1938 года, по которой он и был посмертно опубликован. Наконец, в 1922 году, еще до отъезда из России, Цветаева продала издательству З. Гржебина сборник «Психея. Романтика», в который вошли избранные стихи 1916–1921 годов, – в частности и выборка стихов 1917–1920 годов, пересекающаяся отчасти с «Верстами», но включающая еще тридцать стихотворений, в «Версты» не вошедших.
Стилистическая разноголосица в поэзии Цветаевой революционных лет, отсутствие в ней единого внутреннего стержня объясняются и сознательным экспериментаторством, пошедшим сразу по нескольким направлениям, и процессом складывания новой идентичности автора, о котором говорилось выше. Большое количество не доведенных до беловика стихотворений, а также стихотворений, хоть и завершенных, но явно слабых и не могущих удовлетворить автора, связано с этим исчезновением магистральной творческой линии. Неосуществленность «Верст II» и очень избирательная публикация Цветаевой стихов 1917–1920 годов свидетельствуют, по‐видимому, о том, что «многописание» свое в эти годы она все же молчаливо квалифицировала как своеобразный творческий кризис. Открытия и взлеты, которые сопутствовали поискам Цветаевой в этот период, постепенно трансформировали не только ее поэтику, но и всю ее творческую идеологию.
Стихи, отобранные Цветаевой для «Верст», во многом продолжали тенденцию «Верст I». Однако сама стилистика и тематика лирики 1916 года не могла эксплуатироваться бесконечно. Продолжением ей могло служить видоизменение культурно-мифологического (и, соответственно, лексико-стилистического) кода, создававшего поэтическое пространство. В первом разделе «Верст», «народно-московский» код «Верст I» был модифицирован цыганскими мотивами, прежде всего – стилистикой песни и гадания. Именно этой своей стороной «Версты» более всего «заворожили» современников: «Марина Цветаева услышала какой‐то исконный русский звук, пусть в цыганском напеве. Не потому ли цыганская песня была всегда так мила нам, что отвечает она чему‐то древнему, степному, неистребимому в нас. И “Московская боярыня Марина” сумела отдаться стихии этого звука»191, – писала Надежда Павлович в своей рецензии на «Версты». Еще более яркое свидетельство о том магическом действии, которое производили цветаевские «цыганские» стихи на современников, оставил Всеволод Рождественский:
С именем Марины Цветаевой в комнату входит цыганский ветер – бродячая песня. Только под мохнатыми черноморскими звездами, у степного костра в гитарном рокоте, в табачном дыму ресторана может петь человек так самозабвенно, так «очертя голову».
У нас под окнами летят трамваи и авто, переливаются световые рекламы, мировой воздух полон гудением радиостанций, а где‐то, в темных глубинах пра-памяти еще бродит древнее вино кочевий, неуемная дикая песня, пестрая как шаль, острая как нож, пьяная, как ветер:
Полон стакан,
Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан.
Князем – цыган,
Цыганом – князь.
Эй, господин, берегись – жжет.
Это цыганская свадьба пьет.
<…>
Ах, на цыганской, на райской, на ранней заре
Помните жаркое ржанье и степь в серебре?
Синий дымок на горе
И о цыганском царе
Песню…
В черную полночь, под пологом древних ветвей,
Мы вам дарили прекрасных – как ночь – сыновей.
Нищих – как ночь – сыновей.
И рокотал соловей
Славу…
Вся Марина Цветаева в этой кочевой пра-памяти.
Вся она слух к тому, что еще не выветрилось из древнего сердца. Потому‐то она так прекрасно чувствует огневую силу слова, хмель и солод всякой песни, безымянно зачатой и безымянно рожденной под открытым небом.
<…> Это – темная, сама себя не измерившая душа, где все растет от «дикой и татарской воли», от тех прекрасных, кочевых времен, когда сама собою слагалась песня, а жадная и еще бедная память тянулась к мифу, к предчувствию, к гаданию, к великой дружбе с судьбой. И в сущности все стихи Цветаевой – либо заговор, либо заклинание. Ей ли, помнящей сквозь тысячелетия, не научиться ворожить! Кругом нее растет сказочный черный лес, где заблудился разум и папоротник расцветает детской верой в чудеса. О, конечно, она колдунья! Сколько она знает наговорных слов, как крылаты ее предвещания!192
Может показаться, что в строках Рожденственского автопортрет читателя более очевиден, чем портрет рецензируемого автора. Однако этот автопортрет не индивидуален, в нем запечатлен характерный для начала 1920‐х годов модус восприятия поэзии, соотносивший поэтическое впечатление с пафосом революционного обновления. «Марина Цветаева <…> ветром прошумела в тихой комнате, отпраздновала буйную степную волю, – не ту ли, что несла и нам Революция в самой глубине своей»193, – заключала свой отзыв Н. Павлович. В другом своем обзоре, характеризуя литературные настроения Москвы, она отмечала:
Москва многим грешна, только не «умеренностью и аккуратностью». Оттого могла она дать и прерывистый, шалый, степной ритм Марины Цветаевой. Ведь эти характерные спондеи, рифмы, звучащие выкликами, спали под прежней плавной поступью «московской боярыни Марины», как спали все возможности революции в тихих переулках Арбата и Ордынки, в Кремлевских башнях, в сонно-зеленых бульварах194.
Вс. Рождественский, называя переживаемое время «кануном возрождения русской культуры», представлял уже сам язык главным героем революционного обновления:
В новой России, по весне – думается мне – настала пора свежему, русскому слову. Европы нет, Европа руины, великий Рим, – и если нам суждено строить, вести за собой, то как отказаться от соблазна думать, что это путеводительное для всего мира слово – русское слово <…>.
Первым должны его почувствовать поэты, и Марина Цветаева уже несет его высоко в своих женских, вещих руках195.
Цыганские темы и мотивы, фольклорность и архаика воспринимались, таким образом, как органическая принадлежность революционной эпохи, как внятная всем метафора современности. Логику такого восприятия лучше других сформулировал Осип Мандельштам, вдохновенно творивший в это время свою метафизику культуры и революции:
Поэзия – плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днем, тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времен. <…>
Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. <…> В глоссолалии самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. И всем и ему кажется, что он говорит по‐гречески или по‐халдейски196 («Слово и культура», 1921).
Эта услышанная Мандельштамом в воздухе эпохи метафорическая «глоссолалия» имеет отношение и к цветаевскому поэтическому многоголосию революционных лет и, главное, к тому, как читалась ее поэзия в начале 1920‐х годов. И пишущий и читающий жаждали не просто новых слов, но иных языков. И эти языки возникали, точнее – извлекались из культурного небытия, оказываясь вдруг востребованными литературой для соучастия в «вавилонском столпотворении» революции. Опыт лирики 1916 года оказался по‐новому актуальным для Цветаевой – как опыт освоения чужого языка вообще. Теперь она распространяла его вширь, осваивая язык улицы: из этого языка рождались ее «цыганские» мотивы (более, нежели из литературной традиции), из него, из языка «мастеровых, бабок, солдат», она черпала словарь и слог для описания новой реальности. В июле 1919 года она отмечала в записной книжке свою новую страстную потребность «слушать! слушать! слушать! – и записывать! записывать! записывать!» речь простонародья и поясняла:
С особенным наслаждением ввожу в свою речь некоторые простонародные обороты: «у всякого – свой закон», «вдосталь», «до переменного времени», «фортовый», «нахлебник», «льститься на»… и т. д. и т. д. и т. д. – всё это в меру, конечно, и к месту.
Иногда, смеясь, говорю: «хужей» и, кажется, совершенно серьезно, говорю уже «слабже». (Младше – лучше – слаще – слабже.)
Есть у простонародья гениальные ошибки (ЗК1, 393).
Удача Цветаевой в ее освоении простонародного или цыганского наречия состояла в точном ощущении «меры и места», отводимых чужому языку в собственных текстах. В «глоссолалическом» хоре эпохи, на фоне стилизаций и обработок народного языка случай Цветаевой оказался особенным именно потому, что ни стилизацией, ни обработкой не стал. Цветаева обращалась с чужим языком как с чужим, не стремясь создать иллюзию собственного «авторства» народной речи. Самый переход автора на не-свой язык становился в ее стихах главным смыслообразующим приемом. Написанное на исходе 1920 года стихотворение «Пожалей…» (в переписке и записных книжках Цветаева называла его также «Разговор над мертвым») показывает, как язык улицы, становясь объектом изображения для автора, превращался в поэзию:
– Он тебе не муж? – Нет.
– Веришь в воскресенье душ? – Нет.
– Так чего ж?
Так чего ж поклоны бьешь?
– Отойдешь —
В сердце – как удар кулашный:
Вдруг ему, сыночку, страшно —
Одному?
– Не пойму!
Он тебе не муж? – Нет.
– Веришь в воскресенье душ? – Нет.
– Гниль и плесень?
– Гниль и плесень.
– Так наплюй!
Мало ли живых на рынке!
– Без перинки
Не простыл бы! Ровно ссыльно-
Каторжный какой – на досках!
Жестко!
– Черт!
Он же мертв!
Пальчиком в глазную щелку —
Не сморгнет!
Пес! Смердит!
– Не сердись!
Видишь – пот
На виске еще не высох.
Может, кто еще поклоны в письмах
Шлет, рубашку шьет…
– Он тебе не муж? – Нет.
– Веришь в воскресенье душ? – Нет.
– Так айда! – …нагрудник вяжет…
Дай-кось я с ним рядом ляжу…
Зако – ла – чи – вай!
Возможность средствами простонародной речи выразить смятение и ужас перед лицом новой повседневности – одно из открытий Цветаевой этого времени. Если приведенное стихотворение можно причислить к итоговым и вершинным для этой линии цветаевской поэзии, то ее разработки «цыганских» мотивов, так понравившиеся современникам, дали в 1917 году начало этой линии. Вот один из первых «цыганских» опытов Цветаевой, относящийся к маю этого года:
Как перед царями да князьями стены падают —
Отпади, тоска-печаль-кручина,
С молодой рабы твоей Марины,
Верноподданной.
Прошуми весеннею водою
Над моей рабыней
Молодою.
(Кинь‐ка в воду обручальное кольцо,
Покатай по белой грудке – яйцо!)
От бессонницы, от речи сладкой,
От змеи, от лихорадки,
От подружкина совета,
От лихого человека,
От младых друзей,
От чужих князей —
Заклинаю государыню-княгиню,
Молодую мою, верную рабыню.
(Наклони лицо,
Расколи яйцо!)
Да растут ее чертоги —
Выше снежных круч,
Да бегут ее дороги —
Выше синих туч,
Да поклонятся ей в ноги
Все князья земли, —
Да звенят в ее кошелке
Золотые рубли.
Ржа – с ножа,
С тебя, госпожа, —
Тоска!
Под этим стихотворением, не включенным в «Версты», но вошедшим в цикл «Мариула» в сборнике «Психея», Цветаева впоследствии, в беловой тетради стихов 1916–1918 годов, сделала следующую запись:
Эти стихи, кстати, горячо одобрил – на каком‐то вечере, в Чехии, в 1923 г. – какой‐то древний и ученый старичок с зелеными глазами змея, оказавшийся мировым ученым археологом Кондаковым. Одобрил – за настоящесть цыганской речи. – Где же Вы так изучили цыган? – О, они мне только гадали… – Замечательно, замечательно! (На К<ондако>ва никогда ничем нельзя было угодить, а тут – сам подошел.)197
То, что ученым понималось как «настоящесть» цыганской речи, а другими читателями интерпретировалось как выражение некоего исконного национального речевого духа, прорвавшегося в современность из глубины времен, – достигалось Цветаевой за счет переноса в свой текст целых синтагм чужой речи. Чужой язык интересовал Цветаеву именно как новая цельная метафора мира; знание о мире, которое могло выразиться в формулах этого языка, было непереводимо на любой другой.
Эта языковая практика, родившись в 1917 году, воплотилась в революционные годы не только в стихах, вошедших в первую часть «Верст» и частично в «Психею», но и в целом ряде стихотворений из «Лебединого стана», также как и в стихах, не входивших в сборники, – например, в «Стеньке Разине». Фольклорный или простонародный языковой субстрат присутствовал в этих текстах, впрочем, в неодинаковых пропорциях, и потому их трудно рассматривать как единую группу. В целом, однако, народный мифопоэтический код оставался самым продуктивным в творчестве Цветаевой этих лет и постепенно потребовал себе пространства большого жанра – сюжетной поэмы. Авторское «я», дробившееся прежде в мелких осколках лирического зеркала, предстало, наконец, в своей психологической цельности, приняв обличье сказочной героини поэмы «Царь-Девица».
Помимо фольклорной стилистики лирика Цветаевой 1917–1920 годов развивала и во многом противоположную творческую линию. Она связана с использованием инокультурных кодов и образов, с одной стороны, и со стилизацией языка романтической поэзии XIX века, с другой. Цветаевой и прежде случалось вводить инокультурные образы-маски в свои стихи: в «Юношеских стихах» появлялась Кармен, в «Верстах I» – герои «Коринны» Ж. де Сталь. Однако в революционные годы у этого творческого направления появляется особый смысл.
Самые первые опыты Цветаевой в этом направлении похожи, скорее, на исследование возможностей, которые может дать поэту введение инокультурных реалий и персонажей в собственный текст. Один из очевидных первых результатов – ироническое остранение, мотивированное «диковинностью» героя в русском контексте. В февральском стихотворении 1917 года, открывающем цикл «Дон-Жуан», именно это и становится предметом «металитературных» размышлений:
На заре морозной
Под шестой березой
За углом у церкви
Ждите, Дон-Жуан!
Но, увы, клянусь вам
Женихом и жизнью,
Что в моей отчизне
Негде целовать!
Нет у нас фонтанов,
И замерз колодец,
А у богородиц —
Строгие глаза.
И чтобы не слышать
Пустяков – красоткам,
Есть у нас презвонкий
Колокольный звон.
Так вот и жила бы,
Да боюсь – состарюсь,
Да и вам, красавец,
Край мой не к лицу.
Ах, в дохе медвежьей
И узнать вас трудно,
Если бы не губы
Ваши, Дон-Жуан!
Ироническая аура, которая сопутствует появлению иноземных героев в русском культурном пространстве или же облечению русских героев в иноземные культурные маски, окрашивает значительную часть любовно-романтической лирики Цветаевой этих лет. Сходный эффект достигается и введением подчеркнуто анахроничного романтического стиля: «Друг, разрешите мне на лад старинный / Сказать любовь, нежнейшую на свете» (СС1, 454). По-видимому, Цветаева проверяет, может ли и этот чужой, «старинный» язык принести с собой в ее поэзию новый цельный мир, наподобие «народно-московского» мира «Верст I». Однако этого не происходит. Некоторые опыты стилизаций романтического стиха XIX века («“Я берег покидал туманный Альбиона”…», «Я помню ночь на склоне ноября…») оказываются удачными, но негибкость избранного стиля продуцирует больше самоповторений, чем приносит находок. Особую группу среди стихотворений этого рода составляют те, что связаны с театральными увлечениями Цветаевой этого времени. В них мотивация стилизации вполне специфична: «я» лирического текста становится театральной маской автора-актера (песенки из несохранившейся пьесы «Ученик», «Стихи к Сонечке»).
Вся эта линия цветаевского творчества лишь очень избирательно оказалась представленной в ее прижизненных публикациях: ряд стиховторений был напечатан в периодике, другие попали в сборник «Психея» (прежде всего, цикл «Плащ»). Однако бóльшая часть этих стихов осталась при жизни Цветаевой неопубликованной. Интересным ответвлением этой линии стали романтические пьесы Цветаевой 1918–1919 годов, причем три наиболее значительные из них – «Приключение», «Фортуна» и «Феникс» – акцентировали тот идеологический план, который в лирике часто был затемнен стилистической игрой, но распознание которого существенно для восстановления внутренней связи между этой и другими линиями в творчестве Цветаевой революционных лет.
Круг инокультурных референций, в котором вращается цветаевское иносказание, почти исключительно принадлежит XVIII веку. Если в 1917 году в ее стихах еще можно встретить Дон-Жуана, то к 1918 году акцент на XVIII веке уже практически не имеет исключений. Нетрудно догадаться, в чем причина этого предпочтения. Цветаева, как и многие ее современники, начинает взаимно проецировать друг на друга современную ей революционную действительность и эпоху Великой Французской революции. О том, под каким знаком эта проекция совершается, дает представление одно из стихотворений марта 1918 года, при жизни Цветаевой не публиковавшееся:
Век коронованной Интриги,
Век проходимцев, век плаща!
– Век, коронованный Голгофой! —
Писали маленькие книги
Для куртизанок – филозóфы.
Великосветского хлыща
Взмывало – умереть за благо.
Сверкал витийственною шпагой
За океаном – Лафайет.
А герцогини, лучший цвет
Вздыхателей обезоружив,
Согласно сердцу – и Руссо —
Купались в море детских кружев.
Катали девочки серсо,
С мундирами шептались Сестры…
Благоухали Тюилери…
А Королева-Колибри,
Нахмурив бровки, – до зари
Беседовала с Калиостро.
Отбор примет, которые сближают «коронованный Голгофой» век с 1910‐ми годами российской истории у Цветаевой мало схож с тем, что можно встретить в это время у ее современников. Соположения политических историй двух революций или их идеологической проблематики – соположения, при помощи которых, как тогда казалось, можно было нащупать путеводную нить в настоящем, – Цветаеву не увлекают. Ее занимает, скорее, неуловимость и невнятность грозных предвестий грядущего, заключенных в веке Просвещения, как в веке Модернизма, легкомыслие того и другого века, сквозящее в самом их глубокомыслии и вольнодумстве. В пьесе «Фортуна» (1919) приговоренный к гильотине Лозэн говорит:
Да, старый мир, мы на одном коне
Влетели в пропасть, и одной веревкой
Нам руки скрутят, и на сей стене
Нам приговор один – тебе и мне:
Что, взвешен быв, был найден слишком легким…
Знаменательна здесь отсылка к библейскому сюжету из Книги пророка Даниила, рассказывающему о том, как вавилонский царь Валтасар во время пира увидел внезапно возникшую в воздухе кисть руки, начертавшую таинственные слова «мене, мене, текел, упрасин (перес)» на стене (Даниил 5:5, 25). Трактовка этих слов в Библии – предсказание о гибели самого царя и о разделе его царства как о наказании, ниспосланном Валтасару Богом за то, что тот плохо служил ему. Смысл, зашифрованный в слове «текел», трактуется в Библии фразой: «ты взвешен на весах и найден очень легким» (Даниил 5:27). «Легкость» как метафора изъяна переосмысляется Цветаевой и превращается в метафору иной системы ценностей, не востребованной в новых условиях. То же, что говорит о себе Лозен, Цветаева повторяет применительно к себе самой в декабрьском стихотворении 1919 года «О души бессмертный дар…»:
Сердце нынче не в цене, —
Все другим богаты!
Приговор мой на стене:
– Чересчур легка ты!..
«Душа», которая, как мы видели, в цветаевском словоупотреблении тесным образом связана с творческим призванием и которая одновременно есть вместилище жизни чувств («сердца»), предстает тем самым «изъяном», приговор которому начертан на метафорической «стене» новой эпохи. Общностью приговора Цветаева соединяет в своем воображении судьбы героев-авантюристов XVIII века, погибших в горниле Великой Французской революции, и свою собственную.
«Герои великосветских авантюр» (СС1, 388) и метафоры, которые с ними входят в произведения Цветаевой, воплощают ее версию происходящей исторической трагедии. Это трагедия уничтожения, исчезновения с исторической сцены определенных человеческих типов, людей того культурно-психологического склада, который определил целую эпоху, будь то Просвещение или Модернизм. Приговор, начертанный им на стене, не подлежит обсуждению, как промысел истории или Бога. Но смерть героев-авантюристов – это, в свою очередь, приговор новому миру, из которого вместе с ними уходит та самая «легкость», целая культура жизни, уничтожаемая «тяжестью» века нового.
Для людей «породы» Лозэна смерть парадоксальным образом становится последним актом их признания в любви к жизни, к тому облику ее, который уходит в небытие. Достоинство, с которым они встречают смерть, есть продление их умения жить, не востребованного новым веком. Ассоциируя дорогих ей современников с «породой» XVIII века, Цветаева именно через отношение к смерти определяет сущность этого культурно-психологического типа. Размышляя о самоубийстве Алексея Стаховича, «блестящего гвардейца», сделавшегося актером и театральным педагогом, она утверждает:
Смерть. – Случайность смерти. Ибо для того, Стаховича, смерть всегда случайность. Даже вольная. Не завершение, а разрыв. Не авторское тире, а цензорские ножницы в поэму. Смерть Стаховича, вызванная 19‐м годом и старостью, не соответствует сущности Стаховича – XVIII веку и молодости. Уметь умирать еще не значит любить бессмертье. Уметь умирать – суметь превозмочь умирание – то есть еще раз: уметь жить. Больше – и уже на французском (языке формул) скажу:
Pas de savoir-vivre sans savoir-mourir198.
<…> Смысл Стаховича (XVIII века!) – Жизнь. И в смертном дне, как в любовном: «Point de lendement!»199 Стахович уходит весь («Смерть Стаховича»; СС4, 500).
Самоидентификация с уходящим культурно-психологическим типом, сущность которого «жизнь» и «молодость», многое определяет в творчестве Цветаевой 1918–1919 годов. «Я в России ХХ века – бессмысленна. Все мои партнёры (указывая на небо или в землю): там» (ЗК1, 313), – записывает она в марте 1919 года. «Я – XVIII век + тоска по нем» (ЗК1, 313), – уточняет она свои отношения с эпохой, жителем которой хочет себя вообразить. XVIII век для Цветаевой – это и метафора дореволюционной российской действительности, и воображаемая реальность дореволюционной Франции (или Европы), и некий внеисторический Золотой век, за гранью которого кончается один мир и начинается другой. В любом случае, люди XVIII века «бессмысленны» в веке ином200. Подчеркивая непреодолимость грани этой эпохи для ее жителей, Цветаева в пьесе о Казанове «Феникс» намеренно продлит жизнь главного героя (скончавшегося в действительности в 1798 году), чтобы заставить его покинуть замок Дукс, уйти из него в ночь и смерть в новогоднюю полночь нового, девятнадцатого века201.
Обнаружение в истории своих истинных «партнеров» на некоторое время занимает Цветаеву куда больше, чем «смертельные» коннотации подобных находок. В августе 1919 года она записывает: «Как мне хорошо на моем чердаке – с Алей – в пыли – с протекающими потолками – под гром водопровода – с Prince’ем de Ligne, с Казановой, с записными книжками – и как я бесконечно благодарю Бога – если только С<ережа> жив – за 19ый год!» (ЗК1, 409). Цветаева не просто создает автомифологию своей принадлежности «породе» людей XVIII столетия, – она действительно берет у них уроки витализма, «умения жить». Признаком, или же неизменным атрибутом, этого последнего, становится осуществление себя в любви. Именно любовь является идейным средоточием цветаевского XVIII века; вокруг любви вращается жизнь тех, кто представляет для нее этот век и кто, уходя, безвозвратно уносит из истории саму Любовь. В предсмертном монологе цветаевский Лозэн провозглашает:
И все творенья славного Вольтера
Скуднее говорили сердцу женщин,
Чем мой безмолвный рот – одним смешком.
Да, не одна грядущей ночью скажет:
Сегодня в шесть утра – рукой Самсона —
С Лозэном обезглавлена – Любовь!
Вспоминая речи на гражданской панихиде по Стаховичу, Цветаева дополняет их: «И скажу еще одно, чего не говорит никто, что знают (?) все: Стахович и Любовь, о любовности этого causeur’а, о бессмысленности его вне любви» (СС4, 502). Своих Лозэна и Казанову в записях начала 1919 года Цветаева сопоставляет именно в их отношении к любви:
Казанова – мужественное, волевое – Impératif – Любви. – «Будь моей!»
Лозэну же сама Любовь говорит: – «Будь моим».
Казанову Любовь слушается, Лозэн же слушается Любви202.
Такая сосредоточенность Цветаевой на любовно-эротической теме в судьбах ее героев XVIII века объясняется и биографическим и культурным контекстом, но поскольку одно существует на фоне другого, разделение это, скорее, условно. Размышления о собственной идентичности как человека особого пола, о своем понимании пола вообще и пола в жизни отдельных людей в частности – это то, что биографически актуально для Цветаевой в это время. Ее герои XVIII столетия имеют более хронологически близких ей «двойников». Так, о Лозэне Цветаева замечает: «Герцог Лозэн, отдалив, уяснил мне З<авад>ского, Ю. З<авад>ский, приблизив, уяснил мне Лозэна» (ЗК1, 384). В той же записной книжке зафиксирована параллель «Стахович – Князь де Линь» (ЗК1, 403, 404); мысли о смерти Стаховича составляют также очевидный фон истории об уходе Казановы в «Фениксе». Но не столько эти параллели, сколько общий пафос познания человека через «типизацию» его любовного опыта и отношения к любви показателен для Цветаевой в это время. Пьесы о героях XVIII столетия смыкаются в этом смысле с любовной лирикой Цветаевой и поясняют ее. По поводу последней О. Г. Ревзина замечает:
…в годы гражданской войны Цветаева пишет огромное количество стихов, относящихся к любовному дискурсу. Их качество, поэтические достоинства, тематическая и сюжетная повторяемость могли бы послужить сдерживающим фактором, но Цветаевой как будто не хватает пространства стиха для того, чтобы высказать по видимости крайне незатейливые мысли и непритягательную позицию. Никогда больше Цветаева не будет писать подобных стихов. Такое впечатление, что Цветаева что‐то мучительно пытается понять в себе – раз и навсегда, и более не возвращаться к этому203.
Исследовательница справедливо связывает такой разлив тавтологичной любовной лирики с процессом «идентификации по полу» и необходимостью определения приемлемых для себя поведенческих рамок. Следует заметить, что не только «писать подобных стихов», но и жить так, как она жила в 1918–1920 годах, Цветаева более никогда не будет: романы, зафиксированные в ее записных книжках, по‐видимому, так же «тавтологичны», как и их стихотворные отражения. Герои-авантюристы XVIII века с их любовными похождениями, таким образом, могут занимать Цветаеву именно как персонажи, чье жизненное поведение «легитимизирует» ее собственное. Можно с равным успехом сказать, что Цветаева сознательно или полусознательно имитирует поведение найденных ею в истории персонажей, во всяком случае – стремится на дискурсивном уровне зафиксировать свое сходство с ними. И в том и в другом случае эта биографическая мотивированность вне более широкого контекста малоинтересна.
Идейная ангажированность любовно-эротической тематики в век модернизма была всем понятна. Если Цветаевой и не довелось участвовать в дискуссиях о «путях Эроса» в предреволюционную эпоху, спектр суждений и допущений, в них высказанных, были ей, несомненно, известны. В этих дискуссиях и в практиках, им сопутствовавших, соседствовали тенденции мистико-аскетические, связанные с идеями преображения пола или его преодоления, и тенденции мистико-эротические, связанные с идеями достижения высшего знания через раскрепощение сексуальности204. Источники, которыми питались обе тенденции, зачастую были сходными, и каждая лишь по‐своему их перелагала.
Революция сообщила рассуждениям об Эросе/сексуальности уже не просто идеологическое, но и политическое измерение. Предреволюционные тенденции были отчасти продолжены, отчасти переосмыслены в новом контексте. При этом в ходу быстро появились две риторические схемы объяснения роли революции в мировой мистерии Эроса или же в истории сексуальной этики. Согласно одной, революция представала силой, раскрепощающей стихию Эроса/сексуальности (в плане метафизическом) и разрушающей прежнюю модель его социальной регуляции (в плане политическом). Согласно другой, революция вела к перерождению «человеческой природы», уничтожению Эроса/сексуальности, какими их знал «старый мир», – и создавала «нового человека», поведение которого должно было лишиться примет сексуальности205.
На этом фоне пристрастие Цветаевой к любовно-эротической тематике, ассоциация Эроса с уходящей «породой» XVIII века и одновременно – с собственным обликом и поведением имели вполне определенный идеологический смысл. Обе упомянутые риторические схемы были для нее равно непривлекательны, ибо исходили из по‐разному понимаемой благотворности революционных перемен. Цветаева истинное знание Эроса отдавала людям уничтожаемого революцией культурно-психологического типа, а наступавшее с их уходом «безлюбье» революционной эпохи оказывалось признаком ее ущербности. Революционный апокалипсис был апокалипсисом Любви, которая силой вещей превращалась в символ противостояния революции, в символ жизни, сопротивляющейся небытию. Личный и сверхличный (политико-философский) смысл нераздельно слились в подчеркнуто откровенных, эпатирующих (даже при постоянно высказываемом презрении к плотской любви per se), порой нарочито циничных, но чаще философических размышлениях Цветаевой о любви – в лирике ли, пьесах или записных книжках. Не случайно, готовя впоследствии к печати обработанные варианты своих записных книжек революционных лет, Цветаева отдельной подборкой опубликовала записи, озаглавленные «О любви» (1918–1919, 1925). Такое выделение темы было подтверждением своей верности «породе», которой суждено погибнуть в горниле исторического катаклизма.
Тем, однако, кому суждено выжить, пройдя через это горнило, любовь уже не может являться в прежнем облике. Именно тогда, когда сюжет о гибели отступает для Цветаевой на второй план, в ее стихах появляется пространство для иной метафизики любви, иного знания о мире вообще. Об этом знании рассказывает ноябрьское стихотворение 1920 года:
Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь.
О, милая! Ни в гробовом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прощусь.
И не на то мне пара крыл прекрасных
Дана, чтоб нá сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных
Я не умножу жалкой слободы.
Нет, выпростаю руки, – стан упругий
Единым взмахом из твоих пелен,
Смерть, выбью! – Верст на тысячу в округе
Растоплены снега – и лес спален.
И если всё ж – плеча, крыла, колена
Сжав – на погост дала себя увесть, —
То лишь затем, чтобы смеясь над тленом
Стихом восстать – иль розаном расцвесть!
Цветаева включит это стихотворение во второй раздел «Верст», который (в отличие от первого, «цыганского») представляет свободное от стилизаций направление в ее лирике 1917–1920 годов. Написанное вскоре после разгрома армии генерала Врангеля в Крыму, означавшего победу большевиков в гражданской войне, – это стихотворение кажется бесконечно далеким своему трагическому историческому контексту. Однако практически одновременно с ним Цветаева пишет другое стихотворение – «Взятие Крыма», и усомниться в том, что контекст этот ею остро ощущается, невозможно. Именно этот контекст, по‐видимому, и переводит любовную тему целиком в метафизическую плоскость. В 1918 году Цветаева уже уподобляла себя птице Феникс («Чтó другим не нужно – несите мне!..»), а в 1919 году уподобила ей Казанову в пьесе о нем. В приведенном стихотворении от вечно воскресающей птицы осталась лишь «пара крыл прекрасных» да образ огня, растапливающего снега и сжигающего лес, – воскрешение же воплотилось в новых образах: «Стихом восстать – иль розаном расцвесть!» Начав с провозглашения своей верности Любви, Цветаева к последней строфе как будто утеряла тему разговора, на самом же деле – лишь расширила ее рамки: Смерть есть не поражение, а преображение Любви, ибо, «смеясь над тленом», Любовь воскресает – стихом или цветком (в последнем облике будет воскресать душа героини цветаевского «Мóлодца»).
Это расширение рамок темы, заявленной в начале стихотворения, прямо связано с философскими идеями о «путях Эроса», которые разрабатывало символистское поколение. Связь эротического желания с духовной трансформацией и с началами творчества рассматривалась в сходном ключе целым рядом старших современников Цветаевой. Наверняка известными ей, в частности, были идеи Волошина, тесное общение с которым пришлось на первую половину 1910‐х годов. Противополагая пол и Эрос, он называл «смертью» ту символическую грань, которая лежит на пути от первого ко второму206. Любовь, воплощаясь в материальности пола, «должна довести пол до полного истощения, должна истратить, раздробить, опрозрачить физическое тело до самого конца, чтобы дать ему воскресение в духе. Но не уничтожиться, не погибнуть должно физическое тело – оно должно преобразиться»207. Этим преображением открывается для человека путь «восхождения» к Эросу, который не материален, а духовен. Цветаева этих идей не пересказывает, она переносит в свое стихотворение их дух. Смерть в цветаевском стихотворении полисемантична: это и смерть индивидуальная, и – в подтексте – смерть как метафора исторического катаклизма, и символическая смерть, та, за гранью которой начинается «восхождение» к Эросу, «воскресение в духе» – в творчестве. К концу стихотворения именно последний смысл смерти выходит на первый план, вбирая в себя другие. «Эрос стремится всю энергию пола перевести в искусство, в науку, в художественное творчество, в религиозное чувство»208, – эта мысль в том или ином виде должна была быть знакома Цветаевой. От любви земной, о которой Цветаева говорит в начале стихотворения, она к его концу приходит, «восходит» к идее любви, которая выражает себя в творчестве. Тем самым она находит идейный выход из круга «восемнадцативечного» маскарада своей лирики и пьес, в котором любовь была отдана полу и истории.
Как это происходит и из чего рождается новый миф о творчестве, можно проследить по стихотворениям Цветаевой, которые принадлежат к еще одной важной лирической линии этих лет, в основном представленной сборником «Лебединый стан» и второй частью «Верст».
В отличие от многих своих современников Цветаева ни до, ни после революции не связывала с последней никаких мистических или политических надежд. У такой позиции были свои сословные корни: отстраненность от идейных полемик и социальных проблем была ближе к норме поведения дворянской женщины, чем активизм. Однако личностные особенности Цветаевой сделали эту социальную норму индивидуальной программой, претворившей аристократизм в асоциальность. Уже в юношеском пафосе стихотворения «Германии» присутствовало убеждение, что ничего хорошего от истории ждать не следует, что она лишь разрушает гармонию истинного, вневременного облика мира. Поэтому, услышав поступь истории в 1917 году, Цветаева отозвалась на нее с такой определенностью, как будто ответ этот заранее был ею продуман:
Над церкóвкой – голубые облака,
Крик вороний…
И проходят – цвета пепла и песка —
Рéволюционные войска.
Ох ты барская, ты царская моя тоска!
Нету лиц у них и нет имен, —
Песен нету!
Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!
С судьбой Москвы Цветаева «воссоединяла» и свою собственную судьбу. В стихотворении, открывавшем вторую часть «Верст», она переложила на свой лад библейское сказание о воскрешении Христом дочери царя Иаира:
И сказал Господь:
– Молодая плоть,
Встань!
И вздохнула плоть:
– Не мешай, Господь,
Спать.
Хочет только мира
Дочь Иаира.
И сказал Господь:
– Спи.
«Сон», уход – были ответами, отражавшими первую реакцию Цветаевой на исторические события. В отличие от многих людей ее круга, возлагавших большие надежды на Февральскую революцию, Цветаева выбирала для характеристики промысла истории, совершавшегося на ее глазах, слова самые уничижительные. В конце мая 1917 года революция уже представлялась ей карикатурой на те упования, которые связывались с ней в либеральном сознании:
Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей…
– Свобода! – Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди!
– Свобода! – Гулящая девка
На шалой солдатской груди!
Отнюдь не монархические убеждения, которые столь же упорно, сколь и бездоказательно приписывали Цветаевой друзья и враги, заставляли ее отвернуться от Февральской революции. В цветаевской поэтической риторике судьба монархии описывалась как предрешенная свыше: «Царь! Не люди – / Вас Бог взыскал» (СП, 155). Однако «взыскание» монарха грозило трагической гибелью всей культуре («Обедня еще впереди!»), и именно это Цветаева своим сторонним взглядом политически неангажированного наблюдателя сразу отметила. Отметила она и бессмысленность надежд на реставрацию или же рассуждений о безнравственности победителя. Вопрос об исторической справедливости катаклизма, выпавшего на долю ее поколения, и после Октябрьского переворота решался Цветаевой в том же риторическом ключе, что и вопрос о справедливости падения монархии:
Бог – прав
Тлением трав,
Сухостью рек,
Воплем калек,
Вором и гадом,
Мором и гладом,
Срамом и смрадом,
Громом и градом.
Пóпранным Словом.
Прóклятым годом.
Пленом царевым.
Вставшим народом.
Подобное восприятие исторических событий диктовалось не чувством «христианского смирения». Цветаевский «Бог» – метафора той же истории, «правой» лишь потому, что оспаривать ее не перед кем. Выбор, перед которым ставило автора такое понимание событий, был неутешителен: либо признать победу «истории», уже приготовившей свой приговор новым «бывшим» (судьба Лозэна), либо искать или создавать свою собственную нишу в новом мире.
Весь пласт «восемнадцативечного» маскарада, о котором говорилось выше, был в конечном итоге выбором в пользу смерти, вынужденной и нежеланной, но единственно достойной на фоне неумолимого разрушения прежнего миропорядка. В стихах «Лебединого стана» мотив смертного приговора звучал с еще большей определенностью, чем в стилизациях на темы Великой Французской революции. В марте 1918 года Цветаева возвращалась к своему прогнозу годичной давности:
Идет по луговинам лития.
Таинственная книга бытия
Российского – где судьбы мира скрыты —
Дочитана и нáглухо закрыта.
И рыщет ветер, рыщет по степи´:
– Россия! – Мученица! – С миром – спи!
Смерть, «вечный сон» – естественный выбор при столкновении с революцией. Этот выбор и героичен и спасителен, ибо избавляет от дальнейшего соучастия в событиях. Об этом говорит Цветаева в первом стихотворении цикла «Андрей Шенье», отсылающем к эпохе Великой Французской революции, но говорящем о современности:
Андрей Шенье взошел на эшафот.
А я живу – и это страшный грех.
Есть времена – железные – для всех.
И не певец, кто в порохе – поет.
И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце – смертный грех.
Не человек – кто в наши дни – живет.
«Воинский доспех» вводит тему сопротивления революции, казалось бы, противоположную теме «сна». Однако, в обрамлении «предписывающего» смерть контекста стихотворения, это сопротивление видится лишь как наиболее достойный путь к «вечному сну». «Добровольчество – это добрая воля к смерти» (СП, 256), – такую «попытку толкования» смысла сопротивления истории предложит Цветаева в 1922 году в эпиграфе к стихотворению «Посмертный марш», посвященному концу Добровольческой армии.
«Смертоносная» катастрофа революции в самой Цветаевой пробудила, однако, не «волю к смерти», а поразительной силы волю к творчеству. Оттого дискурс о смерти в ее стихах, пьесах, записных книжках революционных лет соседствует и соперничает с дискурсом о творчестве. Это соперничество и венчается стихотворением «Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе…». Если смерть принадлежит той же парадигме, что и утрата социальных связей, то творчество создает иную парадигму: оно индуцирует одиночество и одновременно создает для него «укрытие». Пол, традиционно понимаемый, принадлежит парадигме смерти; чтобы попасть в парадигму творчества, он должен быть преображен последним (вспомним: «Женственность во мне не от пола, а от творчества»). Результат преображения пола – тот самый Эрос, о котором рассуждал Волошин и который для Цветаевой становится воплощением творческого начала par excellence. В июле 1919 года идея трансформации сексуальной идентичности (пола) в творческую ею уже принята и авторизована: «Как женщина я НЕ МЫСЛИМА, как поэт – только естественна. – И это мое – (я слишком долго отрекалась!) – раз навсегда – единственное мерило!» (ЗК1, 385).
Еще за год до этого, в августе 1918 года, Цветаева заговорит о новом для себя, спасительном, смысле творчества:
Мое убежище от диких орд,
Мой щит и панцирь, мой последний форт
От злобы добрых и от злобы злых —
Ты – в самых ребрах мне засевший стих!
Творчество оказывается и оплотом для жизни и «убежищем» от нее, оплотом – для личного, индивидуального существования, «убежищем» – от исторической атмосферы, в которой выпало существовать.
Перед лицом гибели «старого мира», в котором укоренена была ее прежняя идентичность, понимание Цветаевой своих связей с миром постепенно необратимо меняется. Отмечавшая ее лирику прежде открытость впечатлениям повседневной жизни – эта родовая особенность людей ее «восемнадцатого столетия» – неуклонно сходит на нет. Творческий космос Цветаевой устремляется к разрыву с эмпирической реальностью повседневности, к автономизации и далее к поиску метафизического единства с тем ушедшим на «вечный сон» миром, в котором когда‐то органично существовало ее человеческое «я». Постепенность осознания и обоснования происходящих перемен объясняет и разноголосицу и слабости лирики 1917–1920 годов.
Переживание своего выпадения из социума, истории, мира действительности, сопутствует, таким образом, превращению Цветаевой в профессионального литератора. Эти два внутренних события, имеющих общую историческую причину – революцию, – почти сразу утрачивают в цветаевском сознании связь с этой причиной и вступают в причинно-следственные отношения между собой. Жизнь в новой исторической действительности оказывается невозможной, значит – ниша существования должна быть найдена вне ее. Единственная ниша, которую Цветаева ощущает своей, это творчество, поэзия, – и эта ниша, «убежище», приобретает в цветаевской риторике черты искомого, вне истории лежащего мира. Все свойства собственной личности переосмысляются как проявления личности поэта, и оказывается, что быть поэтом и есть главная преграда для бытия в действительности. Само понятие действительности перестает быть исторически конкретным, превращаясь в философскую категорию, противопоставленную поэзии. Стремительному взлету творчества Цветаевой в последующее пятилетие сопутствует именно такая «цепная реакция», а следы исторических обстоятельств, ее вызвавших, становятся с каждым годом все менее различимы в ее произведениях.
Первым приближением Цветаевой к новой теме своего творчества оказывается поэма «Царь-Девица» (июль – сентябрь 1920 года). «Земля – внизу, / Судьба – вверху» (СС3, 260), – формулирует она устами сказочной героини основную заповедь своей новой веры. Именно этой заповедью замещает Цветаева счастливый конец народной сказки, легшей в основу сюжета поэмы. Не соединение героев, а прозрение ими иного мира, «морей небесных» – этим многоточием заканчивается у нее история Царь-Девицы и Царевича. Описание героиней собственного исчезновения из мира «земли» в мир «судьбы» своей стилистикой напоминает загадку:
– Нигде меня нету.
В никуда я пропала.
Никто не догонит.
Ничто не вернет.
Это новое состояние героини не имеет разгадки на языке земной жизни. Ее пропажа «в никуда» – уход, но не смерть; это перемещение в иную систему координат, которой с точки зрения земли не существует; это – несуществование. Однако смысл ухода героини «в никуда» в поэме остается недопроясненным. Сюжетным поводом к нему кажется невоплотимость земной любви Царь-Девицы к Царевичу. Исследователям приходилось указывать на сходство психологического облика героини с Цветаевой, включая и характер ее любовных привязанностей209. Сама Цветаева также подчеркивала свое родство с героиней, и именно в связи с трагическим романтическим аспектом поэмы: «Прочтите Ц<арь>-Девицу – настаиваю. Где суть? Да в ней, да в нем, да в мачехе, да в трагедии разминовений: ведь все любови – мимо: “Ein Jüngling liebt ein Mädchen”210. Да мой Jüngling никого не любит, я только таких и люблю, он любит гусли, он брат молодому Давиду и еще больше – Ипполиту» (СТ, 184). В том, что «трагедия разминовений» является одним из толчков к уходу героини «в никуда», нет никакого сомнения. Однако это лишь часть более сложной сюжетной идеи. В истории Царь-Девицы и Царевича реализуется сюжет об отказе от пола во имя Эроса, отказе, который осуществляется через расставание с землей, с ее материальностью, а в подтексте – с ее исторической реальностью211.
Е. Б. Коркина уже отмечала, что оба главных действующих лица поэмы, Царь-Девица и Царевич, являются носителями важных черт авторского «я». Исследовательница, в частности, указала на песню Царевича, в которой несомненно звучит лирический голос автора212. Вот что рассказывает о себе Царевич:
Всё печаль свою покоил,
Даже печки не сложил.
Кто избы себе не строил —
Тот земли не заслужил.
<…>
Только знал, что на перине
Струнным звоном ворожил.
Кто страды земной не принял —
Тот земли не заслужил.
На перине, на соломе,
Середь моря без весла, —
Ничего не чтил, окроме
Струнного рукомесла.
Ну, а этим уж именьем
Пуще хлеба дорожил…
Кто к земным плодам надменен —
Тот земли не заслужил!
О наличии лирического авторского мотива в песне Царевича, по замечанию Е. Б. Коркиной, прямо свидетельствует стихотворение, написанное Цветаевой еще в августе 1918 года:
Кто дома не строил —
Земли не достоин.
Кто дома не строил —
Не будет землею:
Соломой – золою…
Не строила дома.
И Царь-Девица, и Царевич – это герои, «выпавшие» из своего пола: каждый из них обладает некой уникальной сексуальной идентичностью, которая частично напоминает андрогинность, частично – асексуальность. Первое более относится к Царь-Девице213, второе – к Царевичу. Царь-Девица воплощает в поэме тему Эроса, сначала «нисходящего» на землю в виде пола, а затем возвращающегося в свое исконное состояние. Царевич же воплощает тему творчества. Есть в поэме и третья важная героиня, препятствующая воссоединению первых двух. Это Мачеха, влюбленная в своего пасынка Царевича. В ее образе воплощается тема пола как такового.
Скрытый сюжет, который обнаруживается таким образом в «Царь-Девице», повествует о попытке воссоединения любви и творчества через победу над полом214. И оказывается, что эта победа и это воссоединение на земле невозможны. Стремление к воссоединению и для Царь-Девицы и для Царевича становится катализатором их прозрения своей истинной родины – иного мира. Этот мир, куда отправляется Царь-Девица и куда на поиски ее бросается «не заслуживший земли» Царевич, предстает истинной родиной Эроса и творчества, где они существуют в своей исконной нераздельности.
Если в романтических пьесах Цветаевой 1918–1919 годов, как справедливо отмечает Р. Войтехович, явным или скрытым сюжетным подтекстом часто оказывается история Эроса (Амура) и Психеи215, то «Царь-Девица» знаменует отход Цветаевой от этого сюжета. При всей символической емкости истории Амура и Психеи (а Цветаева, как показано Р. Войтеховичем, опирается не только на античную версию этой истории, но и на ее новейшие популярные обработки), в ней нет места творчеству как самостоятельной силе, самостоятельному «действующему лицу». Соответственно, в ней невозможно воплотить тему преодоления или преображения пола в творческом акте, «восхождения» от пола к Эросу (в волошинском понимании этих слов) через раскрепощение творческой способности. В «Царь-Девице» эта тема раскрывается пока не самым удачным образом – из‐за перегруженности сюжета поэмы и вычурности ее стилистики. Через полгода Цветаева учтет этот свой опыт, работая над поэмой «На красном коне».
Творческое десятилетие заканчивается для Цветаевой возвратом к некоторым важным символистским моделям в представлениях о мире, поэте, человеческой судьбе и смысле любви – тем моделям, от которых в предшествующие годы она казалось бы уходила. В этом возврате, как покажет время, будет залог необычайной, на фоне ее поколения, поэтической витальности Цветаевой в 1920‐е годы. Творческие находки 1910‐х годов отступят, отойдут на второй план. Не когда‐то «жаждавшее жить» тело, существовавшее в истории, а творчество, освободившее авторское «я» от пут истории; не стихи, запечатлевающие жизнь, а стихи, уводящие в иную реальность, – этой метаморфозой начнется для Цветаевой новое десятилетие. «Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь! / С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!» (СП, 152), – таким уже будет видеться ей собственный облик в стихотворении декабря 1920 года, завершающем «Версты» и служащем прологом к поэтическому «иному миру» Цветаевой 1920‐х годов.
Революция, таким образом, оказалась в судьбе Цветаевой и катализатором ее профессионального самоопределения, и катализатором самораскрытия, лишившим ее чувства единства с миром и обратившим всю творческую энергию на созидание иной реальности. Эпический сюжет «Царь-Девицы» нуждался теперь в более камерных уточнениях. Частично их предлагала уже лирика второй половины 1920 года, но именно сборник «Ремесло», включивший стихи 1921–1922 годов, развил линию, начатую поэмой, наиболее полно. «Пожалуй, что только вот с этих двух книг начинается серьезная история М. И. Цветаевой как поэта»216, – симптоматично объединил «Царь-Девицу» и «Ремесло» в своем отзыве Сергей Боборов.
«Я очень люблю одну сказку: про коня и девушку с русыми кудрями, к<отор>ая убежала от своих любимых детей: Ирины Эфрон217 и Ариадны Эфрон» (ЗК2, 25), – писала Цветаевой в конце 1919 года из детского приюта ее семилетняя дочь Аля. Сказка, по всей вероятности, сочинена была и рассказывалась Але самой Цветаевой. В начале 1921 года эту сказку Цветаева превратила в поэму «На красном коне», которую в ретроспективе можно считать прологом к «Ремеслу». Эта поэма прежде всего констатировала новое понимание автором содержания собственной биографии. Если бы не эпистолярные свидетельства, невозможно было бы установить связь между поэмой и сердечным переживанием, к которому сама Цветаева ее возводила, – недолгим, но бурным увлечением Евгением Ланном на исходе 1920 года. Значительно позже, в 1928 году, Цветаева будет пояснять Н. Гронскому неизбежность разрыва лирики с биографической эмпирикой в творческом опыте поэта: «Когда мне было 16–18 л. я тоже стихи вела от человека (посвящения), постепенно связь между данным и вещью ослабевала, видоизменялась. Пока, наконец, в Переулочках – не разорвалась»218. На месте названной здесь поэмы «Переулочки» (вошедшей в «Ремесло») вполне могла бы стоять и поэма «На красном коне» – важнейшая веха в цветаевском опыте размежевания текста с «вдохновившей» его жизнью219.
Размежевание это оказалось по сути темой поэмы. Видимо, понимая это, Цветаева сняла с поэмы посвящение Ланну, заменив его, казалось бы, неожиданным – Анне Ахматовой. Между тем, выбор адресата посвящения вполне вероятно был связан с перечитыванием ахматовской поэмы «У самого моря» (1914) в начале 1921 года220. При всем различии обе поэмы – рассказы об истоках творчества, об открытии своей судьбы как судьбы поэта, и в обеих это открытие соотнесено с эросом и смертью.
«Девочка – без – куклы», «Девушка – без – друга», «Женщина – без – чрева» – таковы ступени «отпадения» от пола, через которые проходит героиня поэмы у Цветаевой. Отречения от куклы, от любимого, от ребенка (два последних – во сне) происходят по требованию некоего Всадника-Гения, и каждое из них сопровождается его призывом: «Освободи Любовь!» Означает этот призыв каждый раз одно: освободи любовь от пола (земного чувства), дабы она стала Эросом. Только такая «освобожденная Любовь» открывает путь к творчеству. Отсюда важная фаза в развитии сюжета поэмы – преследование героиней, «отпавшей» от пола, Всадника-Гения (персонифицирующего или являющегося агентом именно Эроса221 – как творческого начала) и ее битва с ним. Это преследование – начало «восхождения» к Эросу, а битва – символический акт инициации героини, вступающей в иную жизнь: творческую222.
Запутанный сюжет «Царь-Девицы» Цветаева заменяет теперь предельно простым повествовательным рядом. Эта простота – следствие овладения темой, ее полной авторизации: сюжет поэмы «На красном коне» – это уже собственный, индивидуальный миф Цветаевой о себе как поэте, со всеми необходимыми нюансами, но без излишеств эпического нарратива. Важным личным дополнением к усвоенной символистской схеме о восхождении от пола к Эросу становится признание героини, уже подчинившейся Всаднику-Гению: «Сей страшен союз» (СС3, 23). Творчеству принесено в жертву земное естество человека, его земные связи, и сознание масштаба принесенной жертвы дополняет прочие интерпретации совершённого «восхождения»223. Это значит, что творчество инфернально, потенциально враждебно человеку и человеческому миру, каким его создал Бог224. Но одновременно – оно на свой лад сакрально, связано с романтико-символистским «высшим миром». Прорыв в этот мир – совместный полет с Всадником-Гением «в лазурь» – венец бытия героини.
После поэмы «На красном коне» направление творческих поисков Цветаевой можно было считать определившимся. Однако неожиданно у него появилась альтернатива. Вдохновленная встречей с молодым коммунистом Борисом Бессарабовым225, Цветаева взялась за совершенно неожиданный жанр – эпическую поэму о современном герое, «Житие Егория Храброго», или «Егорушка». Она как будто открыла в себе новую творческую жилу: в центре поэмы был не автор и не его alter ego, жизнь героя должна была разворачиваться хоть и в преображенном стилистикой сказки, но современном историческом контексте. Однако несовместимость этой творческой задачи со складом цветаевского дарования выяснилась довольно быстро. Работа над поэмой прервалась в конце марта 1921 года и возвраты к ней впоследствии (в 1923 и 1928 годах) так и не приблизили замысел к завершению226. В конце 1921 года Цветаева записала в рабочей тетради: «Егорушку из‐за встречи с С. М. В<олконским> не кончила – пошли Ученик и всё другое. Герой с которого писала, верней, дурак, с которого писала героя – омерзел» (СТ, 71). При переписке этой записи в 1932 году Цветаева иронически сгладила резкость, должно быть – незаслуженную, такого отзыва: «С кого ж как не с дурака – сказку? Во всяком случае, дело не в дурости героя. Не в дурости героя, а в схлынувшей дурости автора» (СТ, 71). Другие дневниковые записи Цветаевой подтверждают прямую связь между знакомством с Сергеем Михайловичем Волконским и приостановкой работы над «Егорушкой». После череды непродолжительных романов, которыми были отмечены 1918–1920 годы в жизни Цветаевой, эта встреча должна была представляться ей биографическим испытанием правильности сделанных в творчестве выводов – и потому, вероятно, свое чувство к Волконскому она так культивировала и мифологизировала. По ее мифу, это и была любовь «освобожденная», преодолевшая пол. Гомоэротические предпочтения Волконского, конечно, известные Цветаевой и до личного знакомства с ним, были идеальным условием испытания собственного естества – испытания, из которого Цветаева вышла победительницей. Его творческим итогом, циклом «Ученик», она впоследствии открыла «Ремесло».
Сборник могло бы открывать и другое стихотворение – «Роландов рог» (март 1921 года). Однако им Цветаева, возможно, предполагала закончить неосуществившиеся «Версты II» и потому в «Ремесло» его не включила. Продолжая тему преодоления истории, намеченную в стихотворении «Тебе – через сто лет», «Роландов рог» закреплял авторскую концепцию своих отношений с миром истории и иным миром, «небесными пустотами», где располагался его истинный адресат. Временнáя разъединенность говорящего и адресата была теперь окончательно замещена пространственной, и одиночество, «сиротство» автора оказывалось преодолимым не «через сто лет», а через перемену системы координат, в которую он себя помещал:
Как нежный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве…
За князем – род, за серафимом – сонм,
За каждым – тысячи таких, как он,
Чтоб, пошатнувшись, – на живую стену
Упал и знал, что – тысячи на смену!
Солдат – полком, бес – легионом горд.
За вором – сброд, а за шутом – всё горб.
Тáк, наконец, усталая держаться
Сознаньем: перст и назначеньем: драться,
Под свист глупца и мещанина смех —
Одна из всех – за всех – противу всех! —
Стою и шлю, закаменев от взлёту,
Сей громкий зов в небесные пустоты.
И сей пожар в груди тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!
Стихотворение осталось ненапечатанным вплоть до 1932 года, когда оно появилось на страницах парижских «Современных записок» и вызвало глубоко сочувственный отклик В. Ходасевича: «…эта пьеса, воистину замечательная напряженностью чувства, мучительного и страшного, резкостью мысли и силою языка, несомненно принадлежит не только к числу лучших стихов Цветаевой, но и вообще к числу лучших стихов, написанных кем бы то ни было за последние годы»227, – писал он. На втором десятилетии русского рассеяния стихотворение Цветаевой помещалось его читателями в контекст того трагического мироощущения, которое развилось в эмиграции у русского культурного сообщества, осознавшего свою обреченность на изоляцию и от читателей-соотечественников, и от европейской интеллектуальной жизни. Появись «Роландов рог» в начале 1920‐х годов, он, возможно, и не вызвал бы такого сочувствия, а, напротив, навлек бы на себя упреки в непомерности авторского честолюбия и эгоцентризма. Когда стихотворение писалось, Цветаева все еще была «поэтом без сборников», да и бóльшая часть произведений, которые составили ее славу как одного из крупнейших русских поэтов, еще не была написана. Но, как и в случае со стихотворением «Моим стихам, написанным так рано…», цветаевское самосознание обгоняло перо и задавало планку дарованию. В «Ремесле» эта планка была взята.
После выхода сборника «Ремесло» Цветаева предлагала несколько объяснений его названию. Она упоминала строки Каролины Павловой о поэзии как «святом ремесле» (СС6, 558), пускалась в рассуждения о ремесле «как обратном фабричному производству» (СС6, 561), наконец, давала понять, что в названии сборника было и «неизреченное, даже недоощущенное чувство иронии, вызова» (СС6, 563) по отношению к читателю. Все эти разъяснения, сами по себе существенные, не объясняли, однако, почему именно этот сборник удостоился такого названия, почему именно с поэзией 1921–1922 годов связала Цветаева это «непоэтическое» слово. « – А чтó за “Ремесло”? Песенное, конечно. Смысл, забота и радость моих дней» (СС6, 558), – отвечала Цветаева на вопрос, заданный Александром Бахрахом в его рецензии на сборник. Трудно представить себе последнее предложение в устах автора «Верст I», который «просто живет, радуется, любит свою кошку, плачет, наряжается – и пишет стихи» (СС6, 229). Чтобы назвать творчество «смыслом, заботой и радостью» своей жизни, Цветаевой нужно было пережить и социальный катаклизм, заставивший ее стать литературным профессионалом, и внутренний кризис, изменивший ее понимание своих отношений с миром. «М<ожет> б<ыть> вся моя слабость в том, что я всегда смотрела на писанье, как на роскошь, никогда не брала его – достаточно – au sérieux228 (в дне не брала!) – не считалась, ничего и никого из‐за него не бросала» (ЗК2, 80), – записывала Цветаева в марте 1920 года. Слово «ремесло» так естественно вырвалось у Цветаевой в начале 1920‐х годов229 именно потому, что лаконично фиксировало конец, положенный описанному отношению к творчеству. Новый сборник стал вехой, отметившей небывалую прежде степень сосредоточенности на творчестве. «Бешено пишу. Это моя жизнь» (СС6, 63), – подытоживала она свой революционный опыт в мартовском письме 1921 года к Волошину. «Единственная радость – стихи. Пишу как пьют, – и не вино, а воду» (СС6, 213), – писала она И. Эренбургу в октябре того же года. Перестав быть одним из элементов жизненного ряда, творчество стало его единственным осмысленным элементом, каждодневным трудом, организующим бытие и дающим ему смысл, – ремеслом.
Едва ли не первым, что бросилось в глаза современникам в сборнике со столь «земным» названием, была необычность поэтического пространства, открывавшегося на его страницах. Евгений Зноско-Боровский начинал свою рецензию признанием:
Книга стихов Марины Цветаевой оставляет на первых порах впечатление довольно смутное, и, пожалуй, немного найдется читателей, которые терпеливо прочтут все полтораста составляющих ее страниц.
Нет здесь живых картин и ярких образов, зримый и ощутимый мир словно исчезает, и мы погружаемся в нечто нематериальное и почти бесформенное. Это не сообщает стихам, однако, характера философского, идейных пьес в сборнике немного230.
Новые стихи Цветаевой не походили на философскую лирику, однако создавали впечатление эзотеричности, зашифрованности смысла. Впрочем, «идейных пьес» в сборнике было достаточно, чтобы внимательному читателю могла стать понятной природа того «нематериального и почти бесформенного» мира, в который уводила теперь цветаевская лирика:
На што мне облака и степи
И вся подсолнечная ширь!
Я раб, свои взлюбивший цепи,
Благословляющий Сибирь.
Эй, вы, обратные по трахту!
Поклон великим городам.
Свою застеночную шахту
За всю свободу не продам.
Поклон тебе, град Божий, Киев!
Поклон, престольная Москва!
Поклон, мои дела мирские!
Я сын, не помнящий родства…
Не встанет – любоваться рожью
Покойник, возлюбивший гроб.
Заворожил от света Божья
Меня верховный рудокоп.
Мотивы умирания и «вечного сна», возникшие в поэзии Цветаевой революционных лет как непосредственный отклик на исторические события, утратили видимую связь с породившей их атмосферой и стали метафорами перехода к иному качеству бытия. Уход от «дел мирских», благословение «цепей», связавших с «застеночной шахтой», принятие безусловной власти «верховного рудокопа» – еще одно иносказание о выборе, сделанном поэтом231. Редкий в творчестве Цветаевой (и уникальный в «Ремесле») случай лирического повествования от мужского лица – еще одно подтверждение разрыва со своим земным естеством, включающим пол.
Лейтмотивом в поэтическом дискурсе об уходе из земного мира становился «отказ». «Дабы принять – / Надо отринуть!» (СС3, 278), – утверждалось в завершающей «Ремесло» поэме «Переулочки» (1922). В авторском «я», жаждущем «отринуть» все земное во имя «принятия» иного мира, открывались саморазрушительные потенции:
Душа, не знающая меры,
Душа хлыста и изувера,
Тоскующая по бичу.
Душа – навстречу палачу,
Как бабочка из хризалиды!
Душа, не съевшая обиды,
Что больше колдунов не жгут.
Как смоляной высокий жгут
Дымящая под власяницей…
Скрежещущая еретица,
– Савонароловой сестра —
Душа, достойная костра!
«Незнание меры» – признак внутренней непринадлежности земле; стремление к саморазрушению, к отрицанию своего бытия – метафоры сопротивления заданным координатам существования. Невозможность эти координаты изменить искупается возможностью от них «отказаться». Читая весной 1921 года рассуждение С. М. Волконского о способности музыки достигать «эффекта вездесущия не победою над пространством, а отказом от пространства»232, Цветаева находит универсальную формулу, позволяющую ей описывать свои отношения с эмпирической реальностью: «Победа путем отказа» (СТ, 12, 15).
А. Бахрах справедливо отметил в «Ремесле» именно предельность духовного напряжения, ставящую самое поэзию на грань исчезновения, «ухода»:
В «Ремесле» предел былых устремлений. Так дальше нет пути. Дальнейшее шествование этим путем – шествование к пропасти, в бездну; в сторону от поэзии к чистой музыке. Для поэзии, так дальше конец. Отсюда, т. е. от «Ремесла», должен начаться тихий планирующий спуск, поворот – надо найти скрытую в многосложности тонкого поэтического дарования тропинку и начать спускаться от разреженной атмосферы вершин в более нормальную обстановку, где ровнее сможет стать дыхание233.
Цветаева, приняв предложенную рецензентом линию интерпретации, в ответ на его «пророчество» подчеркнула преднамеренность и продуманность именно того пути, который был проложен лирикой «Ремесла»: «“Куда дальше? В Музыку, т. е. в конец?” – А если и так, не лучший ли это из концов и не конца ли мы все, в конце концов, хотим. Бытие в Небытии – вот музыка! Блаженная смерть! Будьте верным пророком!» (СС6, 558).
Знакомство с князем С. М. Волконским стало столь значительным событием в жизни Цветаевой, в частности, и потому, что подтвердило ее понимание структурных особенностей собственной личности и дало толчок их дальнейшему преображению в творчестве. Обращенные к Волконскому записи, которые заполняют рабочую тетрадь Цветаевой весной 1921 года, неоднократно воспроизводят одну и ту же риторическую схему. Начинаясь утверждениями об «обратности» личности адресата ее собственной, они оканчиваются «вчитыванием» в чужую личность тех черт, которые Цветаева распознает в это время в самой себе:
Знаю одно: Вы бы жили на классическом «острове», Вы бы всё равно думали свои мысли, и так же бы их записывали, а если бы нечем и не на чем, произносили бы вслух и отпускали обратно.
Вы бы всё равно, без Далькроза и др. были бы тем же, нашли, открыли бы – то же. (Законы Ритма Вы бы открыли в движущейся ветке и т. д.) Не отрицаю этим <пропуск в рукописи> в Вашей жизни X, Y, Z: ценность спутничества <…>. Но Вы ведь всё это уже знали, между Вами и Миром нет третьего, природа Вам открывается не путем человека (СТ, 16).
Сердечная привязанность к человеку становится источником переживания другого как себя. В результате важнейшие свойства собственного «я» экстериоризируются, объективизируются – как свойства человека вообще, прошедшего через определенный экзистенциальный опыт. Мысль о возможности отсутствия «третьего» между человеком и «Миром», о данности человеку всего необходимого ему знания о мире в акте непосредственного общения с природой составляет важную часть философии зрелой Цветаевой, формирующейся в эти годы. Революционный опыт сказывается и здесь: пережитая «гибель культуры» обращает ее мысль к тому, что не может быть подвержено столь разрушительным катаклизмам. Природа оказывается именно таким незыблемым началом, хранящим в себе все знание, необходимое человеку, и олицетворяющим на земле за Вечность. Эта тема вскоре получит развитие в лирике Цветаевой, а позже – в ее прозе.
Вдохновленный Волконским цикл «Ученик» продолжает тему, еще весной 1920 года появившуюся в творчестве Цветаевой. Тогда биографическим толчком к ней был роман с художником Николаем Вышеславцевым, адресатом значительной части лирики Цветаевой весны – лета 1920 года. В мае 1920 года она работала над пьесой «Ученик»234, которая (за исключением ряда песенок) не сохранилась. По ходу работы Цветаева записывала: «Мальчик всё отдает своему взрослому другу: и песенный дар, и бессонный дар, и огород ему согласен копать и рук целовать не будет. И тут – не знаю: из‐за чего он уходит (ибо уйти – должен!) – чего отдать не может: пса (верность свою!) или “талисманный знак” на пальце (Прихоть свою. – Обожаю это слово!)» (ЗК2, 177). Тема подчинения чужой воле, самоотвержения в служении другому, сублимации эротического желания и, наконец, разрыва с «учителем» решается здесь в мелодраматическом ключе. Но проходит меньше года, и Цветаева в этой теме обнаруживает другой план.
История Ученика со всеми ее испытаниями – воплощение универсального «закона» бытия, повторяющегося «через все века» (СП, 197). Ученик учится у Учителя все тому же – «восхождению» от пола к Эросу: «Ученику НЕ МАЛО Учителя. МАЛО ТОЛЬКО КОГДА ВЗАИМНО И НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ. Ученик не на земле. Ученик не на земле, а на горе. А гора не на земле, а на небе. (NB! Не только эта, – всякая гора. Верх земли, т. е. низ неба. Гора – в небе.) Ученик – отдача без отдачи, т. е. полнота отдачи» (СС7, 381).
Два первых стихотворения цикла, оба датированных 2 апреля 1921 года, предлагают две версии этой истории. В первом стихотворении Ученик – тень Учителя, он сопровождает его на всех путях и гибнет на одном с ним костре. Во втором стихотворении «ученичество» – фаза пути Ученика, пройдя через которую, он открывает «другой свет», и истинным смыслом его «ученичества» оказывается именно это открытие:
Час ученичества! Но зрим и ведом
Другой нам свет, – еще заря зажглась.
Благословен ему грядущий следом
Ты – одиночества верховный час!
Диалог двух стихотворений – диалог голосов и риторик. В первом звучит голос Ученика, мечтающего о постоянстве служения; во втором – голос свыше, знающий законы мироздания: подчинение человека ведущей его силе (той, что в поэме «На красном коне» воплощал Всадник-Гений) нужно лишь для того, чтобы он совершил решающий этап своего «восхождения». Учитель лишь доводит Ученика до вершины горы, точки слияния мира земного и небесного, достигнув которой, тот уже не нуждается в водительстве.
Закономерно, что тема «отказа» от земной любви занимает в «Ремесле» важное место:
Блаженны дочерей твоих, Земля,
Бросавшие для боя и для бега.
Блаженны в Елисейские поля
Вступившие, не обольстившись негой.
Там лавр растет, – жестоколист и трезв,
Лавр-летописец, горячитель боя.
– Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любови.
Военная доблесть и смерть в бою, которые в пореволюционной лирике Цветаевой прочно связаны с темой ухода из истории, уничтожающей «старый мир», противополагаются теперь земным «обольщениям» любовью. Речь идет не о человеческих отношениях «дружбы» и «любви», а о двух мирах. «Содружества заоблачный отвес» (т. е. та же гора, вершина которой уже «не на земле, а на небе») – отсылка к топографии иного мира, небытия. «Юдоль любови» – переименованная Цветаевой «юдоль бед», т. е. Земля. Этим переименованием она вновь отождествляет освобождение от Земли с освобождением от любви, точнее, с «освобождением Любви» – от пола. В завершающей «Ремесло» поэме «Переулочки» героиня, обольщающая мóлодца иным миром, «лазорью», так рисует это освобождение:
Милый, не льни:
Ибо не нужно:
Ибо ни лжи:
Ибо ни мужа
Здесь, ни жены,
Раны не жгут,
Жатвы без рук,
Клятвы без губ.
Любовная тема на страницах «Ремесла» становится принадлежностью метафизического дискурса, и это одна из тех творческих метаморфоз, которая на несколько ближайших лет определит звучание цветаевской лирики. Тексты философские, впрочем, охотно «маскируются» ею под лирические медитации с биографическим подтекстом:
Уже богов – не те уже щедроты
На берегах – не той уже реки.
В широкие закатные ворота
Венерины, летите, голубки!
Я ж на песках похолодевших лежа,
В день отойду, в котором нет числа…
Как змей на старую взирает кожу —
Я молодость свою переросла.
Вольная вариация на тему Гераклита, открывающая стихотворение, имеет как будто только личный смысл и отсылает к некоторой пройденной возрастной границе. Однако «молодость» – это еще и та «родовая» черта людей XVIII века, су´дьбы которых Цветаева лишь два года назад примеряла на себя. Отречение от этой «молодости» (себя манифестировавшей через земную любовь) означает трансформацию более глубокую, чем возрастная, и с возрастом по существу вообще не связанную. Речь идет об изменении личности, об отказе от прежних моделей самоидентификации, тех, что связывались в 1919 году с именами Лозэна, Казановы или Стаховича. «Молодость» теперь кажется Цветаевой ее «сапожком непарным» (СП, 238), внешним атрибутом, никогда и не «шедшим» к ее личности. Прощальное обращение к ней констатирует: «Ничего из всей твоей добычи / Не взяла задумчивая Муза» (СП, 239).
Для Цветаевой, не склонной к отрицанию своего творческого прошлого во имя настоящего, такой ход необычен. Предпочитая видеть творчество как «преемственность и постепенность» (СС5, 276), она в своих разновременных поэтических лицах чаще отмечала единство, сходство. Однако внутренняя перемена и связанная с ней перемена лирической персоны, которая фиксируется стихами 1921 года, вынуждают Цветаеву признать серьезность расхождения с собственным прошлым. Ее новая «задумчивая Муза» многократным эхом повторяет на страницах «Ремесла» тот мотив отречения от мира, который впервые прозвучал в поэме «На красном коне»:
Тихонько
Рукой осторожной и тонкой
Распутаю путы:
Рученки – и ржанью
Послушная, зашелестит амазонка
По звонким, пустым ступеням расставанья.
Топочет и ржет
В осиянном полете
Крылатый. – В глаза – полыханье рассвета.
Рученки, рученки!
Напрасно зовете:
Меж нами – струистая лестница Леты!
Вновь, как и в январской поэме, послушная некой высшей силе, героиня расстается с землей, оставляя на ней ребенка. Это пятое стихотворение цикла «Разлука», посвященного мужу, о судьбе которого после поражения Добровольческой армии Цветаева не имела достоверных сведений. Начав цикл биографической темой жизненной разлуки, Цветаева уже в третьем стихотворении перевела ее в иное русло:
Всё круче, всё круче
Заламывать руки!
Меж нами не версты
Земные, – разлуки
Небесные реки, лазурные земли,
Где друг мой навеки уже —
Неотъемлем.
Цветаевой как будто необходимо увериться в том, что смерть уже встала между нею и адресатом и что необходим ее отказ от земли, разлука с землей, чтобы навеки воссоединиться с ушедшим в «лазурных землях»:
Не крáдущимся перешибленным зверем, —
Нет, каменной глыбою
Выйду из двери —
Из жизни. – О чем же
Слезам течь,
Раз – камень с твоих
Плеч!
Не камень! – Уже
Широтою орлиною —
Плащ! – и уже по лазурным стремнинам
В тот град осиянный,
Куда – взять
Не смеет дитя
Мать.
Тот же, что и в поэме «На красном коне», полет «в лазурь» вновь и вновь совершается цветаевским воображением. Все с большей очевидностью не нынешняя разлука с мужем, а чаемая разлука с землей и с теми, кого на ней предстоит покинуть, становится главной темой. Наконец, в наброске одного из неоконченных стихотворений цикла Цветаева раскрывает еще одно «имя» разлуки:
Последняя прелесть,
Последняя тяжесть —
Ребенок, за плащ ухватившийся… – В муке
Рожденный! – Когда‐нибудь людям расскажешь,
Что не было равной —
В искусстве Разлуки!
И прописная буква у «Разлуки», и неожиданное наименование этого деяния «искусством», в котором героине нет равных, – все это закрепляет метафизическое звучание темы: «искусство Разлуки» и «искусство Поэзии» взаимообусловлены. Как уже приходилось отмечать Е. Б. Коркиной, облик того, с кем разлучается героиня, в набросках к циклу не случайно размыт: сначала это «ребенок, у ног моих бьющий в ладоши», затем «как будто не отрок у ног, а любовник» (СП, 640). Частное уступает место общему и выводит конкретно-биографический контекст из игры:
Нечеткий образ того, с кем разлука неминуемо предстоит, определяет и временнóе пространство цикла – это не настоящее время, и не будущее, это вечное время поэзии, где герой цикла одновременно и ребенок, и любовник, и ровесник, и сын, а лирическая героиня с ее «бесстрастием каменноокой камеи» – не смертная женщина, а Сивилла, и разлука, таким образом, не просто биографическая разлука с мужем и не общепоэтическая разлука лирических героев, а вечная разлука поэта со своей человеческой долей, с жизнью вообще235.
Объединенные при первой публикации под одной обложкой236, цикл «Разлука» и поэма «На красном коне» были своеобразной новой «визитной карточкой» Цветаевой в поэзии. Она гласила, что «отказ» от земли – не выбор человека, но выражение сущности поэта. Человеческая судьба должна была отныне подчиняться дару. О трагичности этой коллизии «Ремесло» напоминало лишь косвенно: с одной стороны, бесчеловечностью жертв, которые необходимо было принести, с другой – указанием на непреодолимую «двуприродность» поэта-человека, навсегда оставляющую его лишь устремленным от земли к небу. В стихотворении «Так плыли: голова и лира…» (ноябрь 1921 года)237, связанном со смертью Александра Блока, рассказывалось об авторском ви´дении того конфликта, который сопутствует земному бытию поэта:
Так плыли: голова и лира,
Вниз, в отступающую даль.
И лира уверяла: мира!
А губы повторяли: жаль!
Крово-серебряный, серебро-
Кровавый свет двойной лия,
Вдоль обмирающего Гебра —
Брат нежный мой, сестра моя!
Порой, в тоске неутолимой,
Ход замедлялся головы.
Но лира уверяла: Мимо!
А губы ей вослед: Увы!
Вдаль-зыблющимся изголовьем
Сдвигаемые как венцом —
Не лира ль истекает кровью?
Не волосы ли – серебром?
Так, лестницею нисходящей
Речною – в колыбель зыбей.
Так, к острову тому, где слаще
Чем где‐либо – лжет соловей…
Где осиянные останки?
Волна соленая – ответь!
Простоволосой лесбиянки
Быть может вытянула сеть? —
Смерть Блока становится для Цветаевой поводом обратиться к мифологическому первоисточнику сюжета о «смерти поэта» – легенде об Орфее, который был растерзан вакханками и чья голова, брошенная в реку Гебр, по одной из версий мифа, была принесена волной к берегу острова Лесбос, родине Сафо. Однако в цветаевском тексте смерти как таковой нет. Ее стихотворение рассказывает, как ни парадоксально, о жизни поэта-человека: в его уходе из мира еще раз символически воспроизводится драма его земного бытия.
Суть конфликта выражается диалогом лиры и головы Орфея. Первая «уверяет», что один лишь «мир», вечный покой, желанен ей; вторая «сожалеет» о покидаемой ею земле238. «В тоске неутолимой» голова хочет продлить свое прощание с миром; лира настаивает на никчемности всяких остановок. Подобно нежному брату и сестре они связаны прочными узами, но не являются одним целым. «Двойной след», оставляемый ими, символизирует их нераздельность и неслиянность: «кровавый» след человеческой боли соседствует с совершенным и прекрасным «серебряным» следом поэтического голоса.
Однако в четвертой строфе картина меняется. Неожиданно в тексте проявляет себя точка зрения наблюдателя, глядящего вслед удаляющимся голове и лире и констатирующего, что их силуэты сливаются. Зрительный эффект сближения предметов по мере их удаления стирает четкость очертаний каждого, и уже нелегко понять, какая часть «двойного следа» относится к лире, а какая к голове. В сознании неведомого наблюдателя, воображаемого потомка, происходит то, чего поэт не мог достичь при жизни: его земное и небесное естества наконец сливаются, увенчиваясь одним «венцом».
Голова и лира исчезают – их нет в последних двух строфах. Они превратились в одно, в «осиянные останки». Но конечная цель этого плавания двоится: это и «колыбель зыбей», и остров, «где слаще / Чем где‐либо – лжет соловей». Вопрос, следующий далее («Где осиянные останки?»), подчеркивает неопределенность эпилога рассказанной истории, а предлагаемый затем ответ принимает форму нового вопроса: «Простоволосой лесбиянки / Быть может вытянула сеть? – ». Этот вопрос, продленный тире, выводит ответ за пределы возможного знания. «Колыбель зыбей» – точка начала и конца всего. «Остров» – то вечное пространство Поэзии, в котором вне условностей исторического времени происходит встреча Орфея и Сафо, – сбывается мечта, что «некий Карл тебя услышит, Рог». Эпилог повествования о «смерти поэта», таким образом, еще раз повторяет «двуликую» тему его жизни: мечту о расставании с землей и надежду быть вечным зовом для ее будущих обитателей.
Уехав в мае 1922 года за границу и готовя сборник «Ремесло» к печати уже вне России, Цветаева решила хронологически ограничить его апрелем 1922 года, отделив последний русский период творчества от всего, чему было суждено сказаться в ее творчестве потом. Это не было механическим совмещением биографического рубежа с творческим. Скорее можно сказать, что поэтический ряд (как и должно было быть теперь) заранее подчинил себе биографический: тема отъезда из России прошла через многие стихи будущего «Ремесла», придав событию отъезда творческий смысл.
Эта тема появилась в цикле «Ханский полон» (сентябрь 1921 года) и в стихах 1922 года стала одной из главных. Ее решение, в соответствии со всем духом сборника, было исполнено особой символики:
Ханский полон
Вó сласть изведав,
Бью крылом
Богу побегов.
Так начинался цикл. Расшифровка «полона» как революционной России, а «побега» как отъезда из нее быстро обнаруживала свою поверхностность. Второе стихотворение цикла уже усложняло тему:
Ни тагана
Нет, ни огня.
Нá меня, нá!
Будет с меня
Конскую кость
Жрать с татарвой.
Сопровождай,
Столб верстовой!
Ясно, чего бежит героиня, но конечная цель побега называется не сразу. Первое указание на нее – «К старому в рай, / Паперть-верста!» (СП, 232). Дорога, «обрученная» с папертью, ведет к навеки ушедшему «старому миру», т. е. в смерть. Однако затем цель побега еще раз уточняется:
Камнем – мне Хан,
Ямой – Москва.
К ангелам в стан,
Скатерть-верста!
Уже не просто рай, куда попадают смертные, но высший и лучший мир ангелов, которые никогда и не принадлежали земле, – вот истинная цель, к которой устремляется героиня. Биографическая тема отъезда из России, таким образом, сливается с темой «отказа» от земли, подчиняется ей идейно и риторически. В стихотворении начала 1922 года «По нагориям…» «побег» уже прямо символизирует истинное рождение в истинный мир Вечности – «край без праотцев»:
По нагориям,
По восхолмиям,
Вместе с зорями,
С колокольнями,
Конь без удержу,
– Полным парусом! —
В завтра путь держу,
В край без праотцев.
Не орлицей звать
И не ласточкой.
Не крестите, —
Не родилась еще!
<…>
Тень – вожатаем,
Тело – за версту!
Поверх закисей,
Поверх ржавостей,
Поверх старых вер,
Новых навыков,
В завтра, Русь, – поверх
Внуков – к правнукам!
<…>
Дыхом-пыхом – дух!
Одни – поножи.
– Догоняй, лопух!
На седьмом уже!
Настроения, выразившееся в лирике, подтолкнули Цветаеву к новому сюжетному замыслу. В марте 1922 года в ее рабочей тетради появился план поэмы «Мóлодец», а к середине апреля был готов чистовик первой главы. Однако замысел расширялся, завершить поэму к отъезду уже не представлялось возможным, и Цветаева прервала работу над ней. Прощальным аккордом стала написанная в апреле поэма «Переулочки»239.
Заслуженно считающаяся самой темной из цветаевских поэм, она едва ли проясняется и своим фольклорным источником – былиной «Добрыня и Маринка». Из нее в поэму Цветаевой действительно попадают некоторые реалии240, однако содержание рассказанной истории меняется совершенно. В былине колдунья Маринка обращает Добрыню в тура, но затем – в ответ на уговоры матери Добрыни и на посулы, что он на ней женится, – возвращает ему человеческий облик. Однако, став вновь человеком, Добрыня на Маринке не женится, а ее убивает (в другом варианте былины месть исходит от матери Добрыни). Таким образом, герой побеждает нечистую силу, и именно в этом смысл былины.
У Цветаевой побеждает нечистая сила, и, как справедливо заметил Фарыно, табуированное, неназванное имя этой нечистой силы – знак скрытой идентификации авторского «я» с героиней. Одна из наиболее вероятных причин выбора данной былины как референта, должно быть, в имени былинной героини и заключается.
Заговорный стиль «Переулочков» делает развитие сюжета практически неуловимым. Героиня-колдунья зовет доброго мóлодца в ту самую «лазорь», которая олицетворяет иной мир в поэтическом дискурсе Цветаевой последнего времени. При этом героиня упоминает уже знакомого читателю «красного коня» («Красен тот конь, / Как на иконе» (СС3, 274)), которому и предстоит унести мóлодца «в лазорь». Однако все это путешествие дано в поэме лишь как речь героини-колдуньи, как ее обещанья мóлодцу. «Лейтмотив один: соблазн, сначала “яблочками”, потом речною радугою, потом – огненной бездной, потом – седьмыми небесами» (СС7, 407), – так объясняла Цветаева тему поэмы Ю. Иваску в 1937 году. Однако соблазненный посулами героини добрый мóлодец так и не попадает на обещанные «седьмые небеса». Колдовская речь завершается обращением мóлодца в тура, и этим история, рассказанная Цветаевой, заканчивается.
Куда больше сходства у «Переулочков» не с былинным текстом, а с балладой Каролины Павловой «Старуха» (1840). Это стихотворение, как упоминалось, оставило свой след еще в «Волшебном фонаре». Перечитывала ли Цветаева К. Павлову в пореволюционные годы241 или у нее сохранилось лишь смутное воспоминание об этом стихотворении – не так уж важно, ибо и последнего было бы достаточно. Любопытно, однако, что еще осенью 1919 года Цветаева в весьма примечательном контексте примеривала слово «старуха» к себе: «А теперь мне необходимо писать большую книгу – о старухе – о грозной, чудесной, еще не жившей в мире старухе – философе и ведьме – себе!!!» (ЗК1, 441).
Баллада Павловой разрабатывала романтический сюжет о власти инфернальной силы над душой человека. В данном случае инфернальную силу воплощала таинственная «старуха», которая заманивала в свою «лачужку» юного всадника и околдовывала его своими речами:
Дверь, белея, шевелится,
И старуха входит в дверь,
Входит дряхлая, седая,
И садится, и опять,
Обольщая, возмущая,
Начинает речь шептать.
Юной грусти бред мятежный,
Сокровенные мечты,
Одевает в образ нежный,
В непорочные черты.
Говорит про деву-чудо,
Так что верится едва,
И берет, Бог весть откуда,
Ненаслушные слова.
Как щеки ее душистой
Томно блещет красота,
Как сомкнуты думой чистой
Недоступные уста.
<…>
Как любить ее напрасно,
Как, всесильная, она
Увлекательно прекрасна,
Безнадежно холодна242.
Знаменательно, что «обольщение» в «Старухе», как и в «Переулочках», словесное. В обоих произведениях эротические мотивы в этом словесном обольщении важны, как важно и декларирование недостижимости эротических соблазнов. У Цветаевой сначала голуби воркуют мóлодцу «Про белые плечи, / Которых не смети» (СС3, 271), а затем сама героиня объясняет ему, что все страсти в «лазори» бестелесны. Недоступность (неосуществимость) того, чем соблазняют героев в обоих текстах, предопределяет концовку каждого из них. У Цветаевой неосуществимые соблазны кончаются «грубой бытовой развязкой» (МЦБП, 53), как она определила ее в письме к Пастернаку: обращением героя в тура и его изгнанием за ворота. У Павловой история юного красавца заканчивается тем, что —
В зимней стуже, в летнем зное
Он и ночью, он и днем
В запертом сидит покое,
Со старухою вдвоем.
Неподвижный, весь исчахлый,
Он сидит, как сам не свой,
И в лицо старухе дряхлой
Смотрит с жадностью немой243.
Эта концовка лишь по видимости открытая. Огромность и недостижимость соблазнов медленно убивают героя, отнимают у него душу, оттого он уже и «сам не свой». Концовка цветаевского текста по духу близка концовке «Старухи»: инфернальная сила подчиняет себе невинную душу, отнимая ее у Бога и у рода человеческого. «Она – МОРÓКА и играет самым страшным» (СС7, 407), – так Цветаева толковала Иваску природу своей героини. «Сей страшен союз» (СС3, 23), – говорилось о союзе героини с Всадником-Гением в поэме «На красном коне». Дьявольские соблазны неисполнимых обещаний, которыми героиня «задуряет» мóлодца, это те же соблазны «лазурными землями», которые, появившись в поэме «На красном коне», заполнили затем «Ремесло». Это соблазны искусства, словами уводящего душу из мира. Превращение героя в тура – утрата мóлодцем своей человеческой души, украденной героиней и унесенной ею «в лазорь». Главное, что героиня и сила, с которой она сотрудничает, страшны. Мысли о природе той силы, которой держится противостояние искусства земному миру, о «дьявольском соблазне» как некой объективной сущности искусства, – теперь неотступно преследуют Цветаеву. Ее отъезд из России происходит под знаком окончательного признания своей сопричастности игре «самым страшным».
Переезд в Берлин кристаллизует все то, что накапливалось в последние годы в самосознании и творческом опыте Цветаевой. Плохо сохранившаяся и немного сбивчивая, но очень знаменательная ее запись первых берлинских дней свидетельствует именно об этом:
<Я> не употреблю самого пустого из слов, но <то>, что творится – огромно. Всё сразу в <две?> ладони: творческий расцвет (взрыв!)<,> громадность ЧАСА, разрыв с Россией, канун, <одно слово зачеркнуто> и <жи>знь всего названного, ставшая слитностью, <ед>иным именем. <…>
ВНЕ личного, ибо вообще живу вне.
<Я>, захваченная – неприкосновенна, опрокинутая – не падаю. Ибо НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ <мне> дает силу (ЗК2, 266).
С этого сознания начинается творчество Цветаевой «после России». Выстроенный на обломках истории и собственной прежней судьбы свой, индивидуальный, романтико-символистский миф начинает жить и руководить жизнью автора.
«“А Вы пишете прозу?” – “Да, записные книжки…”» (ЗК2, 169), – такой обмен репликами между нею и Вяч. Ивановым фиксирует запись Цветаевой, сделанная весной 1920 года. «Я страстно увлекаюсь сейчас записными книжками: всё, что слышу на улице, всё, что говорят другие, всё, что думаю я…» (ЗК2, 168), – охотно сообщает она тому же собеседнику. О своем особенном отношении к записным книжкам Цветаева упоминает и раньше, в ноябре 1919 года:
Больше всего в мире – из душевных вещей – я дрожу за: Алины тетрадки – свои записные книжки – потом пьесы – стихи далекó позади, в Алиных тетрадках, своих записных книгах и пьесах я – больше я: первые два – мой каждый день, пьесы – мой Праздник, а стихи, пожалуй, моя неполная исповедь, менее точны, меньше – я (ЗК2, 42).
Лирика недостаточно полно выражает индивидуальность, вдруг обнаруживает Цветаева. Поэтому необходимы записные книжки, чтобы высказать в них то, что в лирику попасть не может. Конечно, в них присутствует не только авторское «я», там и то, что автор «слышит на улице», и то, что «говорят другие», – но все это факты жизни, пропущенные через авторское сознание. Было бы опрометчиво понять цветаевские высказывания в том смысле, что свои записные книжки она ставит выше своих стихов. Записные книжки – более непосредственное выражение ее «я», вот что она утверждает. Иерархически выше для нее как раз иное:
Самое лучшее во мне – не лично, и самое любимое мое – не лично.
Я никогда не пишу, всегда записываю <…> (как по команде).
Я просто – верное зеркало мира, существо безличное. И, если бы <…> не было моих колец, моей близорукости, моих особенно-лежащих волос <…>, – всей моей особенной повадки – меня бы не было (ЗК1, 349).
Эта заметка сделана в июле 1919 года и открывает важную в творчестве Цветаевой тему: о внеличной природе искусства. Однако «не личное», то, что «записано» как бы «по команде», – это едва ли записные книжки. Скорее, это стихи, про которые сказано, что они «меньше – я». В то же время, говоря о своем творчестве вообще, Цветаева в ноябре 1919 года отмечает:
Я никогда не напишу гениального произведения, – не из‐за недостатка дарования – слово мой вернейший слуга, <…> а из‐за моей особенности, я бы сказала какой‐то причудливости всей моей природы. Выбери я напр<имер> вместо Казановы Троянскую войну – нет, и тогда Елена вышла бы Генриэттой, т. е. – мной.
Не то, что я не могу оторваться от себя, своего, что ничего другого не вижу, – вижу и знаю, что есть другое, но оно мне настолько меньше нравится, я – мое – мой мир – настолько для меня соблазнительнее, что я лучше предпочитаю не быть гением, а писать о женщине XVIII в. в плаще – просто Плаще – себе (ЗК2, 39).
Здесь Цветаева фактически повторяет то, что говорила о себе еще в 1914 году: ее дарование «неправильно», «неполноценно», хотя она теперь иначе формулирует суть этой «неправильности». Бросаются в глаза выделенные в обеих записях слова «особенная», «особенность». Согласно первой записи, «особенное» в ее «я» – не слишком значительная помеха к тому, чтобы сообщать творчеству необходимое «безличие». Во второй же записи это «особенное» предстает как вездесущее и препятствующее воплощению необходимого в творчестве «безличия», которое есть залог создания «гениального произведения».
Эти взаимоисключающие автоинтерпретации – один из признаков состояния «перемены идентичности», которое Цветаева в это время переживает. В зрелые годы примирение «особенности» с «безличием» не будет представлять для нее риторической проблемы: «Я мое – не единоличное. Только очень уединенное. Одинокое я одного за всех. Почти что – анонимное» (СТ, 496). Однако в первые пореволюционные годы Цветаева лишь открывает для себя проблему индивидуально-биографического и внеличного в творчестве. Размышления на эту тему оказываются сопряженными с писанием прозы.
Если не считать предисловия к сборнику «Из двух книг» (1913), Цветаева до 1922 года не писала прозы, предназначенной для публикации. Разумеется, само по себе прозаическое письмо вошло в ее жизнь очень рано: это не только несохранившиеся детские дневники, но и частично сохранившееся эпистолярное наследие, а также ранние опыты в эссеистике и полу-автобиографической беллетристике244 и записные книжки. К концу 1910‐х годов у Цветаевой уже выработался устойчивый прозаический стиль. Однако только уехав из России, она решилась выступить как прозаик, постепенно обработав для печати часть своих записных книжек революционных лет. В 1922–1923 годах были также написаны две критические статьи – «Световой ливень» и «Кедр». Именно с них удобно начать разговор об истоках цветаевской прозы.
При доминировании поэзии в модернистской литературной культуре 1910‐х годов (как и предыдущего десятилетия), проза в творчестве поэтов заняла в это время функционально важное место. Речь идет не о беллетристике, хотя и ей многие поэты отдавали дань. Наиболее же примечательным типом прозаического письма в репертуаре поэтов-модернистов стала эссеистика, ориентированная на говорение об искусстве. Понятие «эссеистика» применительно к этому времени оправдано толковать расширительно, включая сюда такие жанры, как рецензия и манифест, получившие именно в начале ХХ века новый, весьма высокий статус в литературе и функционально эссеистике родственные. Обращение к этому роду письма обычно происходило в период вхождения того или иного поэта в литературу и самоопределения внутри нее. Оформление школ и групп происходило в большей степени на основе эстетических идей, выдвинутых в эссеистике, и в меньшей степени – на основе формальных черт поэтики. Соответственно, выступления в жанре эссеистики гораздо определеннее, чем собственно поэтическое творчество, обозначали нишу, которую автор избирал для себя на литературном ландшафте. Потому большинство поэтов поколения Цветаевой и выступило с эссеистикой на самых ранних этапах творчества, да и в дальнейшем не теряло к ней интереса245.
Понятно, что «внелитературная» позиция Цветаевой в 1910‐е годы лишала для нее эссеистическую прозу внутренней почвы. Ее обращение к эссеистике в начале 1920‐х годов можно считать еще одним знаком нового самоопределения в литературе. Однако печать «особенности», лежавшая на ее первых литературных эссе, свидетельствует о том, что пришла Цветаева к этому жанру не совсем обычным путем.
Ее первым опытом в новом жанре стала статья «Световой ливень» (1922), посвященная сборнику Пастернака «Сестра моя жизнь». Никогда прежде Цветаева не откликалась статьями на значительные для нее литературные впечатления; отклик ее был стихотворным, эпистолярным, но никогда – эссеистическим. Опыта писания рецензий у нее либо вообще не было, либо он был неудачен246. На таком «отрицательном» фоне желание дать отзыв на только что прочитанную книгу Пастернака требует иных объяснений, нежели ссылка на сильное впечатление, которое его стихи произвели на Цветаеву.
Предлагая статью о «Сестре моей жизни» А. С. Ященко для журнала «Новая русская книга» и как бы отвечая на предшествующую (и так и не исполненную) просьбу издателя дать в журнал краткую автобиографическую справку, Цветаева обмолвилась: «Я свою автобиографию пишу через других» (СС6, 221). Слова эти свидетельствуют о том, что, как минимум, одним из толчков к написанию статьи стала рефлексия автобиографического рода.
Открыв статью коротким лирическим пассажем, Цветаева далее голосом воображаемого «третьего лица» спрашивала: «Пастернак. – А кто такое Пастернак? («Сын художника» – опускаю.) Не то имажинист, не то еще какой‐то… Во всяком случае, из новых… Ах, да, его усиленно оглашает Эренбург. Да, но вы ведь знаете Эренбурга? Его прямую и обратную фронду!.. И, кажется, и книг‐то у него нет…» (СС5, 231). Нетрудно заметить, что Цветаева с первых слов выделяла в литературной репутации Пастернака обстоятельства, очень сходные с ее собственными. Сердцевина этого сходства – литературная безвестность Пастернака к моменту выхода «Сестры моей жизни». Подспудно Цветаева еще и переносила в пастернаковскую репутацию характерную черту своей собственной: неопределенность «направленческой» принадлежности поэта.
В предложении, следующем за процитированным абзацем, Цветаева неожиданно солидаризировалась с голосом «третьего лица», заявляя: «Да, господа, это его первая книга» (СС5, 231). Несколько страниц спустя, в примечании, Цветаева исправляла эту ошибку, – тут же допуская другую, т. е. называя первой книгой Пастернака «Поверх барьеров». Однако нет сомнения, что первоначальное заявление делалось без всякого лукавства: поправка явно внесена с чужих слов и, возможно, уже в корректуре. Между тем даже эта искренняя ошибка «работала» на Цветаеву. Благодаря ей аналогия оказывалась еще более полной, чем предполагалось вначале: сама Цветаева в это время – тоже автор мало кому памятных поэтических книг, ее сборники начала 1920‐х годов воспринимаются многими как дебютные.
Еще одна аналогия, предоставленная в распоряжение Цветаевой самой жизнью и не требовавшая натяжек, отыскивалась ею безошибочно. Говоря о «запоздании» сборника Пастернака на пять лет (т. е. об интервале, разделяющем время написания стихов и издания книги), Цветаева не могла не иметь в виду и собственный сборник «Версты I» со стихами 1916 года, в это время все еще ожидавший выхода в Москве (он появится в конце 1922 года) и таким образом «запаздывавший» на шесть лет. Поэтому важен как автокомментарий и следующий за фразой о «запоздании» пассаж: «Он (Пастернак. – И. Ш.) точно нарочно дал сказать всё – всем, чтобы в последнюю секунду, недоуменным жестом – из грудного кармана блокнот: “А вот я… Только я совсем не ручаюсь…”» (СС5, 231). Это «объяснение», конечно, сформулировано Цветаевой в такой же мере для пастернаковского случая, в какой и для своего собственного: именно так ей хотелось бы преподносить современникам свой поздний выход на авансцену литературы. Завершающее же весь начальный раздел статьи признание окончательно открывало авторские карты: «Пастернак, возьмите меня в поручители перед Западом – пока – до появления здесь Вашей “Жизни”. <…> И не потому, что Вам это нужно, – из чистой корысти: дорого побывать в такой судьбе!» (СС5, 231–232). Статья о книге поэта пиcалась, оказывается, потому, что судьба ее автора представлялась необычайной. Обнаруженные же аналогии между судьбой Пастернака и собственной судьбой формировали напряженный (хоть и скрытый от читателя) автобиографический подтекст статьи247.
Переезд в Берлин кристаллизовал самосознание Цветаевой как человека литературы. Потребность в осмыслении необычности, «неправильности» своей предшествующей литературной биографии от этого только усилилась. Письмо Пастернака с восторженным отзывом о «Верстах» пришло месяц спустя после ее переезда и попало на чрезвычайно благоприятную почву: слова признания ее таланта не столько должны были льстить цветаевскому самолюбию, сколько подтверждать ее новое самосознание, самосознание русского поэта, а не «женщины, безумно любящей стихи». Открытие поэзии Пастернака (она получила «Сестру мою жизнь» вскоре после его первого письма) пришлось на этот критический момент. В одном лице совпали голос, показавшийся Цветаевой, как никакой другой, созвучным ее представлениям о духе поэзии, и тип литературной судьбы, в которой она смогла увидеть аналог собственной. Это и заставило Цветаеву взяться за перо: подобно тому как на заре ее творческой биографии пример Башкирцевой раскрыл ей культурный, сверхличный смысл в повседневности стихописания, пример Пастернака бросал теперь свет на ее определенным образом сложившуюся судьбу в литературе.
Разъяснить читателям «Световой ливень», впрочем, смог не больше, чем посвящение «Вечернего альбома» памяти Башкирцевой. Этот опыт экстериоризации собственного «я» и интериоризации чужого (того, что Цветаева назвала «писанием своей автобиографии через других») как акт самоопределения оказался нераспознаваемым для читателя. И если посвящение первого сборника Башкирцевой было прощено Цветаевой «по возрасту», то к «Световому ливню» критика оказалась не в пример беспощадней:
Даже воспоминания Белого (о Блоке. – И. Ш.) кажутся сдержанными и сухими после статьи Марины Цветаевой о Пастернаке. (Световой Ливень, Эпопея № 3).
23 страницы этой «статьи» написаны в таком тоне восторженной истерики, что первое чувство при их чтении – острая неловкость и за автора этих панегириков и за предмет их – Пастернака248.
Так считал не один Георгий Иванов; с ним были согласны и другие критики, отозвавшиеся на статью Цветаевой249. А. Тансман, например, замечал: «Это – не критика, а вакхический дифирамб. И уж так громко, так звонко, такая фуга уподоблений и фигур, что дух захватывает. Новый вид экстатической лирики – вроде старого импрессионизма, но с истерикой»250.
Дело было явно не в субъективности критиков. «Световой ливень» был написан в несуществующем жанре – именно эту проблему они и почувствовали, хотя не смогли точно назвать. Статья Цветаевой не соответствовала той функции, которую отзыв на книгу призван был выполнять в литературной жизни. Но и ни с каким иным родом письма, кроме критической эссеистики, «Световой ливень» у его читателей тоже не ассоциировался: статья о недавно вышедшей книге должна была вписываться в эти дискурсивные рамки. Удовлетворительных указаний на неправомерность таких ожиданий Цветаева не дала и, по‐видимому, их необходимости не ощущала. Лежавшие на поверхности статьи автобиографические аллюзии критикой, в свою очередь, узнаны не были, ибо в отзыве на книгу само их наличие не должно было иметь существенного значения. Таким образом, обратившись к тому роду письма, который «обслуживал» сферу литературных отношений, Цветаева столкнулась с неприятием критикой своей дискурсивной стратегии. «Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу»251, – к такому неутешительному выводу приходил Георгий Адамович, оценивая «Световой ливень» и «Кедр» (1923), еще одну статью-отзыв Цветаевой – на этот раз, на книгу воспоминаний князя С. М. Волконского «Родина».
Этот второй цветаевский опыт в прозе вызвал у критиков не меньше недоумения и осуждения, чем первый:
Никак не пройти мимо крикливой статьи Цветаевой о кн. Волконском. Автор прекрасной книги «Родина» уподобляется здесь и Лукрецию, и Гете, и даже – «Богу первых дней», и это – с выкрикиванием и причитаниями, – на протяжении более чем тридцати страниц. Просто непонятно, откуда это кликушество по поводу такой спокойной и прозрачной книги252.
Основания для столь резкого отзыва были все те же. В «Кедре» Цветаева вновь, ничего не объясняя читателю, ввела в ткань статьи свою биографическую тему. Здесь были продолжены в форме публичного высказывания размышления, заполнявшие недавно записные книжки и рабочие тетради Цветаевой: «Кедр» стал рассказом о тех переменах в собственном мироощущении, которые она связывала со своей встречей с Волконским. Тема статьи объявлялась уже в первом абзаце, но это объявление носило столь же «эзотерический» характер, как и автобиографические аллюзии в «Световом ливне»:
Подходить к книге кн. Волконского «Родина» как к явлению литературному – слишком малая мера. Эта книга прежде всего – летопись. И не потому, что он пишет о «летах мира сего», – кто не писал воспоминаний? Основная особенность летописи – то освещение изнутри внешних событий, тот вопрос, который она им ставит, тот ответ, который из них слышит. Летописец далеко не последнее лицо в летописи: им она жива (СС5, 246).
Таким образом, темой отзыва на книгу вновь оказывался ее автор. «Дорого побывать в такой судьбе», – эта мотивировка написания «Светового ливня» в полной мере подошла бы и к «Кедру». Манера цветаевского письма тоже не изменилась: как и в «Световом ливне», ее стиль на глазах читателя разрушал дискурсивные конвенции критической эссеистики. Попыткой обозначить особый жанр новой статьи было стоявшее в подзаголовке слово «апология». Однако как способ отмежевания от критического жанра оно оказалось неубедительным.
«Вымышленные книги сейчас не влекут» (СС5, 246), – так начинался второй абзац «Кедра», и это определяло проблематику статьи. Раз вымысел «после великой фантасмагории революции» объявлялся неубедительным, значит словесность становилась территорией непосредственного контакта читателя с личностью и жизненным опытом автора. Именно поэтому разговор о книге должен был превратиться в разговор об ее авторе. Личность творца – под знаком этой темы рождалась цветаевская эссеистика. «Творению я несомненно предпочитаю Творца» (СС4, 514), – эту мысль, впервые сформулированную в записях 1919 года, Цветаева не раз повторяла впоследствии. И «Световой ливень», и «Кедр» были в этом смысле бессознательными манифестами, не только провозглашавшими в качестве приоритета внимание к личностям авторов обсуждаемых книг, но и вводившими личность обсуждающего в риторический круг творимых «апологий».
С одной стороны, отклики современников на первые статьи Цветаевой свидетельствовали о том, что она нарушала в них некие важные дискурсивные правила. С другой стороны, несомненно, что историко-литературные предпосылки у такого развития цветаевской прозы были. Доминирование поэзии в модернистскую эпоху делало прозу «жертвой» ее экспансии. Ощущалось это и в беллетристике, но наиболее характерной составляющей поэтической экспансии стало втягивание в модернистский эксперимент маргинальных (камерных) жанров. Под диктатом лирики в «большую» литературу возвращались такие камерные жанры, как дневник, письмо, афоризм, а с течением времени – и мемуары. Палитра русской прозы существенно разнообразилась. «Уединенное» и «Опавшие листья» В. Розанова с их бессюжетной фрагментарностью стали едва ли не самым впечатляющим литературным явлением рубежа 1900–1910‐х годов. Фрагментарная композиция подчеркивала лирическую природу текста, его структурным стержнем была авторская субъективность (ничем кроме нее порядок следования фрагментов не мог быть мотивирован). Пример Ницше вывел на этот путь и философскую прозу, дав жизнь такому лирико-философскому произведению, как «Апофеоз беспочвенности» Льва Шестова. Его первая часть открывалась характерным эпиграфом из Гейне: «Zu fragmentarisch ist Welt und Leben»253. Таково было «самосознание» новой модернистской прозы: она полагала себя более соответствующей сути «мира» и «жизни», менее условной, бесспорно – менее литературной, что ощущалось как достоинство.
При ясно выразившейся с первых шагов в литературе приверженности Цветаевой к «дневниковой» модели в лирике не удивительно, что и ее проза имела ту же родословную. Интересно другое: записные книжки Цветаева вела и до революции, но лишь после революции они стали особым объектом ее рефлексии. Едва ли Цветаева до 1917 года противопоставила бы лирику и записные книжки как два рода письма, первый из которых менее, а второй – более представляет ее человеческое «я». Напротив, весь юношеский пафос Цветаевой состоял в том, что стихи и есть идеальная форма для выражения ее личности. После революции, в ситуации переосмысления собственной культурной идентичности и осознания своих литературных занятий как профессии, как дела, определяющего ее социальный статус, – Цветаева должна была пережить и сдвиг в отношении к поэтическим текстам как продуктам творчества, отчуждаемым от авторской субъективности литературным контекстом. Поэзия начала восприниматься как нечто по сути своей менее личное («неполная исповедь»), а записные книжки в этой ситуации неожиданно превратились в прибежище для того «я», которое вытеснялось из стихов: проза становилась более лирикой, чем лирика254. Параллельно появлялась мысль о том, что «не-личное», «безличное» и есть, быть может, самое ценное в творчестве: этим прежде всего поддерживалось самосознание Цветаевой как поэта. Однако потребность в «дневниковом», непосредственном самовыражении не исчезала и требовала себе выхода. Именно ее Цветаева характеризовала как наиболее индивидуальную свою «особенность».
Очень трудно возвести эту «особенность» к одним лишь вышеупомянутым тенденциям в русской прозе начала ХХ века. Конечно, Розанова Цветаева читала и чтила. Однако в отличие от него, создававшего свою новую «неконвенциональную» прозу непосредственно для публикации, Цветаева выработала свою прозаическую манеру в текстах, для публикации не предназначавшихся (в письмах и разнообразных дневниковых заметках), и лишь не пожелала изменить ее, когда дело дошло до печатных выступлений. Более того, придя к прозе через приватный дискурс записных книжек и писем, Цветаева именно его и посчитала для прозы универсальным, для своей прозы – во всяком случае (что, конечно, Розанову не было свойственно).
Именно это и выяснилось при публикации ее первых статей. Достаточно сопоставить пореволюционные записные книжки Цветаевой с текстами «Светового ливня» или «Кедра», чтобы удостовериться в сходстве их поэтик. Это фрагменты, отчеркнутые друг от друга горизонтальными штрихами (в «Световом ливне» – частично и подзаголовками частей, довольно условными), не столько их разделяющими, сколько соединяющими в единый текст – записную книжку или статью; единственный оплот целостности текста – авторское «я»; общая композиция одновременно слабо мотивирована и непререкаема, как и положено в тексте дневникового характера. Фрагментарность наблюдений не затушевывается, а напротив подчеркивается обилием назывных предложений, короткими абзацами, тире между предложениями. Стилистическая непосредственность также прямо перекочевывает в статьи из записных книжек: « – Кстати, попутное наблюдение: разительное отсутствие в кругу пастернаковской природы – животного царства: ни клыка, ни рога. Чешуя лишь проскальзывает. Даже птица редка. Мироздание точно ограничилось для него четвертым днем. – Допонять. Додумать. – » («Световой ливень»; СС5, 243).
При достаточно высокой степени открытости экспериментам в прозе, литературная культура модернизма такого «реформирования» критического дискурса на основе приватных, камерных жанров не предполагала. И Шестов и Розанов, бросая вызов сложившимся жанровым нормам, сделали все, чтобы дать читателю понять, сколь сознательным и отрефлектированным был их выбор. Независимо от наличия или отсутствия у них последователей, сделанное ими воспринималось как жанровые инновации. Первые эссеистически опыты Цветаевой были встречены как литературный курьез, недоразумение: она писала так, как будто не имела понятия о существовании каких‐либо жанровых (дискурсивных) норм, – а вовсе не как новатор, стремящийся что‐то в этих нормах поставить под сомнение. Композиционная и стилистическая изоморфность критического эссе записной книжке – такой «анти-жанровый экстремизм» читался как наивность и безвкусица.
Однако Цветаева не была так уж бессознательно наивна в своих первых прозаических опытах. Ее выбор в пользу записных книжек как дискурсивной модели для прозы был обдуманным, хоть и не соотнесенным с реальностью литературной традиции. Прелюдией к такому выбору звучат записи весны 1921 года об исконном предпочтении ею «человека – в дневниках, стихах, письмах», в «беспредельных, самых непосредственных формах – самых не-формах! – человеческой беззащитности» (СТ, 12). Интересно, что стихи здесь уже попадают в один ряд с дневниками и письмами: противопоставление лирики дневнику теряет актуальность, и то и другое оказывается противопоставленным чему‐то третьему. Чему именно, разъясняет следующая запись:
Любимые книги, задумываюсь, те любимые без <сверху: от> которых в гробу не будет спаться: Mme de Staёl – Коринна, письма Melle de Lespinasse, записи Эккермана о Гёте… Перечисляю: ни одного литературного произведения, всё письма, мемуары, дневники, не литература, а живое мясо (души!) (СТ, 14).
Дневникам, письмам, стихам противопоставлена «литература». То же самое Цветаева повторит десять лет спустя, в 1931 году. Назвав среди своих любимых книг «В поисках утраченного времени» Пруста255, мемуары Казановы, «Исповедь» Руссо, «Записки» Ласказа (секретаря Наполеона на Св. Елене), «Разговоры с Гете» Эккермана, Гомера, – она подытожит: «Выясняется: ни одного литературного произведения, ряд сопутствующих жизней, чтобы не так тошно было жить – свою» (СТ, 430).
Примечательно, что в этих записях Цветаева не называет еще и ни одного русского произведения. Не имевшие большого авторитета в русской литературе до ХХ века, камерные жанры – мемуары и записки, дневники и письма – вошли в круг ее чтения в ранней юности благодаря знанию немецкого и французского. Едва ли они стали для юной Цветаевой произведениями иностранной литературы. Частота, с которой она на протяжении всей жизни упоминает немецких и французских авторов в своих стихах, прозе, письмах, записных книжках, настолько превосходит частоту упоминания авторов русских, что понятие «иностранный» здесь малофункционально. Произведения камерных жанров, как вся эта «иностранная» словесность вообще, сделались именно частью родной для Цветаевой литературной культуры, и бедность этой части русскими образцами, возможно, никогда ею вполне не сознавалась. Своеобразие пути, по которому пошла Цветаева в прозе, можно объяснить именно бессознательностью введения ею в русскую традицию богатейшего опыта западноевропейского камерного небеллетристического письма, существенную часть которого составляло к тому же письмо женское. Здесь вновь уместно вспомнить и о «Дневнике» Башкирцевой: насколько неслучаен был этот текст как катализатор творческого самоопределения юной Цветаевой, можно оценить лишь в ретроспективе.
Камерное письмо, вкус и приверженность к которому Цветаева начала демонстрировать вскоре после революции, куда лучше, однако, согласовывалось с ее прежней позицией пишущей женщины, не считающей себя литературным профессионалом. Такое несовпадение было показательно. Психологическую дискомфортность новой профессиональной идентичности Цветаева компенсировала подчеркиванием собственной «особенности», своего несоответствия «норме». Рефлекс самозащиты провоцировал и своеобразное «пораженчество» – утверждения, что она «никогда не напишет гениального произведения», всегда «будет без имени», и все это в силу того, что не умеет писать о чем‐нибудь, кроме себя, не умеет быть «поэтом», как «другие». В противоречие с этими настроениями входило стремительно набиравшее силу сознание, что «НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ [ей] дает силу». Оно толкало Цветаеву, напротив, к абсолютизации своего права на «особенность». Тем самым писание о себе получало двойную легитимацию: как знак принадлежности литературе, которая есть не литература, а «живое мясо души»; и как способ фиксации авторской исключительности, уникальности. Потому и критическую статью можно было счесть подходящей формой для автобиографического дискурса, и прозу вообще логично было мыслить как континуум записной книжки256.
Тот очевидный сегодня факт, что цветаевское прозаическое письмо так до конца и не вписалось в контекст русской прозы ХХ века, связан именно с «экстремизмом» Цветаевой в деле «унификации» или «гибридизации» прозаического дискурса. Ее современники-поэты развивались иначе и приходили к автобиографическим текстам через иную школу – через школу критического, аналитического дискурса. Цветаева и к автобиографическому, и к критическому письму пришла через записные книжки; потому ее аналитизм основан на поэтике афоризма, а автобиографизм – на поэтике детали, из которой вырастает событие, характер, философское суждение.
Первая попытка Цветаевой преобразить литературно-критический дискурс по образу и подобию дневниково-автобиографического встретила, таким образом, яростный отпор в литературной среде. После следующей аналогичной попытки – статьи «Поэт о критике» (1926) – критика с новой силой заговорила о непонимании Цветаевой «литературных приличий»: именно так квалифицировалось совмещение критического дискурса с автобиографическим и дневниковым. Лишь в 1930‐е годы Цветаевой удалось найти относительно приемлемые для литературной современности формы прозаического письма. На место критическому эссе пришли, с одной стороны, эссе о поэтах-современниках, помещавшиеся в мемуарную рамку, а значит – позволявшие размышлять о судьбе и личности творца без ограничений, накладываемых жанром критической статьи. С другой же стороны, в аналитической прозе 1930‐х годов не дававшийся Цветаевой литературно-критический дискурс она заменила философским, менее регламентированным и лучше сочетающимся с лирическим и автобиографическим письмом. Наконец, приемы беллетристического письма, сращиваясь с автобиографической тематикой, сформировали едва ли не самое продуктивное направление в прозе Цветаевой 1930‐х годов.
Таковы были дальние перспективы развития цветаевской прозы. В складывании литературной репутации Цветаевой вплоть до конца 1920‐х годов решающее значение принадлежало поэзии, и особенно знаменательными были в этом отношении первые годы эмиграции.
(1922–1926)
«Стихи к Блоку» (1922), «Разлука» (1922), «Версты» (1921; 2‐е изд. 1922), «Версты I» (1922), «Психея» (1923), «Ремесло» (1923) – вот сборники Цветаевой, один за другим рецензировавшиеся критикой в 1922–1924 годах. К ним следует добавить вышедшую в 1922 году двумя отдельными изданиями в Москве и Берлине поэму «Царь-Девица», а также книжечку «Конец Казановы» (1922) – напечатанную без ведома и правки Цветаевой третью часть ее пьесы «Феникс».
Кроме того, Цветаева все активнее публиковалась в периодике. Еще в 1920 году в первом номере парижских «Современных записок» появились четыре ее стихотворения, за которыми последовали более крупные подборки стихов в трех номерах за 1921 год. Целый ряд стихотворений из готовившегося сборника «Ремесло» был напечатан вскоре по приезде Цветаевой на Запад в тех же «Современных записках», а также в «Воле России», «Русской мысли», «Сполохах», «Эпопее». Одновременно появилось и несколько подборок более ранних стихов Цветаевой. В 1923 году три пьесы 1918–1919 годов – «Метель», «Фортуна» и «Приключение» – были напечатаны, соответственно, «Звеном», «Современными записками» и «Волей России». В следующем году была опубликована последняя из этой серии пьес – «Феникс», и появились первые три прозаических очерка, основанных на записных книжках и впечатлениях Цветаевой революционных лет, – «Вольный проезд», «Отрывки из книги “Земные приметы”» и «Чердачное».
Таким образом, за два с небольшим года Цветаева обрушила на читателя и критику плоды семи лет творчества и в одночасье оказалась едва ли не самым продуктивным и печатающимся поэтом своего поколения. Практически все, публиковавшееся ею в эти годы, было написано еще в России, но именно эти произведения сформировали репутацию Цветаевой как одного из видных представителей русской зарубежной литературы в первые годы ее жизни в эмиграции.
Ситуация для пишущих о Цветаевой в эти годы была объективно сложной: с одной стороны, ее голос свидетельствовал о поэтической зрелости, с другой – в предшествующие годы по понятным причинам не сформировалось ни критической традиции в оценке ее творчества, ни круга людей, внимательно следивших за его развитием. Кроме того, сложная идеологическая ситуация в русской литературе и критике – наложение старых споров внутри модернистского лагеря на послереволюционную реконфигурацию литературных лагерей – способствовала поляризации суждений и сообщала критическим высказываниям крайнюю остроту и пафосность. Разноречивость оценок творчества Цветаевой была, в частности, следствием и этой ситуации.
«Какие великолепные стихи стала писать Марина. У меня голова кружится от ее книжки “Версты”»,257 – так в частном письме отзывался о сборнике Волошин, как никто другой знавший более раннее творчество Цветаевой. Совершенно его не знавший Борис Пастернак также был очарован именно этим цветаевским сборником: откликом на «Версты» было его первое письмо к ней (МЦБП, 11–13). Сходными были и печатные отзывы Вс. Рождественского и Н. Павлович, приводившиеся в предыдущей главе. Однако это был лишь один из модусов восприятия сборника. Если одним критикам стихи Цветаевой казались понятным и органичным выражением современности, то патриарх «нового искусства» Брюсов посчитал их уже «устарелыми»:
…они (стихи. – И. Ш.) как бы запоздали родиться на свет лет на 10 (впрочем, большая часть их помечена 1917 и 1918 гг.). Десятилетие назад они естественно входили бы в основное русло, каким текла тогда наша поэзия. С тех пор многое из делаемого теперь М. Цветаевой уже сделано другими, главное же – время выдвинуло и новые задачи, новые запросы, ей, по‐видимому, совсем чуждые. А той художественной ценности, так сказать «абсолютной», которая стоит выше условий не только данного десятилетия, но и столетия, иногда даже тысячелетия, – стихи М. Цветаевой все же не достигают258.
Всегда полагавший себя оплотом духа «современности» в поэзии и занятый в эти годы разработкой новой, пореволюционной поэтики, Брюсов был, конечно, не просто субъективен, но тенденциозен. Механистическое представление о развитии поэзии как последовательном решении «задач, выдвинутых временем», заставляло его видеть в стихах Цветаевой всего лишь цитату из прошлого модернизма. Со своей точки зрения Брюсов был прав: цветаевские стихи были плоть от плоти эклектической поэтики 1910‐х годов. Именно ее и желал преодолеть в это время в своих стихах сам Брюсов; то, что поэт, почти на поколение его младший, не видел конфликта этой поэтики с «новым временем», должно было раздражать Брюсова более всего. Финальный аккорд его рассуждения был весьма показателен, ибо характеризовал столько же Брюсова, сколько и эпоху в целом. Апелляции к «вечности», к «абсолютным ценностям» в оценке отдельных явлений сегодняшнего дня были в таком же широком ходу, как и апелляции к духу «современности». Реакция разума на социальную катастрофу и хаос действительности состояла в конструировании логически завершенных концепций происходящего и его места в истории. Искусства эти прогнозы касались не меньше, чем общественной жизни.
О. Мандельштам в своих размышлениях о культуре революционной эпохи неожиданно взял в качестве одной из тем «женскую поэзию»:
Для Москвы самый печальный знак – богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой. Худшее в литературной Москве – это женская поэзия. Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, это русская наука о поэзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского. На долю женщин в поэзии выпала огромная область пародии, в самом серьезном и формальном смысле этого слова. Женская поэзия является бессознательной пародией как поэтических изобретений, так и воспоминаний. Большинство московских поэтесс ушиблены метафорой. Это бедные Изиды, обреченные на поиск куда‐то затерявшейся второй части поэтического сравнения, долженствующей вернуть поэтическому образу, Озирису, свое первоначальное единство.
Адалис и Марина Цветаева пророчицы, сюда же и София Парнок. Пророчество как домашнее рукоделие. В то время как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лжемосковских – неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды259.
Этот пассаж оказался практически единственным откликом если и не на сборник «Версты I» как таковой (он выйдет позже, чем написана статья Мандельштама), то на поэтику Цветаевой того периода260. Личные мотивы мандельштамовского выпада хоть и невозможно исключить, но несправедливо считать решающими: острием своим он направлен на «личности» лишь во вторую очередь. Не случайно, назвав всего лишь два имени, Цветаевой и Радловой, Мандельштам тут же обобщает: «женская поэзия». Он ведет полемику не столько с лицами, сколько с культурным явлением и с идеологией, его создавшей. Сами по себе рассуждения о «безвкусице и исторической фальши» стихов Цветаевой были бы лишь мненями автора о данных стихах. Однако эти же рассуждения, поставленные в контекст разговора о «женской поэзии», приобретали смысл, как это ни покажется странным, более объективный.
То ви´дение культуры и словесности, которое выработало поколение 1910‐х годов, включало в себя представление о существовании особой ниши, «зарезервированной» для проявлений женского творчества. Споры могли вестись о сравнительных достоинствах тех или иных тенденций и индивидуальных дарований внутри этой ниши, но не о том, есть ли у нее в целом право своего голоса в поэзии, т. е. право иного голоса в ней. Мандельштам поставил под сомнение именно последнее. «Женская поэзия», по его мнению, консервировала некие поэтические тенденции, которые должны были теперь безвозвратно уйти в прошлое. Со своим «голосовым» несоответствием революционному времени она была обречена на «историческую фальшь», о чем бы ни говорила. Освобождением от этой фальши был разрыв с наследием 1910‐х годов, провозглашение «мужской силы и правды» как единого для всех эталона самовыражения. Не желая соответствовать последнему, «женская поэзия» сама себя выводила за пределы исторически ценного, за пределы современного. Она превращалась в пародию, ибо не меняла «голоса».
Мандельштам оказался прав: «женская поэзия» как исторически сложившийся феномен стремительно сходила на нет в первой половине 1920‐х годов. Однако не женщины-поэты уходили из литературы, а ниша, в которую прежде помещало их коллективное сознание, растворялась в новой культурной реальности. По инерции еще появлялись в печати сопоставительные оценки отдельных женщин-поэтов, но видимое всякому человеку 1910‐х годов целое «женской поэзии» вдруг оказалось миражем. Былой культовый персонаж эпохи – «поэтесса десятых годов» – превращался в пережиток, а «женская поэзия» теперь олицетворяла все то, что казалось отработанным топливом модернизма: по Мандельштаму – «приподнятость тона», «нестерпимую трескучую риторику».
Однако смерть «женской поэзии» не коснулась «физических лиц» или же коснулась их лишь избирательно. Для Цветаевой, в конечном счете, оказалось благоприятным то обстоятельство, что ее литературная репутация формировалась в атмосфере постепенной утраты критикой интереса к «женской поэзии». Как только категория разрушилась, различия входивших в нее единиц стали значить больше, чем факт их былого размещения под одной крышей.
Андрей Белый – один из тех, кто олицетворял для Мандельштама «русскую науку о поэзии», был куда более высокого мнения о цветаевском «рукоделии». Его рецензия на сборник «Разлука», в который вошел одноименный цикл и поэма «На красном коне», появилась в берлинской газете «Голос России» 21 мая 1922 года, т. е. спустя шесть дней после приезда в Берлин самой Цветаевой. Сославшись на работу Б. Эйхенбаума о мелодике русского стиха, а главным образом воодушевленный собственными идеями о возрождении поэзии как музыкальной формы, Белый поставил цветаевский сборник именно в контекст текущих интересов «русской науки о поэзии»:
Соединение непосредственной лирики с овладением культурой стиха – налицо; здесь работа сознания подстилает небрежные выражения, строчки и строфы, которые держатся только мелодией целого, подчиняющего ритмическую артикуляцию, пренебрегающего всею пластикой образов, за ненужностью их при пластическом ясном напеве; стихотворения Марины Цветаевой непрочитываемы без распева; ведь Пиндар, Софокл не поэты-лингвисты, не риторы, а певцы-композиторы; слава Богу, поэзия наша от ритма и образа явно восходит к мелодии, уже утраченной во времена трубадуров261.
Белый отметил то, что стало общим местом отзывов на сборники Цветаевой начала 1920‐х годов, – уникальность инструментовки ее стиха, которая сплавляла воедино звуковой, ритмический и образный ряды. Белый также подчеркнул противоположность такой поэтической манеры акмеистической литературной программе: «Мне говорили: легко так писать: “лежу и слежу тени” (столкновение ударений). Такое мнение – выражение рационализма, ощупывающего строку, выхваченную из системы; в пластической школе (у неоклассиков, акмеистов) вся сила – в другом: и задачи мелодики чужды сознанию неоклассиков»262.
Отношение приверженцев «неоклассической» поэтики к творчеству Цветаевой не было между тем единообразным. Именно бывшие петербургские «неоклассики» в лице Г. Адамовича и Г. Иванова всегда, в отличие от Мандельштама, высоко ставили стихи Цветаевой 1916 года, противопоставляя их ее более позднему творчеству. Впрочем, даже «Ремесло» было воспринято тем же Г. Ивановым сдержанно, но не враждебно:
Стихи Цветаевой имеют тысячи недостатков – они многословны, развинчены, нередко бессмысленны, часто более близки к хлыстовским песням, чем к поэзии в общепринятом смысле.
Но и в самых неудачных ее стихах всегда остается качество, составляющее главную (и неподдельную) драгоценность ее Музы – ее интонации, ее очень русский и женский (бабий) говор.
Самая книга? Среди ее бесчисленных полу-стихов, полу-заплачек и нашептываний – есть много отличных строф. Законченных стихотворений – гораздо меньше. Но эти немногие – прекрасны (стр. 24 например)263. Они будут хорошим вкладом в антологию «отстоявшейся Цветаевой», ядром которой по‐прежнему остаются удивительные «стихи о Москве»264.
Таким образом, даже не симпатизируя цветаевской манере в целом, поэты-«неоклассики» восхищались в ней тем, что совершенно отсутствовало в арсенале «пластической школы» – диапазоном мелодических и интонационных возможностей автора.
Впрочем, «музыкальная» сторона поэзии Цветаевой давала повод и для совсем иных суждений. Владислав Ходасевич под псевдонимом «Ф. Маслов» опубликовал в журнале «Книга и революция» отзыв на сборники «Психея» и «Ремесло». В начале своей рецензии он традиционно отдавал дань так полюбившейся критике «песенности» цветаевской поэзии:
Судьба одарила Марину Цветаеву завидным и редким даром: песенным. Пожалуй, ни один из ныне живущих поэтов не обладает в такой степени, как она, подлинной музыкальностью. Стихи Марины Цветаевой бывают в общем то более, то менее удачны. Но музыкальны они всегда. И это – не слащаво-опереточный мотивчик Игоря Северянина, не внешне приятная «романская переливчатость» Бальмонта, не залихватское треньканье Городецкого. «Музыка» Цветаевой чужда погони за внешней эффектностью, очень сложна по внутреннему строению и богатейшим образом оркестрована. Всего ближе она – к строгой музыке Блока265.
Такое вступление, казалось бы, не предвещало ничего дурного. Однако далее Ходасевич дидактически замечал:
И вот, поскольку природа поэзии соприкасается с природою музыки, поскольку поэзия и музыка где‐то там сплетены корнями, – постольку стихи Цветаевой всегда хороши. Если бы их только «слушать» не «понимая». Но поэзия есть искусство слова, а не искусство звука. Слово же – есть мысль, очерченная звучанием: ядро смысла в скорлупе звука266.
Программный пафос этих строк выходил далеко за рамки рецензирования данных конкретных сборников. Как поэт «промежуточного» поколения, слишком рано на своем пути переживший уход символизма, но и слишком искушенный в символистском идейном наследии, чтобы увлечься молодым задором его ниспровергателей, – Ходасевич был второстепенной фигурой в литературной жизни 1910‐х годов. После революции, когда иерархические отношения в литературном мире претерпели существенные изменения, он пережил свое «второе рождение»267, заняв новую культурную нишу: нишу художника и критика, апеллирующего к традиции (которую персонифицировал для него, прежде всего, Пушкин) как оплоту культуры в хаосе дня сегодняшнего. Острие полемической риторики Ходасевича направлялось прежде всего против главной, по его мнению, разрушительной тенденции в современной поэзии – против экспериментов со смыслопорождающими механизмами поэтической речи. В той эстетической системе, за которую ратовал Ходасевич, стержнем была «мысль, очерченная звучанием». Новейшая модернистская поэзия (особенно – чуждые Ходасевичу футуристические течения) предлагала нечто, с точки зрения такой эстетики, еретическое. Она допускала, что стержень – понятие необязательное и, быть может, эфемерное; что «ядро смысла» и «скорлупа звука» есть фикции определенного языка описания; что усложненность стиха и синтаксиса может быть не препятствием на пути к смыслу, а его составной частью268. Отказываясь принимать такую эстетику, Ходасевич обнаруживал внутри «скорлупы звука» хаос:
Книги ее (Цветаевой. – И. Ш.) точно бумажные «фунтики» ералаша, намешанного рукой взбалмошной: ни отбора, ни обработки. Цветаева не умеет и не хочет управлять своими стихами. То, ухватившись за одну метафору, развертывает она ее до надоедливости; то, начав хорошо, вдруг обрывает стихотворение, не использовав открывающихся возможностей; не умеет она «поверять воображение рассудком» – и тогда стихи ее становятся нагромождением плохо вяжущихся метафор. Еще менее она склонна заботиться о том, как слово ее отзовется в читателе, – и уж совсем никогда не думает о том, верит ли сама в то, что говорит. Всё у нее – порыв, всё – минута; на каждой странице готова она поклониться всему, что сжигала, и сжечь всё, чему поклонялась. Одно и то же готова она обожать и проклинать, превозносить и презирать. Такова она в политике, в любви, в чем угодно269.
Подход Ходасевича демонстрировал, как можно разъять поэтическое целое на бессмысленные части, если посчитать подобную операцию законным методом критики. Впрочем, ни одной цитаты из двух обширных рецензируемых сборников он не привел: практическое применение такого метода выглядело бы наверняка менее убедительно, чем не подкрепленные примерами, но пафосно оформленные выводы. Приговор Ходасевича был суров:
В конце концов – со всех страниц «Ремесла» и «Психеи» на читателя смотрит лицо капризницы, очень даровитой, но всего лишь капризницы, может быть – истерички: явления случайного, частного, преходящего. Таких лиц всегда много в литературе, но история литературы их никогда не помнит270.
Кажется, всеми своими последующими печатными отзывами на произведения Цветаевой Ходасевич старался сгладить промах этого пророчества, ибо как литератор знал, что история литературы такие отзывы помнит. Любопытно однако, что сама Цветаева – не в оценке своих сборников, конечно, но в оценке «музыкальности» в поэзии – высказывала впоследствии солидарность с критиком. В ее рабочей тетради сохранился набросок письма к Ходасевичу, написанный после прочтения его хвалебной рецензии на «Мóлодца» в 1925 году. Хотя упоминает Цветаева в своем наброске именно эту рецензию, по смыслу понятно, что отвечает она и на слова Ходасевича, сказанные почти два года назад в его рецензии на «Ремесло» и «Психею»:
Когда мне, после стихов, гов<орят> «какая музыка» я сразу заподазреваю либо себя в скверн<ых> стихах, либо друг<ого> – в скверн<ом> слухе. Музыка не похвала, музыка (в стих<ах>) это звуковое вне смысла (осмысленное звуковое – просто музыка), музыка, в стихах, это перелив – любой – «Музыка», это и неудачн<ый> Б<альмон>т, и Ратгауз и утреннее чириканье, чтó угодно – только не стихи. «Музыка» в стихах – провал, а не похвала271.
Цветаева имеет свои основания именно в этом пункте соглашаться с Ходасевичем. В первые годы эмиграции она с нарастающим раздражением реагирует на отсутствие у критики интереса и вкуса к анализу и интерпретации смыслового (фабульного или философского) ряда в ее поэмах и лирике. Потому «музыка» в ряду других критических клише становится для нее синонимом обессмысливания ее стихов критикой. Вскоре Цветаева решится на развернутую полемику с приемами современной критики – статью «Поэт о критике» (1926).
По-своему закономерным по прошествии времени кажется то, что не Брюсов, Ходасевич или Мандельштам предложили в эти годы действительно интересные отзывы на сборники Цветаевой. Более занятые формулированием своего ви´дения общих траекторий развития словесности, они были пристрастны к траекториям индивидуальным, не совпадающим с их собственными. Существенные наблюдения над цветаевским творчеством предложили тогда молодые и совсем не именитые рецензенты: Глеб Струве, Вера Лурье, Александр Бахрах. Они услышали в поэзии Цветаевой то, чем пренебрегали «старшие», – мощность творческой личности и независимость поэтического голоса:
У каждого поэта есть своя поэтическая родословная, более или менее явная. У Цветаевой ее нет. Иногда за ее строчками, то в бешеной скачке обгоняющими одна другую, то в каком‐то неповоротливом движении одна за другую цепляющимися, но почти никогда не текущими плавно – почудятся лики и лица Державина, Тютчева, Блока, Эренбурга. Покажутся и скроются. Не портреты, а призраки. Не настоящие: в галерее предков их не повесишь. Прочтите «Сугробы», «Ханский полон», «Переулочки» – при чем тут Державин, Тютчев, даже Блок и Эренбург? <…>
Единственное сильное влияние, ощутимое в поэзии Цветаевой, это – влияние русской народной песни. Не оттуда ли этот безудерж ритмов? Цветаева безродна, но глубоко почвенна, органична. Свое безродство она как будто сознает сама, когда говорит:
Подкрепляя свои читательские ощущения строками цветаевского стихотворения «Муза» из «Ремесла», Глеб Струве обозначал действительно важную проблему для критиков Цветаевой. Если анализ всякого явления требует прежде всего соположения его с рядом явлений близких, т. е. выяснения различий на фоне сходств, то именно нахождение такого ряда в случае Цветаевой казалось проблематичным. Еще в июне 1922 года в оставшейся тогда не опубликованной статье «О современном состоянии русской поэзии» Д. П. Святополк-Мирский отмечал:
Цветаеву очень трудно втиснуть в цепь поэтической традиции – она возникает не из предшествовавших ей поэтов, а как‐то прямо из‐под Арбатской мостовой. Анархичность ее искусства выражается и в чрезвычайной свободе и разнообразии форм и приемов, и в глубоком равнодушии к канону и вкусу273.
То, что Цветаева производила на современников впечатление поэта «без традиции», в значительной мере было следствием описанных в предыдущих главах особенностей ее вхождения в литературу. Правда, уже рецензенты «Вечернего альбома» отмечали странную «независимость» ее голоса, но тогда это, скорее, было следствием причудливого сочетания в ее стихах домашних тем с символистско-романтическими, отроческих интонаций с вполне взрослой техникой стиха. Решающими для формирования Цветаевой как поэта были как раз годы последующие: поставь она тогда перед собой задачу продолжения литературной карьеры, рефлексия над своими отношениями с традицией и с текущими тенденциями в литературе имела бы существенное значение для ее самосознания и, в свою очередь, влияла бы на поэтическую практику. Однако свобода от «литературы», которую надолго подарила себе Цветаева, позволяла ей идти сразу по нескольким творческим дорогам или легко перескакивать с одной на другую, т. е. быть стихийным (не идейным) эклектиком. В результате к началу 1920‐х годов она пришла с такой богатой стилистической палитрой, какой не было ни у одного из ее современников и какая вообще не очень свойственна поэтам. Если же учесть синхронность прочтения критиками всех ее стихов с 1916 по 1922 год, то вдвойне неудивительно впечатление внетрадиционности, которое Цветаева на них производила.
И Брюсов, намекавший на символистские корни цветаевской поэзии274, и Мандельштам, решавший проблему литературного ряда, к которому можно отнести творчество Цветаевой, словосочетанием «женская поэзия», и Ходасевич, подозревавший ее в ереси футуристического толка, – задачи разобраться в литературной родословной Цветаевой просто перед собой не ставили. С изяществом уходил от этой задачи и Сергей Бобров, иронически назвавший цветаевскую фольклорную манеру «неведомого происхождения русским стилем»275. Поскольку неясно было, с каким литературным рядом более всего связано творчество Цветаевой, ненадежны были и гаданья о центральном и периферийном, о неизменном и преходящем в нем. Г. Струве замечал о «Ремесле», что «по ритмическому богатству и своеобразию это совершенно непревзойденная книга», но тут же высказывал предположение, что «дальнейший путь Цветаевой пролегает не здесь, не в области разрешения чисто ритмических задач», а в конце рецензии признавал, что «дальнейший путь Цветаевой теряется в тумане»276. Сравнивая же «Ремесло» с «Психеей», рецензент неожиданно отдавал предпочтение последнему сборнику, называя его «едва ли не лучшим из того, что Цветаевой написано», и поясняя, что «романтическая струя – основная в ее творчестве», в «Ремесле» же «внутренний романтизм заслоняется внешней вакханалией ритмов»277.
Отсутствие у Цветаевой определенной предшествующей репутации в литературе делало разброс суждений об одних и тех же ее сборниках особенно разительным. Наряду с восхищенным отзывом Вс. Рождественского или сдержанным Брюсова, о «Верстах» писалось также, что «с первой строки до последней, весь сборник – образец редкого поэтического убожества и безвкусицы» и что его посвящение Анне Ахматовой «звучит оскорбительно»278. Не менее примечательным, чем разброс мнений, было и настойчивое педалирование критикой определенных черт цветаевской поэтики при ничтожном внимании к тематической или идейной стороне ее стихов и поэм. В сердцах брошенное Цветаевой в письме к А. Бахраху замечание, что «хвала» критиков ей «еще неприемлемей их хулы», ибо хвалят «почти всегда мимо, не за то» (СС6, 557), имело основания. Инструментарий текущей критики, сочетавший традиционный субъективизм (импрессионизм) и новейший формалистский жаргон, оказался на редкость негодным средством для разговора о поэзии Цветаевой по существу: почти все индивидуальное в ней проходило незамеченным сквозь сито критического метода. Так, лучшее, что мог сказать Брюсов о «Стихах к Блоку», – это что они «мастерская стилизация под тон православных молитв»279, а Г. Иванов, обсуждая «Ремесло», уверял, что муза Цветаевой «так близка к птичьему чириканью, что рекомендовать ей сдержанность то же самое, что зажимать рот поющему дрозду»280. О рецензии Юлия Айхенвальда на «Царь-Девицу» Цветаева сама иронически отзывалась в частном письме:
Барокко – русская речь – игрушка – талантливо – и ни слова о внутренней сути: судьбах, природах, героях, – точно ничего, кроме звону в ушах не осталось. – Досадно! —
Не ради русской речи же я писала! (СС6, 517)
Между тем последнее как раз и не было очевидно для критики: на ее языке то, что делала Цветаева – например, в «Царь-Девице» – было именно экспериментом в области «русской речи», а не размышлением о мироустройстве и человеческой судьбе. Не индивидуальными пристрастиями критика, а господствующей в критике тенденцией объяснялось то, что лучшей похвалой поэме С. Бобров счел такую:
…книга прямо искрится своими отдельными строками, где так отлично, непосредственно понята песня, понят былинный лад. Понят так, как давно не приходилось видеть, как не удавалось ни одному из писавших в русском стиле, ни Бальмонту (в его «Жар-птице»), ни Клюеву, ни Клычкову, ни Столице, не говоря уж, разумеется, об Есенине и его подражателях281.
Безусловно внимание критики к ритмико-стилистической стороне цветаевской поэзии было вполне оправданным, – не только потому, что оригинальность Цветаевой в этой области была неоспоримой, но и потому, что, анализируя эту сторону ее творчества, критика знала, в каком литературном ряду Цветаеву можно рассматривать. Поэтому «песенность» и «фольклорность», ритмика и фонетика Цветаевой на разные лады обсуждались критикой; «судьбы, природы, герои» оставались далеко позади. Называя «Царь-Девицу» «источником всех навязываемых [ей] кокошников» (СТ, 137), Цветаева иронизировала не над самим вниманием к стилистическому исполнению вещи, но над фатальным «оглуплением» текста критикой, педалировавшей в нем стилистический элемент в ущерб тематическому. Из откликов на «Царь-Девицу» невозможно было понять, существовало ли у рецензентов предположение о наличии в поэме авторской темы. То же можно сказать и о многих отзывах на «Ремесло». Евг. Зноско-Боровский, проницательно писавший об исчезновении «зримого и ощутимого мира», о «нематериальности», «почти бесформенности»282 образов «Ремесла», все же не делал следующего шага – к размышлениям о смысле столь странной метаморфозы.
На этом фоне выделялись рецензии Веры Лурье и Александра Бахраха, которые пытались говорить о «Ремесле» в синтетических образах, а не в терминах стихосложения и стилистики. «С протянутыми вперед руками, готовая броситься вслед неотвязно зовущему, но неожиданно окаменевшая в движении; внешне застывшая, чтобы под спокойным покровом свершать свой вечный полет. Такой легче всего представить себе Цветаеву»283, – писала В. Лурье. В этом эмоциональном портрете лицо и голос автора «Ремесла» были все же куда более узнаваемы, чем в строках Ходасевича или Г. Иванова. Особенность места, которое принадлежало «Ремеслу» во внутренней биографии Цветаевой, В. Лурье почувствовала необычайно тонко:
Путь Цветаевой труден и страшен. Рядом с молитвенными «Стихами к Блоку» и освещенной чистым огнем «Разлукой» могла появиться резкая – «Царь-Девица». Но «Ремеслом» Цветаева показала, что нашла выход своему духовному взрыву. Она принадлежит к тем огромным поэтам, которым нет средних путей, или полное падение вниз головой или победа. Цветаева победила себя и других284.
Нахождение поэтом «выхода своему духовному взрыву» в овладении словесной формой той новой реальности, которая должна была заместить мир действительности, – так, исходя из контекста рецензии, можно было понимать слова В. Лурье. «Зрелое, подлинное ремесло Цветаевой еще только началось, она богата бесконечными возможностями»285, – завершала рецензентка свой приветственный отзыв, казалось бы, неожиданный в устах бывшей петербурженки, участницы гумилевской поэтической студии.
А. Бахрах, вдохновленный, очевидно, «Световым ливнем», который он бегло упомянул в одном из своих предыдущих критических обзоров286, начал рецензию на «Ремесло» рискованным подражанием цветаевскому эссе:
Сначала точно буйный, стремительный, разнузданный вихрь ритмических колебаний. Точно ветер, неожиданно ворвавшийся в комнату. Освежающий и волнующий своей неожиданностью. Стихийный и в своей стихийности беспорядочный; не знающий ни границ, ни пределов. Надо иметь время, чтобы привыкнуть, чтобы как‐нибудь освоиться, чтобы иметь возможность разобраться в отдельных абстрактных звучаниях; в нестройной системе смочь найти свой особенный глубоко-скрытый смысл, в форме – осязать идею, почувствовать нанизанную эмоциональную суть. В «Ремесле» пафос неосознанного сочетается с известной шероховатостью и недоделанностью всякого не-механического творения, творения подлинно и глубоко органического – пролившего на страницы себя; «я» доходящего до исступленных вещаний Сивиллы, до выкриков, до боли, до истерики.
Читаешь книгу и удерживаешься, чтобы оставаться спокойным, чтобы не начинать двигаться, не обратиться в бешеную пляску, в буйную пляску необозримых степных раздолий287.
Невзирая на столь раскованную и, по‐видимому, не вполне органичную рецензенту стилистику, ему, в отличие от многих, действительно удалось «в форме – осязать идею», и эпистолярный отклик Цветаевой именно на его рецензию288 легко объясним. «Разнузданным вихрем ритмических колебаний» впечатление Бахраха о сборнике не ограничилось. Он обратил внимание на несомненно ключевые стихотворения «Ремесла»: «Быть мальчиком твоим светлоголовым…», «Солнце Вечера – добрее…», «Всё великолепье…» (все три из цикла «Ученик»), «На што мне облака и степи…», «Возвращение вождя», «На заре – наимедленнейшая кровь…», «Посмертный марш». Тяга Цветаевой к «разреженной атмосфере вершин», к «чистой музыке» как форме отказа от земной материальности была уловлены Бахрахом точнее других, также как была услышана им и глубокая, хоть и несколько прямолинейно понятая, связь этого мироощущения с переживанием судьбы России. Проницательным был и прогноз критика относительно дальнейшей линии развития лирики Цветаевой: «“Ремесло” – зенит. Отсель раскаленность должна охладиться. Буйность ритмов – утихать. Хаос обрести твердые формы. Перевал перейден»289.
За перевалом «Ремесла» стих Цветаевой действительно стал постепенно меняться. Ритмическая яркость отступала на второй план перед усложненностью синтаксиса; в этой усложненности обретала внешнюю «защиту» эмоциональная насыщенность стиха. Цветаева уходила от прежней разностильности, ее поэтическая манера становилась все более «монолитной», единой. Собственно, этот процесс начался уже в стихах периода «Ремесла»: именно потому, после разноголосицы революционных лет, Цветаева и смогла объединить почти все свои стихи последнего года жизни в России под одной обложкой. Однако в «Ремесле» еще очень ярок был фольклорный субстрат, потом практически исчезнувший из лирики Цветаевой. Рецензируя впоследствии сборник «После России», объединивший ее стихи 1922–1925 годов, Г. Адамович с основанием констатировал, что и «музыка» ушла из поэзии Цветаевой290. Таким образом, черты поэтики, которые в начале 1920‐х годов критика полагала неотделимыми от цветаевского творчества, исчезали со страниц ее рабочих тетрадей быстрее, чем успевали закрепиться на страницах рецензий. Более доступной для читателя поэзия Цветаевой от этого не становилась. Уже в середине 1923 года, отвечая на высказанное в отзыве Г. Струве предпочтение «Психеи» «Ремеслу», Цветаева прогнозировала свое дальнейшее расхождение с аудиторией: «Согласна, что “Психея” для читателей приемлемее и приятнее “Ремесла”. Это – мой откуп читателю, ею я покупаю право на “Ремесло”, а “Ремеслом” – на дальнейшее. Следующую книгу будете зубами грызть» (СС6, 639).
Печатать в периодике свои новые, написанные уже в эмиграции стихи Цветаева не спешила. Всего три таких стихотворения появились в 1923 году. В 1924 году было напечатано уже семнадцать, причем четыре из них – в Советской России. В большинстве своем эти публикации внимания критики не привлекли; но одна из них, самая большая (пять стихотворений вместе), вызвала однозначно отрицательную реакцию одного из рецензентов «Звена» – Николая Бахтина: «Стихи Цветаевой – бессвязно нагроможденный словесный и эмоциональный материал, еще не оформленный до искусства; в ее “Федре” – метрическая попытка, которая могла бы быть интересной, будь она исканием более широкого и гибкого строя, а не поводом, чтобы еще, и по‐новому разнуздать слово»291.
Это был отзыв о циклах «Федра» и «Гамлет»292. Он стал началом затяжной критической кампании «Звена» по разоблачению «бессвязных нагромождений» в творчестве Цветаевой и других современных авторов. «Есть какая‐то фальшь и наивность в столь распространенном теперь стремлении отразить стилистическими судорогами катастрофы последних лет»293, – замечал несколько месяцев спустя уже другой критик «Звена» Георгий Адамович в связи с разбором прозы Цветаевой. В апреле следующего года, после выхода двадцать третьей книги «Современных записок» с циклом Цветаевой «Двое» Адамович высказался более развернуто:
Что с Мариной Цветаевой? Как объяснить ее последние стихотворения, – набор слов, ряд невнятных выкриков, сцепление случайных и «кое‐каких» строчек. Дарование поэта, столь несомненного, как Цветаева, не может иссякнуть и выдохнуться. Вероятно, она еще не найдет себя. Но сейчас читать ее тяжело.
Цветаева никогда не была разборчива и взыскательна, она писала с налета, от нее иногда чуть‐чуть веяло поэтической Вербицкой, но ее спасала музыка. У нее нет, кажется, ни одного удавшегося стихотворения, но в каждом бывали упоительные строфы. А теперь она пишет стихи растерянные, бледные, пустые, – как последние стихи Кузмина. И метод тот же, и то же стремление скрыть за судорогой ритма, хаосом синтаксиса и тысячами восклицательных знаков усталость и безразличие «идущей на убыль души»294.
В 1925 году Адамович еще дважды комментировал поэтику и стилистику Цветаевой – сначала в связи с ее поэмой «Мóлодец», затем в связи с очерком «О Германии»295. Последнее случилось уже под самый Новый год, а в начале 1926 года «односторонний» характер полемики был наконец нарушен: Цветаева села за статью «Поэт о критике», которая, конечно, вышла далеко за рамки публичной полемики с Адамовичем, но роль Адамовича в формировании пафоса которой была неоспорима.
В целом же творчество Цветаевой первых лет эмиграции до 1925–1926 года не могло играть решающей роли в складывании ее репутации. По-видимому, Цветаева намеренно оттягивала публикацию того, что было написано уже за рубежом, стремясь сначала устроить в печать все, написанное прежде. При том что избранная тактика была вполне профессиональной, практическое осуществление ее было затруднено для Цветаевой как объективными, так и субъективными причинами. К первым относился наступивший вскоре после ее приезда за рубеж кризис русского издательского дела в Берлине, при отсутствии сравнимых по масштабу альтернатив в других центрах русского рассеяния. Субъективной же причиной, ограничивавшей активность Цветаевой в устройстве издания своих книг, была трудная житейская ситуация. Переехав 1 августа 1922 года из Германии в Чехию, Цветаева почти постоянно жила в деревенских пригородах Праги, что оставляло немного возможностей для полноценного литературного общения и деловых контактов с издателями. Неосуществленными остались планы Цветаевой переиздать за границей «Версты I» и издать «Версты II»; постепенно разошлись на отдельные публикации в периодике задуманные ею книги «Земные приметы» (обработанные дневниковые записи революционных лет)296 и «Драматические этюды» (пьесы 1918–1919 годов). После устройства в печать «Ремесла»297 из всех цветаевских книжных замыслов этого времени осуществился лишь один: весной 1925 года (на обложке значился 1924 год) в пражском издательстве «Пламя» вышла поэма «Мóлодец»298.
Это было первое крупное произведение Цветаевой, в основном написанное уже в эмиграции. При этом между начальным периодом работы над поэмой (март – апрель 1922 года) и последующим основным (август – декабрь 1922 года) пролегла грань двух эпох жизни, что должно было сказаться и на развитии замысла. По стилю «Мóлодец» оказался завершающим (и вершинным) в цикле «фольклорных» поэм Цветаевой; по своему идейному пафосу он стал одним из центральных для всего творчества Цветаевой произведений, в котором нашло выражение ее понимание мироустройства и человеческой судьбы. Цветаева неоднократно подчеркивала особенный, интимный смысл «Мóлодца». Вскоре после завершения поэмы она писала Б. Пастернаку: «Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь после большого моего опустошения: только что кончила большую поэму (надо же как‐нибудь назвать!), не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, – расстались, как разорвались!» (МЦБП, 42). А в июле 1926 года, ссылаясь на один из эпизодов поэмы в письме к тому же адресату, Цветаева сделала ремарку: «Весь “Мóлодец” – до чего о себе!» (МЦБП, 255). Так как в поэме нет героев, воплощающих творческое начало, и тема творчества в ней вообще отсутствует, – эти признания Цветаевой требуют объяснений.
Стержень рассказанной в «Мóлодце» истории – любовь Маруси к Мóлодцу-упырю, любовь, которая является источником всех гибельных для героини и ее близких поступков, но которая в конце концов уносит ее вместе с возлюбленным все в ту же вожделенную «лазорь», в царство Небытия, куда уже устремлялись другие цветаевские персонажи. Таким образом, именно своей концовкой поэма недвусмысленно указывает на связь истории, поведанной в ней, с тем комплексом настроений, который нашел отражение в лирике и поэмах предшествующего периода.
Предтечей замысла «Мóлодца» можно считать цикл из двух стихотворений «Дочь Иаира» (февраль 1922 года) в «Ремесле». В первом, коротком стихотворении задается экспозиция – смерть дочери царя Иаира: «Дочь Иаира простилась / С куклой (с любовником!) и с красотой» (СП, 260). Второе стихотворение рассказывает о воскрешении героини Христом, которое совершается против ее воли:
Зачем, равнодушный,
Противу закону
Спешащей реки —
Слез женских послушал
И отчего стону —
Душе вопреки!
Сказал – и воскресла,
И смутно, по памяти,
В мир хлеба и лжи.
Но поступь надтреснута,
Губы подтянуты,
Руки свежи.
И всё как спросоньица
Немеют конечности.
И в самый базар
С дороги не тронется
Отвесной. – То Вечности
Бессмертный загар.
Поворот темы в этом стихотворении нов для Цветаевой. Если до этого в поэмах и лирике шла речь о порыве из земного пространства в Небытие, о чаемом перемещении туда как венце индивидуального существования, то теперь темой становилась история о возвращении на землю той, кто уже изведал мир иной, на ком уже навсегда запечатлен «загар Вечности». Это возвращение к земной жизни чревато неразрешимым конфликтом:
Привыкнет – и свыкнутся.
И в белом, как надобно,
Меж плавных сестер…
То юную скрытницу
Лавиною свадебной
Приветствует хор.
Рукой его согнута,
Смеется – всё заново!
Всё роза и гроздь!
Но между любовником
И ею – как занавес
Посмертная сквозь.
Сюжет остается незавершенным, открытым; дан лишь очерк того состояния, в котором пребывает героиня, вернувшаяся из Вечности в мир земной. «Посмертная сквозь», вставшая между нею и возлюбленным и – шире – всей земной жизнью, ощущается и переживается героиней в одиночку. Лишь она одна знает, что к этому миру сможет «привыкнуть», но пережитое по другую сторону «занавеса» имеет неуничтожимую власть над ней.
Биографический подтекст цикла «Дочь Иаира» несомненно важен. Устремленность к расставанию с землей, ярче всего воспетая в цикле «Разлука» (май – июнь 1921 года), посвященном мужу, именно в неизвестности о его судьбе находила себе психологическое оправдание. Когда 1 июля 1921 года Цветаева узнала, что С. Эфрон жив, радостный эмоциональный отклик на это известие затенил ставшее частью нового творческого кредо сознание разлада с действительностью. Но прошло время, и прежнее сознание вернулось. С ним вернулось и прежнее понимание конфликта между земным долгом перед близкими и внутренним (творческим) состоянием «отказа». Помимовольный возврат в мир после однажды уже совершившегося расставания с ним – в этом история дочери Иаира безусловно была иносказанием жизненной ситуации Цветаевой времени ее подготовки к отъезду из России.
Однако второй, глубинный план иносказания был универсальнее. Разорванность между внеземным (внеисторическим) миром духовного бытия и земным пространством исторического существования – это ключевой конфликт судьбы поэта как она понята Цветаевой в начале 1920‐х годов. В то же время творчество, т. е. акт подчинения поэта ведущей его силе, уже само по себе является актом освобождения от земли, и потому каждый возврат из «творчества» в «жизнь» – это возврат из одного мира в другой. В этом смысле, «Дочь Иаира» – это рассказ о драме такого возврата, о повторяющемся событии земной биографии поэта299.
Поэма «Мóлодец» развивает иносказание «Дочери Иаира» в новых образах. Сквозь историю о любви, разлуке и воссоединении любящих проступает совсем иной рассказ – рассказ о пути поэта (или о многократно повторяющемся в его жизни цикле творчества), который венчается, как и в поэме «На красном коне», безвозвратным полетом ведóмого (поэта) и вожатого (высшей силы) «в лазурь»: «До – мой / В огнь синь» (СС3, 340). Одержимость любовью символизирует одержимость творчеством, ибо и то и другое, в соответствии с богатой символистской традицией, тождественно в Эросе. В слиянии с силой, ведущей поэта путями творчества, он обретает «дом». Однако «Мóлодец» является не только вариацией на тему, разрабатывавшуюся более ранними поэмами Цветаевой; в этом иносказании о жизни поэта по‐новому расставлены авторские акценты.
В первой части поэмы рассказывается история Марусиной любви и смерти: встреча с Мóлодцем, его предложение выйти замуж; первое тайное свидание, когда Мóлодец открывается Марусе, говорит о своей инфернальной природе, советует ей рассказать об этом людям и даже объясняет, каким образом его можно убить; в противном же случае, предупреждает Мóлодец-упырь, умрет брат Маруси; Маруся хранит молчание, умирает ее брат; та же угроза повторяется и исполняется в отношении матери Маруси, а затем доходит очередь и до самой героини, которая предпочитает хранить молчание и умереть, нежели выдать любимого; она умирает, признавшись подругам, что грешна перед Богом, и ее хоронят не на кладбище, а у дороги. Так заканчивается первая часть. Важной приметой всех речей Мóлодца является прямота, с которой он объясняет Марусе, как она должна поступить, чтобы избавить себя и близких от гибели; он не хочет никого губить, но не властен над своими инфернальными потенциями: если не убивают его, то убивает он.
Во второй части душа умершей Маруси воскресает – в виде цветка. Вторая часть поэмы рассказывает о жизни героини после этого чудесного воскресения: цветок срывает проезжий барин, выхаживает его, и нежданно цветок оборачивается молодой девушкой – Марусей; она становится женой барина, и они живут вместе, соблюдая лишь некоторые особые правила, на которых настаивает Маруся (не ходить в церковь, не созывать гостей, не держать красного цвета в доме), что позволяет ее грешной природе оставаться неопознанной; у них рождается сын; в какой‐то момент барину начинает казаться нелепым затворничество жены, он созывает гостей, а затем заставляет Марусю отправиться с ним и с ребенком в церковь к обедне; там Маруся, не в силах подчиниться запрету, взглядывает во время службы на икону – и тут же, подхваченная вихрем пламени, уносится из церкви навстречу своему небесному спутнику:
Полымем-пёклом,
Полным потоком
Огнь – и в разлете
Крыл – копия
Яростней: – Ты?!
– Я!
Та – ввысь,
Тот – вблизь:
Свились,
Взвились:
Зной – в зной,
Хлынь – в хлынь!
До – мой
В огнь синь.
В «Мóлодце», по сравнению с более ранними произведениями Цветаевой, мотив «восхождения» от пола к Эросу уже ослаблен; акцент в поэме перенесен на роковой характер союза человека с неземной силой300. «Мóлодец» – притча о встрече человека с подчиняющей его силой: любящей – с любовью, поэта – с притяжением «иного мира», Небытия. Выбор между жизнью возлюбленного и жизнью родных в первой части поэмы, между привязанностью к мужу и ребенку и безотчетной тягой к небесному спутнику во второй части – в действительности не выбор, а испытание подверженности или не подверженности героини действию той силы, которая воплощена в Мóлодце. Сила эта действует избирательно, а узнает своих избранников по добровольности их подчинения, а еще точнее – по их неспособности не подчиниться. Именно эта мысль заострена в «Мóлодце» яснее, чем в прежних поэмах.
Миф о поэте, развитый в поэме, будет продолжать свою жизнь и эволюцию в произведениях Цветаевой, однако поэтика «Мóлодца» уже не будет иметь в ее творчестве существенного продолжения. Постепенный отказ Цветаевой от прежней стилистической манеры – фольклорной, песенной, от стилизации вообще – будет ощущаться уже в лирике «Ремесла». После «Ремесла» тексты, построенные на приемах стилизации, станут единичными. Перемены в стилистике будут источником и более общих сдвигов в цветаевской поэтике. В «Мóлодце» поверхностный и символический планы сюжета были, по сути, двумя отдельными историями. Поэму можно было читать (как в основном и читали ее современники) просто как вариацию на тему сказочной истории. Дистанцию между двумя планами сюжета и самую возможность их сосуществования в одном тексте в значительной мере обеспечивала стилизация.
С отказом от последней исчезала и эта двуплановость. Теперь Федра, Сивилла или Офелия оказывались проекциями авторской персоны и носителями авторского голоса. Разные стилистические регистры сохранялись лишь постольку, поскольку могли входить в лирический диапазон автора301. Истории литературных и мифологических персонажей апроприировались с той степенью верности оригиналу, которая была востребована личным мифом автора.
Окончание «Мóлодца» совпало по времени с моментом существенных перемен в этом мифе. Вызваны они были быстро развивавшимися отношениями с Борисом Пастернаком. Решение посвятить «Мóлодца» ему Цветаева, по‐видимому, приняла не раньше весны 1923 года, когда Пастернак уехал из Берлина в Москву (встреча их в Берлине так и не состоялась) и поток ее стихов к нему начал обретать форму. В двух из этих стихотворений («Эвридика – Орфею» и «Терпеливо, как щебень бьют…») заново прозвучали, в виде реминисценций, темы «Дочери Иаира» и «Мóлодца»302. Вероятно, посвящая поэму Пастернаку, Цветаева уже понимала, что ее личный миф, зашифрованный в «Мóлодце», обретал новые возможности развития именно с появлением Пастернака в ее жизни.
По своему значению для творчества Цветаевой ее встреча с Пастернаком несравнима ни с какой другой человеческой встречей303. Это значение, однако, не описывается в терминах литературного или идейного влияния. Только критикам, читавшим «Ремесло» и «Психею» после «Светового ливня» (хотя написаны они были до него и до знакомства с творчеством Пастернака вообще), могло показаться, что цветаевская поэтика претерпела какие‐то изменения под влиянием пастернаковской. И после знакомства Цветаевой со сборниками Пастернака «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации» ее стилистика и вся поэтическая техника продолжали развиваться в русле, уже намеченном в ее предшествующем творчестве. Что же касается отсылок к пастернаковским текстам или имитаций его стиля в отдельных стихотворениях, то они были продуманными элементами творческого диалога, а не знаками влияния304. В идейном же отношении, в своем понимании творчества и искусства Пастернак и Цветаева, при наличии бесспорной близости изначальных позиций, развивались и менялись по‐разному и пришли к разным итогам.
Однако для художника цветаевского склада вовсе не названные типы влияний вообще могли быть важны. «Литературных влияний не знаю, знаю человеческие» (СС4, 623), – это не только удачный афоризм, но и справедливое автонаблюдение. «Личность творца» – тема, которую, как уже говорилось, Цветаева помещает в центр своей поэтологии вскоре после революции. Именно «судьба» Пастернака, т. е. некоторое интуитивно складывающееся представление о траектории развития его творческой личности, занимает Цветаеву уже в «Световом ливне». То же становится темой цветаевских писем к Пастернаку в феврале 1923 года. Прежде Цветаева лишь о Блоке говорила: «Больше, чем поэт: человек» (СТ, 50), – и в ее устах именно это было формулой гениальности. Теперь Блок умер, и свой миф о нем Цветаева могла перенести на кого‐то живого305. Им и стал Пастернак.
«Отчужденностью на эстраде явно напоминал Блока» (СС5, 232), – так напишет Цветаева о Пастернаке уже в «Световом ливне». «Вы первый поэт, которого я – за жизнь – вижу», – к этой начальной фразе своего письма к Пастернаку от 10 февраля 1923 года Цветаева тут же делает примечание: «Кроме Блока, но он уже не был в живых!» (МЦБП, 33). Спустя несколько дней она рассказывает ему в письме о своей «пропущенной» встрече с Блоком (МЦБП, 42–43); рассказу этому предшествует ее страстная просьба к Пастернаку «не уезжать в Россию, не повидавшись с [ней]» (МЦБП, 37). Она желает модифицировать миф, ввести в него встречу, но миф оказывается сильнее. Точнее – он меняется в другом, и более важном, отношении. Пастернака вплоть до 1935 года Цветаева так и не увидит, но встреча их, конечно, состоится: на многие годы он станет самым близким для нее собеседником. Их переписка, принимающая напряженно-личный характер с начала 1923 года (хотя и прерывающаяся вскоре после этого на год с лишним), до конца 1920‐х годов может служить основным – после стихов и прозы – источником для характеристики творческих биографий каждого.
Еще до отъезда Пастернака в Россию, в одном из февральских писем к нему Цветаева пытается сформулировать свое ви´дение его творческой личности: «Мне хочется сказать Вам <…>, что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта (Гения – за плечом!), поэт побежден Гением, сдается ему на гнев и на милость, согласился быть глашатаем, отрешился» (МЦБП, 36). Поясняя же чуть ниже прямоту своих суждений о нем, Цветаева делает ремарку: «Кстати, это письмо – беседа с Вашим Гением о Вас, Вы не слушайте» (МЦБП, 37). Смысл этих риторических ходов – в том же, в чем был смысл начальной части «Светового ливня»: косвенно постулировать факт творческого родства, которое делает доступной особую форму контакта и особое знание о собеседнике. Законченный и лишенный вариативности миф о самой себе как ведомой Гением, «сдавшейся ему на гнев и на милость», благодаря появлению Пастернака обретает открытость и вариативность. Экстраполируя тот же миф на него, Цветаева теперь может развивать оба мифа параллельно, ведя их к теме встречи двух «равных», «брата и сестры», «Патрокла и Ахилла» (СТ, 117), равно как и к варианту того же сюжета – к теме невстречи «равных», их несостоявшегося соединения в жизни, но ожидающего их впереди идеального и вечного союза306. Таким образом, в личном мифе Цветаевой благодаря появлению Пастернака возникает ниша для «другого», для того, с кем соотносится духовное бытие автора, кого ожидает одна с автором судьба и кто одновременно является для автора земным современником. Именно это делает встречу с Пастернаком одним из ключевых моментов творческой эволюции Цветаевой.
Перемена мифа происходит не сразу; летом и осенью 1922 года большинство стихов продолжают линию «Ремесла». Это несомненно даже в тех стихотворениях, которые развивают отброшенную в «Ремесле» тему «дольней любови», биографически связанную с кратким романом с А. Г. Вишняком в Берлине. Стихотворение «Но тесна вдвоем…» (8 августа 1922 года)307, первое из написанных «после России», которое появилось в печати, продолжает тему Эроса – творчества – одиночества и отрицает возможность всякой ниши для «другого» в земном бытии поэта:
Но тесна вдвоем
Даже радость утр.
Оттолкнувшись лбом
И подавшись внутрь,
(Ибо странник – Дух,
И идет один),
До начальных глин
Потупляя слух —
Над источником
Слушай-слушай, Адам,
Чтó проточные
Жилы рек – берегам:
– Ты и путь и цель,
Ты и след и дом.
Никаких земель
Не открыть вдвоем.
В горний лагерь лбов
Ты и мост и взрыв.
(Самовластен – Бог
И меж всех ревнив).
Рефреном повторяющаяся в стихотворении третья строфа сопровождает далее серию предостережений, а бесконечность цепочки земных опасностей символизируется финальным «Берегись», продленным многоточием. Обереги от слуги, жены, родни, могил и гробниц, «вчерашних правд» и финальное «Даже самый прах / Подари ветрам» (СП, 296) – всё это призывы к максимальной автономизации собственного бытия, от которого после смерти не должно остаться «земных примет». То, что субъект речи в стихотворении экстериоризируется («проточные жилы рек»), не меняет лирического характера этой речи. Включение стихотворения в цикл «Сивилла» при второй его публикации служит тому подтверждением. В двух других стихотворениях о Сивилле августа 1922 года та называется «выбывшей из живых» и «порвавшей родство с веком» (СП, 293), – характеристики, которые прочно вошли к этому времени в цветаевский миф о себе.
Еще нет ниши для «другого» (человека) и в одном из прекраснейших циклов в поэзии Цветаевой – «Деревья» (его первые семь стихотворений написаны осенью 1922 года). Здесь единственным достойным «другим» для поэта оказывается природа. Метафизические корни союза поэта и природы Цветаева будет десятилетие спустя пояснять в прозе, но лирически он осмыслен уже теперь. Природа – воплощение мира бессмертья на земле, она – творение той же силы, что руководит и поэтом. Потому для поэта именно в природе лежит истинный и исконный оплот, вечное обещание духовной защиты:
В смертных изверясь,
Зачароваться не тщусь.
В старческий вереск,
В среброскользящую сушь,
– Пусть моей тени
Славу трубят трубачи! —
В вереск-потери,
В вереск-сухие ручьи.
Старческий вереск!
Голого камня нарост!
Удостоверясь
В тождестве наших сиротств,
Сняв и отринув
Клочья последней парчи —
В вереск-руины,
В вереск-сухие ручьи.
Жизнь: двоедушье
Дружб и удушье уродств.
Седью и сушью
(Ибо вожатый – суров),
Ввысь, где рябина
Краше Давида-Царя!
В вереск-седины,
В вереск-сухие моря.
«Тождество сиротств» – самая прочная форма родства, а тот, по чьей линии это родство ведется, – «суровый вожатый», увлекающий поэта и природу все тем же вечным путем «ввысь», назад, к первоисточнику их самих.
Одно из самых значительных лирических стихотворений Цветаевой, которым она отметила в 1922 году свое тридцатилетие308, вошло именно в цикл «Деревья»:
Не краской, не кистью!
Свет – царство его, ибо сед.
Ложь – красные листья:
Здесь свет, попирающий цвет.
Цвет, попранный светом.
Свет – цвету пятою на грудь.
Не в этом, не в этом
ли: тайна, и сила и суть
Осеннего леса?
Над тихою заводью дней
Как будто завеса
Рванулась – и грозно за ней…
Как будто бы сына
Провидишь сквозь ризу разлук —
Слова: Палестина
Встают, и Элизиум вдруг…
Струенье… Сквоженье…
Сквозь трепетов мелкую вязь —
Свет, смерти блаженнее
И – обрывается связь.
—
Осенняя седость.
Ты, Гётевский апофеоз!
Здесь многое спелось,
А больше еще – расплелось.
Так светят седины:
Так древние главы семьи —
Последнего сына,
Последнейшего из семи —
В последние двери —
Простертым свечением рук…
(Я краске не верю!
Здесь пурпур – последний из слуг!)
…Уже и не светом:
Каким‐то свеченьем светясь…
Не в этом, не в этом
ли – и обрывается связь.
—
Так светят пустыни.
И – больше сказав, чем могла:
Пески Палестины,
Элизиума купола…
За несколько лет до того Цветаева отмечала в записной книжке: «В Гёте мне мешает Farbenlehre»309 (ЗК1, 435). Очевидно, означало это, что ученое сочинение Гете нарушало для нее цельность его облика как поэта. Теперь «Учение о цвете» Цветаевой пригодилось, хотя о его мистических интерпретациях Штейнером и его последователями она, должно быть, и прежде слышала. Пригодились Цветаевой, впрочем, не бесчисленные наблюдения Гете над свойствами цвета, но мысли о свете как первоисточнике всех цветов. Вполне возможно, было Цветаевой памятно и начало статьи Андрея Белого «Священные цвета». Отталкиваясь от библейского «Бог есть свет» (1 Иоан. 1:5), Белый продолжал: «Свет отличается от цвета полнотою заключенных в него цветов»310. Движение от цвета к свету («осенней седости», которая есть «Гётевский апофеоз»), от краски к «бесцветной» белизне, в которой все цвета слиты, от частного к общему, от индивидуального бытия к его единому истоку – вот что задается антиномией «цвета/света» в стихотворении. Разумеется, в одном из членов антиномии – цвете – Цветаева не может не увидеть корня собственной фамилии, что и придает отрицанию цвета в стихотворении столь напряженно-личный смысл. В этом отрицании зашифровывается тема расставания с собственным земным естеством, земной оболочкой, с собственным именем. «Эта седость – победа / Бессмертных сил» (СП, 307), – напишет она в сентябрьском стихотворении того же года о собственной первой седине, включая и ее в новый миф о себе-Сивилле.
Сплетение образов создает в стихотворении «Не краской, не кистью!..» особое символическое пространство. Царство осеннего леса предстает глазу не палитрой красок, расцвечивающих его увядающую растительность, а вместилищем света, прорвавшегося сквозь поредевшую листву. Этот прорыв подобен разрыву завесы в Иерусалимском храме в момент смерти Христа: свет – вестник смерти, и он же – вестник бессмертья. Отсюда и образ «сына», которого «провидит сквозь ризу разлук» пославший его на Землю Бог. Палестина как место его земного служения и страдания сменяется видением Элизиума, царства жизни вечной. В «струенье», «сквоженье» света постепенно растворяется и сам лес – то, что было им. Лес и свет сливаются: свет уже не исходит извне, сами лесные «седины» излучают его. И в следующее мгновение лес – уже не лес, в своем новом естестве он подобен пустыне, обнаженной поверхности, беспрепятственно принимающей в себя и излучающей свет. «Я ж на песках похолодевших лежа, / В день отойду, в котором нет числа» (СП, 237), – в таких образах Цветаева видела переход к иному качеству бытия еще год назад. Путь от «песков Палестины» к «Элизиума куполам» – это дорога из мира земного к миру незримому. Поэту дано указать на нее, но не рассказать о ней: связь прозрения или интуиции со словом «обрывается», и поэт оказывается в области «невыразимого», или чистых «умыслов», как их вскоре назовет Цветаева.
И все же: «Чувств много в После России, почти сплошь. Если это не чувства, то у меня их – нет» (СС7, 401), – такой в 1935 году будет видеться Цветаевой ее лирика 1922–1925 годов. «В предсмертном крике / Упирающихся страстей – / Дуновение Эвридики» (СП, 326), – таким представлялся ей собственный облик уже в 1923 году. «Осенняя седость» и крик «упирающихся страстей» – драма этого соседства и составляет стержневую тему лирики Цветаевой названного периода. Главным героем этой драмы оказывается Пастернак; он же становится собеседником, с которым эта драма обсуждается.
После третьего письма Пастернака, которое Цветаева получила около 7 февраля 1923 года и к которому Пастернак приложил только что вышедший свой сборник «Темы и вариации», начинается новый этап в ее лирике. Он прерывает почти четырехмесячное лирическое молчание: с 12 октября 1922 до 7 февраля 1923 года Цветаева, занятая «Мóлодцем», стихов практически не писала311. Один из первых обликов, который принимает новый лирический собеседник, – облик ангела смерти; воссоединение с ним может состояться в миг расставания с землей:
А потом – перстом как факелом —
Напиши в рассветных серостях
О жене, что назвала тебя
Азраилом – вместо Эроса!
В другом стихотворении есть вариации: три ангелических персонажа – херувим – Гавриил – Азраил (СП, 319) – сменяют друг друга в жизни некой условной героини. Еще в одном стихотворении герой оказывается обладателем «серафического альта» (СП, 314). Ангелические коннотации образа героя задают схему взаимоотношений между ним и героиней, очень похожую на ту, что уже была воплощена в «Мóлодце» (хоть и в ее «инфернальном» варианте). Цветаева довольно быстро понимает творческую бесперспективность такого «тавтологичного» развития собственного мифа. По-видимому, она не случайно исключит потом стихотворение «От руки моей не взыгрывал…» из текста сборника «После России»: образ героя как Азраила особенно плохо вписывается в контекст дальнейшего развития новой лирической темы.
Стихотворения «Офелия – Гамлету», «Офелия – в защиту королевы» и цикл из двух стихотворений «Федра» окончательно взрывают конструкцию цветаевского личного мифа эпохи «Ремесла». В этих стихах не стоит идентифицировать мужские персонажи (Гамлета и Ипполита) с Пастернаком. Гамлет воплощает отсутствие понимания и способности к земной страсти, Ипполит фигурирует лишь как пассивный объект такой страсти. Оба персонажа в прежний творческий период легко могли бы воплощать начало творческое (Эрос) как коренящееся в оттолкновении от пола. Теперь Цветаевой необходим мощный голос женской страсти, дабы подвергнуть сомнению сам этос такого оттолкновения:
Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадя к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст…
Утоли мою душу: итак, утоли уста.
Ипполит, я устала… Блудницам и жрицам – стыд!
Не простое бесстыдство к тебе вопиет! Просты
Только речи и руки… За трепетом уст и рук
Есть великая тайна, молчанье на ней как перст.
Однако не Гамлету, который обвиняется в резонерстве, и не Ипполиту, у которого героиня просит прощения за свою безудержную страсть, адресованы речи цветаевских героинь. Они адресованы себе и Пастернаку; они должны убедить обоих, что эта «великая тайна» действительно есть и что отреченье от нее уподобляет обоих резонеру-Гамлету или не ведающему жизни Ипполиту.
Этот поэтический порыв, однако, во‐первых, слишком резко рвет с прежним символом веры, а во‐вторых, не предлагает пока самого главного: удовлетворительной структуры для нового мифа, который бы объединил обоих. Такую структуру Цветаева находит, лишь когда Пастернак уезжает из Берлина в Москву.
Стихотворение «Эвридика – Орфею» будет включено в посланную Пастернаку рукопись стихов 1923 года, которые обращены к нему или связаны с ним312. В этой рукописи стихотворение следует за циклом «Провода», в который здесь входят лишь первые четыре стихотворения окончательной редакции цикла; остальные шесть стихотворений окончательной редакции включены в эту рукопись вне цикла (МЦБП, 72–81). При составлении сборника «После России» Цветаева поместит стихотворение «Эвридика – Орфею» непосредственно перед циклом «Провода», а цикл расширит до десяти стихотворений. Тем самым это стихотворение окажется изъятым из хронологической цепочки и выделенным в ряду других стихов этого времени, обращенных к Пастернаку. В 1926 году (т. е. еще до составления сборника) Цветаева даст в письме к Пастернаку косвенное объяснение причин такого выделения: «В Эвридике и Орфее перекличка Маруси с Мóлодцем <…> – сейчас времени нет додумать, но раз сразу пришло – верно», – утверждает Цветаева. И это при том, что, как она замечает тут же, истории эти в общем‐то противоположны: «Орфей за ней пришел – ЖИТЬ, тот за моей – не жить» (МЦБП, 215). «Перекличка», которую имеет в виду Цветаева, и не нуждается в сходстве историй; она как раз в том и состоит, что история меняется. Прежний миф о себе, Марусе, уносимой «в лазурь» неземным спутником, замещается новым мифом о себе, умершей Эвридике, земного спутника любящей, но за ним не идущей. Расставание с Пастернаком при таком повороте личного мифа становится избранной участью, и именно это сознание творчески необходимо Цветаевой в данный момент:
Для тех, отженивших последние клочья
Покрова (ни уст, ни ланит!..),
О, не превышение ли полномочий
Орфей, нисходящий в Аид?
Для тех, отрешивших последние звенья
Земного… На ложе из лож
Сложившим великую ложь лицезренья,
Внутрь зрящим – свидание нож.
Уплочено же – всеми розами крови
За этот просторный покрой
Бессмертья…
До самых летейских верховий
Любивший – мне нужен покой
Беспамятности… Ибо в призрачном доме
Сем – призрак ты´, сущий, а явь —
Я, мертвая… Что же скажу тебе, кроме:
– «Ты это забудь и оставь!»
Ведь не растревожишь же! Не повлекуся!
Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть
Устами! – С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть.
Уплочено же – вспомяни мои крики! —
За этот последний простор.
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.
Миф о схождении Орфея в Аид для вызволения из царства мертвых горячо любимой им Эвридики, умершей от укуса змеи, был популярным объектом переосмысления в модернистской поэзии. Достаточно назвать одно из вершинных в творчестве Р. М. Рильке стихотворений «Орфей. Эвридика. Гермес» (1904) и также наверняка памятное Цветаевой стихотворение Брюсова «Орфей и Эвридика» (1903 – 1904). У обоих поэтов переосмысление мифологического рассказа связано с выходом на первый план образа Эвридики: это она, ее нежелание покидать Аид становится истинной причиной неудачи Орфея в его предприятии; ее воля вызывает запретный оборот Орфея, в результате чего он теряет возлюбленную навсегда. Цветаева также помещает в центр рассказа Эвридику – себя. Однако самый драматичный момент мифа – оборот Орфея – ею вообще опущен. В цветаевской вариации на тему мифа нет сюжета как такового, а есть лишь рассуждение Эвридики о непреодолимости преграды между миром живых и миром мертвых. При этом голос той, кто рассуждает, двоится в буквальном, грамматическом, смысле этого слова. После заглавия стихотворения в сборнике стоит двоеточие, заставляющее ожидать, что последующее – монолог Эвридики. Однако первые две строфы стихотворения целиком написаны от третьего лица, и лишь в третьей строфе, в месте разрыва ее третьего стиха, совершается переход к речи от первого лица. Первое лицо далее сохраняется до последней, шестой строфы, две же завершающие стихотворение строки снова переводят речь в третье лицо. Столь необычное развертывание лирической речи создает эффект предельной обобщенности индивидуального переживания. Именно грамматическая безличность последних строк – «Не надо Орфею сходить к Эвридике / И братьям тревожить сестер» – сообщает им силу то ли закона, то ли заклинания. Тема, которую развивает речь Эвридики, очевидно, не вполне может быть донесена в одиночку голосом мифологического персонажа и требует появления комментирующего или обобщающего авторского голоса «за кадром».
Миф рассказывает о любви, и стихотворение в целом следует ему в этом. Конфликт ясен: умершая, т. е. живущая теперь в мире «бессмертья» Эвридика объясняет Орфею, что ей уже не дано вернуться к прежнему переживанию любви. «Просторный покрой бессмертья», которым отмечен облик обитательницы Аида, прямо «цитирует» облик умершей дочери царя Иаира: «Этот просторный покрой / Юным к лицу» (СП, 260). В отличие от последней, Эвридика не переживает драму возврата, а осмысляет драму своей неспособности к возврату. Она уже попала в мир, где нет ни рук, ни уст – тот самый мир, которым соблазняла доброго мóлодца героиня поэмы «Переулочки». Этот мир находится по ту сторону страсти, – так утверждает Эвридика. Однако страстность ее речи находится в резком противоречии с тем, чтó она говорит о своем состоянии. «Покой беспамятности» – это лишь вожделенная мечта, а действительность состоит для нее в невозможности забыть любовь, даже отрицая свою способность к ней. «Ведь не растревожишь же! Не повлекуся! / Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть / Устами!», – чего здесь больше – отказа или сожаления? Через три года в письме к Пастернаку Цветаева сделает такой автокомментарий: «Все, что в ней еще любило – последняя память, тень тела, какой‐то мысок сердца, еще не тронутый ядом бессмертья, <…> все, что еще отзывалось в ней на ее женское имя – шло за ним, она не могла не идти, хотя, может быть, уже не хотела идти» (МЦБП, 215). В 1923 году, вдогонку уехавшему собеседнику Цветаева говорит устами Эвридики о том, как мучительно осознание своего земного естества после уже совершенного выбора в пользу неземного покоя и отрешенности, того выбора, что сделан Цветаевой в «Ремесле» да и в совсем еще недавних стихах осени 1922 года. Трагическое состояние промежутка – между покоем и страстью, между жизнью и Небытием – вот что открывает для себя и переживает цветаевская Эвридика.
Творческая ипостась героев никак не упомянута в стихотворении, но она руководит его явными и скрытыми метафорами. Именно представление Цветаевой о свойствах своей творческой личности заставляет ее видеть себя Эвридикой, обитательницей Аида, а того, кто слово «жизнь» выносит на обложку книги, Орфеем313. Впрочем, в самом стихотворении Орфей лишен облика и имеет лишь функцию: его явление обостряет самосознание героини и обнаруживает для нее ее истинное состояние – состояние промежутка. Она не может не отзываться на зов жизни, но отзыв ее сводится лишь к объяснению причин, по которым она лишена возможности в эту жизнь вернуться. Явление Орфея – призыв к жизни и любви – не выводит Эвридику из состояния промежутка, но заставляет ее осознать это состояние. У нее нет иммунитета против зова жизни: коснувшись ее слуха, он высекает искры слов из ее «еще не тронутой ядом бессмертья» души.
Первое из февральских стихотворений «пастернаковского цикла»314 проливает свет на этот недовыраженный в стихотворении «Эвридика – Орфею» мотив. В автографе стихов 1923 года оно имеет название «Гора», снятое в «После России»:
Не надо ее окликать:
Ей оклик – что охлест. Ей зов
Твой – раною по рукоять.
До самых органных низов
Встревожена – творческий страх
Вторжения – бойся, с высот
– Все крепости на пропастях! —
Пожалуй – органом вспоет.
А справишься? Сталь и базальт —
Гора, но лавиной в лазурь
На твой серафический альт
Вспоет – полногласием бурь.
И сбудется! – Бойся! – Из ста
На сотый срываются… Чу!
На оклик гортанный певца
Органною бурею мщу!
Стихотворение начинается тем же заклинанием-запретом оклика, зова, которым оканчивается «Эвридика – Орфею»; кроме того, в последней его строфе используется схожий стилистический ход – смена третьего лица на первое при сохранении идентичности субъекта, – который позже развит в «Эвридике – Орфею». Эти элементы сходства (а они в рамках сборника уникальны) заставляют предположить особую связь между двумя стихотворениями, тем более что и в их персонажной структуре есть явное сходство.
Место героев мифа здесь занимают символы «горы» и «голоса». Как уже отмечалось в предыдущей главе, Цветаева трактовала гору как «верх земли, т. е. низ неба» (СС7, 381). Таким образом, гора и есть символ состояния промежутка. Это делает гору «крепостью на пропасти»: внешняя незыблемость ее обманчива, она чревата катастрофой. Страх ее быть растревоженной – это страх скрытой в собственных недрах возможности «бури», которую «гора» на «сотый раз из ста» не сможет удержать, и тогда «сталь и базальт» обернутся лавиной.
В том, что «страх вторжения» именуется в стихотворении «творческим», – ключ к иносказанию, в нем содержащемуся. Как и в «Эвридике – Орфею», здесь разыгрывается драма отклика на зов, но именно в «Не надо ее окликать…» эксплицированы коннотации «отклика» с «творчеством»: «лавина» и «срыв» в последней строчке названы своим прямым именем – «органной бурей». Творчество – это и есть отклик на зов; потому и цветаевская Эвридика в ответ на зов – произносит речь, а не идет. Изменение личного мифа влечет за собой, таким образом, изменение концепции творческой реактивности: не отречение от земного мира и собственного земного естества (пола) оказывается источником творчества, но невозможность окончательно отречься от всего этого, осознание себя «горой», существом промежутка. «Гора» открывает свою истинную природу, когда она взрывается «полногласием бурь»315 в ответ на зов жизни. Эвридика раскрывается в ее отклике на приход Орфея, и этот отклик – слово. «Эвридикино у – у – вы» (СП, 326) из первого стихотворения цикла «Провода» – это сжатое до междометия признание в любви и в тщетности устремления к ней, ибо единственное, чем поэт, человек промежутка, может ответить на оклик жизни, – это творчество.
Эту мысль и развивает цикл «Провода»316, меняя акценты от стихотворения к стихотворению, но подводя под множественность оттенков общий знаменатель: любимый или любимая для поэта «сокровищница подобий», т. е. источник метафор и символов; ответ поэта на земной призыв жизни и любви – «живое чадо: / Песнь» (СП, 331). Иные воплощения любви достижимы для него либо во сне («Весна наводит сон. Уснем…»), либо в «неземном доме», в который он устремлен из своего нынешнего промежуточного состояния («Терпеливо, как щебень бьют…»). «Творческий страх» – это страх масштабов собственного отклика на боль «вторжения», сопряженный с переживанием каждый раз заново своей неспособности ответить чем‐либо, кроме слова. Поэтому «не надо», повторенное в обоих стихотворениях, это не запрет, а именно заклинание тех «голосов» и сил, которым дано растревожить поэтическое молчание, ибо последствия такого вторжения непредсказуемы, а их разрушительная сила угрожает не одному поэту. Тогда же, весной 1923 года, эта сила воплотится в других метафорах в цикле «Поэты»:
Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не взращивая – взрыв и взлом —
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!
Лавина, в непредсказуемый момент низвергающаяся с горы, или разрушительный вихрь кометы, грозной невычислимостью своей траектории, в любом случае – сила, несущая угрозу миропорядку, – таким предстает теперь в стихах Цветаевой образ творчества.
Стихотворение «Не надо ее окликать…», таким образом, поясненяет природу той «органной бури», которая следует за ним, – «лавину» стихов, обращенных к Пастернаку. Аналогична и композиционная функция стихотворения «Эвридика – Орфею» по отношению к циклу «Провода» в сборнике: этот цикл – продленный отклик Эвридики на явление Орфея. Оба стихотворения – очерки генеалогии творчества как единственной данной поэту формы реакции на жизнь. «Ибо раз голос тебе поэт / Дан, остальное – взято» (СП, 686), – так лаконично прозвучит эта мысль годы спустя. В первой же половине 1920‐х годов мифологизация собственного дара и тех трагических «бурь», на которые он ее обрекает, становится нервом цветаевского творчества. Длящееся молчание уехавшего Пастернака превращает весну – лето 1923 года в настойчивое тестирование Цветаевой возможностей и вариативности собственного мифа. Одно за другим пишутся стихотворения, друг с другом полемизирующие, и провозглашаемые в них истины как будто проходят в этой полемике проверку на риторическое совершенство. Так, 18 июня датировано стихотворение о неизбежности, предначертанности разминовения героев в жизни, об их духовном единстве и об обязательном воссоединении в вечности:
На назначенное свиданье
Опоздаю. Весну в придачу
Захвативши – приду седая.
Ты его высокó назначил!
Буду годы идти – не дрогнул
Вкус Офелии к горькой руте!
Через горы идти – и стогны,
Через души идти – и руки.
Землю долго прожить! Трущоба —
Кровь! и каждая капля – заводь.
Но всегда стороной ручьевой
Лик Офелии в горьких травах.
Той, что, страсти хлебнув, лишь ила
Нахлебалась! – Снопом на щебень!
Я тебя высокó любила:
Я себя схоронила в небе!
Здесь разрабатывается уже не тот аспект нового личного мифа, который связан с экспликацией механизмов творческой реактивности, а тот, что объясняет природу отношений, связавших двух героев. Соответственно меняется и функция Пастернака во внутреннем сюжете: он уже не «окликающий», на чей зов следует творческий «отзыв», а «равный», «милый брат», у которого одна судьба с героиней. Он назначил свидание «высоко», и им обоим до встречи нужно «землю прожить». Но, в отличие от прежней версии личного мифа, будущий небесный спутник героини уже не сверхчеловеческая, не инфернальная сила, а ее нынешний земной собрат. В «Проводах» та же тема с наибольшей ясностью воплощается в стихотворении «Терпеливо, как щебень бьют…»: содержанием земной жизни героини является ожидание, которое венчается «сменой царства», прибытием гостя и совместным отбытием обоих в их «неземной дом».
Однако на следующий день после приведенного выше пишется другое стихотворение, с совершенно по‐иному расставленными акцентами:
Рано еще – не быть!
Рано еще – не жечь!
Нежность! Жестокий бич
Потусторонних встреч.
Как глубокó ни льни —
Небо – бездонный чан!
О, для такой любви
Рано еще – без ран!
<…>
Ревностью жизнь жива!
Благословен ущерб
Сердцу! Отдаст трава
Право свое – на серп?
Тайная жажда трав…
Каждый росток: «сломи»…
До лоскута раздав,
Раны еще – мои!
И пока общий шов
– Льюсь! – не наложишь Сам —
Рано еще для льдов
Потусторонних стран!
Отталкиваясь от собственных инсценировок «потусторонних встреч», Цветаева теперь говорит себе и своему дальнему собеседнику, что «бездонный чан» неба слишком умозрителен для тех, у кого есть тело (которое в тексте репрезентирует «рана», та же, что является следствием «зова – оклика» в стихотворении «Не надо ее окликать…»). Всякий «страх вторжения» имеет противовесом «тайную жажду» быть растревоженным, и обратно. Эту неумолимую диалектику Цветаева сама себе преподает с неостывающим упорством, и этим длит «органную бурю» – речь своей Эвридики, отличающейся от мифологического прототипа тем, что земной зов застигает ее на пути в царство мертвых.
Одно из самых парадоксальных и значительных стихотворений этой «органной бури» – «Прокрасться…» (14 мая 1923 года), которым Цветаева впоследствии завершит первый из двух разделов сборника «После России»:
А может лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах…
Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.
А может – лучшая потеха
Перстом Севастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться, не оставив праха
На урну…
Может быть – обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: Временем как океаном
Прокрасться, не встревожив вод…
Это стихотворение неизменно задевало писавших о Цветаевой очевидностью авторского вызова, в нем содержащегося317. Анализируя его, исследователи предпочитали помещать «Прокрасться…» в очень широкий контекст, уравновешивающий «максималистский» смысл стихотворения иными, гипотетическими смыслами. Между тем в ряду разбиравшихся выше лирических высказываний Цветаевой 1923 года это стихотворение не просто логично, но и необходимо. И понимать его надо именно «буквально»: если творчество – это отклик творца на жизнь, на рану, наносимую ее кинжалом-окликом, то «лучшая победа» человека, сознающего свое положение «между небом и землей», в том и должна состоять, чтобы, собрав все силы, не отозваться на земной зов, ничем не обнаружить себя, остаться горой, удержавшей лавину, Эвридикой, не снизошедшей до объяснений с Орфеем. Произвольный, на первый взгляд, выбор имен Лермонтова и Баха для стихотворения в действительности прямо мотивирован «горно-органной» образностью, которую они за собой тянут и в которую Цветаевой привычно облекать свои размышления на тему творчества в это время. То, что «гора» и «орган» вообще анаграммируют друг друга у Цветаевой, – как раз и подтверждается выбором именно этих имен собственных для стихотворения. Слово «гора» остается в стихотворении неназванным (хотя есть «Кавказ» и «скалы»), но Цветаева вряд ли не учитывает анаграммированность «горы» в самой фамилии Лермонтова («гора» по‐французски «mont»). «Органное эхо», в свою очередь, и анаграммирует «гору» (которая, как мы помним, у Цветаевой обладает способностью «петь органом»318), и символизирует творческий отклик как таковой.
В отличие от стихов февраля – марта, акцент в этом стихотворении уже не на механизме рождения творчества-отклика, а на идее творчества как формы соучастия в жизни. С одной стороны, Лермонтову здесь присвоена способность мифологического Орфея очаровывать («тревожить») своим пеньем скалы319, и нет сомнения, что «НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ [ему] дает силу» как художнику. С другой стороны, Бах, как и Цветаева, знает, «что Венера – дело рук» (СП, 282), и именно «перстом» создает он свою гениальную музыку. Иначе говоря, помимо логически бесспорной победности «отказа» от творчества, существует метафизическая дилемма: чем будет этот отказ? Отказом от личного творчества или отказом от воплощения некоего внеличного импульса, который реализуется через творца?
Тема внеличных истоков творчества снова оказывается принципиально важной. Для того, чтобы ответить нет, на вопрос, поставленный стихотворением, необходимо сознание, что, кроме земных возбудителей, творчество имеет еще и небесных покровителей; что соучаствует в нем не только мир, от притяжения которого жаждет избавиться творец, но и та высь, куда он устремляется. Уже само название нового сборника стихов, который Цветаева задумывает не позднее января 1924 года, свидетельствует о том, что последняя тема приобретает ключевое значение для ее мифа о себе как творце в этот период. Силы, руководящие поэтом, которые прежде представали ее творческому воображению главным образом как разрушители его земных связей, теперь, с появлением у поэта статуса «человека промежутка», обретали и иные функции.
«Умыслы» – на таком названии для сборника Цветаева надолго остановилась. Оно не было единственным вариантом: первоначально в рабочей тетради значились еще два: «Игры слов и смыслов» и «Соломонов перстень» (СТ, 285). Позже в одном из газетных объявлений о предполагаемом издании сборника мелькнуло название «Тетрадь». Однако эти варианты не задержались в цветаевских заметках; название же «Умыслы» не только неоднократно упоминалось ею в переписке, но и «обкатывалось» в 1924 году в рабочей тетради:
Умыслы:
Тайное, никогда не становящееся явным.
Последнее с чем считаются земные судьи и единственное, чтó зачтется на Страшном Суде.
Пример: интонация: голосовой умысел.
Умысел не цель, а некий тон поступка.
Умысел – исток поступка. Тáк: не с какой целью? А: из каких побуждений?
Разница между умыслом и замыслом. Умысел: тайное побуждение. Замысел: явная воля к…
Умысел – в нас, замысел – наш.
Замысел учтим, поэтому часто неудачен. (Неудачный замысел вещи.) Умысел, как неучтимый, ни удаче ни неудаче не подвержен. Отсюда: L’intention y est320. Неудачный замысел. Нет неудачного умысла. Поступок налицо, и: – каков был Ваш умысел? (Не совпадение.) (СТ, 289)
Умыслы – в мире дословном (дословесном) то же, что тайнопись в мире сем. Умысел можно передать только тайнописью (СТ, 298).
Впервые словосочетание «поэзия Умыслов» (СС5, 234) Цветаева использовала в статье «Световой ливень» по отношению к стихам Пастернака. Теперь, обдумывая название для своего нового сборника, она как будто исследовала найденное слово на семантическую емкость. В самом общем смысле – оно отсылало к той затекстовой реальности, «тайному побуждению», из которого уже рождается замысел, а потом и сам текст. «Матерьял произведения искусства (не звук, не слово, не камень, не холст, а – дух) неучтим и бесконечен» (СС5, 280), – формулировала Цветаева в начале 1926 года один из основных тезисов статьи «Поэт о критике». Совпадение характеристик «духа» и «умыслов» как неучтимых говорит о смежности этих категорий в языке Цветаевой. Умыслы, принадлежа области духа, «никогда не становятся явными» сами по себе; слово, стихотворение – лишь свидетельство существования духа, умысла, но не он сам. «Поэт – издалека заводит речь. / Поэта – далеко заводит речь» (СП, 334), – это формула взаимодействия слова с умыслом. Стихотворение – странная река, текущая к своему истоку: начинаясь «издалека», умыслом, некой духовной интенцией, оно внутренне устремлено в это же самое «далеко»; слово бесконечно стремится к до конца не достижимому соответствию с умыслом. Умысел – оправдание творчества, ибо он духовен, надмирен; он подобен «лицу без обличья» (СП, 310), которым смотрит на мир цветаевский Бог. «Всякая строчка – сотрудничество с “высшими силами”, и поэт – много, если секретарь» (СС7, 182–183), – утверждает Цветаева в начале 1927 года в письме к Е. А. Черносвитовой. Умыслы и есть эманации «высших сил», и оправданием отклика на дела земные для поэта является именно то, что в акте творчества он «творит мир тот – в мирах сих» («Герой труда»; СС4, 20). «Единственная возможность на земле величия – дать чувство высоты над собственной головой» (СС4, 15), – говорит Цветаева. Именно это и делает истинный художник: каждым своим произведением он отсылает читающего к истоку всего – к умыслу, который принадлежит не ему, а «высшему» началу. «Промежуточность» художника в этой цепочке становится особенно наглядной: «Творение, совершенством своим, отводит нас к творцу. Что же солнце, как не повод к Богу? Что же Фауст, как не повод к Гёте? Что же Гёте, как не повод к божеству? Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершится – Там. Где Гёте ставит точку – там только и начинается!» (СС4, 14–15)321.
Возможности художника не исчерпываются ни одним самым совершенным произведением, ибо его, художника, существование – залог бесконечных новых свершений, бесконечных приближений к новым умыслам: «Творец, это все завтрашние творения, всё Будущее, вся неизбывность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое – неучтимое – в неучтимости своей непобедимое: завтрашний день» (СС4, 14). В таком ви´дении иерархии понятий и ценностей – исток неприязни Цветаевой ко всякой абсолютизации текста, будь то эстетизм или формализм. «Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только умысел: то, что я хотел – и не смог» (СС4, 15), – настаивает она. «Дописывайте до конца, из жил бейтесь, чтобы дописать до конца, но если я, читая, этот конец почувствую, тогда – конец – Вам» (СС4, 14), – таков закон, представляющийся Цветаевой непреложным. «Почувствовать конец» значит ощутить полную автономность текста, обнаружить отсутствие у него истинной творческой родословной, т. е. связей с умыслами, попросту – признать его подделкой.
Если «небесные» покровители творчества руководят воплощением умысла, то «сокровищницею подобий» для поэта остается его земной опыт:
Для поэта самый страшный, самый злостный (и самый почетный!) враг – видимое. Враг, которого он одолеет только путем познания. Поработить видимое для служения незримому – вот жизнь поэта. Тебя, враг, со всеми твоими сокровищами, беру в рабы. И какое напряжение внешнего зрения нужно, чтобы незримое перевести на видимое. (Весь творческий процесс!) Как это видимое должно знать! Еще проще: поэт есть тот, кто должен знать все до точности. Он, который уже все знает? Другое знает. Зная незримое, не знает видимого, а видимое ему неустанно нужно для символов. «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss»322. Да, но нужно это Vergängliche знать, иначе мое подобие будет ложным. Видимое – цемент, ноги, на которых вещь стоит («Поэт о критике»; СС5, 284).
В прозе Цветаева додумывает то, чего не говорит в стихах: поэт обречен на познание видимого, т. е. жизни, дабы у него был язык (система образов), на который можно было бы перевести «умыслы», свое знание «невидимого». Соприкосновение же с земным миром чревато для поэта вовлечением в орбиту человеческих страстей.
Стихи 1923 года, входящие в «пастернаковский цикл», переформулируют концепцию собственной творческой реактивности, но мало меняют «земную сторону» личного мифа Цветаевой. Наличие у нее в новом мифе земного спутника, земной пары в ее земной жизни ничего не меняет. «Когда я думаю во времени, все исчез<ает>, все сразу невозможно, магия срока. А так – где‐то (без где), когда‐то (без когда) – о, все будет, сбудется» (МЦБП, 93), – так в обращенном к Пастернаку тетрадном фрагменте весны 1924 года Цветаева подытожит опыт прошедшего года. Но уже в мае 1923 года она вернет в свои стихи образ отрешенной Сивиллы, «парой» которой будет теперь однако не Феб-Аполлон (как в одном из стихотворений 1922 года), а безымянный «младенец». Стихотворение «Сивилла – младенцу» (17 мая 1923 года) – странная колыбельная, начинающаяся как плач и завершающаяся как гимн:
К груди моей,
Младенец, льни:
Рождение – паденье в дни.
С заоблачных нигдешних скал,
Младенец мой,
Как низко пал!
Ты духом был, ты прахом стал.
Плачь, маленький, о них и нас:
Рождение – паденье в час!
Плачь, маленький, и впредь, и вновь:
Рождение – паденье в кровь,
И в прах,
И в час…
<…>
Но встанешь! То, что в мире смертью
Названо – паденье в твердь.
Но узришь! То, что в мире – век
Смежение – рожденье в свет.
Из днесь —
В навек.
Как показала в своей книге О. Хейсти323, образ Сивиллы у Цветаевой обнаруживает черты сходства с Богородицей. В приведенном стихотворении это особенно очевидно благодаря появлению в нем младенца – адресата песни. Сивилла-Богородица иносказует младенцу-Христу его земную участь и утешает его тем, что «паденье в дни» не навсегда, что за ним придет иное рождение – «Из днесь – / В навек». Цветаева как будто возвращается к мистико-символистским идеям о нисхождении Бога в материю как смерти Бога, и о его освобождении от материи как воскресении.
Однако через три месяца Христос, близкий к уже предсказанному «рожденью в свет», вновь появляется в стихах Цветаевой. Но теперь рядом с ним другая женщина, и говорят они о другом. В стихотворениях о Магдалине и Христе (цикл «Магдалина» в «После России»)324, написанных в конце августа 1923 года, Цветаева впервые эксплицирует диалогизм всей лирической линии, связанной с Пастернаком, т. е. строит цикл как диалог героев. Первое стихотворение («Меж нами – десять заповедей…») – обращение Магдалины к Христу; третье («О путях твоих пытать не буду…») – ответ Христа Магдалине; короткое второе стихотворение, их разделяющее, написано от третьего лица. Оба участника диалога, каждый по‐своему, признаются друг другу в любви. Женский голос начинает с темы греховности этой любви и собственной греховности вообще. Мужской голос эту тему игнорирует совершенно. В уста Христа вкладывается полное эротической экспрессии признание в том, что «всё сбылось» в его земном пути благодаря встрече с ней, Магдалиной:
О путях твоих пытать не буду,
Милая! – ведь всё сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И – слез.
Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены маслá.
Я был наг, а ты меня волною
Тела – как стеною
Обнесла.
Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав…
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.
В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
– Мироносица! К чему мне миро,
Ты меня омыла
Как волна.
До этого «всё сбылось» Цветаева говорила сама себе и о себе в сентябрьском стихотворении 1922 года «Золото моих волос…» (СС2, 149), но слова эти имели там совсем иной смысл: достижение состояния внутренней гармонии и отрешенности. Весной 1924 года, как мы видели, слова «всё будет, сбудется» тоже связывались с некой вневременной реальностью, а не с земным событием. Чужой голос оттого, вероятно, и понадобился Цветаевой, чтобы мотивировать перемену смысла и контекста этих слов. Ее личному мифу, в котором земное чувство было либо снижено, либо приговорено к неосуществимости, этот новый смысл не соответствовал. Для слов об откровении земной любви Цветаева выбрала уста, с которыми не спорят: уста Христа.
Трудно усомниться, что замысел стихов о Магдалине и Христе связан с мыслями о Пастернаке. Однако между 26 августа, когда пишется стихотворение от имени Магдалины, и 31 августа325, когда пишется стихотворение от имени Христа, в жизни Цветаевой происходит большая перемена: начинается ее роман с Константином Родзевичем. Он совершенно затмевает летний эпистолярный роман с А. Бахрахом, в котором Цветаева более изживала свою тоску по молчащему Пастернаку. Стихотворение «О путях твоих пытать не буду…» фиксирует момент, когда автоцензура собственного мифа дает сбой, и Цветаева вкладывает в уста Христа то, что хотела бы услышать поверх и вопреки требованиям этого мифа: именно во встрече с земной любовью для ее Христа осуществляется смысл его земного посланничества. Прежде чем стать искупителем, он, посланный на землю человеком, познает предмет искупления. Эротическое переживание предстает как часть божественного умысла, которому Христос не может не быть покорным. «Так Бог приходит в жизнь женщин» (СТ, 256), – запишет Цветаева в октябре 1923 года о своей встрече с Родзевичем.
Концепция собственного выпадения из пола, которая определила столь многое в автомифологии Цветаевой после революции, по‐разному манифестировалась в прошедшие годы в ее творчестве: от декларативного пренебрежения всякой сексуальной моралью до провозглашения асексуальности как естественного для поэта состояния. Еще совсем недавно, в апреле 1923 года Цветаева записывала:
Пол в жизни людей – катастрофа. Во мне он начался очень рано, не полом пришел – облаком. И вот, постепенно, на протяжении лет, облако рассеялось: пол распылился.
Гроза не состоялась, пол просто-миновал. (Пронесло!)
Облаком пришел – и прошел (СТ, 133–134).
C парным мифом о себе и Пастернаке эта концепция уживалась легко: соединить их должна была, конечно, не «катастрофа пола». То переживание, которое входит в жизнь Цветаевой теперь, сразу воспринимается ею как потенциально разрушительное для всего ее личного мифа, и об этом она снова и снова пишет Родзевичу: «Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Всё любила, всё любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не умела с живым! Отсюда сознание: не-женщина, дух. Не жить – умереть» (ПР, 41–43). Сквозным мотивом в описаниях своего нового самоощущения становится мысль о возможности собственного «довоплощения»: «Ваше дело сделать меня женщиной и человеком, довоплотить меня» (ПР, 61).
Однако в творчество попадают не эти чувства, не мысли о человеческом счастье, а исполненное глубочайшего трагизма сознание несбыточности собственной надежды на счастье. Практически все стихи осени 1923 года таковы: и «Крик станций», и «Пражский рыцарь», и «Ночные места», и «Поезд жизни». Таково же написанное еще в середине сентября стихотворение «Последний моряк»:
О ты – из всех залинейных нот
Нижайшая! – Кончим распрю!
Как та чахоточная, что в ночь
Стонала: еще понравься!
Ломала руки, а рядом драк
Удары и клятв канаты.
(Спал разонравившийся моряк
И капала кровь на мя —
тую наволоку…)
А потом, вверх дном
Стакан, хрусталем и кровью
Смеясь… – и путала кровь с вином,
И путала смерть с любовью.
«Вам сон, мне – спех! Не присев, не спев —
И занавес! Завтра в лёжку!»
Как та чахоточная, что всех
Просила: еще немножко
Понравься!.. (Руки уже свежи,
Взор смутен, персты не гнутся…)
Как та с матросом – с тобой, о жизнь,
Торгуюсь: еще минутку
Понравься!..
Предсмертная «торговля» с жизнью о продлении еще на мгновение ее притягательной силы – таков здесь образ переживания земной любви. Разрушение прежнего мифа, которым чревато новое чувство, тоже оказывается смертоносным: «Поворот от смерти к жизни может быть смертелен, это не поворот, а падение, и, дойдя до дна, удар страшен. Боюсь, что или не научусь жить, или слишком научусь, тáк, что потом захочется, вернее: останется хотеть – только смерти» (ПР, 19). Из контекста письма понятно, что «смерть», о которой говорится в первом предложении – это метафора состояния отрешенности от земной жизни; «смерть» во втором предложении – это совершенно неметафорическая смерть, уход из жизни. Возврат к жизни чреват смертью: Эвридика не должна покидать пределов своего Аида. Любовь, начинающаяся как мечта о человеческом «довоплощении», превращается в решающий повод к последнему развоплощению. Во всяком случае, такой она предстает в творчестве:
Древняя тщета течет по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым!
К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль еще куда‐нибудь
Дальше! За предельные пределы
Станций! Понимаешь, что из тела
Вон – хочу! (В час тупящихся вежд
Разве выступаем – из одежд?)
…За потустороннюю границу:
К Стиксу!..
В действительности, происходит поразительная вещь: творчество оказывает решительное сопротивление биографии, отказываясь отклоняться от прежнего мифа. Ни слова о счастье не попадает в стихи, так что исследователи вплоть до недавней публикации писем Цветаевой к Родзевичу склонны были интерпретировать роман как не вполне взаимный, не очень‐то доверяя цветаевским словам из письма А. Бахраху: «Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви, не рассталась – оторвалáсь!» (СС6, 621). Между тем решение о расставании несомненно принадлежало именно Цветаевой. Тому были семейные причины, но непреодолимыми они сами по себе не были. Непреодолимыми их сделал личный миф, проявивший собственную независимость от жизненного опыта и тем самым доказавший свое для Цветаевой главенство, сопряженность со структурными особенностями ее личности. Дневниковая запись начала декабря 1923 года, сделанная еще до окончательного решения о расставании, уже давала этому решению последовательное истолкование:
Личная жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. в днях и местах) не удалась. Это надо понять и принять. Думаю – 30летний опыт (ибо не удалась сразу) достаточен. Причин несколько. Главная в том, что я – я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных – прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке. <…>
Психее (в жизни дней) остается одно: хождение по душам (по мукам). Я ничего не искала в жизни (вне-жизни мне всё было дано) кроме Эроса, не человека, а бога, и именно бога земной любви. Искала его через души.
Сейчас, после катастрофы нынешней осени, вся моя личная жизнь (на земле) отпадает. Ходить по душам и творить судьбы можно только втайне. Там, где это непосредственно переводится на «измену» (а в жизни дней оно – так) – и получается «измена». Жить «изменами» я не могу, явью – не могу, гласностью – не могу. Моя тайна с любовью – нарушена. Того бога – не найду. <…>
Неназванное – не существует в мире сем. Ошибка С.326 в том, что он захотел достоверности и, захотев, обратил мою жизнь под веками – в таковую (безобразную явь, очередное семейное безобразие). Я, никогда не изменявшая себе, стала изменницей по отношению к нему. <…>
Итак, другая жизнь: в творчестве. Холодная, бесплодная, безличная, отрешенная, – жизнь 80летнего Гёте.
Это: будучи ласковой, нежной, веселой, – живой из живых! – отзываясь на всё, разгорающейся от всего.
Рука – и тетрадь. И так – до смерти. (Когда?!) Книга за книгой. (Доколе?) Еще: менять города, дома, комнаты, укладываться, устраиваться, кипятить чай на спиртовке, разливать этот чай гостям. <…>
Никого не любить! Никому не писать стихов! И не по запрету, дарёная свобода – не свобода, моих прав мне никто не подарит (СТ, 270–272).
Несмотря на то, что в отрывке очень подробно объясняются семейно-этические мотивы приговора своей «личной жизни», сказанное в самом начале расставляет акценты иначе: главная причина произошедшего, по Цветаевой, «в том, что я – я». Ее разъяснения этой фразы можно суммировать так: в жизни нет свободы, необходимой для ее, Психеи, «хождения по душам» в поисках бога Эроса; жизнь не позволяет мыслить себя как творчество, т. е. как реальность, существующую «под веками»327; человек, привыкший к свободе, даваемой творчеством, не может существовать полноценно в несвободе, т. е. в «дарёной свободе», жизни328. Еще в конце сентября, в самый разгар романа Цветаева будет утверждать в письме к Бахраху: «…творчество и любовность несовместимы. Живешь или там или здесь» (СС6, 617). Это не означает, что поэт не может на земле любить; это, как ясно из контекста, означает, что «личная жизнь» в мире («любовность») и «безличная, отрешенная» жизнь в творчестве – две разные дороги, по которым нельзя идти одновременно. И, поставленный перед необходимостью выбора, поэт выберет творчество, т. е. сделает именно то, что требовал от героини в поэме «На красном коне» Всадник-Гений. Выбрав творчество, он «освободит Любовь», освободит ее для жизни «под веками». О том, насколько органичен этот миф для Цветаевой, свидетельствуют ее слова спустя много лет в наброске письма к Пастернаку: «Только расставшись с Р<одзевичем>, я почувствовала себя вправе его любить и любила напролет – пока не кончилось» (МЦБП, 535).
«12го декабря 1923 г. (среда) – конец моей жизни» (СТ, 272), – запишет Цветаева в рабочей тетради, фиксируя дату расставания. «За несколько дней до разлуки»329, согласно помете в беловой тетради стихов, будет написано короткое стихотворение о творческом смысле этого «конца жизни»:
Оставленного зала тронного
Столбы. (Оставленного – в срок!)
Крутые улицы наклонные
Стремительные как поток.
Чувств обезумевшая жимолость,
Уст обеспамятевший зов.
– Так я с груди твоей низринулась
В бушующее море строф.
В «Поэме горы»330 (январь 1924 года) свидетель и соучастник драмы героев – «гора» – будет уверять, что «все поэмы / Гор – пишутся – так» (СС3, 27), т. е. что трагический исход «хождения» поэта в жизнь – жестокое условие его творческих свершений. Та же «гора» становится орудием мести поэта за рану – «красную дыру»331, – наносимую ему жизнью. Обманно приняв сначала облик мещанского рая, гора в «непредугаданный календарем» час «взрывается», разрушая благополучие ее обитателей:
По упорствующим расселинам
Дачник, поздно схватясь, поймет:
Не пригорок, поросший семьями, —
Кратер, пущенный в оборот!
Виноградниками Везувия
Не сковать! Великана льном
Не связать! Одного безумия
Уст – достаточно, чтобы львом
Виноградники заворочались,
Лаву ненависти струя.
Будут девками ваши дочери
И поэтами – сыновья!
Дочь, ребенка расти внебрачного!
Сын, цыганкам себя страви!
Да не будет вам места злачного
Телеса, на моей крови!
Твéрже камня краеугольного,
Клятвой смертника на одре:
– Да не будет вам счастья дольнего,
Муравьи, на моей горе!
В час неведомый, в срок негаданный
Опознáете всей семьей
Непомерную и громадную
Гору заповеди седьмой!
Месть поэта жизни – разрушение ее этоса. Поэт воплощает трансгрессивность в самом общем смысле этого слова (экзистенциальную, эротическую, политическую), и именно идею трансгрессии – выхода за пределы, установленные обычаем, – он приносит в мир. Противоположность поэтического этоса – этосу божественных заповедей предстает как фундаментальная и непреодолимая. Тем не менее потенциал аналогии между поэтом как орудием «высших сил» и Спасителем как посланником Бога занимает Цветаеву. Содержательный план этой аналогии очевидно проблематичен: с одной стороны, поэт, подобно Христу, приносит в мир высшие законы и, главное, идею соотнесенности земного (тленного) с вечным; с другой же стороны, в отличие от Христа, поэт на деле не наполняет смыслом, а разрушает жизнь земную, по‐ницшеански расправляясь с ее моральными запретами.
Историю страстей-страданий Спасителя, принятых им в его земном посланничестве, Цветаевой уже не раз случалось проецировать на личность и земную судьбу поэта. «Было так ясно на лике его: / Царство мое не от мира сего» (СП, 189), – таким виделся Цветаевой в 1921 году Александр Блок. В 1923 году в цикле «Магдалина» за ликом Христа скрывался сначала Пастернак, но в третьем стихотворении, прокомментированном выше, эта маска уже очевидным образом примеривалась Цветаевой на себя. По-видимому, постепенно у Цветаевой начал складываться более масштабный замысел, в котором евангельскому сюжету отводилась роль кода, раскрывавшего смысл земного опыта поэта. В письме от 19 ноября 1922 года она просила Пастернака подарить ей на Рождество немецкую Библию (МЦБП, 27). Был ли сделан этот подарок, неясно, но весной 1923 года в письме к Роману Гулю Цветаева упоминала: «Единственное, что читаю сейчас – Библию. Какая тяжесть – Ветхий Завет! И какое освобождение – Новый!» (СС6, 528). «Освобождение» – ключевое понятие, которое Цветаева связывала с расставанием с землей и, в частности, прилагала к финалу истории Маруси в «Мóлодце» (МЦБП, 204). Вполне вероятно, что после «обнаружения» в евангельском сюжете точки опоры для развертывания собственной темы, Цветаева нуждалась лишь в жизненном толчке, который бы превратил потенциальное в реальное.
«Весь крестный путь, этапами» (СТ, 282), – так начинается в рабочей тетради Цветаевой план «Поэмы конца». Образ «горы-Голгофы» мелькает еще в тетрадных вариантах «Поэмы горы» (СТ, 274). Подробно проанализированный Т. Венцловой евангельский подтекст сюжета «Поэмы конца»332 вносит в этот рассказ о любовной разлуке второй, символический, план. Название поэмы – как первоначальное («Поэма последнего раза»), так и окончательное («Поэма конца») – фиксирует уже знакомую нам интерпретацию расставания с возлюбленным как конца «жизни в жизни». Тем самым оно коррелирует и с символическим планом повествования: сюжет поэмы не повторяет в точности, но содержит куда более важный намек на повторение этапов пути Христа на Голгофу. Концептуализация жизненной коллизии развивается в поэме в том же ключе, что и в лирике и в записях сентября – декабря 1923 года. Расставание героев происходит потому, что один хочет «любви без вымыслов» (как сказано в «Поэме горы»), «дома», несвободы земной жизни, другая – «освобождения», любви «под вéками», «отказа» от жизни: «Дом, это значит: и´з дому / В ночь» (СС3, 33), «Жизнь – это место, где жить нельзя: / Ев – рейский квартал» (СС3, 48). Диалог героев в пятой главке поэмы обнаруживает непримиримую противонаправленность их помыслов:
– Уедем. – А я: умрем,
Надеялась. Это проще!
Достаточно дешевизн:
Рифм, рельс, номеров, вокзалов…
– Любовь, это значит: жизнь.
– Нет, и´наче называлось
У древних…
– Итак? —
Лоскут
Платка в кулаке, как рыба.
– Так едемте? – Ваш маршрут?
Яд, рельсы, свинец – на выбор!
Смерть – и никаких устройств!
– Жизнь! – Как полководец римский,
Орлом озирая войск
Остаток.
– Тогда простимся.
Героиня зовет героя в «смерть», т. е. в ту же «лазорь» из прошлых цветаевских поэм. Однако герой неподвластен этому соблазну, и вместо совместного полета «в огнь синь» им оставлен лишь «совместный плач» (СС3, 50) перед разлукой. В равной мере можно сказать, что в этом диалоге терпит фиаско земная сила (воплощенная в герое), желающая «приручить» неземное существо (героиню)333. По мере приближения к горе, героиня обнаруживает растущую пропасть между собой и своим спутником: «Как ты уже далек!» (СС3, 43). Последнее восхождение героини на гору остается за кадром; в поэме есть лишь уход героя. По контрасту с финальными вознесениями «в лазурь» в других поэмах, герой «Поэмы конца» нисходит в свой низший, земной мир:
И в полые волны
Мглы – сгорблен и равн —
Бесследно, безмолвно —
Как тонет корабль.
Героине, таким образом, остается одинокий путь в предназначенном ей одной направлении.
Любопытно, что одновременно с работой над «Поэмой конца» Цветаева пробует найти форму для иронического комментария к переживаемой драме. Среди черновиков поэмы в ее рабочей тетради есть краткие наброски к неосуществленной пьесе. Они таковы:
Действ<ующие> лица: Пьеро, Пьеретта, Арлекин.
Пьеро – поэт, ищет правды и рифм. (Смыслов и слов для них, слов и смыслов к ним.)
Арлекин – ничего не ищет (находит).
Пьеретта: с Пьеро – Пьеретта, с Арлекином – Коломбина.
Дружба Арлекина и Пьеро. Равнодушие Арлекина к Пьеретте и ее равнодушие к нему.
–
Пьеретта в слезах. Письмо. – «Ищет рифм?» – Нет. «Он скоро придет». Он больше меня не любит. – Кто? – Не все ли равно, он. – Пьеро? – О!!! – Я его никогда не видела, я ему пишу все ночи. – Портрет вообража<емого> лица. Арлекин: да ведь это же – я!!! Такого второго нет.
–
Можно: она пишет незнакомцу, к<отор>ый ей ставит условием – год не видаться. Или: она став<ит> условием.
Переписка между Арл<екином> и Пьер<еттой>, не зная друг друга. Арлекин влюбл<ен> в незнакомку, Пьер<етта> – в незнакомца. В жизни – равнодушны, не узнают и не знают. Присутствие Пьеро делает их [нрзб.]. Плачущая Пьеретта – превращ<ается> в Коломбину – любовь. Ревность Арлекина. Найти трагедию Арлекина. «Верность неверных»334.
В этих отрывочных набросках много неясностей, но несомненно одно: Цветаева пытается сконструировать «треугольник», в котором один из героев получает некоторые характеристики Пастернака. При этом Пастернак то попадает под маску Пьеро вместе С. Эфроном, то под маску Арлекина вместе с Родзевичем. «Арлекин» – имя, которое Цветаева присваивает Родзевичу в одном из писем к нему (ПР, 41), а «дружба Арлекина и Пьеро» прямо соотносится с дружбой Родзевича и Эфрона. Однако то, что Пьеро – поэт, а также обыгрывание темы переписки между не знающими друг друга героями свидетельствует в пользу того, что под маску Пьеро попадает и Пастернак. Во втором отрывке Арлекин «обманно» выдает себя за Пьеро, и здесь Пьеро наиболее очевидно соотнесен с Пастернаком. В третьем же отрывке Цветаева неожиданно совмещает Родзевича и Пастернака под маской Арлекина: переписка героев и условие «год не видаться» – прямая аллюзия на назначение встречи с Пастернаком через два года в Веймаре335.
Наличие такого гротескного замысла, подсказанного, разумеется, блоковским «Балаганчиком», – важный контрапункт к пишущимся в это же время «Поэме конца» и пьесе «Ариадна». Важен он прежде всего потому, что наглядно показывает, какие ракурсы биографической темы Цветаева оставляет за рамками творчески актуального. Как ни соблазнительно облечь биографический материал в ироническую форму, творческого оправдания такому ходу Цветаева не обнаруживает. Замысел об Арлекине, Пьеро и Пьеретте, быть может, и остроумен, но с точки зрения личного мифа он абсолютно бессмыслен. Как бы отвечая на собственную попытку изобретения «треугольника», Цветаева вскоре после завершения «Поэмы конца» пишет цикл из трех стихотворений, который называет «Двое». Он возвращает пастернаковскую тему в лирику Цветаевой и закрепляет за Пастернаком особое право на «парность» с ней, исключающее любые «треугольники». Цикл также заново расставляет акценты в трактовке земных невстреч предназначенных друг другу «равных». Мир земной не в состоянии жить по законам «рифм» и «созвучий», «подобранных в мире том» (СП, 373). Он губит и разъединяет истинные «пары», но за это и сам расплачивается собственной гибелью («горящей Троей»). Максимум, что может быть дано «равным» в этом мире, – это «знание» того, кто твоя пара, кто «равносилен», «равномощен» и «равносущ» тебе (СП, 374–375).
1924 год между тем оказывается провозвестником большого перелома в творчестве Цветаевой. После почти сотни стихотворений, написанных в 1923 году, в первой половине 1924 года не было написано ни одного. Вся творческая энергия переключилась на «Поэму горы» и «Поэму конца», а также на разработку и частичное осуществление драматических замыслов – «Ариадна» (первоначальное название «Тезей») и «Федра». В первой половине июня «Поэма конца» была завершена, и тридцатым июня было помечено первое лирическое стихотворение этого года – «Есть рифмы в мире сем…», открывающее цикл «Двое». В ближайшую неделю было написано еще три стихотворения – и больше ни одного до начала ноября (если не считать набросков): Цветаева была занята работой над «Ариадной», чистовик которой, согласно записи в рабочей тетради, завершила 7 октября (СТ, 304). Затем в ноябре – декабре было написано еще полтора десятка стихотворений: казалось бы, лирическое русло восстанавливалось. Но это был лишь последний всплеск: в январе 1925 года было написано пять стихотворений, а за весь остаток года – еще шесть. Далее до начала 1930‐х годов Цветаева почти не писала лирики.
Драматические замыслы Цветаевой на античные сюжеты, из которых реализованными оказались две пьесы – «Ариадна» и «Федра»336, возникли осенью 1923 года. Если судить по количеству относящихся к ним подготовительных материалов в рабочих тетрадях, то можно было бы посчитать «Ариадну» и «Федру» центральными произведениями Цветаевой 1920‐х годов. Изложения вариантов фабулы, размышления над сюжетными ходами и мотивациями поступков героев, прозаические наброски разговоров между ними – всё это указывает на интенсивность поиска Цветаевой точки опоры для собственного мифа в избранных сюжетах. Однако именно по этим записям и наброскам нетрудно увидеть, что каждый из замыслов в конце концов превратился в целый пучок центробежных тем, потенциально не умещавшихся в одном тексте; многие из них порознь ушли в лирику и лирические поэмы, «обокрав», таким образом, еще не осуществленные драматические замыслы.
С одной стороны, интерес Цветаевой при работе над этими пьесами связан с категориями Рока, Судьбы, неземных сил, управляющих людскими жизнями. «Ведь шахматные же пешки! / И кто‐то играет в нас» (СС3, 43), – так прозвучала эта тема в «Поэме конца». В цветаевских пьесах в роли вершительницы судеб выступает Афродита, богиня любви, мстящая Тезею за то, что он покинул на острове Наксос свою возлюбленную – Ариадну, уступив ее Вакху-Дионису. Однако наряду с темой Рока, сначала явившегося Тезею в виде Диониса, а затем принявшего облик Афродиты, Цветаева начинает разрабатывать в рабочей тетради психологическую драму Тезея, ищет возможные мотивировки для его поступка, делая героя едва ли не философом, размышляющим о бренности земной любви. В результате в пьесе «Ариадна» разворачиваются сразу два конфликта. Первый можно описать как «любовный треугольник»: Тезей, любящий Ариадну, отрекается от своей любви и уступает свою возлюбленную Вакху-Дионису, который как бог может сделать Ариадну бессмертной. По черновым заметкам Цветаевой к пьесе видно, что главная дилемма для нее – толкование поступка Тезея. Уступает ли он Ариадну из малодушия или оттого, что осознает, что любовь бога, дарующая бессмертие, объективно и бесспорно выше того, что может дать Ариадне он, смертный? Диалог Тезея и Вакха в окончательном тексте пьесы свидетельствует о том, что Цветаева выбирает второй ответ на этот вопрос. На языке цветаевского личного мифа это означает, что высшая сила выигрывает битву за душу героини у силы земной: Ариадна теряет возлюбленного, но обретает бессмертие. Кроме того, через любовь к Ариадне самому Тезею открывается истина, что в Эросе заложено стремление к бессмертию, к преодолению границ этого мира, и оттого Эрос для смертного неизбывно трагичен. Но в пьесе есть и другой конфликт, связанный с темой мести Афродиты за покинутую Ариадну. Высшие мотивы поступка Тезея в рамках этого конфликта значения не имеют; в земной жизни ему отмщается предательство земной любви. Тем самым окончательно выясняется противоположность законов земных и небесных: оправдание героя по одним означает его осуждение по другим.
В «Федре»337, задуманной одновременно с «Ариадной», но завершенной лишь к концу 1927 года, мысль о том, что греховную страсть к пасынку вкладывает в сердце Федры Афродита, мстящая ее мужу – Тезею, заслонена психологической драмой страсти-страдания героини. Тема роковой мести богини лишь в финальном монологе Тезея вдруг выводится на первый план: все герои драмы, страстные и бесстрастные, оказываются без вины виноватыми, а безликое начало Эроса – неким универсальным орудием, с помощью которого боги сводят счеты с людьми. По-видимому, перспектива чисто эротического конфликта как раз и не устраивала Цветаеву, и длительность ее работы над «Федрой» была следствием поиска выходов за пределы любовной драмы. Поиск этот был долог и неудачен, однако Цветаева сочла «долгом чести» (МЦБП, 360) окончить пьесу. Перед последним этапом работы над «Федрой», в июле 1927 года, она, кажется, вдохновилась своеобразной параллелью к той истории, которую сама рассказывала, – легендой о Тристане и Изольде. О своем понимании последней она писала тогда Пастернаку:
Борис, ты когда‐нибудь читал Тристана и Изольду – в подлиннике: в пересказе, совершенно соответствующем всем тем разрозненным песням и повестям. – Самая безнравственная и правдивая вещь без виноватых, со сплошь-невинными, с обманутым Королем Марком, любящим Тристана и любимым Тристаном, с лжеклятвой Изольды, с пост<оянными> наруш<ениями> самых святых обетов, с – наконец! – женитьбой Тристана на другой Изольде (к<ак> буд<то> бы есть др<угая>!) – aux Blanches mains338, – из малодушия, из безнадежности, из, если хочешь, душевного расчета. И как из этого ничего не вышло, и как из всей любви ничего не вышло, п. ч. умерли врозь, она – в сознании измены Тристана (МЦБП, 359–360).
Несхожая по сюжетной канве, «Федра» у Цветаевой получилась именно такой «безнравственной и правдивой вещью, без виноватых, со сплошь невинными». «Федра сильна невинностью» (СТ, 305), – записывала она еще осенью 1924 года в заметках к плану драмы. Однако «невинность» всех решительно героев драмы, должно быть, и ослабила интерес Цветаевой к собственному замыслу: в нем не оказывалось места для «высшей силы» или героя, действующего в союзе с ней, т. е. ведающего, чтó творит. Таким героем предстал цветаевскому воображению в 1925 году легендарный Крысолов, надолго вытеснивший историю Федры из творческих планов автора.
Цветаева начала работу над поэмой «Крысолов»339 1 марта 1925 года, когда ее новорожденному сыну исполнился месяц. Она кратко записала в тетради фабулу одного из вариантов старинной немецкой легенды о том, как бургомистр города Гаммельна пообещал свою дочь в жены тому, кто избавит город от нашествия крыс; о том, как некий охотник-музыкант мелодией своей дудочки сумел увлечь всех крыс за пределы города; о том, как бургомистр не сдержал своего слова и отказался отдавать дочь за музыканта; и о том, как в отместку Крысолов игрой на дудочке увлек за собой из города и утопил в озере всех детей. Однако сквозь легендарную фабулу Цветаевой виделась совсем иная история:
Толкование:
Охотник – Дьявол – Соблазнитель – Поэзия.
Бургомистр – быт.
Дочка бургомистра – душа.
Крысы – земные заботы, от которых Охотник освобождает город. (?)
Быт не держит слова Dichtung340, Dichtung – мстит. Озеро – вроде Китеж-озера, на дне – Вечный Град, где дочка бургомистра будет вечно жить с Охотником.
Тот свет.
(Входят в опрокинутый город.) (СТ, 343)
В этом первом опыте вчитывания своего кода в легенду Цветаева еще не уверена в деталях. Однако идущая первой строкой синонимическая цепочка уже хорошо продумана, и можно не сомневаться, что именно она держит на себе весь замысел. Как до того в «Царь-Девице» и «Мóлодце», чужой сюжет предстает Цветаевой не данностью смысла, а лишь возможностью его, и свою задачу она видит в «раскрепощении» невидимой другим возможности.
«Лирическая сатира» (как определила Цветаева жанр своей поэмы) на город Гаммельн прямо продолжает тему города «мужей и жен», возникшего «на развалинах счастья» героев «Поэмы горы», – города, которому «в час неведомый, в срок негаданный» (СС3, 29) гора мстит разрушением его устоев. Эта мстящая, разрушающая сила явлена теперь в облике Крысолова, за которым для Цветаевой стоит «Дьявол – Соблазнитель – Поэзия». «Крысоловом» Цветаева берет своеобразный реванш после «Поэмы конца»: если в последней рассказывалось о том, как жизнь отнимает у поэта право на счастье, не отдавая в его власть земного возлюбленного, то в новой поэме уже поэзия отказывает жизни в праве на продолжение, отнимая у нее будущее – детей. Реванш берется и стилистически: авторская ирония равно распространяется на добродетели и пороки земных обитателей, легко обращает первые в последние и не оставляет камня на камне от устоев и «заповедей» человеческого общежития.
Актуально-политические мотивы, которые отмечали в «Крысолове» такие исследователи, как Е. Эткинд и К. Чепела, справедливо отнести уже к вторичным, возникающим по ходу реализации замысла341. Задумав сатиру на земную жизнь вообще, Цветаева оказалась перед творческой необходимостью наполнить эту условную конструкцию чем‐то конкретным и узнаваемым. Так, крысы из «земных забот» первоначального замысла превратились в большевиков, проходящих на глазах читателей стремительную эволюцию от революционеров к обывателям, но поддающихся затем романтическим соблазнам речей Крысолова о «лучшем мире», ждущем их впереди; жители Гаммельна предстали в виде шаржированных буржуа, напуганных нашествием крыс-революционеров, а затем, устами ратсгерров, рассуждающих о природе искусства, дабы «теоретически» обосновать отказ отдать в жены Крысолову дочь бургомистра. Современный политический и литературно-критический жаргон, наполнивший речь разных персонажей поэмы, не только оживил ее тон, но и усложнил замысел. Тема искусства как власти, источник которой внеположен миру земному, намеренно сталкивается Цветаевой с темой власти земной, не признающей права конкуренции со стороны искусства на «своей» территории. Чтобы объяснить Крысолову, что женитьба и земные радости не для него, Ратсгерр от Романтики манипулирует самой романтической идеологией:
– В городе Гаммельне вечных благ
Нет, хоть земных и густо.
Гения с Гаммельном – тот же брак,
Что соловья с капустой.
К Розе приписана соловью
Страсть. Изменив пенатам,
Над соловьем моим слезы лью,
А соловей – женатый!
<…>
Что не для лириков – Гименей,
Вам и ребенок скажет.
Остепенившийся соловей —
Недопустимый казус!
Коль небожители в царстве тел —
Ни лоскутка на дыры
Вам, ибо правильный был раздел
Благ при начале мира:
Нам – только видимый, вам же весь
Прочий (где несть болезни!)
Коль божество, в мясники не лезь,
Как в божества не лезем.
В этом риторическом упражнении оратор легко подменяет романтическую идею «надмирности» творческого начала идеей полной изолированности друг от друга мира земного («видимого») и мира духа и творчества. Таким образом, если Крысолов в поэме демонстрирует власть художника над душами земных обитателей (увод крыс, а затем увод детей), то бюргеры, прибегая к помощи художника в той мере, в какой она необходима для сохранения их земного благополучия (избавление от крыс), стремятся во всем прочем поставить заслон и власти художника, и самому его соприсутствию в одном с ними пространстве. Подарок, который они решают преподнести Крысолову за его услугу по избавлению города от крыс, – футляр для флейты, сделанный из папье-маше, – символизирует именно изгнание искусства из земного мира.
Крысолов получает важный урок: принимая сторону в социальном конфликте (бюргеров с крысами-большевиками), он не становится бенефициаром одержанной им в интересах бюргеров победы. Тема эфемерности надежд художника на то, что его прямое участие в делах земных будет признано и оценено земной властью, впервые заостряется Цветаевой столь отчетливо именно в «Крысолове», чтобы затем заново возникнуть в ее аналитической эссеистике 1930‐х годов. Земная жизнь, с крысами-большевиками или без них, остается враждебной художнику и цинично утилитарной по отношению к возможностям искусства. Но последнее слово в этом противостоянии Цветаева оставляет за искусством, чью власть бюргеры недооценивают. «Опрокинутый город», в который, по замыслу, входят Крысолов и его спутники-дети – отражение реального города в озере, а потому дно озера – небо. Однако это не небо простых смертных – добропорядочных бюргеров, а небо великого соблазна искусства – силы, творящей мир в состязании с Богом, а значит, ведущей свою родословную от первого богоборца – Дьявола.
«Крысолов» был закончен Цветаевой в ноябре 1925 года уже в Париже, куда она переехала 1 ноября. С этим переездом Цветаева связывала надежды на расширение литературных контактов, возможностей печататься, облегчение финансовой и бытовой стороны жизни семьи. С близящимся окончанием университета (конец 1925 года) у Сергея Эфрона заканчивалась и стипендия, которую чешское правительство предоставляло русским студентам, а его редакторская деятельность в пражском журнале «Своими путями» заработка приносила мало. Сама Цветаева получала в Чехии правительственное пособие для нуждающихся русских писателей. Однако этих доходов вместе с литературными гонорарами Цветаевой семье едва хватало на жизнь. Кроме того, Прага, оставаясь русским научным центром, так и не стала центром литературным. От Берлина эта функция быстро перешла к Парижу. Там находились лучшие силы, там издавались основные русские журналы и газеты, там собирались большие залы на литературных вечерах; там, наконец, была поистине интернациональная культурная среда, и Цветаева, как и многие русские эмигранты, надеялась на бóльшие возможности, которые контакты с этой средой дадут ей для устройства своих литературных дел342.
Планы отъезда в Париж Цветаева вынашивала с начала 1925 года: после рождения сына чувство полной изоляции в чешской деревне в совокупности с трудным деревенским бытом стали для нее угнетающими. Решимости ей придало то обстоятельство, что Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова, с которой Цветаева подружилась в 1924 году в Праге, была готова на первое время приютить ее с детьми в своей парижской квартире (С. Эфрон должен был задержаться в Праге по учебным делам). Кроме того, чешское пособие Цветаевой не прекращалось автоматически с ее отъездом из Праги. Прецеденты уже были: Бальмонт и Ремизов, например, получали деньги от чешского правительства, постоянно живя в Париже. Так же случилось и с Цветаевой (хотя летом 1926 года и возникла временная угроза прекращения выплат): она получала свое пособие до 1932 года, когда так называемая «русская акция» чешского правительства была полностью прекращена.
К моменту переезда Цветаевой в Париж процесс внутренней дезинтеграции в эмигрантском сообществе уже давал о себе знать. В частности, ряды русских читателей стремительно сокращались, издателям становилось все сложнее осуществлять свои проекты, а молодым поэтам и писателям – все труднее пробиваться на сжимающийся, подобно шагреневой коже, пятачок русской печати. Западное литературное и артистическое сообщество, бесспорной «столицей» которого был в это время Париж, жило совсем иными, чем русские эмигранты, идеологическими интересами. Кризис ценностей современного буржуазного общества становился все более значимой составляющей западной интеллектуальной жизни, что заставляло многих ее представителей увлеченно следить за ходом «небывалого эксперимента» в Советской России. Русские литераторы-эмигранты оказывались в их глазах либо представителями поверженного революцией буржуазного класса, либо просто выпавшими из истории неудачниками. Барьер, отделивший русских писателей-эмигрантов от их западных собратьев, был, таким образом, не только языковым, но и политико-интеллектуальным. Менее значимыми, по понятным причинам, оба эти барьера оказались для русских художников, музыкантов, кинорежиссеров и актеров, многие из которых сумели найти свою нишу в художественной и артистической жизни Европы и Америки. Русские же литераторы, за единичными исключениями, оставались аутсайдерами в местной культурной среде. Свою роль в этом сыграли иллюзии о краткосрочности изгнания и о собственной самодостаточности, которые слишком долго питало русское эмигрантское литературное сообщество. Так или иначе, к началу 1930‐х годов А. Л. Бем имел все основания назвать ситуацию русских интеллектуалов на Западе «эмигрантским гетто»343.
Однако литературные дискуссии, которые велись в середине 1920‐х годов, были еще далеки от понимания истинных масштабов исторической трагедии эмиграции. Активнее всего дебатировался в это время вопрос о сравнительных достоинствах внутрироссийской и эмигрантской литературы и литературной ситуации. Спектр точек зрения на эту проблему был очень широк: от утверждения, что эмиграция – единственная среда, в которой сохраняется и продолжается великая русская литературная традиция, до полного пренебрежения к достижениям и потенциалу литературы в эмиграции. Ближе всего в свой пражский период Цветаева сошлась с кругом журналов «Воля России» и «Своими путями»; оба издания активно обсуждали на своих страницах названную тему. Левоэсеровская «Воля России» отстаивала мысль, что костяк эмигрантской литературы сформирован теми, чья репутация сложилась уже в России, и что, невольно навязывая эмигрантской литературе свою «ретроградную» эстетику, ее «старейшины» создают ситуацию, при которой литературный процесс принимает форму стагнации. По разнообразию же и значительности литературных достижений эмиграция в принципе, по мнению журнала, не могла рассчитывать на успешную конкуренцию с метрополией просто в силу сравнительной немногочисленности истинно крупных дарований в ее среде (из поэтов обычно назывались Цветаева и Ходасевич)344. Журнал «Своими путями» занимал несколько иную позицию, прежде всего указывая на ненужность разграничения русской литературы на советскую и эмигрантскую, т. е. ратуя за ее осмысление как единого, цельного явления345. Ходасевич, активно участвовавший в этой дискуссии, в своем ответе на анкету журнала «Своими путями» указывал прежде всего на неуместность спора о сравнительных шансах на выживание той или иной ветви русской литературы:
Литература русская тяжко болеет и там, и здесь, хотя причины и проявления болезни различны, часто даже противуположны. Здесь – оторванность от России, там – насильственная в ней замкнутость; здесь – оскудевание языка, там – словесное фиглярство на областнической основе; здесь – отсутствие резонанса в обществе, там – полицейские приказы по литературе и «суд глупца», поминутно доносящийся до писателя в форме властного окрика; здесь – преувеличенный консерватизм, там – погоня за новшествами, неразборчивая и грубая, вызванная то невежеством, то борьбой из‐за куска хлеба; здесь – усталость и вялость, там – судорожная кипучесть, литературная лихорадка, схваченная на нэповском болоте. Литература русская рассечена надвое. Обеим половинам больно и обе страдают <…>. И бахвалиться им друг перед другом нечем. И высчитывать, которая задохнется скорее не надо, не хорошо, пошло. Бог даст – обе выживут346.
Тем не менее при случае сам Ходасевич не упускал возможности поставить понравившееся ему произведение русской эмигрантской словесности в пример литературе метрополии. Рецензию на цветаевского «Мóлодца» он заканчивал словами:
Восхваление внутрисоветской литературы и уверения в мертвенности литературы зарубежной стали в последнее время признаком хорошего тона и эмигрантского шика. Восхитительная сказка Марины Цветаевой, конечно, представляет собою явление, по значительности и красоте не имеющее во внутрисоветской поэзии ничего не только равного, но и хоть могущего по чести сравниться с нею347.
Свою позицию в этих внутриэмигрантских полемиках Цветаева с самого начала стремилась увязать с творческой идеологией, избегая политических деклараций. Отвечая на ту же, что и Ходасевич, анкету журнала «Своими путями», она делала акцент на метафизическом содержании темы «Россия и эмиграция»:
Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию – может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью. <…>
Кроме того, писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать (дышать).
Вопрос о возврате в Россию – лишь частность вопроса о любви-вблизи и любви-издалека, о любви-воочию – пусть искаженного до потери лика, и о любви в духе, восстанавливающей лик. О любви-невтерпеж, сплошь на уступках, и о любви нетерпящей – искажения того, что любишь (СС4, 618–619).
Эмиграция в цветаевском толковании представала еще одной версией «освобождения Любви», восхождения от «любви-вблизи» к «любви-издалека», – еще одной ступенью отрешения от земного. В важной для поэта области взаимоотношений с национальной культурой эмиграция создавала условия для воспетой в лирике Цветаевой «заочности», устраняла ту самую «великую ложь лицезренья», от которой отреклась ее Эвридика. Эмиграция оказывалась гарантом автономности творческой личности, гарантом свободы для жизни «под вéками». Впоследствии Цветаевой пришлось в полной мере оценить практическое, не мифологизированное измерение этой свободы – изоляцию «эмигрантского гетто», но и тогда ее метафизическая оценка ситуации эмиграции не изменилась.
Достаточно неприязненным было с самого начала отношение Цветаевой к всевозможным декларациям русского мессианизма, быстро занявшим в эмигрантском идейно-политическом дискурсе видное место. Так, в февральском письме 1923 года к Р. Гулю Цветаева не без сарказма замечала:
Ваше отвращение к Н. А. Б<ердяе>ву я вполне делю. <…> Чувствую, вообще, отвращение ко всякому национализму вне войны. – Словесничество. – В ушах навязло. Слóва «богоносец» не выношу, скриплю. «Русского Бога» топлю в Днепре, как идола.
Гуль, народность – тоже платье, м. б. – рубашка, м. б. – кожа, м. б. седьмая (последняя), но не душа.
Это все – лицемеры, нищие, пристроившиеся к Богу, Бог их не знает, он на них плюет. – Voilà348. —
–
В Праге проф<ессор> Новгородцев читает 20‐ую лекцию о крахе Зап<адной> культуры, и, доказав (!!!), указательный перст: Русь! Дух! – Это помешательство. – Что с ними со всеми? Если Русь – переходи границу, иди домой, плетись (СС6, 520–521).
Об отсутствии интереса к дискуссиям по поводу исторических судеб России Цветаева заявляла и публично. «Себе – отдельной комнаты и письменного стола. России – того, что она хочет» (СС4, 625), – так выглядело цветаевское новогоднее пожелание в ответе на анкету газеты «Последние новости» в канун 1926 года. Слегка видоизменив формулу пожелания, она столь же недвусмысленно отделила собственное бытие и дела истории в ответе на аналогичную новогоднюю анкету газеты «Возрождение»: «Для России – Бонапарта. Для себя – издателей» (СС4, 624). Собственно, Цветаева лишь подтверждала этим свое решительное расхождение с интересами исторического времени, выраженное в лирике еще до эмиграции. Творчество и вся совокупность необходимых для него условий (стол, комната, издатели, чье существование дает надежду на материальное выживание и, значит, продолжение творчества) отделялись Цветаевой от исторических перспектив общественной жизни, соучастие в которой ограничивалось нуждами устройства своих литературных дел.
В свою очередь, и такие аспекты взаимоотношений с литературным миром, как литературный успех, признание, осознаваясь как практически необходимые, так и не приобрели в глазах Цветаевой той ценности, чтобы задавать ориентиры творческому поведению: « – Слава! – Я тебя не хотела: / Я б тебя не сумела нести» (СП, 399). Подобные признания никакого поворота в авторской позиции не означали: предшествовавшие два-три года сравнительной известности не были ни годами очарования литературным миром, ни даже годами совершенно благополучных отношений с ним. Это были годы творчески столь насыщенные, что на рефлексию по поводу своего положения внутри литературного сообщества или по поводу взаимопонимания с ним у Цветаевой просто не оставалось времени. Ее самосознание как художника именно в эти годы достигло своей высшей отметки:
Ведь всё равно, когда я умру – всё будет напечатано! Каждая строчечка, как Аля говорит: каждая хвисточка! Так чего же ломаетесь (привередничаете)? Или вам вместо простой славы <пропуск в рукописи> солнца непременно нужна <пропуск в рукописи> сенсация смерти? Вместо меня у стола непременно – я на столе?
(И это напечатаете!) (СТ, 326)
Такими «мыслями о редакторах и редакциях» Цветаева начинала 1925 год. Собственное место на поэтическом Олимпе она уже определила, и склад ее личности был таков, что ни опровержения, ни подтверждения извне ничего в ее самооценке изменить не могли. «Главное в жизни писателей (во второй ее половине) – писать. Не: успех, а: успеть. Здесь (в эмиграции. – И. Ш.) мне писать не мешают, дважды не мешают, ибо мешает не только травля, но и слава (любовь)» («Поэт и время»; СС5, 334), – этот вывод Цветаева сформулировала в начале 1930‐х годов, но отсчет «второй половине» своей творческой жизни она фактически начала вскоре после переезда в Париж. Поскольку с этим переездом Цветаева связывала планы лучшего устройства своих литературных дел, казалось бы, она должна была прежде всего позаботиться о налаживании устойчивых отношений с литературным сообществом. Тем поразительнее, насколько иначе она повела себя в действительности.
Деятельные усилия Цветаевой по завоеванию русского Парижа в конце 1925 – начале 1926 годов имели прагматический смысл: никаким заработком, кроме литературного, она жить не могла. Поэтому она тщательно подготавливала почву для своего первого литературного вечера, сначала намеченного на декабрь, потом отложенного на январь, затем, уже в последний раз, перенесенного на 6 февраля. Михаил Осоргин (с которым она была знакома еще по послереволюционной Москве), несомненно по просьбе самой Цветаевой, выступил в газете «Последние новости» с обширной статьей «Поэт Марина Цветаева»349, в первом же абзаце которой рекламировался предстоящий вечер. Цветаева налаживала контакты с русскими культурными кругами Парижа, с журнальным и издательским миром. Видимо, уже в конце 1925 года существовал план издания нового литературного журнала, задуманного П. П. Сувчинским и Д. П. Святополком-Мирским, к активному сотрудничеству в котором Цветаева была приглашена. Позже к двум названным инициаторам журнала в качестве соредактора примкнул С. Эфрон. После обсуждения ряда вариантов редакторы выбрали названием для журнала «Версты» – по названию цветаевских сборников. Имя Цветаевой должно было значиться на обложке издания как имя ближайшего сотрудника и быть своеобразным знаменем того направления в современной поэзии, которое журнал намеревался пропагандировать. Можно было ожидать, что Цветаева вскоре окажется в центре одного из литературных «кружков»; во всяком случае, наличие в ее окружении двух критиков-редакторов – Марка Львовича Слонима («Воля России») и Дмитрия Петровича Святополка-Мирского (предстоящие «Версты»), апологетически относившихся к ее творчеству, предполагало такое развитие событий. Цветаева между тем вынашивала замысел большой статьи, за которую и принялась, как только парижский быт был налажен.
Это была статья «Поэт о критике», помеченная при публикации январем 1926 года, но в действительности дорабатывавшаяся Цветаевой еще в течение февраля и посланная ею в самом начале марта в только что возникший в Брюсселе журнал «Благонамеренный».
После «Светового ливня» и «Кедра», исключая мелкие прозаические заметки, Цветаева только раз обратилась к прозе всерьез. Это был очерк «Герой труда (Записи о Валерии Брюсове)», завершенный в августе 1925 года. Лишь отчасти посвященный Брюсову, «Герой труда» был попыткой очертить собственную раннюю литературную биографию и объяснить особенности своего пути в литературе и своей эстетической позиции. Вопросы понимания природы поэтического творчества также заняли в «Герое труда» существенное место, и в этом отношении очерк 1925 года подвел Цветаеву к тому комплексу размышлений, которому была посвящена новая статья.
Резкий полемический запал «Поэта о критике» бросался в глаза с первых же строк, а приложенный к статье «Цветник», составленный из откомментированных фрагментов критических статей Георгия Адамовича, делал ее беспрецедентным выпадом в краткой истории эмигрантской критики. Количество же авторов, которые были прямо (поименно) или косвенно задеты по ходу статьи, как будто указывало на прямое намерение Цветаевой спровоцировать литературный скандал. Едва ли это было так. Цветаева безусловно бралась за работу с сознанием собственного ранга, а значит – права в том числе и на резкость суждений. Однако предметом ее статьи были не «личности» и даже не эмигрантская критика как таковая. Несколько лет наблюдений за литературной жизнью и, в частности, несколько лет чтения рецензий на собственные произведения обнаружили для Цветаевой существование в критике некоторых системных представлений о литературном тексте, которые существенным образом не совпадали с ее собственными. Именно с этими представлениями о тексте, о механизмах его порождения и способах анализа Цветаева и взялась полемизировать. Разумеется, по ходу статьи она обращала внимание и на многое другое: на то, что рецензии в эмигрантских изданиях пишут зачастую дилетанты, что суждения о писателях «по политическому признаку» сделались повседневной нормой и т. д. Однако не это и даже не желание хлестко ответить Адамовичу руководило Цветаевой в первую очередь.
Двойственность смысла названия статьи – «поэт о критике как таковом (или о любом данном критике)» и «поэт о критике как роде письма» – конечно, была учтена Цветаевой. В обоих вариантах прочтения была важна и семантически однозначная часть – «поэт». Это, как показывал текст, было не просто обозначением идентичности пишущего, но характеристикой дискурса: Цветаева продолжала свою «дискурсивную революцию», начатую статьей о Пастернаке; она снова писала в несуществующем жанре, желала говорить о критике, оставаясь на дискурсивной территории поэзии. Это подчеркивалось и эпиграфами к статье. Эпиграф из Монтеня, впоследствии перекочевавший во второй раздел сборника «После России», говорил о принципиальной отрешенности автора-поэта от контакта со своими слушателями, о рассчитанности его речи на некую высшую верификацию и высший суд:
Souvienne vous de céluy à qui comme on demandoit à quoi faire il se peinoit si fort en un art qui ne pouvoit venir à la cognoissance de guère des gens, —
«J’en ay assez de peu», répondit-il. «J’en ay assez d’un. J’en ay assez de pas un»350 (СС5, 274).
Второй эпиграф, подписанный инициалами самой Цветаевой, давал возможное имя этой высшей инстанции, судящей труд поэта: «Критика: абсолютный слух на будущее» (СС5, 274). Хотя эта инстанция именовалась «будущим», сущность ее оказывалась экстемпоральной. Она противополагалась именно тем оценочным системам, которые навязывало художнику время. Одно из центральных в «Поэте о критике» сопоставлений – материального производства (мастерства сапожника) и духовного деяния (творчества поэта) – завершалось знаменательным утверждением:
…и сапог и стих уже при создании носят в себе абсолютное суждение о себе, то есть с самого начала – доброкачественны или недоброкачественны. Доброе же качество у обоих одно – неснашиваемость.
Совпасть с этим внутренним судом вещи над собою, опередить, в слухе, современников на сто, а то и на триста лет – вот задача критика, выполнимая только при наличии дара.
Кто, в критике, не провидец – ремесленник. С правом труда, но без права суда.
Критик: увидеть за триста лет и за тридевять земель (СС5, 280).
Представление об «абсолютном» характере эстетической ценности коррелировало со скептическим отношением Цветаевой к институциональным механизмам формирования оценок и репутаций. Сохранявшая для нее свою притягательность позиция пишущего человека, не признающего зависимости от литературных институций, подталкивала Цветаеву по‐своему концептуализировать связи внутри треугольника «писатель – критик – читатель». Ценность произведения искусства, по Цветаевой, неотъемлемо присуща, имманентна самому произведению, а не является продуктом его восприятия в определенное время и в определенном месте. Задача критика – в постижении этого «абсолютного суждения о себе», заключенного в каждом произведении. Таким образом, как и поэт, критик выводится Цветаевой за рамки истории, т. е. Времени. Оба они предстоят перед лицом Вечности: первый создает произведения, каждое из которых «несет в себе абсолютное суждение о себе», второй открывает содержащийся в произведении «внутренний суд вещи над собой». Цветаева тут же добавляет: «Всё вышесказанное отношу и к читателю. Критик: абсолютный читатель, взявшийся за перо» (СС5, 280). Присоединение третьего участника литературного процесса к первым двум, таким образом, довершает здание цветаевской литературной утопии.
Собственно полемическая сторона статьи Цветаевой связана по преимуществу с критикой инструментария литературного анализа – того, каким способом и в чем ищет критик смысл и ценность произведения искусства. Первую главку статьи Цветаева завершает упоминанием о двух тенденциях в критике, обе из которых основываются, с ее точки зрения, на ложном понимании природы творчества и потому никак не могут привести к познанию «внутреннего суда вещи над собой»:
Тупость так же разнородна и многообразна, как ум, и в ней, как в нем, все обратные. И узнаешь ее, как и ум, по тону.
Так, например, на утверждение: «никакого вдохновения, одно ремесло» («формальный метод», то есть видоизмененная базаровщина), – мгновенный отклик из того же лагеря (тупости): «никакого ремесла, одно вдохновение» («чистая поэзия», «искорка Божия», «настоящая музыка», – все общие места обывательщины). И поэт ничуть не предпочтет первого утверждения второму и второго – первому. Заведомая ложь на чужом языке (СС5, 278).
Утрирование, и даже шаржирование, двух условно-полярных точек зрения на механизмы творчества необходимо Цветаевой для того, чтобы подвести читателя к ключевому для автора выводу: проблема критики в том, что она оперирует языком, не адекватным сущности творчества, потому последнее и предстает в ней заведомо «оболганным». Действительно, в «Поэте о критике» идет прежде всего полемика о языке критики, и чтобы лучше понять ее, стоит пунктирно проследить формирование критического языка самой Цветаевой в предшествующие годы.
В «Световом ливне» Цветаева предварила разговор о сборнике Пастернака общим рассуждением «о проводах, несущих голос: о стихотворном его даре»:
Думаю, дар огромен, ибо сущность, огромная, доходит целиком. – Дар, очевидно, в уровень сущности, редчайший случай, чудо, ибо почти над каждой книгой поэта вздох: «С такими данными…» или (неизмеримо реже) – «А доходит же все‐таки что‐то»… Нет, от этого Бог Пастернака и Пастернак нас – помиловал. Единственен и неделим. Стих – формула его сущности. Божественное «иначе нельзя». Там, где может быть перевес «формы» над «содержанием», или «содержания» над «формой», – там сущность никогда и не ночевала. – И подражать ему нельзя: подражаемы только одежды. Нужно родиться вторым таким (СС5, 232).
Два понятия – дар и сущность – оказываются в центре цветаевской концепции творчества. Сущность есть нечто, принадлежащее духовно-душевному миру (опыту) человека и высвобождающееся (воплощающееся в слове) с помощью дара. От масштабов последнего зависит степень высвобождения сущности; от масштабов же сущности зависит ценность того, что высвобождается через дар. «Редчайшим случаем» является такой баланс дара и сущности, при котором огромная степень высвобождения сущности соседствует со столь же огромной ее духовной ценностью. «Равенство дара души и глагола – вот поэт» (СС5, 282), – в таком свернутом виде эта мысль перешла в статью «Поэт о критике»351.
Здесь уместно вспомнить, что именно невнимание к «сущности» или «сути» ее собственных произведений Цветаева не так давно ставила в вину критике. «Ни слова о внутренней сути» (СС6, 517), – был ее основной упрек Ю. Айхенвальду в связи с его рецензией на «Царь-Девицу». А благодаря А. Бахраха за его отзыв на «Ремесло», Цветаева писала:
Спасибо Вам сердечное и бесконечное за то, что не сделали из меня «style russe», не обманулись видимостью, что, единственный из всех за последнее время обо мне писавших, удостоили, наконец, внимания СУЩНОСТЬ, тó, что вне наций, тó, что над нацией, тó что (ибо все пройдет!) – пребудет (СС6, 558).
Именно сущности, таким образом, принадлежит бессмертие. Высвободившись с помощью дара, она становится новым, вне времени существующим, т. е. доступным всем временам феноменом – поэтическим текстом. У этого текста есть, впрочем, черты, выдающие его временнóе происхождение. Название этим чертам – язык. Осенью 1923 года в письме к Родзевичу Цветаева, говоря о книгах С. М. Волконского, отмечает:
Чувство, что это – на каком‐то другом языке – я´ писала. Вся разница – в языке. Язык – примета века. Суть – Вечное. И потому – полная возможность проникновения друг в друга, вопреки розни языка. Суть перекрикивает язык. То же, что Волконский на старомодно-изысканном своем, державинско-пушкинском языке – о деревьях, то же – о деревьях – у Пастернака и у меня – на языке своем. Очную ставку, – хотите? Каким чудом Волконский ПОНИМАЕТ и меня и Пастернака, он, никогда не читавший даже Бальмонта?! (ПР, 49)
Таким образом, поэтический язык, который современная Цветаевой критика видела главным объектом своего анализа, в ее понимании вовсе не заслуживал столь важного статуса. Будучи «приметой века», язык аккумулировал в себе время, но не сущность. Между тем действительно значимым объектом анализа могла быть лишь последняя, и убежденность в этом Цветаевой с годами только крепла. В 1928 году в письме к Л. О. Пастернаку, отцу поэта, она иронически комментировала критические клише, прочно приставшие к Пастернаку (как, впрочем, и не только к нему):
«Работа над словом»… «Слово как самоцель»… «самостоятельная жизнь слова»… – когда все его творчество, каждая строка – борьба за суть, когда кроме сути (естественно, для поэта, высвобождающейся через слово!) ему ни до чего нет дела. «Трудная форма»… Не трудная форма, а трудная суть. Его письма, написанные с лету, ничуть не легче его стихов (СС6, 296).
Понимание того места, которое отводилось поэтическому языку в цветаевской рефлексии о творчестве, проясняет главную полемическую линию «Поэта о критике». «Матерьял произведения искусства (не звук, не слово, не камень, не холст, а – дух) неучтим и бесконечен» (СС5, 280), – таков изначальный посыл Цветаевой. В силу этого ее претензии и к «критикам-дилетантам», и к «критикам-справочникам» (в той или иной мере воспринявшим формалистский жаргон), в конце концов, оказываются сходными: рассуждая о текстах, они рассуждают о слове или о языке, о его «новаторстве», «сложности» или «заумности», но не об «умыслах» и не о «духе», которые, по Цветаевой, и являются истинным стержнем творческого акта. Однако если эмигрантского «критика-дилетанта» Цветаевой достаточно уличить просто в неумелости, а критика, судящего «по политическому признаку», – в недобросовестности, то спор с критикой формальной оказывается для нее спором философским – спором о «матерьяле произведения искусства»:
Когда в ответ на мое данное, где форма, путем черновиков, преодолена, устранена, я слышу: десять а, восемнадцать о, ассонансы (профессиональных терминов не знаю), я думаю о том, что все мои черновые – даром, то есть опять всплыли, то есть созданное опять разрушено. Вскрытие, но вскрытие не трупа, а живого. Убийство (СС5, 294).
По мнению Цветаевой, методологические посылки формальной критики изначально ведут ее в ложном направлении, ибо она делает объектом своего анализа формы, присущие языку, который, по Цветаевой, есть лишь временная оболочка «сущности». «Сущность» же не разложима на составляющие, конгруэнтные языковым структурам. Черновик является полем единоборства поэта с языком за преодоление целым текста сопротивления языковых форм. Интересно в этой связи замечание Цветаевой, запомнившееся Борису Лосскому из разговоров с ней летом 1928 года:
Говорили мы как‐то относительно процесса стихо– и прозосложения с примерами о рукописях и даже корректурных листах поэтов и писателей, таких как Пушкин, Тургенев или Толстой (можно было бы прибавить и Бальзака), полных зачеркнутыми или переставленными словами и испещренных всякими поправками. На это она сказала (надеюсь, что не искажаю смысла), что именно путем многих переделок стихотворение приобретает характер целостности, как будто оно было создано d’un bloc352.
Процесс поэтического творчества, по Цветаевой, – процесс переложения. «Для поэта нет родного языка. Писать стихи и значит перелагать» (СС7, 66), – будет настаивать она в письме к Р. М. Рильке летом 1926 года. В ходе этого переложения пишущий, «путем черновиков», извлекает из бесконечных потенций языка единичность текста, «суть, предстающую стихом» (СС5, 285). Этот текст не авто-реферативен, он отсылает читающих не к своей языковой структуре, а к тому миру «умыслов» или «сущностей», из которого он явился, в котором уже давно был «точно и полностью написан» и теперь «только восстановлен» автором (СС5, 285) в доступных ему и читателю языковых формах. Отсюда – скепсис Цветаевой по отношению к инструментарию формальной критики:
Часто, читая какую‐нибудь рецензию о себе и узнавая из нее, что «формальная задача разрешена прекрасно», я задумываюсь: а была ли у меня «формальная задача». Г-жа Цветаева захотела дать народную сказку, введя в нее элементы те‐то и те‐то, и т. д.
Я (ударение на я) этого хотела? Нет. Этого я хотела? Нет, да нет же. <…>
Как я, поэт, т. е. человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь сутью, форма сама придет. И приходит. И не сомневаюсь, что будет приходить. Форма, требуемая данной сутью, подслушиваемая мною слог за слогом. <…> Суть и есть форма, – ребенок не может родиться иным! Постепенное выявление черт – вот рост человека и рост творческого произведения. Поэтому подходить «формально», т. е. рассказывать мне (и зачастую весьма неправильно) мои же черновики – нелепость. Раз есть беловик – черновик (форма) уже преодолен (СС5, 295–296).
Безусловно, в своей полемике Цветаева объединяет под общей маской воображаемого оппонента целый спектр современных критических тенденций, не вполне отделяя собственно формалистов от массовой критики, подхватившей у них некоторые термины и приемы анализа. Дело, однако, в том, что, с точки зрения занимаемой ею позиции, разница между одними и другими действительно несущественна. Цветаеву не устраивает филологический взгляд на текст, с ним она и борется и ему противопоставляет взгляд философский. В этом, как и в других элементах своей эстетики, Цветаева оказывается прямой продолжательницей символистской эстетической традиции, для которой центральным был вопрос о взаимоотношениях текста с внетекстовой реальностью, и противницей постсимволистских тенденций в эстетике, перенесших внимание на внутренние механизмы поэтики. «Мы вступили в борьбу с символистами, чтобы вырвать из их рук поэтику и, освободив ее от связи с их субъективными эстетическими и философскими теориями, вернуть ее на путь научного исследования фактов»353, – писал в том же 1926 году виднейший представитель формальной школы Б. Эйхенбаум. Он подчеркивал, что сам пафос «формального метода» состоял в «отказе от философских предпосылок, от психологических и эстетических истолкований», в «разрыве с философской эстетикой и с идеологическими теориями искусства»354. Цветаевой именно этот пафос был чужд. Критика, ограничивавшая себя анализом «учтимой» и «конечной» языковой ткани произведения, не могла, с ее точки зрения, продвинуться дальше бесполезных повторений уже «преодоленных» поэтом черновиков. Сама «объективно-научная» установка такой критики представлялась Цветаевой иллюзорной: «“Я знаю, как это делается…” Ты знаешь, как это делается, но ты не знаешь, как это выходит. Следовательно, ты все‐таки не знаешь, как это делается» (СС5, 277). Подводя итог своей полемике с ней, Цветаева иронически описывала ту роль, которую, по ее мнению, играет «формальная критика» в текущей литературе:
Критик-справочник, рассматривающий вещь с точки зрения формальной, минующий что и только видящий как, критик, в поэме не видящий ни героя, ни автора (вместо создано – «сделано») и отыгрывающийся словом «техника» – явление если не вредное, то бесполезное. Ибо: большим поэтам готовые формулы поэтики не нужны, а не больших – нам не нужно. Больше скажу: плодить маленьких поэтов грех и вред. Плодить чистых ремесленников поэзии – плодить глухих музыкантов. Провозгласив поэзию ремеслом, вы втягиваете в нее круги, для нее не созданные, всех тех, кому не дано. <…>
Поэтические школы (знак века!) – вульгаризация поэзии, а формальную критику я бы сравнила с «Советами молодым хозяйкам». Советы молодым хозяйкам – Советы молодым поэтам. Искусство – кухня. Только бы уменье! Но, для полной параллели, и там и здесь жестокий закон неравенства. Равно тому как неимущий не может вбить в ведро сливок двенадцати дюжин желтков, залив все это четвертной ямайского рома, так и неимущий в поэзии не может выколдовать из себя неимеющегося у него матерьяла – дара. Остаются пустые жесты над пустыми кастрюлями (СС5, 294–295).
Проблематика «Поэта о критике» не ограничивалась, однако, полемикой с критикой. В значительной части статья была посвящена, как мы видели несколько ранее (см. раздел «Поэзия Умыслов»), обобщению Цветаевой своего опыта как художника, начатому в «Герое труда». Подчинение художника «высшим силам» и одновременная необходимость «знать всё до точности» в мире земном делали творчество каждодневным испытанием способности художника к деперсонализации собственного опыта, – ради отделения сущностного от случайного в нем. «Выбор слов – это прежде всего выбор и очищение чувств, не все чувства годны´, о верьте, здесь тоже нужна работа! Работа над словом – работа над собой» (СС6, 603), – писала Цветаева Бахраху в сентябре 1923 года. В статье же она подчеркивала безусловную отделенность жизненных проявлений личности художника от выявления этой личности в акте творчества:
Скандальность личной жизни доброй половины поэтов – только очищение той жизни, чтобы там было чисто.
В жизни – сорно, в тетради чисто. В жизни – громко, в тетради – тихо. <…>
Так, воочию, опрокидывается общее место: в стихах все позволено. Нет, именно в стихах – ничего. В частной жизни – все (СС5, 288).
Цветаевская убежденность в зависимости художника от некой внешней инстанции «опрокидывала» и другое общее место: о том, что автор волен в выборе своей поэтической манеры. Напротив, полагала она, именно убежденность в отсутствии «своеволия» («Так ли? не уклоняюсь ли? не дозволяю ли себе – своеволия?» (СС5, 285)) являлась важным элементом самосознания для художника. Рост личности должен был проявляться в углублении и утончении слуховых способностей художника, делать доступными для него новые «умыслы» и сообщать его стихам новую сложность, обусловленную трудностями воплощения этих «умыслов» в языке. Изменения поэтической манеры, таким образом, являлись неизбежными следствиями роста, но не выбором самого поэта. Эта тема приобретала для Цветаевой тем бóльшую актуальность, чем очевиднее становилось расхождение ее новой поэтической манеры с ожиданиями критики:
Невежественный читатель за манеру принимает вещь, несравненно простейшую и сложнейшую – время. Ждать от поэта одинаковых стихов в 1915 г. и в 1925 г. то же самое, что ждать – от него же в 1915 г. и в 1925 г. одинаковых черт лица. <…>
Стихи от времени не хорошеют. Свежесть, непосредственность, доступность, beauté du diable355 поэтического лица уступают место – чертам. «Вы раньше лучше писали» – то, что я так часто слышу! – значит только, что читатель beauté du diable мою предпочитает – сущности. Красивость – прекрасности (СС5, 276–277).
Одновременно с тем, как писались эти строки Цветаевой, М. Осоргин в своей статье о ней отмечал, что «лучшее, что она написала, это драматические поэмы о Казанове («Феникс» и «Приключение») и “Фортуна”»356. К этому времени уже была опубликована «Поэма конца» и заканчивалось печатание «Крысолова» (он помещался отдельными главами на страницах «Воли России»), и отнюдь не незнание этих произведений стояло за оценкой Осоргина. «Ее стародавнюю книжку стихов в бархатном переплете я все же всегда предпочту весьма музыкальной нелепости “Крысолова”»357, – заявлял критик о своем предпочтении «Волшебного фонаря» новейшему творчеству Цветаевой. Явная доброжелательность всего тона статьи сообщала ей не предусмотренную автором печальную иронию. Таков был знаменательный пролог к парижскому периоду литературной биографии Цветаевой.
(1926–1941)
«Мой отрыв от жизни становится все непоправимей, – писала Цветаева Пастернаку в мае 1926 года. – Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью – обескровленной, а столько ее унося, что надоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня бы он заговорил, Аид!» (МЦБП, 205). Через полгода жизни во Франции Цветаева вновь увидела себя в образе обитательницы Аида. Однако теперь мера собственной чуждости этой обители поразила ее: не обескровленной, но переполненной кровью, ей, в отличие от Одиссея, чужой крови для оживления Аидовых призраков не понадобилось бы. Переживание разрыва связей с окружающим миром неожиданно сравнялось в своей трагичности с прежними переживаниями «возвратов» в мир из состояния отрешения. За последними в поэтологии Цветаевой закрепилась ясная функция в цикле лирического творчества: отрешение от земли – зов жизни – рана – поэтический отклик – вновь отрешение. Неизбежность «хождения в мир» была принята как часть личного мифа, ибо была обусловлена творческим предназначением. Резкое обмеление лирического русла в 1924–1925 годах не могло не повлечь за собой переворота во внутреннем самоощущении Цветаевой. В течение некоторого времени работа над крупными поэтическими замыслами, продолжавшими (и, как оказалось, завершавшими) ту поэтическую линию, что развивалась до этого в лирике, не позволяла Цветаевой в полной мере ощутить разительность надвинувшейся перемены. Но закончив в ноябре 1925 года поэму «Крысолов», она в ближайшие же месяцы не могла не осознать новой реальности – наступившей поэтической немоты. Ни хлопоты, связанные с переездом в Париж, ни заботы по устройству там своего поэтического вечера, ни даже увлеченная работа над «Поэтом о критике» не могли скрыть от Цветаевой того потрясающего факта, что цепь лирического круга разомкнулась, что «оклики» жизни уже не достигали ее слуха, не ранили и не вызывали поэтического отклика. «Лучшая победа», победа горы, способной удержать свою лавину, могла считаться обретенной. «Отрыв от жизни», окончательное внутреннее «переселение» в иное пространство – не об этом ли грезила Цветаева в 1923 году, на вершине своего лирического могущества? Однако «переселение», ставшее реальностью, заново, но уже с другой стороны, обнаруживало природу поэта как «человека промежутка»: заключение заживо в пределах Аида, прекращение жизни в слове вызывало ощущение противоестественной для поэта «нерастраты», состояние, грозившее теперь устоям «иного мира», чреватое призраком заговорившего Аида, опоенного поэтовой кровью.
Первая реакция Цветаевой на чувство лирического оскудения была яростной. Ответственность за него она адресовала непосредственно жизни, объединив и литературный успех и бытовую неустроенность в одну враждебную творчеству силу:
Тише, хвала!
Дверью не хлопать,
Слава!
Стола
Угол – и локоть.
Сутолочь, стоп!
Сердце, уймись!
Локоть – и лоб.
Локоть – и мысль.
Юность – любить,
Старость – погреться:
Некогда – быть,
Некуда деться.
Хоть бы закут —
Только без прочих!
Краны – текут,
Стулья – грохочут,
Рты говорят:
Кашей во рту
Благодарят
«За красоту».
Знали бы вы,
Ближний и дальний,
Как головы
Собственной жаль мне —
Бога в орде!
Степь – каземат —
Рай – это где
Не говорят!
Юбочник – скот —
Лавочник – частность!
Богом мне – тот
Будет, кто даст мне
– Не времени´!
Дни сочтены! —
Для тишины —
Четыре стены.
Написанное в январе 1926 года, во время работы над «Поэтом о критике», это стихотворение поражает резкостью интонации. Для Цветаевой, после 1917 года не знавшей, что такое бытовая устроенность, и писавшей, не имея «четырех стен для тишины», порой по два-три стихотворения в день, – жалоба на быт в стихах должна была быть знаком действительного потрясения. В письмах или дневниковых записях такие жалобы можно было встретить и прежде, но лирику они не задевали. Лишь испугом и растерянностью перед чувством творческого оскудения можно объяснить внезапную ярость поэтической речи Цветаевой, обрушивавшей затаенную боль на «ближних и дальних» – на тех, с кем ей приходилось делить заботы повседневного существования358, и на тех, кто своей «хвалой» как будто заглушал прежде так ясно звучавшее внутри нее слово.
Однако первая бурная реакция на эту внутреннюю перемену постепенно сменилась пониманием необратимости произошедшего перелома в творчестве. Осмысленное в понятиях прежней поэтологии, новое состояние представлялось безвозвратным «переселением» из жизни, о котором и сообщала Цветаева Пастернаку несколько месяцев спустя. И в стихотворении и в письме она первопричину своих переживаний – иссякновение лирической жилы – оставляла неназванной. Прошел год, прежде чем Цветаева решилась назвать происшедшее своим именем. В июле 1927 года, говоря о подготовленной ею к печати книге стихов («После России»), она писала в тетрадном наброске письма Пастернаку:
Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь – не должно делать. Вот и все. Там я все могу. Лирика (смеюсь, – точно поэмы не лирика! Но условимся, что лирика – отдельные стихи) служила мне верой и правдой, спасая меня, вывозя меня, топя меня и заводя каждый час по‐своему, по‐мóему. Я устала разрываться, разбиваться на куски Озириса. Каждая книга стихов – книга расставаний и разрываний, с фоминским / перстом Фомы в рану между одним стихотворением и другим. Кто же из нас не проставлял тирэ без западания сердца: А дальше? От поэмы к поэме промежутки реже, от раза до разу рана зарастает (МЦБП, 359).
В это время, когда уже была написана «Поэма воздуха», Цветаева почувствовала себя готовой произнести слова о последней лирической книге вслух. Стихотворение «Тише, хвала!..» так и осталось единственным, написанным в 1926 году, и далее, вплоть до цикла «Маяковскому» (1930), законченные лирические стихотворения в творчестве Цветаевой исчислялись единицами. И хотя ее поэтическое творчество не прерывалось, а чистая лирика в начале 1930‐х годов вновь вернулась в него, прежняя лирическая линия уже никогда не продолжилась. Из динамической хроники внутренних переживаний и философских настроений лирика Цветаевой превратилась в 1930‐е годы в инструмент фиксации устойчивых состояний и мировоззренческих констант. Между началом и окончанием работы над такими стихами могли проходить месяцы и даже годы, – они часто писались медленнее, чем проза, занявшая в 1930‐е годы в творчестве Цветаевой ведущее место. О том, что «иссякновение» в ней лирической жилы имело причины «глубинно-творческие», а не «стихотворные» (СТ, 438), Цветаева заговорила в 1931 году. Несомненно, она имела в виду разрушение самых основ прежней творческой реактивности, на которое еще невнятно ссылалась в письме 1926 года к Пастернаку.
1926 год в жизни Цветаевой оказался исполненным особого драматизма. И во внутренней биографии Цветаевой, и в ее литературной репутации в 1926 году произошли крупные сдвиги. При этом трудно найти другой период в цветаевской биографии, когда бы ее творческое состояние и литературная репутация имели меньшее касательство друг к другу. Когда парижская публика приветствовала Цветаеву как первого поэта эмиграции, она была погружена в серьезный творческий кризис и имела все основания тяготиться шумом собственной славы; когда ее имя сделалось мишенью газетно-журнальных полемик, испытывавших на прочность только что завоеванную репутацию, в ее жизни и в ее тетрадях уже совершались события бесконечно далекие тому, что яростно обсуждалось на страницах периодической печати представителями различных литературно-политических лагерей.
Сопровождавшие переезд в Париж усилия Цветаевой по завоеванию внимания эмигрантского литературного сообщества увенчались успехом. Яркое свидетельство этому оставил Модест Гофман, так описывавший первый цветаевский вечер в Париже:
6‐го февраля в Париже, в помещении клуба молодых поэтов, состоялся вечер Марины Цветаевой. Еще недавно считавшаяся среди вторых имен, полуимен современной поэзии, Марина Цветаева стала за последнее время не только одним из самых крупных имен, но бесспорно самым крупным именем. Ее вечер является лишним подтверждением ее мгновенно возросшей популярности, ее модности: за четыре года в Париже мне еще не удавалось видеть такого множества народу, такой толпы, которая пришла бы послушать современного поэта; еще задолго до начала вечера не только большое помещение капеллы и хоры были переполнены, но и в проходах происходила такая давка, что невозможно было продвигаться359.
Менее доброжелательный, но признававший, что «победителей не судят», Георгий Адамович свидетельствовал, что «“принимали” поэтессу восторженно» и что «под конец ей, как Шаляпину, кричали, что читать, и она улыбаясь исполняла заказы»360. Это прежде всего означало, что поэзия Цветаевой сделалась достаточно известной, – как, впрочем, и то, что вечер был действительно хорошо подготовлен. Успех вечера открывал ей «зеленую улицу» в устройстве своих литературных дел в Париже. Ему же Цветаева была обязана тем, что ее имя замелькало на страницах периодической печати с особенной частотой: ни в каком другом году о Цветаевой не писалось так много, как в 1926‐ом.
Именно в это время в центре внимания критики впервые оказалось творчество Цветаевой периода эмиграции: количество публикаций «новой» Цветаевой достигло наконец той критической массы, которая отодвинула для критиков в прошлое предыдущий период ее творчества.
Свою рецензию на поэму «Крысолов» Д. П. Святополк-Мирский предварил пространным вступлением:
На тех, кто любил Марину Цветаеву за «Стихи к Блоку», «Психею», «Фортуну», последние ее поэмы, написанные за границей, производят в большинстве случаев впечатление странное и неприятное. Оборот, принятый ее творчеством, раздражает и разочаровывает их – они чувствуют себя обманутыми. Они жалуются на «непонятность» и «надуманность» этих новых стихов, и с сожалением вспоминают о «простоте» и «непосредственности» прежних. И несомненно, что после «Ремесла» (или, вернее, начиная с «Ремесла») то, что можно назвать творческой передачей, значительно осложнилось у Цветаевой и приняло формы настолько новые и необычайные, что прежняя установка читательского восприятия для них уже не годится. Всякое восприятие писателя читателем зависит от соответствия читательского представления о поэте его действительному существу. И так как это существо «всегда течет», читательское представление о нем должно тоже постоянно применяться к каждому его повороту или терять возможность его воспринимать. История каждого «романа» писателя с читателем полна таких разрывов, – за которыми не всегда следуют сближения. И чем сильнее была читательская связь с прежним писателем, тем труднее, тем даже безнадежнее, возобновление ее с писателем изменившимся. <…> Так и с Мариной Цветаевой – трудно нащупать то единство, которое связало бы «Фортуну» и «Конец Казановы» с «Поэмой Конца» и «Крысоловом»361.
Желая определить природу этого трудно обнаружимого единства, критик признавал, что оно заключается «не столько в стиле и форме, сколько в том, что (если бы мы не боялись так напомнить о Белинском и Н. И. Карееве) мы бы до сих пор называли миросозерцанием»362.
Проблема была обозначена Мирским очень точно. Если какое‐то время назад критику более всего беспокоила невозможность определить литературную родословную Цветаевой, то теперь эту тему вытеснило на второй план ощущение масштабов эволюции, которую претерпело цветаевское творчество за послереволюционные годы. Кто‐то из критиков категорически объявил о непонятности и неприемлемости для них новой поэтической манеры Цветаевой. Однако и сторонники этой новой манеры скорее увлеклись ее «пропагандой», чем поиском «формулы единства» цветаевского творчества или же «формулы пути», проделанного поэтом.
Если вокруг «Мóлодца» полемики не возникло, и критические мнения о нем составили лишь серию монологов363, то «Поэму конца» ждала иная участь, – пожалуй, полемика 1926 года вокруг творчества Цветаевой с этой поэмы и началась. Прологом к полемике послужила рецензия Ю. Айхенвальда, появившаяся еще в декабре 1925 года. Говоря о достойных внимания произведениях, напечатанных на страницах сборника Союза русских писателей в Чехословакии «Ковчег», критик замечал:
К сожалению, <…> надо пройти мимо «Поэмы конца» Марины Цветаевой, – поэмы, которой, по крайней мере, пишущий эти строки просто не понял; думается, однако, что и всякий другой будет ее не столько читать, сколько разгадывать, и даже если он окажется счастливее и догадливее нас, то свое счастье он купит ценой больших умственных усилий364.
«Айхенвальд в “Руле” опять “ничего не понял”» (СС7, 30), – раздраженно комментировала этот пассаж Цветаева в письме к Дмитрию Шаховскому. «Опять» относилось к повторению критиком тех же сентенций, которые за полгода до того были им высказаны по поводу поэмы «Мóлодец»365. Это повторное пренебрежение «умственным усилием» стóило Айхенвальду специального упоминания на страницах «Поэта о критике». Его суждение совпало по сути с куда более враждебной сентенцией другого автора, совсем далекого от модернистского круга, Владимира Даватца. Тот характеризовал «Поэму конца» как «набор слов и издевательство над читателем»366. Именно полемика вокруг экспериментальной эстетики определила первоначальную поляризацию точек зрения на творчество Цветаевой в 1926 году. Глеб Струве, ссылаясь на суждение Даватца о «Поэме конца», замечал:
Недавно я прочел в одном отзыве, что эта поэма – не больше как простой набор слов. Очевидно тот, кто так написал, не вчитался как следует в поэму. Это произведение нелегкое, дающееся в руки не сразу. Когда прочтешь его по первому разу, оно лишь захватывает, покоряет своим ритмом. Но вчитываясь и перечитывая (а я перечел ее пять раз), вы начинаете чувствовать его лирическую напряженность, больше того, – его драматическую насыщенность. <…> Конечно, многим читателям приемы Цветаевой могут показаться странными, и, поддаваясь первому впечатлению, они тоже решат, что это – набор слов. Приемы эти – глагольная скупость, местами полное отсутствие глаголов, придающее особую динамичность и напряженность поэме, частые элипсизмы, требующие некоторого усилия читательской мысли, смелые и необыкновенно удачные enjambements, и над всем – все себе покоряющий, волнующий и увлекающий ритм367.
Черты цветаевской поэтики, затруднявшие понимание поэмы, были названы критиком очень точно, однако для «консервативной волны», оформившейся в эмигрантской литературе и критике к середине 1920‐х годов, неприятие экспериментальной поэтики становилось фактором идейного и эстетического самоопределения, во всяком случае – активно использовалось в этом качестве в полемиках.
Вообще идеология литературного консерватизма стремительно набирала в это время силу и в России, и в эмиграции. Она основывалась на постулировании принципиальной неисчерпаемости, а потому достаточности «традиционной» поэтической и стилистической формы, на убежденности в беспочвенности самой претензии новой стилистики творить смыслы, недоступные стилистике старой. Такую логику продемонстрировал Г. Адамович в своем отзыве на «Мóлодца»:
Сказка Цветаевой написана языком не разговорным, не литературным или книжным, а «народным». Я отдаю должное изобретательности Цветаевой, если она изобрела большинство встречающихся в ее сказке оборотов и выражений. Я преклоняюсь перед ее знанием русского языка, если она все эти речения взяла из обихода, а не выдумала. Не берусь судить, какое из двух предположений правильное. Но с уверенностью я говорю: насколько наш обыкновенный, простой, развенчанный и оклеветанный «литературный» язык богаче, сильнее, выразительнее цветаевского волапюка! Сколько возможностей дает обыкновенный русский синтаксис, хотя бы в объеме учебника Смирновского, по сравнению с монотонно-восклицательным стилем Цветаевой368.
Не все критики высказывались с такой прямотой, как Адамович, однако он выражал нечто большее, чем личный взгляд. Дух эксперимента и новаторства, царивший в русской поэзии на протяжении уже четверти века, начинал уступать естественной в историко-литературном процессе реакции (во внеоценочном смысле этого слова). Она казалась оправданной хотя бы уже потому, что значительное число новаторских начинаний и экспериментов, промелькнувших за это время, заставляло с большой долей скепсиса относиться к каждому новому. Из этого скепсиса вырастало отчуждение от самого духа эксперимента, духа поиска новой выразительности. На уровне критической риторики такое отчуждение оформлялось в утверждения о том, что лингвистическая и/или стилистическая нетрадиционность есть прежде всего прихоть и каприз. Подобно Адамовичу, даже не желая разбираться, изобретены ли новшества автором или принадлежат языковому обиходу, литературные консерваторы «с уверенностью говорили», что эти новшества гораздо хуже отточенных традицией стилистических норм. Само по себе это противостояние «консерватизма» и «новаторства» было, конечно, тривиально. Но, как и в любую другую эпоху, инвариантная ситуация литературной полемики осложнялась в это время в русском Париже своими неповторимыми нюансами.
К середине 1920‐х годов русская эмигрантская литература освоилась со своим статусом вполне автономного по отношению к литературе метрополии института. Более того, однажды ощутив себя таковым, она, по законам существования всякого социального института, стремилась закрепить свою автономность и цельность, ясно очертив границу между «своим» и «чужим». Иными словами, граница, существовавшая на карте мира, нуждалась в литературном (или культурном) эквиваленте, тем более что с внутренней точки зрения цельность русской диаспоры не определялась географическими границами (в отличие от цельности государства, называвшегося с недавнего времени СССР). Деление русской литературы на эмигрантскую и советскую по признаку места жительства того или иного писателя, таким образом, именно с эмигрантской точки зрения должно было представляться недостаточным. Восполнять отсутствие собственной географической границы приходилось усилением границы политико-эстетической. Для того, чтобы определить себя не в терминах «мы – есть всё, что не они», а в терминах «мы – есть то‐то, причем никто другой этим же не является», лидеры и идеологи эмигрантского культурного сообщества стремились отвергнуть в современной эмигрантской словесности всё, что явно совпадало с наиболее заметными тенденциями в литературе метрополии. Пастернак и Бунин писали на одном языке, но для идеологов эмигрантской культурной автономии они уже не могли быть представителями одной литературы. Литература эмиграции должна была сконструировать свое «направление» в противовес «направлению»369 литературы метрополии, – иначе в чем бы могла состоять автономность первой по отношению к последней перед лицом истории?
Далее уже следовал ряд аберраций. «Направлением», которое должна была поддерживать эмигрантская словесность, было «явочным порядком» утверждено то, за которое представительствовало старшее поколение. Это были литераторы с уже сложившимися в России прочными репутациями, благодаря чему в профессиональной иерархии эмиграции им было обеспечено место на вершине. Представляемые ими литературные школы (а это могли быть весьма далекие друг другу эстетически символисты и реалисты) были идеологизированы в новом контексте – как не запятнанные эпохой революционного хаоса, ибо сложившиеся до него, а значит (что было очередной аберрацией), представлявшие ту лучшую Россию, сохранением культурных традиций которой и определилась миссия эмиграции. На практике получалось, что старшее поколение выдвинуло в качестве главной идеологемы «сохранение себя» и с соответствующими мерками подходило к творчеству поколения более молодого. Если бы речь шла о литературной жизни в естественных условиях, то у подобных амбиций был бы естественный исход: постепенное угасание. Но условия были именно неестественными. Пережив кратковременный взлет в начале 1920‐х годов, эмигрантская литература существовала далее на постоянно сужающейся территории, издательской и читательской, причем сужение происходило куда быстрее, чем старшее поколение сходило со сцены. Таким образом, тенденциям, отличным от консервативной, было все труднее сохранять свою нишу. Представители молодого поколения, не продолжавшие традицию «старших», оказывались на обочине литературы, выбраться откуда не могли рассчитывать при своей жизни, а скорее всего – и после смерти.
В такой ситуации ореол «самого крупного имени» в эмигрантской поэзии, окруживший Цветаеву при ее появлении в Париже, поставил под вопрос складывавшуюся в умах «старших» концепцию «культурной автономии» эмигрантской литературы. Цветаева явилась уже с репутацией крупнейшего поэта, хоть и вспыхнувшей как бы вдруг, но неуничтожимой. О том, что ее литературный путь довольно долог, а, следовательно, и успех не может считаться скороспелым, она напомнила, опубликовав очерк «Герой труда (Записи о Валерии Брюсове)» в конце 1925 года на страницах «Воли России»: воспоминаниями о недавно скончавшемся поэте Цветаева исподволь вычертила историю своего пути в литературе. При этом репутация Цветаевой как ведущего поэта сложилась именно в годы эмиграции, когда, как полагали «старшие» литераторы, совсем иное «направление» должно было побеждать на эмигрантской литературной сцене.
Итак, с одной стороны, при всей независимости ее голоса, Цветаева идентифицировалась читателями с «новаторской» линией в современной поэзии, которая была богаче представлена именно в текущей советской литературе и более всего связывалась с именами Пастернака и Маяковского. С другой же стороны, Цветаева не давала оснований быть заподозренной в политической просоветскости: многие ее «белогвардейские» стихи были уже напечатаны, а опубликованный в конце 1925 года в «Современных записках» и благосклонно встреченный критикой очерк «Мои службы» определенно свидетельствовал о глубокой неприязни автора к политическим реалиям новой России. Таким образом, Цветаева оказывалась живым опровержением и идеи взаимосвязи поэтики с политикой и самой мысли о существовании двух русских литератур – эмигрантской и советской. Впоследствии Цветаева объясняла свое расхождение с эмиграцией именно тем, что она была «не-эмигрантом», что «по духу, по воздуху и по размаху» (СТ, 437) принадлежала литературе метрополии. В конце 1932 – начала 1933 года в тетрадном наброске письма к Исааку Бабелю, находившемуся тогда в Париже, она называла себя «единственным не-эмигрантским поэтом эмиграции», «единственным тамошним – здесь»370. Будучи продуктом литературных полемик середины 1920‐х годов, эта точка зрения была усвоена Цветаевой как «маркер» ее особости в эмигрантской словесности. По прошествии времени очевидно, что сама автономность русской эмигрантской литературы была лишь умозрительным конструктом, а предлагавшийся эстетический критерий «принадлежности» к эмигрантской словесности – в ситуации сокращения издательского и читательского спроса – был еще и инструментом ограничения доступа представителей иных тенденций на литературный рынок. В том, что экспериментальное направление было интерпретировано старшим поколением литературной эмиграции как «советское», крылось не только зерно искусственной консервации предреволюционных литературных тенденций в эмигрантской словесности, но и зерно политического «осовечивания» эмигрантской литературной молодежи. Те из молодых авторов, кто не видел себя продолжателями тенденций, представленных «старшими» литераторами, невольно усваивали представление о себе то ли как об «отступниках» от эмиграции, то ли как о «пособниках» большевиков. Политическое отступничество вполне могло начинаться как эстетическое расхождение.
То, что «новаторская» линия была шире представлена в текущей литературе Советской России, разумеется, было не просто случайностью. Во-первых, ее развивало более молодое поколение литераторов, которое не столь охотно делало выбор в пользу эмиграции. Во-вторых, дух эстетической революционности, присутствовавший в «новаторской» словесности, на первых порах охотно идентифицировался с духом революционности политической. Тем не менее новая советская номенклатура довольно быстро открестилась от такого родства, и тот же эстетический консерватизм, который эмиграция полагала «своим», с середины 1920‐х годов успешно вытеснял на обочину литературных экспериментаторов в Советской России. Говоря объективно, победа эстетического консерватизма и здесь, и там была прежде всего победой демократического вкуса, а не политической линии, – победой массового читателя, который «в вещах художества современен поколению предыдущему» (СС5, 335), как заметила Цветаева в «Поэте и времени» (1932). В эмиграции победа эта облегчалась тем, что абсолютное большинство редакторов газет и журналов здесь принадлежало к старшему поколению – причем даже не литераторов, а политиков, – литературные пристрастия их чаще всего за пределы реализма и классического стиха XIX века вообще не выходили. Не менее важным было и то, что быстрее всего исчезал в эмиграции молодой читатель – единственная реальная надежда тех авторов, которые представляли «новаторскую» тенденцию в литературе.
Наиболее известные из «старших» литераторов в эмиграции до 1926 года никак не откликались на творчество Цветаевой. Если обратить внимание на то, чьими руками была создана ее популярность, то картина окажется парадоксальной. В 1923 году наиболее содержательные рецензии на «Ремесло» были написаны А. Бахрахом, Г. Струве и В. Лурье – начинающими литераторами без определенной репутации. Теперь, в конце 1925 – начале 1926 года на «Поэму конца» приветственно откликнулись, кроме уже упомянутого Г. Струве, Даниил Резников и Дмитрий Шаховской – такие же начинающие литераторы, ничем пока не знаменитые. Правда, были еще Г. Адамович и В. Ходасевич, влиятельные в Париже критики, внимательно следившие в последние годы за творчеством Цветаевой. Но первый, невзирая на реверансы в сторону «бесспорной талантливости» Цветаевой, все чаще был склонен отзываться о ней негативно, а второй, пожалуй, уже начал менять свое мнение в противоположном направлении, но пока успел благожелательно отозваться только об одном произведении Цветаевой – поэме «Мóлодец». Наконец, были еще два критика – М. Слоним и Д. Святополк-Мирский. От первого как от ведущего критика левоэсеровской «Воли России» ничего другого и не ждали, кроме прославления тех тенденций в эмигрантской словесности, которые смыкались с литературой метрополии. «Воля России» с самого начала дала понять, что претензии эмиграции на сохранение какой‐то особой русской литературной традиции считает абсурдными, и была к 1926 году единственным журналом, в котором регулярно печатались молодые безвестные авторы, не связывавшие себя творчески с поколением «старших» в эмиграции. Слоним время от времени упоминал Цветаеву в своих обзорных статьях, но главное – печатал ее без ограничений на страницах журнала. Имя Цветаевой исподволь помещалось в один круг с литературной молодежью, которой покровительствовал журнал и которая интуитивно ощущала, что репутация Цветаевой и ее, молодежи, шанс на литературное выживание – вещи взаимосвязанные. Ставка была сделана серьезная, и усилия целой группы молодых литераторов достигли цели: Цветаева стала на какое‐то время не только кумиром нового поколения, но и знаменем всей эмигрантской поэзии. Устами Д. Резникова в начале 1926 года было заявлено, что «Марина Цветаева больше, чем кто‐либо, ждет серьезного критика», который бы смог проникнуть во «внутреннюю, идейную связь» ее произведений друг с другом; «разбор отдельных вещей М. Цветаевой», которым занималась критика прежде, объявлялся «занятием в значительной мере праздным», ибо не давал шанса постичь логику «внутреннего пути» поэта и осмыслить сквозную тему ее творчества371.
Именно тогда и вышел на сцену Д. Святополк-Мирский. Университетский лектор из Лондона, он возник на горизонте эмигрантской литературной жизни в 1924 году, выпустив в Париже сборник «Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака». В предисловии к нему Мирский имел неосторожность охарактеризовать Цветаеву как «талантливую, но безнадежно распущенную москвичку»372 и стихов ее в свою «маленькую антологию» не включил. По темпераменту человек несомненно легко увлекающийся, он вскоре круто изменил свое мнение о Цветаевой, что не раз потом было ему помянуто недоброжелателями. В 1926 году своими рецензиями на «Мóлодца» и «Крысолова» Мирский задал безусловно новую, более высокую планку критическим разборам творчества Цветаевой.
«Среди поэтов после-революционных ей (Цветаевой. – И. Ш.) принадлежит или первое, или одно из двух первых мест: единственный возможный ей соперник – Борис Пастернак, – поэт совершенно иного, чем она, склада»373, – сразу вступал Мирский в полемику на несколько фронтов. Для отрицателей новой поэтической манеры Цветаевой, бравшей начало в поэме «На красном коне» и сборнике «Ремесло», уличение ее в «подражании» или «зависимости» от Пастернака стало одним из общих мест. Свою роль сыграло здесь и обычное приравнивание литературных пристрастий поэта к его литературным зависимостям, и, в не меньшей степени, превращение Пастернака в эмблематическую фигуру «новаторской» поэзии, к которой вся эта поэзия как бы намертво прикреплялась. Ни одной сколько‐нибудь убедительной попытки показать связь или общность цветаевской поэтики с пастернаковской критиками предпринято не было, но хлесткие фразы о Цветаевой, «пошедшей на выучку к Пастернаку»374, тиражировались ими довольно долго. В этом смысле стремление Мирского указать на критическую аберрацию, стоявшую за этими рассуждениями, было важно:
Пастернак и Марина Цветаева – несходны, почти противоположны. Пастернак зрителен, вещественен. Его поэзия – овладевание миром посредством слов. Слова его стремятся изображать, передавать, обнимать вещи. В этом объятии и овладении реальными вещами вся сила Пастернака. Он «наивный реалист». Марина Цветаева – «идеалистка» (не в Вильсоновском, а в Платоновском смысле). Вещественный мир для нее – только эманация «сущностей». Вещи живут только в словах. Они не sunt, а percipiuntur375. Sunt только их сущности. Самая зрительность ее, такая яркая и убедительная (особенно в ее прозе), как бы бестелесна. <…>
В стихах эта разница проявляется в том, что для Пастернака слово – знак вещи. Язык его «нейтрален», «интернационален», вполне переводим. Для Цветаевой слово не может быть знаком вещи, которая сама только знак. Слово для нее «онтологичнее» вещи, – прямо, мимо вещи связано с сущностями, абсолютно, самоценно, независимо, непереводимо. Стихи ее неотрывно русские, самые неотрывно-русские во всей современной поэзии. И ритм, который для Пастернака только данная схема, только сеть долгот и широт (что вовсе не умаляет его как ритмика), для Марины Цветаевой – сущность стиха, сам стих, его душа, его живящее начало. Пастернаковский ритм – Кантовское, Цветаевский – Бергсоновское время376.
Трудно усомниться, что на высказанные здесь суждения Мирского наложили отпечаток его разговоры с самой Цветаевой. Он оказался хорошим «переводчиком» цветаевских автоаналитических суждений на философско-критический язык, хотя в своем упоре на «неотрывную русскость» поэзии Цветаевой, видимо, переусердствовал. Во всяком случае, похоже, что Цветаева указала Мирскому на этот «перегиб», и в написанной вскоре рецензии на «Крысолова» он существенно уточнил свой тезис о цветаевской «русскости»:
С точки зрения чисто языковой Цветаева очень русская, почти такая же русская, как Розанов или Ремизов, но эта особо прочная связь ее с русским языком объясняется не тем, что он русский, а тем, что он язык: дарование ее напряженно словесное, лингвистическое, и пиши она, скажем, по‐немецки, ее стихи были бы такими же насыщенно-немецкими, как настоящие ее стихи насыщенно-русские377.
Едва ли и в таком варианте точка зрения Мирского полностью совпадала с цветаевской. Говорить о поэте, что его дарование «напряженно словесное, лингвистическое», с ее точки зрения, было бы ненужной тавтологией. Однако, отвлекаясь от поэтологии самой Цветаевой, следует признать, что предложенное Мирским толкование ее поэтического кредо было серьезным и взвешенным. Вместе с тем, указав в начале своей второй рецензии на миросозерцание автора как на естественный оплот единства его творчества, Мирский затруднялся развить эту мысль. Романтизм и идеализм не без основания показались ему слишком «приблизительными» определениями миросозерцания Цветаевой. Указание же на преобладание в цветаевском романтизме «линии» над «цветом», помимо сомнительной приложимости этих искусствоведческих терминов к поэзии, все равно не вело критика дальше утверждения, что «такой “линейный” романтизм вообще не русская вещь»378. Тупик, в котором оказался Мирский, можно отчасти объяснить изначальной ошибкой критика в определении пафоса, одушевлявшего творчество Цветаевой. «Мажорность», «бодрая живучесть», «“приятие” жизни и мира»379 – так обозначил его Мирский, спонтанно приняв эмоциональную энергию цветаевского стиля за эквивалент идеологии «жизнелюбия». Эта презумпция закрыла для него возможность понимания целого ряда вне стиля лежащих тематических компонентов цветаевского творчества. Так, Мирский уверенно утверждал, что «“Царь-Девица” и “Мóлодец” написаны на извне данные темы и свободны от “психологической информации”»380, по степени выказанного непонимания невольно сравниваясь с Адамовичем, который простодушно сообщал читателям, что в «Мóлодце» рассказана «история об “упыре” или оборотне, влюбившемся в бойкую деревенскую Марусю»381. Таким образом, по‐разному относясь к поэтической манере Цветаевой, ее почитатели и хулители могли сходиться в непонимании цветаевской идеологии. Это делало и саму славу Цветаевой как поэта «колоссом на глиняных ногах»: слава эта зиждилась на иллюзиях ее почитателей не в меньшей мере, чем на преходящем задоре литературной полемики, – впрочем, выходившей далеко за рамки чисто литературных дискуссий.
Позиционные бои по поводу «Мóлодца», «Поэмы конца» и «Крысолова» сторонники Цветаевой могли не без основания считать выигранными. Что касается ее литературных недоброжелателей, то сигналом к мобилизации для них послужила публикация «Поэта о критике»: слишком много имен и репутаций было задето сразу, слишком из ряда вон выходящими должны были показаться амбиции автора и, наконец, слишком «неправильной» для критической статьи была ее стилистика. Появившись в середине апреля во втором номере журнала «Благонамеренный», статья вызвала целый поток полемических комментариев из разных лагерей. «Несколько прямых и правдивых слов <…> статьи, попав, очевидно, не в бровь, а в глаз, вызвали появление нескольких стыдных – не могу иначе назвать – возражений от потерпевших»382, – отмечал дружественный Цветаевой журнал «Своими путями».
Адамович, лично задетый в статье наиболее явно, откликнулся довольно прямолинейно, приписав к своим «Литературным беседам» в ближайшем номере «Звена» такой постскриптум:
Марина Цветаева сделала мне честь: она перепечатала в некоем «журнале литературной культуры» выдержки из моих статей за целый год и снабдила их комментариями. Я никак не предполагал со стороны нашей популярной поэтессы такого внимания к моим писаниям; надо ведь было следить, выбирать, вырезывать, отмечать. Я тронут и польщен.
Марина Цветаева на меня чрезвычайно гневается. В гневе своем она то и дело меня поучает. Поучения и примечания Цветаевой таковы, что не знаешь, чему в них больше удивляться: недобросовестности или недомыслию. Она выкраивает строчки, сопоставляет их, делает выводы – все совершенно произвольно. Она дает наставления в хлебопечении, рассуждает о свойствах сельтерской воды, сообщает новость, что Бенедиктов был не прозаик, а поэт, заявляет, что она не может до сих пор примириться со смертью Орфея, – не перечтешь всех ее чудачеств. <…>
Когда‐то М. Шагинян писала о противоположности вечно-женственного, – о «вечно бабьем». Мне вспомнилось это выражение при чтении Цветаевской болтовни383.
Сосредоточившись на приложенной к статье подборке его критических высказываний под названием «Цветник» и ограничившись сарказмом с налетом грубости, Адамович обошел молчанием саму статью «Поэт о критике»384. Честнее был Ю. Айхенвальд, не скрывавший своей обиды и пустившийся оправдывать существование критики тем, что «творение больше творца»385, – тезисом, прямо полемичным по отношению к тому, который уже дважды заявляла к этому времени в печати Цветаева386. Однако ни Адамович, ни Айхенвальд тона полемике не задали. Началась она в жанре фельетона, а закончилась политическими обличениями.
Как фельетонисты решили потягаться друг с другом М. Осоргин и А. Яблоновский. «В литературу г-жа Цветаева пожаловала с таким видом, как будто она на собственную дачу во второе Парголово переехала»387, – сообщал последний, обвиняя Цветаеву в отсутствии «чутья к тому, что дозволено и что не дозволено» в литературе и приравнивая ее в этом к Вербицкой (не без чувства солидарности с Адамовичем)388. «Она приходит в литературу в папильотках и в купальном халате, как будто бы в ванную комнату пришла»389, – варьировал Яблоновский все тот же мотив. Как критик, прямо задетый в цветаевском эссе (его статьи были названы там «непристойными»), он, конечно, не считал нужным стесняться в выражениях. Между тем и дружественный Цветаевой Осоргин прямо обвинил ее в «отсутствии минимума словесного целомудрия по поводу собственных дел и делишек». Признавая, что статья написана «очень талантливо» и что «со значительной долей мыслей Марины Цветаевой <…> нельзя не согласиться», критик, тем не менее, пускался в пространное перечисление всех неприемлемых для себя сторон «Поэта о критике»:
Нам (и писателям, и критикам, и читателям) положительно нет дела до того, как Марина Цветаева реагирует на критические о ней (о ней лично) отзывы, кому она дает право судить себя, кому не желает его предоставить, кого слушается, кого не слушается, для кого она пишет, как она сама себя понимает, каковы ее черновики, каковы ее беловики, какова была раньше ее наружность, какова стала теперь. А уж анализировать под ее пристрастным руководством отзывы о ней Г. Адамовича, – от этой глубокой провинции окончательно следовало бы нас избавить. Мы нисколько не сомневаемся, что Марина Цветаева ценит себя, знает себя, любит себя и даже, может быть, понимает себя больше и лучше, чем ее ценит, знает, любит и понимает Г. Адамович или еще кто‐нибудь, будь он критик или простой читатель. Но беседовать об этом в печати с самой Мариной Цветаевой, – для такой интимности у читателя пока поводов нет, и зря поэт обкрадывает своих будущих биографов390.
Как всякий «средний писатель», Осоргин обладал безошибочным чувством литературных конвенций и норм. Так же как и «средний критик» Яблоновский, он точно знал, «что дозволено и что не дозволено» в таком‐то литературном жанре или дискурсе, воспринимал рамки конвенции как нечто абсолютное и мгновенно схватывал взглядом все, что за эти рамки выступало. Осоргин как критик Цветаевой вообще очень любопытен, ибо он первым (еще до появления «Поэта о критике») отметил ее устойчивое тяготение к приватным жанрам в прозе и дал этому тяготению свою оценку. В статье «Поэт Марина Цветаева» он писал:
Марина Цветаева много пишет (это хорошо) и много печатает (это хуже) прозой: дневники, мемуары, афоризмы. Это не столько творчество, сколько деятельность. О деятельности поэтов говорить не очень интересно. Мне кажется, что все эти дневники с большим успехом могла бы опубликовать впоследствии их неизменная соучастница и героиня Аля. Это не значит, что они лишены интереса или таланта. Это лишь значит, что им не повредило бы отстояться в письменном столе. Обычная ошибка поэтов, думающих, что прозой писать легче, чем стихами (в действительности наоборот), и что прозаическое сырье можно печатать без особого стеснения391.
Откликаясь на уже появившиеся к тому времени в печати обработанные фрагменты революционных дневников Цветаевой, Осоргин невольно указал на проблематичный статус приватных или маргинальных жанров в русской литературной традиции. «Афоризм вообще – сомнительная литературная форма. Она простительна Ф. Степуну, как философу; она непозволительна поэту Марине Цветаевой, истощающей в ней все заряды своих записных книжек»392, – настаивал Осоргин чуть ранее, в рецензии на первый номер журнала «Благонамеренный». Таким образом, прозаический репертуар и манера Цветаевой еще до появления «Поэта о критике» признавались критиком не вполне приличествующими литературе: это было «прозаическое сырье» или «сомнительные литературные формы». «Поэт о критике» лишь довершил картину, обнаружив для литератора Осоргина, что незнание норм и правил прозаического письма зашло у его «любимого поэта» так далеко.
В «Поэте о критике» Осоргин, во‐первых, увидел недопустимое для избранного жанра количество личных, «лирических» деталей и, во‐вторых, дисфункциональность самой статьи в рамках литературных отношений. «Беседовать в печати» с Адамовичем по поводу его мнений о Цветаевой Осоргину не казалось бы странным или провинциальным: такая беседа была предусмотрена литературными конвенциями. Адамович в своих суждениях мог быть не прав – и этим ограничивалась его вина как критика. Цветаева, права или не права она была по сути, нарушала литературные приличия: она использовала лирический и камерный («приватный») дискурс там, где ожидался и был уместен лишь дискурс критический. Вновь, как до того в «Световом ливне» и «Кедре», Цветаева в «Поэте о критике» работала в несуществующем жанре и оттого писала текст неприличный. «Статья написана просто <…>, читалась она предвзято» (ПТ, 58), – так полагала Цветаева. Однако предвзятость читателей-литераторов состояла лишь в их осведомленности в области литературных конвенций. Яблоновский с истинным вдохновением нанизывал примеры «недозволенной» беспечности Цветаевой в отношении литературных правил:
Это непонимание меры вещей, это отсутствие чутья к дозволенному и недозволенному заходит у г-жи Цветаевой так далеко, что, познакомивши читателей со своим возрастом, со своей наружностью и со своими «врагами» (Адамович!), она сочла за благо довести до общего сведения и о своей денежной наличности:
« – Чего же я хочу, когда, по свершении вещи, сдаю вещь в те или иные руки?
– Денег, друзья, и возможно больше»393.
Избранный Яблоновским фельетонный дискурс наглядно «диагностировал» дискурсивные неправильности в статье Цветаевой, и их высмеивал. Цветаевский приход в литературу «в папильотках и в купальном халате» – нарушение конвенций и правил, принятых в литературном сообществе – имел «освобождающее» действие и на ее оппонентов. Они отвечали Цветаевой тем же – нарушением конвенций литературной полемики, фельетонным передергиваньем смыслов. Они чувствовали себя свободными от необходимости обсуждать статью по существу, ибо, прежде всего, как литераторы, находили ее не вполне литературой – текстом, поставившим себя по ту сторону рамок негласной литературной конституции. Лишь находившийся в стороне от литературной политики Петр Бицилли обратил внимание на совершенно иные стороны цветаевской статьи и поддержал автора, дважды на страницах одного номера «Современных записок» упомянув о «точных самонаблюдениях» «настоящего поэта, Марины Цветаевой», касающихся «процесса поэтического творчества»394.
Литературный скандал вокруг статьи Цветаевой оказался началом более широкой полемики, в которую имя Цветаевой было втянуто главным образом как имя сотрудницы двух новых толстых журналов («Благонамеренный» и «Версты»), нарушивших своим появлением установившийся баланс сил в эмигрантской литературно-политической журналистике. «Благонамеренный», первый номер которого появился в самом конце 1925 года (на обложке значился 1926), поначалу не возбудил ничьей неприязни. Бунин, Ходасевич и Цветаева мирно соседствовали на его страницах. Но второй номер «Благонамеренного», в котором и появился «Поэт о критике», вызвал громогласные разоблачения Зинаиды Гиппиус: она заявила, что «ядро» журнала составляет «группа “эстетов”, держащих определенный курс на СССР»395. В свете этого разоблачения была интерпретирована и статья Цветаевой, в которой обнаружились зловещие смыслы, делающие ее едва ли не программным документом названной группы:
Лозунги, – или первоположения, – очень ярко и темпераментно выразила поэтесса Марина Цветаева. Вот они, в главном: «сияющая Красота» – конечно, превыше всего. В индивидууме, причастном к «совершению» красоты, – в пишущем стихи, например, – два существа: одно – человек; другое – поэт. Для поэта – есть законы, поэтические (впрочем, для каждого – свои, постороннему суду не подлежащие). Для человека же – нет законов, никаких; человеку (это подчеркивается) «все позволено». И даже так, что, чем «скандальнее» ведет себя человек, тем чище и прекраснее его поэзия.
Естественно является и все дальнейшее: суд над поэтом или, того хуже, над человеком-скандалистом, должен вызывать «святое негодование». Политика? Смерть политике! «От нее вся тьма». Не ее ли темное дело – различать большевиков и не-большевиков? И не ясно ли, что все взоры надо обратить на СССР, где творится «новая, послереволюционная» красота и где, уже благодаря наиболее скандальному поведению, поэты «совершают вещи» наиболее чистые и прекрасные?396
Трудно сказать, в самом ли деле Гиппиус была настолько увлечена идейной борьбой, что поверила в наличие в цветаевской статье названных политических смыслов, или же ее обличение было лишь данью критической риторике. Впрочем, вообразив, что в статье Цветаевой кроется какая‐то политическая программа, Гиппиус причислила ее всего лишь к «обманутым». «Обманывающим» в «Благонамеренном» был объявлен Святополк-Мирский. Разоблачение этого выскочки, обманом проникшего на страницы «чистых журналов и газет» и рассуждающего там об «эстетических достижениях» в Советской России, и было, очевидно, главной целью Гиппиус. «Эстетический большевизм» – таков был диагноз. Предполагалось само собой разумеющимся, что все писавшееся в Советской России было именно «большевистским», и, соответственно, симпатия к современным советским авторам означала пробольшевизм. Внутреннюю логику отношения к любым позитивным оценкам творчества внутрироссийских писателей как к идейному пособничеству большевикам ясно выразил вскоре один из молодых сторонников Гиппиус Всеволод Фохт: «В России слишком велика в наши дни зависимость литературы от политики <…>, а потому признание и популяризация советской литературы, как таковой, являются, прежде всего, систематическим восхвалением режима, губительного именно в культурном отношении»397.
Первоначально названный «эстетическим», «большевизм» журнала далее уже третировался как политический. Гиппиус справедливо отметила двусмысленность позиции Мирского по отношению к советской действительности, вскоре приведшую его к решительному полевению. Однако преподнесение в качестве симптома политической левизны критика его симпатии к Пастернаку или насмешка над тем, что «Марина Цветаева с Пастернаком были вместе (Мирским. – И. Ш.) объявлены первыми, великими, современными поэтами»398, не только девальвировали прозрения Гиппиус, но были еще и «красной тряпкой» для тех молодых литераторов в эмиграции, которые чувствовали с названными поэтами эстетическую близость. Выдавая желаемое за действительное, Гиппиус рисовала эмиграцию в виде некоего общего «дома», в котором царит или, по крайней мере, может царить согласие. «Дом – наш, и за чистотой его следить наш долг. Надо дезинфицировать все щели, откуда несет мертвым духом», – резюмировала она, добавляя, что пока «лишь подняла половицу в темном углу “Благонамеренного”», дабы показать, «почему идет оттуда такой мертвецкий запах»399.
Одной половицей дело не ограничилось. После того как в июле 1926 года вышел в свет первый номер журнала «Версты», «старшие» решили мобилизовать группировавшуюся вокруг них литературную молодежь на отпор «эстетическому большевизму». Был основан журнал «Новый дом», в названии которого использовалась гиппиусовская метафора эмиграции400.
Однако прежде чем давать слово своим эстетическим ученикам, «старшие» сами выступили с новыми литературными и политическими оценками: большие статьи о «Верстах» были написаны Буниным, Гиппиус, Цетлиным и Ходасевичем401. Лишь последний избежал смешения поэтики с политикой (хотя и пользовался делением писателей на «советских» и «эмигрантских»):402 статья Ходасевича «О “Верстах”» была подчеркнуто корректной и метила прежде всего в того же Святополка-Мирского. «Личные вкусы и капризы Святополк-Мирского ощущаются на всем протяжении “Верст”. Он в них – главный хозяин и дирижер»403, – с основанием утверждал Ходасевич. Анализируя многочисленные «перепады настроения» критика, за короткий промежуток времени изменившего свои мнения о целом ряде современных авторов, Ходасевич давал понять, что воспевание Мирским «новаторской» эстетики считает просто его очередным капризом. Письма последнего к его соредактору по журналу Петру Сувчинскому404 свидетельствуют о том, что Ходасевич, если и недооценивал действительную привязанность Мирского к «новаторской» литературе, то был прав в более общем смысле. Наделенный безусловной чуткостью к новой эстетике, Мирский в то же время легко манипулировал своими литературными оценками, как того требовала прагматика его политических увлечений. Близко его знавшая во второй половине 1920‐х годов Вера Сувчинская (Трейл) в своих поздних устных мемуарах утверждала, что литература как таковая вообще не представлялась Мирскому серьезной областью приложения умственных сил и весь он внутренне был занят политикой405.
«Версты», если рассматривать их в контексте 1926 года, действительно походили на развернутую декларацию литературно-политического свойства. Михаил Цетлин так характеризовал собственно литературную часть журнала:
На первый взгляд «Версты» кажутся просто антологией русской литературы, продолжением работ Кн. Святополк-Мирского, составителя «Русской Лирики», или, по крайней мере, подготовительными материалами к антологии, капризно и несистематически подобранными. В самом деле: как иначе объяснить перепечатку стихов Пастернака и Сельвинского, перепечатку давно знакомых вещей Бабеля, Артема Веселого, т. е. что‐то вроде перепечаток, выпускаемых издательством «Очарованный Странник»? И, наконец, в конце книги, в виде приложения in-extenso – «Житие Протопопа Аввакума»406.
Кроме названного Цетлиным, в литературном отделе было перепечатано четыре стихотворения Есенина, помещено два текста Ремизова и «Поэма горы» Цветаевой. Обширную статью о Плотине дал Лев Шестов. Критико-публицистическая часть журнала объединяла остро-полемические выступления его редакторов (Мирского и Сувчинского) и вполне академическую работу Н. Трубецкого, музыкальную критику (статья А. Лурье о Стравинском) и историософское эссе Г. Федотова (под псевдонимом Е. Богданов). Обширный библиографический раздел и материалы о литературной политике в СССР довершали картину. Смысл этого пестрого полотна был вполне прозрачен: эмиграции предлагалось увидеть себя частью современной русской культуры – частью сравнительно небольшой и в своем бытии не только не автономной, но просто не существующей вне соотнесения с интересами культуры метрополии. По жестокости удара, нанесенного эмиграции «своими» же и с такой заранее рассчитанной точностью, пожалуй, никакое другое литературное событие 1920‐х годов не могло сравниться с выходом «Верст». Жестокость состояла в том, что, сколько бы вызывающе левыми ни были идеологи «Верст», – в главном, т. е. в их выводе о судьбе культуры русской диаспоры, была горькая правда. Реакция в эмигрантской среде на «Версты» была безусловно болевой, и только этим можно объяснить количество прямых нелепостей и откровенных грубостей, которые были высказаны. Часть их выпала и на долю Цветаевой.
Если прежде поэтическое творчество Цветаевой проходило мимо внимания большинства «старших», то по поводу «Поэмы горы» вдруг и Бунин и Гиппиус решили высказаться. Первый не посчитал неуместной прямую пошлость, высказав недоумение по поводу того, чтó же есть «красная дыра», о которой говорится в начале поэмы («Красной ни днесь, ни впредь / Не заткну дыры»)407. Вторая же просто заявляла, что все стихи, напечатанные в журнале, «это не дурные стихи, не плохое искусство, а совсем не искусство». О Цветаевой Гиппиус замечала, что та «в любовных стихах (она всегда насчет любви), не желая описывать “вороной, русой ли масти” ее возлюбленный, <…> – под конец находит‐таки ему (возлюбленному) достойное определение: “Ты – полный столбняк!”»408.
Техника подтасовки цитат была развита и усовершенствована сподвижником Гиппиус Владимиром Злобиным, чья статья, возможно, писалась при ее прямом участии. В вышедшем осенью 1926 года первом номере журнала «Новый дом» именно за его подписью появилась самая резкая отповедь отступникам от эмиграции. «Помни, помни, мой милóй / Красненький фонарик», – таким эпиграфом открывалась рецензия на «Версты». И если политический пафос Злобина ничем не отличался от уже выраженного в других статьях, то в своем анализе цветаевской поэмы он пошел значительно дальше своих предшественников. В явной связи с поставленным к статье эпиграфом Злобин провозглашал:
О Марине Цветаевой нечего говорить. Она‐то, во всяком случае, на своем месте. И как ей, в ее положении, не вздыхать, что мы в этот мир являемся «небожителями», а не «простолюдинами» любви, т. е. больше идеалистами, чем практиками. «О когда б, здраво и попросту», восклицает она: —
В ворохах вереска бурого
……… на же меня! Твой.
А затем, спокойно разойтись, ибо:
Не обман страсть и не вымысел!
И не лжет – только не дли!
Но Цветаева все же не теряет надежды, что когда‐нибудь, «в час неведомый, в срок негаданный», люди, наконец, почувствуют: —
Непомерную и громадную
Гору заповеди седьмой,
и сбросят ее с плеч, – «обнажатся и заголятся»409.
То, что Злобин переусердствовал, выяснилось довольно быстро. Цетлин решительно отмежевался от грубостей «Нового дома» на страницах «Последних новостей»410; в консервативном «Возрождении» свое возмущение «литературными реакционерами» высказал Г. Струве411. Наконец, в «Воле России» обрушил свой гнев на журнал Бронислав Сосинский:
Я не подберу имени для обозначения того, что сделал «Новый Дом» с разбором одной из прекраснейших поэм, ставшей самым большим литературным событием после «Двенадцати» – «Поэмой Горы» Марины Цветаевой. Как низко должен пасть человек, чтобы решиться на выхватывание отдельных строк, а то и слов, из чистых лирических мест поэмы – и на составление из них достаточно циничных и порнографических сцен. Это уже не отсутствие такта, корректности, порядочности – это уже больше412.
Скандал вышел за пределы печатной полемики. Корреспонденция в газете «Дни» сохранила описание вечера Союза молодых поэтов и писателей, мирно открывшегося докладом Н. Бердяева, но затем принявшего неожиданный оборот:
Во время перерыва после доклада сын покойного писателя Леонида Андреева Вад. Л. Андреев предложил присутствующим немедленно – хотя бы и явочным порядком – обсудить вопрос о журнале «Новый Дом», так как редакция этого журнала состоит из членов «нашего общества», журнал считается близким «нашему обществу», но «мы должны заявить, что с “Новым Домом” не имеем ничего общего».
При этом г. Андреев особенно выражал негодование против напечатанной в «Новом Доме» критической статьи Злобина.
После перерыва поэт Сосинский потребовал слова, – видимо, собираясь говорить по поводу журнала. Председатель поэт А. Ладинский в этом отказал. А после буйных и настойчивых требований дать слово г-ну Сосинскому закрыл собрание.
В конце концов г. Сосинский все‐таки произнес короткую нервную речь от себя и от имени единомышленников. Он заявил, что в «Новом Доме» под видом критики допущены лютые выпады и оскорбления:
– Мы клеймим редакцию этого журнала, считаем позором ее поведение… Пусть эти слова редакция «Нового Дома» примет как публичную ей пощечину…
Со стороны публики неслись возгласы:
– Женщина в лице Марины Цветаевой оскорблена…
– Алексею Ремизову брошено обвинение в некрофильстве…
Чтоб заставить публику разойтись, кто‐то распорядился закрыть электричество413.
Воистину последнее было лучшим выходом. Позиции были выяснены, а диалог все равно был обречен на неудачу. Знамена, на одном из которых имя Цветаевой было благоговейно начертано, а на другом яростно перечеркнуто, вышли из употребления в полемиках так же быстро, как вошли в него. Выжав все возможное из имени Цветаевой и молчаливо признав, что оно мало пригодно для манипуляций в литературной борьбе, критика как‐то вдруг стихла. В 1927 году уже ничто не напоминало о прошедшем урагане.
Осенью 1926 года Цветаева должна была почувствовать, что «зеленая улица», открывшаяся ей было в литературном Париже, оказалась весьма короткой. В конце сентября она сообщала А. Тесковой:
…с «Соврем<енными> Записками» разошлась совсем, – просят стихов ПРЕЖНЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ, т. е. 16 года. Недавно письмо от одного из редакторов: «Вы, поэт Божьей милостью, либо сознательно себя уродуете, либо морочите публику». Письмо это храню. Верх распущенности. Автор – РУДНЕВ, бывший московский городской голова (ПТ, 69).
О расхождении с «Современными записками», в буквальном смысле слова, речь вряд ли могла идти: «разойтись» с самым крупным русским эмигрантским журналом Цветаева просто не могла себе позволить414. В ее конфликте с этим журналом дело было лишь отчасти в конкретных редакторах, более или менее сведущих в литературных вопросах, более или менее консервативных в своих литературных вкусах. В то время, когда Цветаева оказалась на гребне поэтической славы, уже шел процесс падения интереса к поэзии в текущей литературе, как советской, так и эмигрантской. Быть «самым крупным именем» в поэзии с каждым годом значило все меньше, ибо все меньше значило быть поэтом вообще. Поэтическое (особенно – лирическое) молчание, в той или иной мере отметившее во второй половине 1920‐х годов биографии всех крупных русских поэтов, при видимом наличии для него в каждом отдельном случае индивидуальных причин, было одним из рефлексов того же процесса. В причинно-следственной связи «молчание» поэтов и потеря вкуса к поэзии у литературной аудитории не находились: они были двумя сторонами одного явления. Экспериментальный импульс модернизма внутренне иссякал, и шедшая в свое время в авангарде экспериментальной эстетики поэзия первой испытала последствия этого. В эмиграции процесс падения интереса к поэзии усугублялся быстрым сужением русской читательской аудитории вообще; для удержания же внимания оставшихся потенциальных читателей журналы и издательства должны были руководствоваться их вкусами.
Огромные усилия, которых стоила Цветаевой публикация своей последней книги стихов, были лучшим свидетельством сложившейся ситуации. Более того, выйдя наконец в свет в 1928 году, сборник «После России» событием текущей литературы не стал. Хотя на его появление отозвались более или менее сочувственными рецензиями М. Слоним, В. Ходасевич, Г. Адамович и П. Пильский415 (а в немецкоязычном издании о сборнике написал и Святополк-Мирский416), эти отклики были лишь ритуальным фиксированием критиками своих позиций: было понятно, что никакой живой полемики о творчестве Цветаевой уже не возникнет. При том, что в кругу более молодых литераторов, продолжавших бороться за свое литературное существование, авторитет Цветаевой оставался высоким (и остался таковым в 1930‐е годы), их молчание в ответ на ее сборник было неслучайным. Надежды видеть Цветаеву «гарантом» собственного литературного будущего постепенно иссякали, а к ее репутации их отзывам добавить было уже нечего.
В 1931 году Марк Слоним провел опрос среди молодых эмигрантских литераторов. Подводя его итоги на страницах «Новой газеты», он со смущением вынужден был констатировать, что несмотря на очевидный факт поэтического воздействия Цветаевой на «младших» в эмиграции, в их ответах на вопрос о наиболее важных литературных событиях последних лет «не упомянута такая значительная книга, как “После России” Цветаевой – самое крупное событие в поэзии последнего пятилетия не эмигрантской только, но и русской вообще»417. В том же году Альфред Бем, невольно признаваясь в том, чему не хотел верить Слоним, обмолвился о Цветаевой, что «ее книжка “После России” <…> объективно куда более значима, чем мы сейчас это осознаем»418. Это неопределенное «мы» было дополнительным свидетельством объективности совершившегося в текущей литературе переворота. Репутация Цветаевой как поэта, несмотря на отдельные сочувственные отзывы о ее более поздних стихах, дальнейшего развития при ее жизни не получила.
Весной 1926 года, в апогее славы, Цветаева писала Пастернаку: «…со всех сторон любовь, любовь, любовь. И – не радует. <…> Вдруг открыли Америку: меня. Нет ты мне открой Америку!» (МЦБП, 206). Ее творческое самочувствие выразилось в этой лаконичной жалобе как нельзя яснее. Внимание литературного мира действительно снизошло на Цветаеву в тот момент, когда ей меньше всего хотелось бы быть объектом пристального интереса. Творческий кризис впервые предстал ей как следствие разлада отношений с миром. «Неоткрытые Америки», это воплощение притягательной силы мира, исчезли из его географии или, во всяком случае, уже не подавали поэту знаков своего существования.
На полемику вокруг «Поэта о критике» Цветаева отреагировала равнодушно, и брешь, образовавшуюся в ее отношениях с литературным миром, залатывать явно не собиралась. «Ни одного голоса в защиту. Я вполне удовлетворена» (ПТ, 58), – так резюмировала она свое настроение после прочтения первой серии откликов на статью. Лицемерия тут не было: Цветаева отмечала лишь, что ее собственное охлаждение к литературному миру было теперь уравновешено сходным отношением этого мира к ней. Такой вариант «гармонии», во всяком случае, вызволял ее из ложного положения объекта «любви со всех сторон», не могущего ответить взаимностью или же хотя бы продолжать оправдывать надежды своих поклонников.
В конце апреля 1926 года Цветаева уехала с детьми в Вандею. В июне – июле в газетах промелькнули сообщения, что она работает там над большой поэмой о Добровольчестве. Эти сообщения отражали те планы, которые действительно были у Цветаевой перед отъездом. Еще 26 января, в тот самый день, когда было написано стихотворение «Тише, хвала!..», она начала работу над большим поэтическим замыслом, названным в черновой тетради «Поэма одного часа»419. Работа шла медленно, и замысел поэмы об обитателях «черной лестницы» постепенно преображался в поэму о бунте вещей, восстающих против своей земной участи. А затем русло замысла сделало еще один крутой поворот. Знакомство с двумя главами поэмы Пастернака «Девятьсот пятый год»420 и с книгой Мандельштама «Шум времени» пробудило в Цветаевой давно уснувший, казалось бы, интерес к истории, а точнее – потребность в размышлении об исторической судьбе своего поколения, представители которого и населяли теперь одну из парижских черных лестниц.
Книга Мандельштама возмутила Цветаеву. Она ответила своему литературному сверстнику яростной отповедью – статьей «Мой ответ Осипу Мандельштаму». «Подтасовка чувств», переписывание собственной биографии ради вожделенного воссоединения с историей, т. е. с победителем, – вот что более всего оттолкнуло Цветаеву в «Шуме времени». Оскорбление побежденных в лице Добровольческой армии, оскорбление всего «старого мира», попавшего в мясорубку истории, и утрата собственного достоинства в лицемерном самоотождествлении с силами истории – это увидела Цветаева в мандельштамовской книге и на это отвечала своей статьей.
Более или менее явная враждебность к цветаевской статье ее парижского окружения421, по‐видимому, лишь усилила ее потребность дать более развернутый ответ на позицию Мандельштама. Данной им присяге на верность победителю Цветаева решила противопоставить равноценную присягу на верность побежденным. Уже писавшаяся поэма преобразилась: наброски, сделанные в апреле, вывели Цветаеву к плану большой поэмы о гражданской войне. Вскоре после приезда в Вандею она прервала работу, записав в тетради: «Необходим перерыв до приезда С. (Эфрона. – И. Ш.)»422. Однако судьба распорядилась этим замыслом по‐своему. Поэма «Лестница», близкая к первоначальному замыслу «Поэмы одного часа», была завершена в июле. Замысел же исторической поэмы оказался отложенным на неопределенный срок. Начавшаяся в мае переписка с Р. М. Рильке переменила творческий календарь Цветаевой на ближайший год столь кардинально, что тяжбе с историей в нем места не осталось.
«В какую‐то секунду пути цель начинает лететь на нас. Единственная мысль: не уклониться» (СТ, 544), – так в июне 1927 года, завершая итоговую в своем «пастернаковско-рильковском» цикле «Поэму воздуха», формулировала Цветаева содержание опыта, принесенного в ее жизнь прошедшим годом. Парадоксальный образ цели, летящей на человека, – важная ремарка для понимания творческого поведения Цветаевой на протяжении этого года.
«Тройственная переписка»423 Пастернака, Рильке и Цветаевой весной – летом 1926 года424 стала контекстом и предпосылкой для последней метаморфозы, которую претерпел цветаевский личный миф. При высокой степени взаимного доверия, достигнутой в эпистолярном диалоге поэтов, этот диалог в конце концов подтвердил каждому из участников его одиночество. Обнаружение пределов взаимопонимания в разговоре с «равными» по‐разному преломилось в сознании каждого. Для Цветаевой оно стало тем «моментом истины», который позволил окончательно сформулировать смысл индивидуального бытия в мире. Сознание «умысла», присутствовавшего в жизненной коллизии весны – лета 1926 года, – «умысла», от творческого воплощения которого она не могла «уклониться», исподволь руководило поведением Цветаевой и ее творческими поисками в ближайший год.
Сама коллизия сложилась без ее активного участия. Быстро развивавшаяся в первые месяцы 1926 года переписка Цветаевой с Пастернаком приняла особенно напряженно-романтический оборот в марте 1926 года. Тогда, впервые прочитав попавшую к нему в любительском списке «Поэму конца», Пастернак отозвался на нее восторженным письмом. Этот порыв творческого сочувствия окончательно раскрепостил порыв эротический, присутствовавший в переписке с 1923 года. Планы встречи, давно не обсуждавшиеся и никогда не достигавшие необходимой конкретности, оказались снова в повестке дня. В письме от 20 апреля Пастернак поставил Цветаеву перед выбором: приезжать ли ему немедленно или через год (МЦБП, 188). Цветаева выбрала второе (МЦПБ, 189–190). Трудно сказать, что было житейски решающим в ее отсрочке встречи: переживание ли длящегося творческого кризиса или сознание собственной несвободы, т. е. неисполнимости надежд на осмысленное общение в существующей жизненной ситуации. Однако творчески решающим было несомненно то, что такая встреча требовала бы переосмысления мифа о «паре», которой не суждена встреча, о «Вечной паре вовек не встречающихся» («Das ewige Paar der sich – Nie – Begegnenden»)425. Миф как структура, дающая смысл хаотичным и случайным жизненным событиям, мог быть переосмыслен лишь ради нового цельного мифа, и Цветаева, вероятно, желала его найти, но пока не видела. Точнее, на известном ей мифологическом языке перевоплощение творческого (небесно-эротического) союза в союз земной было нисхождением из области Эроса в область пола – и только. «Катастрофе встречи», катастрофе такого нисхождения Цветаева противопоставила встречу в Эросе, в творчестве, в слове: сразу же за эпистолярным откликом на вопрос Пастернака в ее рабочей тетради следуют первые черновики поэмы «Попытка комнаты». Затем работу над ней перебивает другая поэма, «С моря»426 (первоначальное название «Вместо письма»). Тема встречи героев во сне развивается здесь в свойственном Цветаевой духе как видéние идеальной встречи в Вечности, которая знает лишь
не совместный
Сон, а взаимный:
В Боге, друг в друге,
Нос, думал? Мыс!
Брови? Нет, дуги,
Выходы из —
Зримости.
Пересказ Пастернаком в письме от 20 апреля своего сна о встрече с ней послужил Цветаевой трамплином для разговора не о встрече, а о пространстве этой встречи. Отклонение приезда Пастернака во Францию представало в поэме отказом от вручения судьбы их человеческих отношений земному пространству, диктующему любящим такие‐то формы воплощения чувства. Одновременно писавшаяся «Попытка комнаты» была целиком посвящена сотворению того идеального пространства, в котором должна состояться встреча героев. Начавшись видéнием комнаты с отсутствующей четвертой стеной, на месте которой открывался коридор в Вечность, поэма кончалась исчезновением самой этой комнаты как неуместного в Вечности атрибута земного пространства. «Весь поэт на одном тире / Держится…» (СП, 554), – лишь такую «опору» вместо исчезнувших стен, пола и потолка оставляла Цветаева себе и своему гостю.
И «С моря», и «Попытка комнаты» тематически и образно строились на референциях к текущей переписке с Пастернаком. Однако, посылая вторую из поэм Пастернаку в феврале 1927 года, Цветаева эту посылку поставила в прямую связь со смертью Рильке, дав поэме такое толкование:
Очень важная вещь, Борис, о которой давно хочу сказать. Стих о тебе и мне – начало лета – оказался стихом о нем (Рильке. – И. Ш.) и мне, КАЖДАЯ СТРОКА. Произошла любопытная подмена: стих писался во время моего крайнего сосредоточия на нем, а направлен был – сознанием и волей – к тебе. Оказался – мало о нем! – о нем сейчас (после 29‐го декабря), т. е. предвосхищением, т. е. прозрением. Я просто рассказыв<ала> ему, живому, к которому же СОБИРАЛАСЬ! – о встрече с ним – ТАМ. Вещь называлась «Попытка комнаты» и, направленная на тебя, казалась странной – до такой страсти отрешенной и нелюбовной (МЦБП, 285).
«Отрешенность и нелюбовность» в равной мере отмечали обе поэмы, и в этом было их разительное отличие от соседствующей переписки. Эмоциональная насыщенность прежней лирики Цветаевой уступила место полной закрытости внутреннего переживания. Обсуждалось не оно, но его координаты в мироустройстве. В земном мире, на «отмели» из поэмы «С моря», уже занесенными в некий неумолимый реестр виделись героине «нашей игры осколки / Завтрашние» (СП, 544). Выведение «игры» из «зримости» уничтожало саму возможность «осколков», как и понятия «завтрашний»: в символической самоуничтожающейся «комнате» из второй поэмы «ничто двух тел» (СП, 554) воплощало нерушимую, ибо лишенную физической формы, совместность. Завершив поэму, Цветаева записала: «Я хотела дать любовь в пустоте: всё в ничто. Чувств<ую>, что любовь не получ<илась> п<отому> ч<то> есть вещи больше. Они – получились»427. Подобно «комнате», для «Свиданья Душ» не нужной, эмоциональность и «любовность» оказались исключенными из поэмы логикой адаптации языка к законам описываемого пространства. Потому в 1927 году Цветаевой легко было увидеть в «Попытке комнаты» пролог к ее дальнейшему размежеванию с прежним лиризмом, теперь уже обусловленному действительной невозможностью земной встречи с лирическим адресатом, которым стал Рильке.
Первое письмо Цветаевой Рильке написал 3 мая 1926 года, т. е. тогда, когда ее встреча с Пастернаком уже была отложена на год и когда первые наброски будущей «Попытки комнаты» уже были сделаны. Своим письмом Рильке откликался на просьбу, содержавшуюся в письме к нему Пастернака. Глубоко потрясенный недавним известием о том, что стал известен Рильке как поэт, Пастернак, для которого это известие совпало с восхищенным прочтением «Поэмы конца», был полон желания одарить Цветаеву той же радостью контакта с великим Рильке, что пережил он сам. Однако если для Пастернака личная ценность диалога с Рильке определялась сознанием духовного ученичества у последнего, – то для Цветаевой переписка с Рильке сразу включилась в совсем иную парадигму отношений.
Меньше чем за год до этого, в очерке «Герой труда» Цветаева среди многих автобиографических признаний сделала и такое: «Больших я в жизни всегда обходила <…>. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору своей любви? Ибо, если не для любви – для чего же встречаться? На другое есть книги» (СС4, 50). Жизненная встреча с большой творческой индивидуальностью, в отличие от встречи «книжной», была ценна для Цветаевой постольку, поскольку выводила диалог за пределы постижимого через «книги». Интерес к личности творящего, не только раскрываемой, но и скрываемой его текстами, был для нее производным от самопознания: в «другом», если он был поэтом, она могла свободно экстериоризировать свое «я», полагая, что «на острове, где мы родились – ВСЕ – КАК МЫ» (МЦБП, 214). Любовь представлялась ей тем трансгрессивным началом, которое позволяло разомкнуть границы чужой личности, преодолеть закрытость «другого». Любовь к «другому», родившемуся на том самом «острове», становилась способом подтверждения неслучайности (в масштабах того «острова») свойств собственной личности. Во времени изменялась для Цветаевой лишь сравнительная актуальность тех или иных граней ее «я». В диалоге с Рильке очень быстро выяснилось, к осмыслению какой из этих граней привела в это время Цветаеву логика ее самопознания.
С первых же писем дав обоим корреспондентам радость взаимного доверия и признания масштабов личности друг друга, переписка Цветаевой и Рильке внезапно прервалась на полмесяца после письма Рильке к Цветаевой от 17 мая, третьего по счету. Объясняя потом причины своего молчания, Цветаева ссылалась на мельком брошенную в письме Рильке фразу о том, что она должна продолжать писать ему, когда ей захочется, даже если он замолчит на какое‐то время (РПЦ, 104). Стало общим местом трактовать решение Цветаевой прервать переписку как ее не вполне адекватную реакцию на эти слова Рильке428, в действительности связанные с его тяжелым физическим состоянием в это время. Между тем пояснения, которые впоследствии дала Цветаева своему решению прекратить переписку с Рильке, свидетельствуют о том, что дело было не в отдельной его фразе, и тем более – не в той, которую она потом цитировала. Рассказ о стремлении к одиночеству, к уединению как лейтмотиве своей жизни – вот что было главным в том письме Рильке. Именно о своем понимании Рильке, основанном на этих его признаниях, писала Цветаева Пастернаку 22 мая, ставя под сомнения планы их совместной поездки к немецкому поэту:
«Что бы мы стали делать с тобой – в жизни?» <…> – «Поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно, особенно силы, всегда влекущей, отвлекающей. Рильке – отшельник. Гёте в старости понадобился только Эккерман (воля последнего к второму Фаусту и записывающие уши). Р<ильке> перерос Э<ккермана>, ему – между Богом и «вторым Фаустом» не нужно посредника. Он старше Гёте и ближе к делу. На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: всё взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания – я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей. Эта встреча для меня – большая растрава, удар в сердце, да. Тем более, что он прав (не его холод! оборонительного божества в нем!), что я в свои лучшие высшие сильнейшие, отрешеннейшие часы – сама такая же (МЦБП, 207).
Эти выводы продуманы и сформулированы настолько ясно, что невольно приходится предположить их существование в сознании Цветаевой задолго до случая, давшего им быть озвученными. Более того, они имеют столь явно личный смысл для Цветаевой, что референция к Рильке, т. е. к «другому», лишь универсализирует их. Касаются они структурных особенностей личности творца, ведущих его к постепенной автономизации собственного бытия. Защищая свой внутренний мир от «шума времени», творец постепенно достигает такой степени духовной самодостаточности, что дальнейшее взаимодействие с окружающим миром становится для него и избыточным, и невозможным. В творце, достигшем своего зенита, эта самодостаточность принимает наиболее совершенную форму. Именно ее обнаруживает Цветаева в Рильке, и обнаруживает потому, что ожидает обнаружить. Четкость, с которой высказано ею понимание внутреннего состояния Рильке, лишь спровоцирована, но никак не рождена его письмом. «Если ты мне скажешь: не пиши, это меня волнует, я нужен себе для самого себя, – я все пойму и стерплю» (РПЦ, 97), – так Цветаева в своем предшествующем письме сама же вызывала Рильке на его признания и просьбу. «Растрава» встречи с Рильке оказывалась «растравой» подтверждения некой важной истины, относящейся столько же к нему, сколько и к самой Цветаевой, – что и подчеркивала концовка приведенного фрагмента из письма к Пастернаку.
Первой фразой этого письма Цветаевой было признание, открывавшее эту главу: «Мой отрыв от жизни становится все непоправимей». Встреча с Рильке совпала для Цветаевой с осознанием изменения собственных отношений с действительностью, первым проявлением которого стал творческий кризис и разрушение прежней поэтики вместе с прежним алгоритмом взаимодействия с «жизнью». Пример Рильке оказывался подтверждением неслучайности, законности постепенного разрыва связей с миром, а сам Рильке, прошедший болевую стадию разрыва в неопределенном прошлом, представал уже неуязвимым для земного вмешательства. «Я не меньше его (в будущем), но – я моложе его» (МЦБП, 214), – так поясняла Цветаева дистанцию в опыте, вставшую между ними. Полмесяца неотвечания на письмо Рильке, заполненные работой над поэмами «С моря» и «Попытка комнаты», были бессознательным поиском пути к овладению тайной такой отрешенности. В эти полмесяца произошла стремительная кристаллизация не просто нового поэтического языка, но новой поэтической идеологии Цветаевой. Отказавшись от опоры на противоположение земного и небесного, Цветаева обратилась к поиску формулы отношений с миром, при которой границы «внутреннего мира» и «космоса» получали шансы совпасть. Гармония, достигаемая «в Боге, друг в друге», а затем в экстериоризированном пространстве внутреннего мира человека – космической «комнате», оставила за скобками самый повод к ее поиску: «любовь не получ<илась> п<отому> ч<то> есть вещи больше». Обретенным для Цветаевой оказалось понимание внутренней логики пути Рильке, предполагавшего разрыв с пространством всех мыслимых комнат. Если в сознании и личном мифе Цветаевой Рильке и заместил на недолгое время Пастернака как ее «парного спутника», то лишь для того чтобы трансформировать сам этот миф: переосмыслить тему встречи двух как встречу каждого с космосом, границы которого неотличимы от границ собственного «я».
В начале июня, одновременно с окончанием «Попытки комнаты», Цветаева вернулась к переписке с Рильке. Ответом на ее первое письмо после перерыва была элегия Рильке, посвященная ей. Элегия развивала понимание автором одиночества как обретения человеком своего единственного пути во Вселенной и подтверждала правоту майского толкования Рильке, данного Цветаевой в письме к Пастернаку. Стихотворение Рильке, в своей финальной части, снимало тему «парности» или ведóмости вообще, рисуя путь человека как путь самовосполнения:
Лицемерили издавна боги,
Чтя половины. Лишь мы, продолжая движенье по кругу,
Станем, восполнив себя, единством, как месяц – луной.
Но и в ущербные дни и когда поворот к новолунью,
Нам не поможет никто к полноте бытия возвратиться,
Разве что собственный путь – одинокий в бессонном просторе.
Любовного порыва Цветаевой к Рильке это стихотворение не остановило, хотя современных читателей совершенно напрасно смущают «эксцессы» ее эротического воображения: Цветаева в своих письмах лишь стремится найти словесное воплощение идее разведения пола (телесности) и Эроса в земном любовном опыте. Важным последствием ее эпистолярной встречи с Рильке, однако, стало то, что ее личный миф, построенный на теме любви, соединяющей «равных» в мирах иных, окончательно исчерпался. О том, чтó из этого следовало, Цветаева задумалась, когда весть о кончине Рильке настигла ее в канун 1927 года.
Обращенная к Рильке поэма «Новогоднее»429 была написана приблизительно за месяц и символически датирована 7 февраля 1927 года – сорок первым днем после смерти Рильке, т. е. первым днем после того, как его душа, согласно преданию, должна была расстаться с землей («вчерашней родиной», как она названа в поэме). Работа над поэмой вернула Цветаеву к темам недавней переписки с Рильке. Главная мысль, которую додумывала, доформулировала для себя Цветаева в «Новогоднем» – мысль о не-дихотомическом устройстве мироздания. Радикальная, т. е. в настоящем времени необратимая разъединенность ее, говорящей, и Рильке, адресата речи, превращалась под пером Цветаевой в повод усомниться в существенности этого внезапного разъединения. «Жизнь и смерть давно беру в кавычки, / Как заведомо-пустые сплеты», «Жизнь и смерть произношу с усмешкой / Скрытою», «Жизнь и смерть произношу со сноской, / Звездочкою» (СП, 569–570), – постепенно нагнетаясь, этот мотив разрешался наконец в развернутом признании:
Если ты, такое око – смерклось,
Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть,
Значит – тмится! Допойму при встрече —
Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,
Новое. И за него (соломой
Застелив седьмой – двадцать шестому
Отходящему – какое счастье
Тобой кончиться, тобой начаться!)
Через стол, необозримый оком,
Буду чокаться с тобою тихим чоком —
Сткла о сткло? Нет – не кабацким ихним:
Я о ты, слиясь дающих рифму:
Третье.
Существование некой целостности, объемлющей, включающей в себя разъединенные и противопоставленные земным сознанием понятия жизни и смерти, выводится Цветаевой из онтологии поэтического языка, которому дано открывать «третье, новое», воссоединяя слова в рифменном созвучии. Подобная риторика не нова для Цветаевой. В стихотворении июня 1924 года «Есть рифмы в мире сем…» она уже говорила о мировой онтологии как эманации созвучий: «Построен на созвучьях / Мир, и, разъединен, / Мстит (На согласьях строен!)», «Есть рифмы – в мире том / Подобранные. Рухнет / Сей – разведешь» (СП, 373). Однако мысль «Новогоднего» куда сложнее и глубже той, что зафиксирована стихотворением 1924 года. Сложность эта обусловлена именно отказом от рассуждения о «том» и «этом» мире в пользу рассуждения о «третьем, новом», – даже тогда, когда оно по привычке именуется «тем светом».
Концовка приведенного фрагмента из «Новогоднего» связана с поэтическим посвящением, которое написал Рильке на посланном Цветаевой экземпляре «Дуинезских элегий»:
Касаемся друг друга. Чем? Крылами.
Издалека свое ведем родство.
Поэт один. И тот, кто нес его,
Встречается с несущим временами.
«Родство» всех отмеченных поэтическим даром, их исконное единство в некоем существующем вне пространства и времени «поэте» трактуется Цветаевой и как свобода возврата каждого в это первоначальное «безличное» единство. Об этом говорило и начало элегии Рильке, ей посвященной: о вечной всеобъемлющей целостности мира, в котором рождение и смерть отдельного человека не уменьшают «священного числа», и о «целительности срыва в изначальность», в «сердцевину Всегда» (РПЦ, 141–142). Рильке, в свою очередь, откликался на слова самой Цветаевой из письма к нему: «До жизни человек – всё и всегда, живя жизнь, он – кое‐что и теперь» (РПЦ, 136). Цветаева говорила о конфликте между воображаемым исконным, вечным состоянием человека, еще не отделившего своего «я» от мироздания, – и его положением жителя данного исторического времени с данными индивидуальными свойствами. Последнее состояние не могло противопоставляться первому, оно было его частным случаем, – как время уже представало частным случаем Вечности, а не его антиподом.
Открытие «третьего, нового» как начала, объемлющего любые антиномии («жизнь» и «смерть», «я» и «ты»), многое в земном опыте расставляло по местам. «Ничего у нас с тобой не вышло» (СП, 572), – сказанное о не воплощенной на земле встрече, «рифмовалось» с самой временностью существования «я» и «ты». Потому не «свидимся», а «споемся» (СП, 573) было тем глаголом, который адекватно передавал в поэме идею встречи двух «я», – не встречи друг с другом, а встречи в чем‐то «третьем», в «рифме», в новом звуке.
Принесенная диалогом с Рильке перемена акцентов в разговоре о мироустройстве разрешала, в частности, и давно волновавшую Цветаеву дилемму о «личном» и «вне-личном» в искусстве. Существованье вечного «поэта» в единственном числе снимало эту дилемму вместе с земной проблемой авторства. «Я давно перестала делить стихи на свои и чужие, поэтов – на тебя и меня. Я не знаю авторства» (СС7, 466), – эти слова, сказанные в 1934 году, обязаны своим происхождением опыту 1927 года, как обязано ему и рассуждение, открывавшее в 1932 году статью «Эпос и лирика современной России» и подтверждавшее солидарность Цветаевой со словами рильковского инскрипта на «Дуинезских элегиях»:
…поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всех своих явлениях – одна, одно, в каждом – вся, так же как, по существу, нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающаяся в цвета данных племен, стран, наречий, лиц, проходящих через ее, силу, несущих, как река, теми или иными берегами, теми или иными небесами, тем или иным дном (СС5, 375).
Открытие диалектической связи одинокого пути и «всеединства», к которому он ведет и в котором самоуничтожается «я», стало философским подтекстом написанного вслед за «Новогодним» очерка «Твоя смерть» (1927). Смерть Рильке представала в нем в обрамлении двух других смертей, завершений двух других одиноких путей к «сердцевине Всегда».
Одновременно с планом «Твоей смерти», сразу после окончания работы над «Новогодним» Цветаева задумала еще одну поэму, будущую «Поэму воздуха»430. Работу над ней, согласно записи в черновой тетради, она затем отложила до годовщины первого письма к ней Рильке, т. е. до начала мая431. Первоначальные планы поэмы (и февральские и майские) разрабатывали тему встречи на том свете, что возвращало Цветаеву к инвариантному сюжету о «паре», воссоединяющейся в Вечности432. Поэтому и «Попытка комнаты» вдруг показалась Цветаевой поэмой о ней и Рильке, об их встрече – не здесь, а там, в мире без комнат. Однако процесс работы многое изменил в замысле, и Рильке остался в поэме безымянным «гостем», роль которого ограничивалась кратким спутничеством433. По ходу работы Цветаева записывала: «Не отвлекаться в сторону 1) себя 2) описаний – блюсти только взаимную линию преображения. Резко и определенно дать, сначала его отсутствие, потом, по мере моего, его присутствие: руку, дуновение (вздох) или же – неопределимый срок полного равенства, а потом – разминовение»434. Как отметила Е. Б. Коркина (СП, 756), эта запись фиксировала важный поворот в развитии темы поэмы. Всего год назад, толкуя «Мóлодца» Пастернаку, Цветаева поясняла: «Что они будут делать в огнь-синь? Лететь в него вечно» (МЦБП, 206). Подобно сказочным сюжетам, завершающимся свадьбами героев и сообщениями об их дальнейшей вечной счастливой жизни, прежние цветаевские поэмы о воссоединении героев в мире Небытия представляли этот «небесный брак» обретенным вечным состоянием. Теперь же за «неопределимым сроком полного равенства» следовало «разминовение». Встреча оказывалась лишь этапом на пути к чему‐то другому, и эротическая образность с самого начала была исключена из арсенала «подобий»:
Презрение к чувствам,
Над миром мужей и жен —
Та Оптина пустынь,
Отдавшая – даже звон.
Душа без прослойки
Чувств. Голая, как феллах.
«Поэма воздуха» оказывалась уже не спонтанной, а сознательной манифестацией «отрешенности и нелюбовности» как условий перехода в иной мир, на языке героини называвшийся «вечностью», хотя «иными» именовавшийся «смертью» (СП, 583). «Полная срифмованность» (СП, 577), – так, отсылая к метафоре «Новогоднего»435, обозначила Цветаева в «Поэме воздуха» момент «полного равенства» героев. За этим в тексте следовало даже не «разминовение» героев, а просто исчезновение спутника. Дальнейший путь героини был одиноким, и описывался он, по‐видимому, до того предела, за которым наступало растворение единичного во всеобщем: единичного «шпиля» в настигнутом им «смысле» собственного существования (СП, 584).
В майском наброске письма к Пастернаку Цветаева сообщала: «Борис, я пишу вещь, от которой у тебя мороз пойдет по коже. Эта вещь – начало моего одиночества, ею я из чего‐то – выхожу <вариант: изымаюсь>» (МЦБП, 351). Цветаева «выходила» и «изымалась» прежде всего из собственного мифа, на протяжении семи лет развивавшегося и видоизменявшегося в ее лирике и поэмах. Миф о «спутнике» в виде «ведущего» (сверхчеловеческой силы) или «равного» завершился апофеозом одиночества как необходимого условия пути в «сердцевину Всегда». В отличие от более ранних творческих разработок темы одиночества (в цикле «Ученик» или в стихах осени 1922 года), в «Поэме воздуха» Цветаева вышла за рамки разговора о земном (жизненном) одиночестве как таковом. Теперь одиночество было и принципом мироустройства, и жизненным условием, ведущим человека к рильковскому «самовосполнению», которое, в свою очередь, оказывалось обретением самодостаточности и полноты, свойственной космосу. «В какую‐то секунду пути цель начинает лететь на нас», – в этом афористическом образе Цветаевой и предстал тот последний поворот творческого сознания, за которым открывалась финишная прямая и уже ничто не скрывало от идущего цель и смысл долгого путешествия. В период работы над поэмой еще одно событие приобрело в глазах Цветаевой силу символического подтверждения верности сделанного ею поворота. Первый успешный беспосадочный перелет через Атлантический океан, совершенный в мае 1927 года американским летчиком Чарльзом Линдбергом, в рабочей тетради Цветаевой отозвался такой записью:
Мечта об Авионе.
Причина гибели тех: ПАРНОСТЬ436.
Линдберг: образ славы.
Уединение (Л<индберг>) победило Одиночество (Океан). Океан надо брать наедине437.
Формула из стихотворения Цветаевой пятилетней давности («Но тесна вдвоем…»), которую она увидела теперь эпиграфом к замыслу об Авионе, делала единичное событие выражением универсального принципа бытия. Этот модус осмысления действительности оказался определяющим для последнего десятилетия творчества Цветаевой.
Полет «готического шпиля», отбросившего «храм», в погоню за «собственным смыслом» – таков образ одинокого перехода в мир «смерти-Вечности», заместивший в «Поэме воздуха» прежние парные полеты героев «в лазурь». Уединение земное приняло у Цветаевой иной, особенный облик: оно стало «полетом в прошлое».
«Будущее – неуживчиво! / Где мотор, везущий – в бывшее?» (СП, 663) – так уже в набросках неосуществленной поэмы 1926 года о Добровольчестве был обозначен новый вектор творческих интересов Цветаевой. Перемены следующего года, приведшие к трансформации всего прежнего личного мифа, укрепили ее в сознании единственности творческого выхода из «жизни»: он лежал в воссоединении с «бывшим». Это «бывшее» располагалось, однако, не на оси времени: оно было квинтэссенцией опыта, осмысленного не как выражение индивидуального, но как воплощение универсального; опыта, принадлежавшего уже не времени, но Вечности. Устремленность к прошлому оказывалась равнозначной полету навстречу «цели» собственного пути.
В августе 1927 года, желая определить свои отношения с категорией «прошедшего», Цветаева набрасывала в рабочей тетради ответ на одно из писем Пастернака:
Там где для тебя гор<ы> – история, для меня не существует и вопроса. Ряд вещей в моей жизни не значится. Например, история. Какая история Жанны д’Арк? Но ведь это же – эпос. А, кажется есть! Для тебя – история, для меня – эпос. «Вскочить истории на плечи» (ты о Рильке)438 т. о. перебороть, превысить ее. Вскочить эпосу на плечи не скажешь: ВОЙТИ в эпос – как в поле ржи. Объясни же мне: когда есть эпос, – зачем и чем может быть в твоей жизни история. Почему такая забота о ней? Какое тебе, вечному, дело до века, в к<отором> ты рожден (соврем<енности>). «Историзм» – что это значит? (МЦБП, 380).
Тема истории, давно присутствовавшая в ее переписке с Пастернаком439, приобрела особенную актуальность для Цветаевой именно теперь, когда окончательно сменился вектор ее творческих поисков. Его направленность «в бывшее» напомнила Цветаевой о ее давней тяжбе с историей. Что однако означала апелляция к эпическому мышлению как альтернативе мышления исторического? В процитированном наброске письма к Пастернаку Цветаева, вероятно, имела в виду следующее: аналитическая и реалистическая (по своим интенциям) картина прошлого – это история; избирательное освещение событий, человеческих типов и жизненных коллизий – это путь к эпосу. Задача эпоса – не достоверность сама по себе, но синтезирование нарративов, в которых выражается трансвременная сущность явлений – противостояний, поражений, побед, скрещений человеческих судеб. Издавна помещавшийся Цветаевой в один ряд с мифами и Библией440, эпос и оказывался своеобразным мифом об истории. Однако воплотить теоретически постулируемое различие в творческой практике было непросто.
За свои «исторические» поэмы Цветаева взялась именно как за опыты в эпическом роде, понятом как альтернатива историческому повествованию441. Завершив в конце 1927 года «Федру», она первым делом захотела закончить брошенный еще в 1921 году опыт современного эпоса – поэму «Егорушка». Этот замысел, однако, так и не дался Цветаевой: проработав над поэмой с января по март 1928 года, она навсегда ее оставила. Короткая поэма «Красный бычок» (апрель 1928 года)442 вернула Цветаеву к теме не осуществленного весной 1926 года замысла поэмы о Добровольчестве, и с августа 1928 по май 1929 года она работала над поэмой «Перекоп» – своим памятником побежденным в исторической схватке. Сообщая Наталье Гончаровой о работе над поэмой, Цветаева подчеркивала «эпические» коннотации замысла: «Думаю: самое большое после Троянской войны». И уточняла: «Событие, – а не мои стихи!»443. Поэма осталась незавершенной в сюжетном отношении, и переписанный в 1938 году набело текст «Перекопа» Цветаева снабдила примечанием: «Последнего Перекопа не написала – потому что дневника (С. Эфрона. – И. Ш.) уже не было, а сам перекопец <…> к Перекопу уже остыл – а остальные, бывшие и не остывшие – рассказывать не умели – или я´ не понимала (военное). Так и остался последний Перекоп без меня, а я – без последнего Перекопа. – Жаль» (СП, 759). Сразу же за «Перекопом» последовал обширный замысел «Поэмы о Царской Семье», текст которой – за исключением одной главы («Сибирь»), опубликованной в 1931 году, и небольших фрагментов – на сегодняшний день считается утраченным444.
Намерения, которые одушевляли Цветаеву в ее эпических замыслах на темы недавнего исторического прошлого, очевидно не нашли себе желаемого воплощения ни в «Перекопе», ни в «Поэме о Царской Семье». Если в брошенном «Егорушке» замыслу явно недоставало ясной сюжетной рамки, то в «Перекопе» и «Поэме о Царской Семье» Цветаева, напротив, оказалась подавленной «рамками» исторического материала, с которым работала. Отсутствие в эпическом повествовании места для «первого лица», т. е. для автора как субъекта действия или переживания, существенно сковывало ее творческий интерес к этим замыслам. В июне 1929 года Цветаева уже признавалась, что работа над «Перекопом» была связана c «вдохновленностью не стихом, а темой» (СТ, 406), а в 1933 году в письме к В. Н. Буниной констатировала, что в «Поэме о Царской Семье» «историк поэта – загнал» (СС7, 253). Эпическому началу суждено было в полной мере реализоваться в ее творчестве совсем иначе.
В начале 1928 года Цветаева впервые принялась за чтение серии романов М. Пруста «В поисках утраченного времени». «Сейчас читаю Пруста, с первой книги (Swann), читаю легко, как себя и все думаю: у него всё есть, чего у него нет??» (СС7, 113) – писала она в середине марта Саломее Андрониковой-Гальперн. Как это уже случалось прежде, встреча с чужим текстом, в нужную минуту попавшим в ее поле зрения, стала катализатором складывавшихся у Цветаевой творческих настроений445. При сравнительной немногочисленности упоминаний имени Пруста в произведениях и переписке Цветаевой, все они свидетельствуют о ее глубокой затронутости творческим примером Пруста. Обращение прошедшего в вечное через слово и исчезновение настоящего как категории бытия, место которой целиком заполняет процесс письма, – именно в этом Цветаева ощущает солидарность с Прустом, и эту идеологию развивает в своем позднем творчестве. «Le grand acte de Proust est d’avoir trouvé sa vie en écrivant, tandis que la génération russe d’avant guerre l’a perdue en parlant»446, – резко проводила Цветаева грань между «декадентским» поколением своих соотечественников и Прустом, которых поставил в один ряд Борис Вышеславцев в докладе на франко-русском литературном вечере. Вне всякого сомнения, грех «растрачивания жизни в разговорах» Цветаева относила на счет эмигрантского литературного сообщества в той же мере, что и на счет предвоенного российского. Этим «разговорам», т. е. торжеству настоящего времени, Цветаева противопоставила «обретение жизни в письме» как акт победы над временем. Поэтическим манифестом этой идеологии стал цветаевский цикл «Стол» (1933), отметивший одной ей вéдомый юбилей:
Тридцатая годовщина
Союза – верней любви.
Я знаю твои морщины,
Как знаешь и ты – мои,
Которых – не ты ли – автор?
Съедавший за дестью десть,
Учивший, что нету – завтра,
Что только сегодня – есть.
И деньги, и письма с почты —
Стол – сбрасывавший – в поток!
Твердивший, что каждой строчке
Сегодня – последний срок.
Грозивший, что счетом ложек
Создателю не воздашь,
Что завтра меня положат,
Дурищу – да на тебя ж!
«Сегодня», без остатка отданное «столу», автору всех жизненных испытаний, какие когда‐либо пришлось пережить, и источнику всех истин, какие когда‐либо пришлось постичь, – именно такое «сегодня» Цветаева оставляла для себя в своем уединении.
В 1926 году явившееся как угроза творчеству, «переселение» в мир «теней» постепенно стало осознаваться как содержание творчества. Опоенный кровью Аид действительно заговорил:
Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, – к вам, в вас – умираю. Чем больше вы – здесь, тем больше я – там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве – и в их обратном. Моя смерть – плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живою кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас – своей (СС4, 409–410).
Так, подводя своеобразный итог всем своим «мемуарно-эпическим» опытам 1930‐х годов, обращалась Цветаева летом 1937 года к героям «Повести о Сонечке», самого сложного по «биографическому методу» и самого «прустианского» из ее произведений. «Я хочу воскресить весь тот мир – чтобы все они не даром жили – и чтобы я´ не даром жила!» (СС7, 241) – так, работая в 1933 году над первым большим замыслом из ряда мемуарных очерков 1930‐х годов – «Домом у Старого Пимена» – определяла Цветаева пафос своей работы. Спустя полтора года она настойчиво советовала В. Н. Буниной: «Пишите, Вера! Времени никогда нет, а писать – нужно, ведь только тогда из него и выходишь, ведь только тáк оно и остается!» (СС7, 286). «Кто был – должен быть всегда, а это – забота поэтов» (СС7, 568), – повторяла Цветаева в 1936 году Анатолию Штейгеру, убеждая его написать о своем прадеде. Рассыпанные по цветаевской прозе и письмам 1930‐х годов, эти замечания в преображенном виде возвращали в ее творчество давний юношеский пафос – «писать больше», «закреплять каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох» (СС5, 230). Однако теперь уже не настоящее, на взаимодействии с впечатлениями которого держалась лирика, а ушедшее становилось областью приложения этого пафоса – и рождало эпос.
Интересно, что романы Пруста Цветаева сразу для себя изъяла из «романной» традиции. В феврале 1931 года она записывала:
Уезжает (замуж!) Е. А. И<звольская>. Разговор – какие книги взять. <…> Я бы, кажется, Temps perdu447 Пруста (все икс томов!), все 6 (или 8) томов Казановы – лучше восемь! – Русские сказки и былины – и Гомера (немецкого). И Mémorial Лас-Каза. Выясняется: ни одного литературного произведения, ряд сопутствующих жизней, чтобы не так тошно было жить – свою. Эккермана, конечно (СТ, 430).
Объединяет перечисленные книги, по мысли Цветаевой, не-беллетристический характер и лежащая в их основе жизнеописательность – в широком смысле слова. В одном ряду оказываются повествования эпическо-мифические (Гомер, былины, сказки) и дневниково-мемуарно-автобиографические (в число которых попадают и романы Пруста). Эпос в этом ряду предстает «старшим» жизнеописательным жанром, в котором для Цветаевой, как и в «истории Жанны д’Арк», важно внимание к индивидуальному характеру, а не контекст событий. «Чувство Истории – только чувство Судьбы» (СС4, 142), – скажет она вскоре в «Истории одного посвящения» (1931).
Из стремления к совмещению и слиянию эпоса с мемуарно-автобиографической тематикой выросла вся (за исключением литературно-аналитических эссе) проза Цветаевой последнего десятилетия ее творчества. О том, что именно в состязании с эпосом творила Цветаева свою «летопись», свидетельствует целый ряд ее высказываний. В 1932 году она записывала:
Оставьте меня, потрясения, войны и т. д. У меня свои события: свой дар и своя обида – о, за него, не за себя.
Летопись своей судьбы.
Свое самособытие.
Войны и потрясения станут школьной невнятицей, как те войны, к<отор>ые учили – мы, а мое – вечно будет петь (СТ, 481).
Традиционно запечатлеваемые эпосом «войны и потрясения» под пером Цветаевой оказывались событиями, наиболее подверженными забвению и ничем, кроме «школьной невнятицы», не чреватыми. Пищу истинному эпосу давала индивидуальная жизнь человека, его «самособытие», исполненное трансвременных смыслов, а потому потенциально «живое» для любого момента истории. Потому «исторические» поэмы, посвященные «войнам и потрясениям», с работы над которыми началась для Цветаевой эпоха «поисков утраченного времени», оказались периферийной ветвью в ее позднем творчестве. Пытаясь объяснить себе причины собственного отчуждения от исторического мышления, Цветаева отмечала эфемерность охвата историческими повествованиями той реальности, которую они брались описывать:
Удивительно, что прошедшее (истекшее) время так же подробно проходило, как наше, год за годом, день за днем, час за часом, миг за мигом, – не пластами: Атилла, Цезарь, и т. д. – не эпохами – не глыбами, а нашей дробью: миговеньем ока – т. е. что Атилла каждую данную минуту был Атилла, не Атилла-вообще (а сколько – какие толпы – сонмы – мириады – не-Атилл, и каждый – каждую данную минуту!) – не Атилла раз-навсегда.
Потому‐то так неудовлетворительна, неутолительна – история (СТ, 467).
«И так восхитительна и умилительна и воскресительна – la petite histoire448 (бельевые счета Бетховена)» (СТ, 551), – добавляла она, переписывая эту запись в 1938 году.
Прозаическое письмо Цветаевой, выросшее, как мы уже видели, из камерного, «приватного» дискурса, именно в мемуарно-эпических текстах вполне раскрыло свой потенциал. Поэтика фрагмента стала композиционной основой практически всей прозы Цветаевой. Но теперь эти фрагменты укрупнялись, из «жизненного» зерна вырастали концепции характеров и личностей, с которыми случались те события, которые должны были эти характеры раскрывать, наполнять смыслом. Усложняясь многообразными связями, устанавливаемыми явно и скрыто между удаленными друг от друга фрагментами одного текста, а затем и между разными текстами, проза Цветаевой 1930‐х годов наполнялась замысловатыми иносказаниями и скрытыми сюжетами, распутывание которых еще только начинается исследователями449. Изобретенный Цветаевой модернистский вариант мифо-эпической традиции, как и положено эпосу, давал непререкаемую версию событий прошлого, раз навсегда определяя смысловые и причинно-следственные связи внутри него. «Я, конечно, многое, ВСЁ, по природе своей, иносказую, но думаю – и это жизнь. Фактов я не трогаю никогда, я их только – толкую» (СС7, 247), – так видела свой метод «поисков утраченного времени» Цветаева.
По ряду содержательных признаков многие цветаевские тексты 1930‐х годов походили на мемуарные или автобиографические очерки, и традицию воспринимать их как источники для ее биографии заложили уже современники. Наиболее проницательные из них, однако, не поддались иллюзии «достоверности», создаваемой этими текстами. Внимательно следивший в 1930‐е годы за творчеством Цветаевой и высоко ставивший ее прозу В. Ходасевич неоднократно указывал на неприменимость категории достоверности к характеристике цветаевских очерков. Поясняя свою точку зрения в отзыве на один из них, «Черт» (1935), он отмечал: «В этих воспоминаниях самое примечательное – именно их стояние на грани между воспоминаниями и чистым вымыслом: в каждом их слове чувствуется полное соответствие былой действительности, но самая эта действительность переживается совершенно так, как художником переживается его замысел»450.
Поиском замысла собственной жизни, как и жизней тех, с кем сводила ее судьба, и стало цветаевское путешествие во времени, или из времени, сформировавшее ее прозу 1930‐х годов. «Чувство Судьбы», которое, по Цветаевой, было необходимо для такого путешествия, именно в арсенале историка и отсутствовало, но зато давалось поэту. Рассказывая в «Доме у Старого Пимена» (1933) о трагически умиравших один за другим детях Д. И. Иловайского, Цветаева отмечала слепоту его, историка, к тому, что рядом с ним совершалось: «Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. Истории в своем доме и жизни историк не ощутил. (А может быть, и не истории, а Рока, открытого только поэту?)» (СС5, 111). «Неудовлетворительности, неутолительности истории», мыслящей в эпохальных категориях, Цветаева противопоставила «историю в своем доме и жизни», логика которой называлась не «исторической закономерностью», а «Роком». Именно о нем рассказывала она читателю, описывая историю гибели семьи Иловайских, сквозь которую чем далее, тем яснее проступала история гибели старой России, гибели прекрасного и отталкивающего в ней, дорогого и абсолютно чуждого автору451. История семьи становилась эпосом о стране, о «Роке», ее постигшем. Но в этом эпическом полотне было место и для личного мифа каждого. В своеобразной «вставной новелле» о детской любви и тоске Цветаевой по умершей Наде Иловайской рассказывалось о происхождении, о «роковом» истоке ее личного мифа, определившем дальнейший творческий путь: «Тоска по смерти – для встречи. Нестерпимое детское “сейчас!”. А раз здесь нельзя – так не здесь» (СС5, 131).
«Судьбу», именно в детских впечатлениях являющую свой лик и далее сопровождающую человека повсюду, Цветаева и отыскивала неустанно в своем путешествии в «утраченное время». Такой поиск требовал не пересказа жизненных событий как развивающегося сюжета, а внимания к узловым, повторяющимся, т. е. неизменным мотивам этого сюжета: «Люди ошибаются, когда что‐либо в человеке объясняют возрастом: человек рождается ВЕСЬ! Заметьте, до чего мы в самом раннем возрасте и – через года и года! – одинаковы, любим все то же. Какая‐то непреходящая невинность» (СС6, 304), – так еще в начале 1920‐х годов в частном письме выразила Цветаева тот символ веры, который лег в основание ее «автобиографической» прозы 1930‐х годов452.
Прологом к этой прозе стал большой очерк «Наталья Гончарова (Жизнь и творчество)» (1929) – последний крупный акт «писания своей автобиографии через других» в цветаевском творчестве453. Работа над ним пересеклась по времени с работой над поэмой «Перекоп»: альтернативный путь для развития своего эпоса Цветаева нашла, таким образом, еще в период размышлений над замыслом историческим. Очерк «Наталья Гончарова» оказался своего рода конспектом тем, которые далее получили развитие в поэзии и прозе Цветаевой. Здесь возникла пушкинская тема, пронизывающая ее творчество в 1930‐е годы; здесь же прозвучали основные философские мотивы ее будущих эссе начала 1930‐х годов. Но прежде всего здесь была сформулирована идейная платформа последующей цветаевской «автобиографической» прозы:
Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? И, если есть, важна ли она? Важно ли то, из чего? И – из того ли – то?
Есть ли Гончарова вне холстов? Нет, но была до холстов, Гончарова до Гончаровой, все то время, когда Гончарова звучало не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если звучало – то отзвуком Натальи Гончаровой – той (печальной памяти прабабушки). Гончаровой до «соборов» нет – все они внутри с самого рождения и до рождения (о, вместимость материнского чрева, носящего в себе всего Наполеона, от Аяччио до св. Елены!) – но есть Гончарова до холстов, Гончарова немая, с рукой, но без кисти, стало быть – без руки. Есть препоны к соборам, это и есть личная биография. – Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой. <…>
Первый холст – конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника. Обретший глас (здесь хочется сказать – глаз) – и за него ли говорить фактам? Их роль, в безглагольную пору, первоисточника, отныне не более как подстрочник, часто только путающий, как примечания Державина к собственным стихам. Любопытно, но не насущно. Обойдусь и без. И – стихи лучше знают! (СС4, 78–79)
Сомнение в наличии у художника «личной биографии, кроме той, в ремесле» теперь уже было идеологически связано не с противоположением его творчества жизни, а с радикальным слиянием этих двух понятий в духе позднего цветаевского прустианства:
П<отому> ч<то> вовсе не: жить и писать, а жить = писать и: писать – жить. Т. е. всё осуществляется и даже живется (понимается [пропуск в рукописи]) только в тетради. А в жизни – чтó? В жизни – хозяйство: уборка, стирка, торопка, забота. В жизни – функция и отсутствие. К<отор>ое другие наивно принимают за максимальное присутствие, до к<оторо>го моему так же далёко, как моей разговорной <…> речи – до моей писаной454.
Тетрадь, будучи пространством существования, приравнивала письмо к самому процессу существования поэта, и никакой другой биографии, кроме биографии перевоплощения в текст, у него уже быть не могло. Поэтому его «личная биография» ограничивалась «безглагольной порой», дописьменным периодом. Однако период этот был знаменателен тем, что в нем уже был зашифрован, закодирован весь творческий потенциал человека и проникновение в эти «доисторические» лабиринты могло рассказать о творческой личности не меньше, чем будущие творения:
…ища нынешней Гончаровой, идите в ее детство, если можете – в младенчество. Там – корни. И – как ни странно – у художника ведь так: сначала корни, потом ветви, потом ствол.
История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к последней. Как ни мало свидетельств – одно доисторическое – почти догадка – больше дает о народе, чем все последующие достоверности. «Чудится мне»… так говорит народ. Так говорит поэт.
Если есть еще божественное, кроме завершения, мира явленного, то – он же в замысле.
Еще божественнее! (СС4, 80)
Начавшись в «Доме у Старого Пимена», путешествие Цветаевой в свою «до-историю» продолжилось целой россыпью очерков, среди которых центральное место принадлежит своеобразному триптиху – «Мать и музыка» (1934), «Черт» (1935) и «Мой Пушкин» (1937), – триптиху о силах, соучаствующих в формировании личности будущего художника.
В соответствии с принципом, установленным в очерке «Наталья Гончарова», в «до-истории» поэта должен был раскрываться весь будущий поэт. Так оно и оказывалось:
Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере, будет музыкантша». Когда же моим первым, явно-бессмысленным и вполне отчетливым догодовалым словом оказалась «гамма», мать только подтвердила: «Я так и знала», – и тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму: «До, Муся, до, а это – ре, до – ре…» Это до – ре вскоре обернулось у меня огромной, в половину всей меня, книгой – «кингой», как я говорила. Пока что только ее, «кинги», крышкой, но с такой силы и жути прорезающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком‐то определенном уединенном ундинном месте сердца – жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и оттуда, при малейшем прикосновении, встает и меня заливает по край глаз, выжигая слезы. Это до – ре (Дорэ), а ре – ми – Реми, мальчик Реми из «Sans Famille»455, счастливый мальчик, которого злой муж кормилицы (estropié456, с точно спиленной ногой: pied) калека Père Barberin сразу превращает в несчастного, сначала не дав блинам стать блинами, а на другой день продав самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его трем собакам: Капи, Зербино и Дольче, единственной его обезьянке – Жоли Кёр, ужасной пьянице, потом умирающей у Реми за пазухой от чахотки. Это ре – ми. Взятые же отдельно: до – явно белое, пустое, до всего, ре – голубое, ми – желтое (может быть – midi?)457, фа – коричневое (может быть, фаевое выходное платье матери, а ре – голубое – река?) – и так далее, и все эти «далее» – есть, я только не хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои на них резоны.
Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося «молодец!», холодно прибавляя: «Впрочем, ты ни при чем. Слух – от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я – ни при чем, что слух – от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от само-сомнения, от всякого, в искусстве, самолюбия, – раз слух от Бога. «Твое – только старание, потому что каждый Божий дар можно загубить», – говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и уже из‐за этого запоминающей так, что потом уже ничем не выбьешь. И если я этого своего слуха не загубила, не только сама не загубила, но и жизни не дала загубить и забить (а как старалась!), я этим опять‐таки обязана матери. Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросши, не только бы больше понимали, но и тверже поступали. Разъяснять ребенку ничего не нужно, ребенка нужно – заклясть. И чем темнее слова заклятия – тем глубже они в ребенка врастают, тем непреложнее в нем действуют: «Отче наш, иже еси на небесех…» (СС5, 10–11).
В этих начальных абзацах очерка «Мать и музыка» (1934) «автобиографический метод» Цветаевой предстает как на ладони. Названия нот, неумолимо рождающие у слышащего их ребенка ассоциации не музыкальные, а лингвистические (даже когда они цветовые), названия нот, ведущие не в музыку, а к книгам, – только такой и могла быть «личная биография» будущего поэта. Воспитательные же «заклятия» матери о том, что «слух – от Бога», в этой «личной биографии» сразу становились «доисторическими» основаниями творческой философии. К ним можно было возводить и знание о внеличных истоках творчества, и представление о поэте как орудии «высших сил», и убежденность в собственной творческой непогрешимости, и одержимость трудом «вслушивания».
Еще одно важное в этой «личной биографии» звено – «до-история» собственной поэтики – обнаруживается в тексте через несколько страниц:
Нотная этажерка делилась на «мамино» и «Лёрино». Мамино: Бетховен, Шуман, опусы, Dur’ы, Moll’и, Сонаты, Симфонии, Allegro non troppo, и Лёрино – Нувеллист. Нувеллист + романсы (через французское an). И я, конечно, предпочитала «ансы». Во-первых, в них вдвое больше слов, чем нот (на одну нотную строчку – две буквенные), во‐вторых, я всю Лёрину библиотеку могу прочесть подстрочно, минуя ноты. (Когда я потом, вынужденная необходимостью своей ритмики, стала разбивать, разрывать слова на слога путем непривычного в стихах тире, и все меня за это, годами, ругали, а редкие – хвалили (и те и другие за «современность») и я ничего не умела сказать, кроме: «так нужно», – я вдруг однажды глазами увидела те, младенчества своего, романсные тексты в сплошных законных тире – и почувствовала себя омытой: всей Музыкой от всякой «современности»: омытой, поддержанной, подтвержденной и узаконенной – как ребенок по тайному знаку рода оказавшийся – родным, в праве на жизнь, наконец! <…>) (СС5, 21–22).
«Современность» авторской поэтики, предопределенная детским «подстрочным» чтением романсов, «минуя ноты», – лучшего иронического комментария к модернистскому пафосу «современности» или «новаторства» в искусстве Цветаева придумать не могла. Но не могла она и лучше – яснее и лаконичнее – указать на важнейшую особенность своего письма: систематическое внедрение в него структурных элементов камерных, пограничных с литературой жанров. И потому весь приведенный пассаж оказывался правдивей правды, а описываемое в нем – реальней реальности.
«Более обширная автобиография, написанная в тех приемах, как “Мать и музыка”, стала бы не автобиографией, а повестью или романом, как “Детство” Толстого или “Котик Летаев” Андрея Белого»458, – подчеркивал Ходасевич концептуальный, а не документальный характер цветаевской автобиографии. Однако «более обширная автобиография» в ее планы никогда не входила. Сознание, что «прошедшее (истекшее) время так же подробно проходило, как наше, год за годом, день за днем, час за часом, миг за мигом», лишало для Цветаевой притягательности саму идею сотворения текстового эквивалента этого бесконечно «подробного» прошедшего времени (в чем заключается и ее глубокое отличие от Пруста). Опыт лирика, в прозаическом письме более всего увлеченного его афористическими (т. е. легко отделимыми от конкретного контекста) возможностями, вел Цветаеву по пути вычленения в прошедшем таких элементов, которые бы имели символическую трансвременную связь с каждым моментом дальнейшей жизни человека. Это и было выходом из времени и одновременно его увековечением, – прием, бесконечно эксплицировавшийся Цветаевой на страницах ее «воспоминаний»:
Газеты же мать, с каким‐то высокомерным упорством мученика, ежеутренне, ни слова не говоря отцу, неизменно и невинно их туда клавшему, с рояля снимала – сметала – и, кто знает, не из этого ли сопоставления рояльной зеркальной предельной чистоты и черноты с беспорядочным и бесцветным газетным ворохом, и не из этого ли одновременно широкого и педантичного материнского жеста расправы и выросла моя ничем не вытравимая, аксиомная во мне убежденность: газеты – нечисть, и вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира – месть. И если я когда‐нибудь умру под забором, я, по крайней мере, буду знать отчего (СС5, 11).
Отталкивание от «газетного мира» – т. е. политики, злободневности, современности – так же естественно «вытекало» из «до-истории» маленькой Цветаевой, как ее поэтика, философия, одержимость словом. Впечатления времен «личной биографии» объясняли будущую «биографию в ремесле», обе биографии взаимно отражали и взаимно подтверждали друг друга.
«Мать и музыка» была, однако, не просто рассказом о «доисторических» корнях будущего поэта. Она была рассказом о значении, которое имеют для формирования художника воля и влияние другого человека. Эта воля воплощалась в матери, желавшей видеть дочь пианисткой, и об этой материнской воле рассказывал очерк прежде всего. Кончина матери в 1906 году и выход маленькой Цветаевой из‐под влияния чужой человеческой воли обнаруживал существование более мощных сил, имеющих власть над художником:
Жила бы мать дальше – я бы, наверное, кончила Консерваторию и вышла бы неплохим пианистом – ибо данные были. Но было другое: заданное, с музыкой несравненное и возвращающее ее на ее настоящее во мне место: общей музыкальности и «недюжинных» (как мало!) способностей.
Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать (СС5, 31).
Написанный в следующем году очерк «Черт»459 был посвящен именно им, тем силам, которых не могло бы одолеть влияние матери. Имя, данное этим силам, возможно, было связано с давним впечатлением Цветаевой от чтения «Трагического зверинца» Л. Зиновьевой-Аннибал460, одна из новелл которого называлась «Черт». Во всяком случае, в 1920 году, разговаривая с Вяч. Ивановым, Цветаева о Зиновьевой-Аннибал скажет: «Обожаю ее “Трагический Зверинец”, – там “Чорт” – вылитая я!» (ЗК2, 169). Однако рассказ Зиновьевой-Аннибал о детских переживаниях и бунтах против мира взрослых, его норм и табу, Цветаева существенно переосмыслила. Ее «Черт» стал рассказом о «до-истории» собственного творчества:
Черт сидел на Валерииной кровати, – голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога или у остзейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. Черт сидел так смирно, точно его снимали. Шерсти не было, было обратное шерсти: полная гладкость и даже бритость, из стали вылитость. Теперь вижу, что тело у моего черта было идеально-спортивное: львицыно, а по масти – догово. Когда мне, двадцать лет спустя, в Революцию, привели на подержание дога, я сразу узнала своего Мышатого.
Рогов не помню, может быть, и были маленькие, но скорей – уши. Чтó было – хвост, львицын, большой, голый, сильный и живой, как змей, грациозно и многократно перевитый вокруг статуарно-недвижных ног – так, чтобы из последнего переплета выглядывала кисть. Ног (ступни) не было, но и копыт не было: человеческие и даже атлетические ноги опирались на лапы, опять‐таки львицыно-договы, с крупными, серыми же, серого рога, когтями. Когда он ходил – он стучал. Но при мне он никогда не ходил. Главными же приметами были не лапы, не хвост, – не атрибуты, главное были – глаза: бесцветные, безразличные и беспощадные. Я его до всего узнавала по глазам, и эти глаза узнала бы – без всего.
Действия не было. Он сидел, я – стояла. И я его – любила (СС5, 32–33).
Этот пассаж Цветаевой радикально «переписывал» фрагмент диалога из «Братьев Карамазовых» Достоевского, в котором Иван рассказывает Алеше о посещениях черта:
– Нет, нет, нет! – вскричал вдруг Иван, – это был не сон! Он был, он тут сидел, вон на том диване. <…> Постой, я и прежде спал, но этот сон не сон. И прежде было. У меня, Алеша, теперь бывают сны… но они не сны, а наяву: я хожу, говорю и вижу… а сплю. Но он тут сидел, он был, вот на этом диване… Он ужасно глуп, Алеша, ужасно глуп, – засмеялся вдруг Иван и принялся шагать по комнате.
– Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат? – опять тоскливо спросил Алеша.
– Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, даже почти три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый… <…>
– И ты твердо уверен, что кто‐то тут сидел? – спросил Алеша.
– Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал: он исчез, как ты явился. <…>. А он – это я, Алеша, я сам. Всё мое низкое, всё мое подлое и презренное!461
Черт как экстериоризация «низкого, подлого и презренного» в человеке замещался у Цветаевой чертом как хранителем и покровителем всего того, что в обыденной человеческой жизни оставалось невостребованным. Являвшийся Ивану Карамазову в образе господина с невыразительной внешностью, принимавшего на земле все привычки обывателя, включая походы в баню462, у Цветаевой Черт, напротив, подчеркнуто «расчеловечивался». Он был гол, так что раздевать его, дабы отыскать хвост, не было необходимости. В отличие от многословного черта Ивана Карамазова цветаевский Черт молчал, и свидания с ним героини были исполнены не ужаса, а любви.
Повесть о неодолимой силе, покорившей ее ребенком и уже никогда не отпустившей, – таково место «Черта» в цветаевской автомифологии. «Одной вещи мне Черт никогда не отдал – меня» (СС5, 43), – подытоживала Цветаева. Человеческая воля, воплощенная в матери, против этой силы была бессильна, ибо происхождение ее было не-человеческое. Что же касается имени этой «не-человечности», то оно двоилось, как будто ускользая от человеческого знания:
Одним из первых тайных ужасов и ужасных тайн моего детства (младенчества) было: «Бог – Черт!» Бог – с безмолвным молниеносным неизменным добавлением – Черт. <…> Это была – я, во мне, чей‐то дар мне – в колыбель. «Бог – Черт, Бог – Черт», и так несчетное число раз, холодея от кощунства и не можá остановиться, пока не остановится мысленный язык. <…>
Между Богом и Чертом не было ни малейшей щели – чтобы ввести волю, ни малейшего отстояния, чтобы успеть ввести, как палец, сознание и этим предотвратить эту ужасную сращенность (СС5, 43).
«Сращенность», неразличимая похожесть, равная релевантность Бога и Черта отсылает к весьма богатой символистской традиции, так что само появление этой темы, скорее, служит способом указать на авторскую литературную родословную463. Превращая «датскую собаку» в «дога», Цветаева придает этой сращенности еще и лингвистическое измерение, хотя не вполне эксплицирует свою языковую игру для читателя. «Дог» и «Бог» сближаются ею по звучанию, позволяя переименовать черта в «собачьего бога» (СС5, 55); однако о скрытой в слове «дог» макаронической русско-английской анаграмме Цветаева предоставляет читателю догадаться самостоятельно: «дог» – это «dog» («собака»), при перевернутом чтении дающее «God» – «Бог»464.
С одной стороны, неразрывная связанность Бога и Черта, добра и зла, сопряжена у Цветаевой с «дьявольской» природой искусства (неразличение Бога и Черта – результат козней последнего). Однако параллельным основанием такой «сращенности» является принадлежность поэта миру природы (о чем Цветаева уже напишет к тому времени в эссе «Искусство при свете совести»)465, которому неведомы самые категории добра и зла, хотя ведома категория божества. «И никто из них (двоих. – И. Ш.) не был добр. И никто – зол» (СС5, 48), – подчеркивает Цветаева. Но воплощенность неодолимой силы в Черте, а не в Боге отнюдь не произвольна. Бог присвоен культурой, Черт – ее изгой. Об одиночестве Бога «в пустоте небес» (СП, 448) культура не хочет знать, превратив его в участника социальной жизни. Черт же тот, кто из общества изгнан:
Грозный дог моего детства – Мышатый! Ты один, у тебя нет церквей, тебе не служат вкупе. Твоим именем не освящают ни плотского, ни корыстного союза. Твое изображение не висит в залах суда, где равнодушие судит страсть, сытость – голод, здоровье – болезнь <…>.
Тебя не целуют на кресте насильственной присяги и лжесвидетельства. Тобой, во образе распятого, не зажимает рта убиваемому государством его слуга и соубийца – священник. Тобой не благословляются бои и бойни. Ты в присутственных местах не присутствуешь.
Ни в церквях, ни в судах, ни в школах, ни в казармах, ни в тюрьмах, – там, где право – тебя нет, там, где много – тебя нет.
Нет тебя и на пресловутых «черных мессах», этих привилегированных массовках, где люди совершают глупости – любить тебя вкупе, тебя, которого первая и последняя честь – одиночество.
Если искать тебя, то только по одиночным камерам Бунта и чердакам Лирической Поэзии.
Тобой, который есть – зло, общество не злоупотребило (СС5, 56).
Вчитывание кодов своей будущей творческой позиции в рассказ о детских встречах с Чертом, делает этот очерк Цветаевой своего рода ретроспективным манифестом. «А когда‐нибудь мы с тобой поженимся, черт возьми!» (СС5, 34) – так изъясняется с маленькой Цветаевой ее покровитель. О каком браке идет речь, уже рассказано в цветаевских поэмах. Гений-Вожатый, Мóлодец-Упырь или Крысолов, все воплощения сил, разрушающих земное устройство и преступающих человеческие и божеские законы во имя своей иной правды, – у этих многолетних хозяев цветаевской поэзии в ее «личной биографии», в ее «до-истории» было одно имя – Черт. Он и был ее «гением», не оставившим ни пяди другим покровителям и исключившим из ее бытия всё, чему сам не сочувствовал. И каждая строка ее жизнеописания была собственно о нем:
Тебе я обязана (так Марк Аврелий начинает свою книгу) своим первым сознанием возвеличенности и избранности, ибо к девочкам из нашего флигеля ты не ходил.
Тебе я обязана своим первым преступлением: тайной на первой исповеди, после которого – всё уже было преступлено.
Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь, разъедая ее оценкой и добивая гордыней, ибо ты решил меня поэтом, а не любимой женщиной. <…>
Это ты оберег меня от всякой общности – вплоть до газетного сотрудничества, – нацепив мне, как злой сторож Давиду Копперфильду, на спину ярлык: «Берегитесь! Кусается!»
И не ты ли, моей ранней любовью к тебе, внушил мне любовь ко всем побежденным, ко всем causes perdues – последних монархий, последних конских извозчиков, последних лирических поэтов. <…>
Когда я одиннадцати лет в католическом пансионе старалась полюбить Бога <…> ты мне не помешал. Ты только ушел на самое мое дно, вежливо уступая место – другому. <…> Ты никогда не снизошел до борьбы за меня (и за чтó бы то ни было!), ибо всё твое богоборчество – бой за одиночество, которое одно и есть власть. <…>
И если ты когда‐то в виде серой собачьей няни снизошел до меня, маленькой девочки, то только затем, чтобы она потом всю жизнь сумела одна: без нянь и без Вань (СС5, 54–55, 56).
«Черт» был напечатан в 1935 году в «Современных записках» с двумя цензурными купюрами общим объемом в шесть книжных страниц. Был изъят большой фрагмент из середины текста и почти трехстраничный финал, в который входят и последние две цитаты. В 1938 году, приводя в порядок свой архив перед близящимся отъездом в Россию, Цветаева вернулась к этим двум изъятым фрагментам и попросила Вадима Андреева отпечатать несколько экземпляров двух вставок на машинке (СС7, 649)466. Возможно, она еще раз отредактировала их, готовя «к печати». Тем больше оснований видеть в финальной части «Черта» фактическое «завещание» Цветаевой – завещание именно такого своего облика и голоса «неуживчивому будущему».
Если «Мать и музыка» и «Черт» составляют диптих, в котором второй текст вырастает из концовки первого, то «Мой Пушкин» (1937)467, скорее, логически, чем по изначальному замыслу, примыкает к первым двум очеркам. Впрочем, по‐видимому, именно ради усиления эффекта связанности «Моего Пушкина» с «Чертом» Цветаева начинает его с упоминания той же «красной комнаты», комнаты сестры Валерии, в которой она встречалась с Чертом. Последний обитал там как раз потому, что в ней, «обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла». Среди книг, «тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать» (СС5, 36) прочитанных там маленькой Цветаевой, были, в частности, и пушкинские произведения. Теперь, в «Моем Пушкине», часть становится целым: «запретный плод», находящийся в «запретном шкафу», – это «огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – Собрание сочинений А. С. Пушкина» (СС5, 65).
Принадлежа к важной в творчестве Цветаевой 1930‐х годов «пушкинской» линии468, «Мой Пушкин» одновременно замыкает сказание о силах, складывающих личность художника. К влияниям человеческому и не-человеческому он добавляет третье – влияние традиции. К Пушкину как персонификации традиции восходят в очерке нити всех важнейших знаний о жизни и о творчестве, которые есть у автора. Более того, даже собственное рождение Цветаева возводит непосредственно к тексту Пушкина. Поступок своей матери, вышедшей замуж за нелюбимого человека, она объясняет прямым влиянием героини пушкинского «Евгения Онегина»: «Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны – не было бы меня» (СС5, 72). Рождаясь из пушкинского текста, Цветаева естественно наследует право и на пушкинский текст, и на пушкинское имя. Это право, изменив его мотивировку, она и реализует в конце очерка, рассказывая о том, как пишет на берегу моря «обломком скалы на скале»469 пушкинское «К морю»:
Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом – нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется – какое желание? – ах, К Морю! – но, значит, уже никакого желания нет? но все равно – даже без желания! я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:
Александр Сергеевич Пушкин —
и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как тот гранит… (СС5, 90)
Перенасыщенность смыслами этого абзаца делает всякую его интерпретацию частичной. Скалистый пейзаж напоминает об Орфее, очаровывавшем скалы своим пением. То же, только не голосом, а письмом, делает Цветаева, стремясь запечатлеть на них поэтические строки. Авторство этих строк – условность, ибо «поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов», ибо «нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира» (СС5, 375). Она, Марина Цветаева, может «подписаться» именем Пушкина, как могла бы – именем Орфея; ее рождение из текста Пушкина – лишь метафора одной с ним судьбы. Знание об этой судьбе он и передает ей – в процессе записывания ею стихов на скале.
Необходимость уместить «длинные стихи» на ограниченном пространстве «скалы» и успеть записать эти «длинные стихи» в ограниченный промежуток времени («до волны») – это сжатый образ условий, которые ставит поэту пространство и время его жизни. Поэтому весь абзац следует читать как универсальное описание ситуации поэта, изображенной – в духе поздней Цветаевой – как процесс развертывания письма. Зашифрованный трагизм этих строк – слова о волне, которая «не даст дописать», об иссякновении порыва («желания»), стоящего за процессом письма, о чувстве «долга» как последнем оплоте творчества, – всё это фиксация состояния Цветаевой на исходе 1936 года470, почти сто лет спустя после трагической смерти того, кто это знание ей передал. Волна, смывающая текст, освобождающая «скалы» для других голосов, в которые воплощается вечный и единственный поэт, – знак трагического ухода человека, только что этим поэтом бывшего.
Так в «Моем Пушкине» миф о становлении поэта оборачивается мифом о его человеческом конце – повторяющемся событии, которое на протяжении 1930‐х годов несколько раз заставляет Цветаеву вписывать новые главы в свой эпос.
Смерть как завершение индивидуальной судьбы – не только повод включить ее в эпос, но и возможность для Цветаевой воскресить собственное «утраченное время», заново понять его смысл. Из этих устремлений рождаются ее очерки об ушедших современниках: «Живое о живом» (1932) – о Волошине, «Пленный дух» (1934) – о Белом, «Нездешний вечер» (1936) – о Кузмине. Эти очерки пишутся в тех же приемах, что и вся «мемуарно-автобиографическая» проза Цветаевой 1930‐х годов. Фрагментарность цветаевского письма не мешает каждому портрету, создаваемому ею, тяготеть к исчерпывающему жизнеописанию. Биографические обстоятельства ее героев интересуют Цветаеву постольку, поскольку они производны от характера, склада личности; все прочее попадает в категорию случайного, т. е. не подлежащего увековечению в слове. Законченность обликов героев цветаевских литературных портретов нисколько не зависит от количества рассказанных жизненных эпизодов, ни даже от степени осведомленности Цветаевой в перипетиях жизни тех, о ком она пишет. Замечание Ходасевича о способности Цветаевой в ее «мемуарной» прозе переживать действительность «совершенно так, как художником переживается его замысел», как нельзя более приложимо к серии ее очерков о поэтах-современниках.
В «Поэте о критике» Цветаевой случилось мельком, но весьма язвительно охарактеризовать широко распространившуюся в эпоху модернизма (и косвенно связанную с жизнетворческими экспериментами авторов) традицию всеобщей осведомленности о подробностях частной жизни поэтов, – подробностях, к каковым знания об их личностях в массовом сознании и сводились:
(Изумительная осведомленность в личной жизни поэтов! Бальмонт пьет, многоженствует и блаженствует, Есенин пьет, женится на старухе, потом на внучке старика, затем вешается, Белый расходится с женой (Асей) и тоже пьет, Ахматова влюбляется в Блока, расходится с Гумилевым и выходит замуж за – целый ряд вариантов. <…> Блок не живет со своей женой, а Маяковский живет с чужой. Вячеслав – то‐то. Сологуб – то‐то. А такой‐то, знаете?)
Так, не осилив и заглавия – хоть сейчас в биографы! (СС5, 290–291)
Теперь, когда Цветаевой пришлось вырабатывать свой «биографический метод», она подчеркнула свое безусловное предпочтение «эпической» традиции. В очерке «Живое о живом», помещая код для расшифровки своего творческого метода непосредственно в текст, Цветаева приписала авторство этого метода самому герою воспоминаний – Максимилиану Волошину471:
Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет «условий», сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения – Максом, человеком и нами – только их. Все остальное: мелкое, пришлое, случайное, отметалось. То есть тот же творческий принцип памяти, о которой, от того же Макса, слышала: «La mémoire a bon goût»472, то есть несущественное, то есть девяносто сотых – забывает.
Макс о событиях рассказывал, как народ, а об отдельных людях, как о народах. Точность его живописания для меня всегда была вне сомнения, как несомненна точность всякого эпоса. Ахилл не может быть не таким, иначе он не Ахилл. В каждом из нас живет божественное мерило правды, только перед коей прегрешив человек является лжецом. Мистификаторство, в иных устах, уже начало правды, когда же оно дорастает до мифотворчества, оно – вся правда. <…> Что не насущно – лишне. Так и получаются боги и герои. Только в Максиных рассказах люди и являлись похожими, более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так и не там, где встречаешь не их, где они просто сами-не-свои и – неузнаваемы. Помню из уст Макса такое слово маленькой девочки. (Девочка впервые была в зверинце и пишет письмо отцу:)
– Видела льва – совсем не похож.
У Макса лев был всегда похож (СС4, 205–206).
Того же стремилась достичь в своих очерках и Цветаева: Ахилл всегда должен был быть похож, «иначе он не Ахилл». Ее «боги и герои» – будь то поэты-современники, или Пушкин, или сама она, героиня-сказительница – лишены случайных черт, целиком сливаются со своей судьбой и «более похожи, чем в жизни». Так, обнажая прием, на котором держатся ее портреты, Цветаева в «Моем Пушкине» описывала наружность поэта: «Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, – черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. (Раз негр – черные.)». И тут же добавляла подстрочное примечание: «Пушкин был светловолос и светлоглаз» (СС5, 58). «Более похожий, чем в жизни», черноглазый Пушкин жил в цветаевском тексте символическим гарантом достоверности ее мифа, который в точности совпадения с «долженствующим быть» превзошел действительность.
При переходе от индивидуального жизнеописания к коллективному уместность эпоса еще более возрастала. Судьбу своего поколения Цветаева видела из 1930‐х годов «гомерически» укрупненной и возвышенной до мифа, т. е. единственной «правды»:
Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. <…>
Завтра же Сережа и Лёня (Каннегисеры. – И. Ш.) кончали жизнь, послезавтра уже Софья Исааковна Чацкина бродила по Москве, как тень ища приюта, и коченела – она, которой всех каминов было мало, у московских привиденских печек.
Завтра Ахматова теряла всех, Гумилев – жизнь.
Но сегодня вечер был наш!
Пир во время Чумы? Да. Но те пировали – вином и розами, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи – уже призраки Аида – словами: звуком слов и живой кровью чувств.
Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на земле человека – правда всего существа. <…> Одни душу продают – за розовые щеки, другие душу отдают – за небесные звуки.
И – все заплатили. Сережа и Лёня – жизнью, Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в самих себе, в этой крепости – вернее Петропавловской.
И как бы ни побеждали здешние утра и вечера, и как бы по‐разному – всеисторически или бесшумно – мы, участники того нездешнего вечера, ни умирали – последним звучанием наших уст было и будет:
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Это новое «мы», которого не было прежде в творчестве Цветаевой, стало для нее в 1930‐е годы последним психологическим оплотом перед изменяющимся обликом времени. Прежде не прибегавшая к понятию «поколения», она неожиданно заговорила об актуальности для себя этого понятия. Летом 1933 года, сообщая Вадиму Рудневу, одному из редакторов «Современных записок», о своем примирении с Ходасевичем, Цветаева писала:
Все это потому, что нашего полку – убывает, что поколение – уходит, и меньше возрастнóе, чем духовное, что мы все‐таки, с Ходасевичем, несмотря на его монархизм (??) и мой аполитизм: гуманизм: МАКСИЗМ в политике, а проще: полный отворот (от газет) спины – что мы все‐таки, с Ходасевичем, по слову Ростана в передаче Щепкиной-Куперник: – Мы из одной семьи, Monsieur de Bergerac473.
Создавая свой эпос, Цветаева воссоздавала эту «семью», круг, отсутствие которого в реальности она переживала все острее в 1930‐е годы. Последней частью ее «семейного эпоса» стала «Повесть о Сонечке» (1937 – 1938).
В начале 1930‐х годов, надеясь найти путь к франкоязычному читателю, Цветаева попыталась перейти в прозе на французский язык474. Сохранившиеся в ее тетрадях и записных книжках 1932–1933 годов разнообразные франкоязычные фрагменты представляют собой «пробы пера», поиски предметов и сюжетов для этой прозы. Среди таких набросков января 1933 года и появляется впервые имя «Сонечки» (ЗК2, 356–357)475. Но дальше немногочисленных коротких фрагментов замысел тогда не идет. Зато Цветаевой удается довести почти до беловика два других замысла: «Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным»476 и «Письмо к Амазонке»477.
К последнему Цветаева будет возвращаться и позже, вплоть до 1936 года. Текст, родившийся как реакция на книгу Натали Клиффорд-Барни «Мысли амазонки», становится развернутым высказыванием Цветаевой о женской гомосексуальности. Эта тема для нее личная, поскольку связана с собственным опытом и пониманием своего пола. В то же время она над-личная, поскольку соотнесена с модернистским пониманием пола вообще. Все личные подтексты в «Письме к Амазонке» очевидны. Менее очевидны подтексты не личные.
Единственный аргумент против женских гомосексуальных союзов, который видит и обсуждает Цветаева, это невозможность в таких союзах ребенка (невозможность его в принципе – в отличие от частных невозможностей, случающихся в союзах гетеросексуальных). Эта невозможность создана не обществом, не государством, не церковью (их запреты ее не интересуют), а – природой, говорит Цветаева. Именно акцент на отсутствии прокреативного потенциала у гомосексуального чувства указывает на то, что Цветаева в своем тексте вступает в диалог не только с либертарианством Клиффорд-Барни, но и со своими старшими русскими современниками.
Антипрокреативный пафос одушевлял многие модернистские концепции «реформирования» или переосмысления пола478. Пол как «бессознательное дробление в потомстве» Волошин противопоставлял Эросу как «сознательному мистическому творчеству». «Эрос, ведущий человека по восходящей линии, непрестанно борется против пола как против деторождения»479, – утверждал он. Поэтому в его теории гомосексуальный (мужской) эрос был уже ступенью вверх, ибо освобождал пол от функции воспроизводства. И для символистов-соловьевцев, и для кружка Мережковских, и для Н. Федорова, и для Бердяева, и для ряда других авторов взгляд на прокреативную функцию сексуальности как на препятствие на пути качественной трансформации человека был ключевым. Отрицание прокреативности, в частности, мотивировалось необходимостью освобождения человека от рабства у природы. «Грех прокреативности» вменялся прежде всего женскому началу480: это оно, со своим бессознательным родовым инстинктом, препятствовало преодолению человеком природного в себе ради раскрепощения своей божественно-мистической сущности.
Нет основания думать, чтобы Цветаева когда‐либо ощущала солидарность с этой стороной символистских и околосимволистских воззрений. Но она несомненно была с ними знакома и должна была как‐то определять свое к ним отношение. Тот акцент на материнстве как на сугубо индивидуальном (а не родовом) и творческом (а не биологическом) опыте, который так характерен для ее автоописаний, был, скорее всего, бессознательной полемикой с этими взглядами. Однако лишь в «Письме к Амазонке» Цветаева высказалась на эту тему напрямую, – даже не полемизируя, а просто отведя как не заслуживающую полемики умозрительную антипрокреативную утопию со всеми ее импликациями. Любовь между женщинами совершенна как чувство, говорит Цветаева, но «то совершенное единство, которое являют собой две любящие друг друга женщины» (СС5, 489–490) обречено: «Ребенок: единственная уязвимость, рушащая все дело. Единственное, что спасает дело мужчины. И человечества» (СС5, 490). В рамках цветаевского поэтического универсума эта обреченность подобна обреченности других «разрозненных пар»: совершенное не достижимо в мире земном, а земное «дело человечества» не совместимо с антипрокреативной утопией («Островом» из «Письма к Амазонке»). И если для ее старших современников преодоление рабства человека у природы было одним из смыслов отказа от прокреации, то Цветаева именно природе отдает право определения границ, поставленных миру человеческому: «Природа говорит: нет. Запрещая сие в нас, она защищает самое себя» (СС5, 491). Столкновение человека с природным законом, как с любым земным порядком вообще, мифологизируется далее как ситуация творчества:
Этот Остров – земля, которой нет, земля, которую нельзя покинуть, земля, которую должно любить, потому что обречен. Место, откуда видно все и откуда нельзя – ничего.
Земля считанных шагов. Тупик.
Та Великая несчастливица, которая была великой поэтессой, как нельзя лучше выбрала место своего рождения (СС5, 491).
Едва ли случайно первые наброски к раннему замыслу о «Сонечке» по времени были смежны с работой Цветаевой над «Письмом к Амазонке»: отношения с Сонечкой481, конечно, осмыслялись ею как построенные на отказе от «обреченного чувства». В тексте «Повести о Сонечке» остались явные тому свидетельства, а уход Сонечки Цветаева без обиняков объясняла как предопределенный именно «природой»:
Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была мужчиной – это была бы самая счастливая любовь – а так – мы неизбежно должны были расстаться <…>.
Сонечка от меня ушла – в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину – в конце концов все равно какого – и любить его одного до смерти (СС4, 403–404).
Однако в целом «Повесть о Сонечке», как она была написана в 1937–1938 годах482, вряд ли имела много общего с замыслом 1933 года. Цветаева взялась за нее вскоре после того, как узнала о смерти Софьи Евгеньевны Голлидэй483. Эта смерть дала ей повод мысленно возвратиться в ту пору собственной жизни, когда она еще не написала «Царь-Девицы» и «На красном коне», не попрощалась с «молодостью» и не сделала «любовь» объектом жесткой творческой концептуализации. Это был психологический возврат в эпоху «восемнадцативечного маскарада» (упоминания XVIII века не раз мелькают в тексте), когда земная любовь в ее разнообразных проявлениях мыслилась как средоточие жизни. «Действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала всеми лицами» (СС4, 409), – признавалась Цветаева к концу своего рассказа. То воодушевление, с которым писала Цветаева эту повесть, та скорость, с которой она ее писала (основной период работы над текстом длился менее двух с половиной месяцев), – все свидетельствовало о мощном чувстве освобождения, которое этой работе сопутствовало. Это было новым освобождением, освобождением от наслоений собственного творческого мифа, тем творческим обновлением, которое, сложись все иначе, несомненно вывело бы Цветаеву на новые для нее пути.
Воперки априорным предположениям, среди многочисленных скрытых биографических и литературных подтекстов «Повести о Сонечке» немного следов Софии Парнок, и, на наш взгляд, ни в каком смысле нельзя назвать эту повесть «полем сражения с Парнок»484. Дело в том, что цитаты, реминисценции, биографические намеки, которыми полна «Повесть о Сонечке», отсылают к огромному количеству важных событий и лиц в жизни Цветаевой, – так что настоящий комментарий к повести неизбежно приведет исследователя, взявшегося за него, к написанию цветаевской биографии. При этом биографический и цитатный материал перетасовывается Цветаевой самым замысловатым образом, из чего не следует, будто она стремится уязвить или скрыть кого‐то из персонажей своей биографии. «Двойниками-антагонистами» Сонечки (в терминологии С. Поляковой) становятся, до некоторой степени, они все, ибо такова поэтика этого текста. Но если кто‐то в этом ряду выделяется, то это не София Парнок. Это Борис Пастернак.
Всё начинается с того, что Цветаева «перепосвящает» Сонечке одно из стихотворений цикла «Провода» – «В час, когда мой милый брат…». «Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их – Сонечка» (СС4, 311), – пишет она. Тем самым Цветаева, между прочим, раскрывает Пастернака как адресата этих стихов для современников: они, за немногими исключениями, этого знать не могли. Мотивирует же Цветаева переадресацию стихотворения Сонечке (и даже ее «авторство») лишь тем, что дважды повторяющийся в нем образ («Были слёзы больше глаз») позаимствован ею когда‐то у Сонечки. О том, что со «слезами», главным образом, связаны ее последние воспоминания о Пастернаке, когда она пишет «Повесть о Сонечке», – Цветаева, конечно, не упоминает.
Ближе к концу повести Цветаева переадресует, «перепосвящает» Сонечке уже не свой текст, а пастернаковский. Точнее, это эпиграф из Ленау, который открывал в 1922 году сборник «Сестра моя жизнь»: «Es braust der Wald, am Himmel zieh’n / Des Sturmes Donnerflüge, / Da mal’ich in die Wetter hin, / O, Mädchen, deine Züge»485. Именно в этом четверостишии она увидит «лицо: Сонечкино» (СС4, 406–407).
Еще более неординарной будет другая «переадресация», совсем скрытая от посторонних глаз. «После Сонечкиного отъезда я пошла собирать ее по следам» (СС4, 390), – говорит Цветаева о своих попытках найти что‐то важное для себя в Сонечкином московском окружении. «Отчего, когда два года назад я в той же волне пустился собирать тебя и стал натыкаться на Ланов, я Ланам не придал никакого значенья наперекор твоей документации, наперекор быть может и нынешнему твоему возраженью, что у Ланов есть вес в твоем сердце» (МЦБП, 187), – писал Пастернак Цветаевой в апреле 1926 года. О том, какими эти слова Пастернака запечатлелись в памяти Цветаевой, свидетельствует ее помета на одном из экземпляров «Спекторского» Пастернака, сделанная уже по возвращении в Россию. Против стихов «Занявшись человеком без заслуг, / Дружившим с вышеназванной москвичкой» она написала на полях: «“Тогда я пошел собирать тебя по всяким Ланнам…” (Письмо 1922 г.)»486. «Переадресуя» Сонечке позаимствованные у Пастернака слова, адресованные ей самой, Цветаева еще раз сополагает, сопоставляет образы обоих в собственном сознании.
Неудивительно и то, что один из локусов, в котором запомнилась Цветаевой Сонечка, это Новодевичье кладбище, и даже конкретней – «черные глаза, розовое лицо, двумя черными косами как бы обнимающая крест – Сонечка над соседней могилой Скрябина» (СС4, 352). Описывает Цветаева похороны А. Стаховича в 1919 году, но имя Скрябина невольно отсылает к другим похоронам, похоронам вдовы композитора Т. Ф. Шлёцер-Скрябиной в апреле 1922 года. Именно с ними и у Пастернака, и у Цветаевой было связано их последнее московское воспоминание друг о друге487. О роли же самого Скрябина в жизни Пастернака, уже описанной в «Охранной грамоте», Цветаева хорошо знала.
Полускрытое присутствие Пастернака на страницах «Повести о Сонечке» – это именно присутствие тайного «двойника» героини, главного ее «двойника». «А больше всего и всех за жизнь я, кажется, любила Сонечку Голлидэй»488, – записала Цветаева еще в феврале 1936 года – вслед за записями о других своих привязанностях, завершавшимися записью о Пастернаке.
«Пастернаковская» линия в творчестве Цветаевой 1930‐х годов, однако, столь существенна, что ее отдельные элементы можно понять лишь в соотнесении с этим целым.
Пушкин и Пастернак489
Если весной 1926 года приезд Пастернака во Францию был отложен по воле Цветаевой, то через год Пастернак сам решил перенести его еще на год. Так складывались обстоятельства; переносы эти не сопровождались ни охлаждением, ни даже ослаблением интенсивности переписки. Освобождение от прежнего личного мифа, в который она вписывала свои отношения с Пастернаком, позволяло Цветаевой назвать их именем земной человеческой любви, нуждавшейся в воплощении. Это видно уже по ее письму к Пастернаку от 1 января 1927 года и особенно по майскому письму того же года, говорившему о «целом огромном чудном мире, для стихов запретном»: «То, что узнаешь вдвоем – тáк бы я назвала, так это называется» (МЦБП, 336). В 1927–1928 годах в ее переписке с Пастернаком обсуждалась тема возвращения Цветаевой в Россию; правда, Цветаева, кажется, никогда в реализацию плана не верила и к ней не стремилась. Своих намерений выбраться на какое‐то время на Запад Пастернак не оставлял, но его планы срывались до того, как обретали необходимую конкретность. Наконец, весной 1930 года он обратился за разрешением на выезд и просил помощи Горького в его получении. В разрешении ему было отказано, и об этом отказе Пастернак писал Цветаевой 20 июня (МЦБП, 526). В том же письме он сообщал ей свой адрес на ближайшее лето – адрес своих друзей Нейгаузов в Ирпене. Там, как известно, начался его роман с Зинаидой Николаевной Нейгауз, вскоре приведший к расставанию, а затем разводу с первой женой и новому браку.
Цветаева узнала о переменах в семейной жизни Пастернака – его расставании с женой из‐за романа с З. Н. Нейгауз – в феврале 1931 года от приехавшего в Париж Бориса Пильняка. О потрясении Цветаевой после этого известия косвенно свидетельствует ее внезапная потребность рассказывать другим людям о своих отношениях с Пастернаком; никогда прежде она этого не делала. Впрочем, рассказы эти сохраняют значительную степень эмоциональной сдержанности: «Живу. Последняя ставка на человека. Но остается работа и дети и пушкинское “На свете счастья нет, но есть покой и воля”, которую Пушкин употребил как: “свобода”, я же: воля к чему‐нибудь: к той же работе» (СС7, 330). В ее разговоре с Пильняком возникала и тема отказа Пастернаку в разрешении на выезд за границу. Пильняк, судя по письму Цветаевой, давал этому отказу довольно невнятное объяснение: «П<отому> ч<то> он обращается именно туда, где только отказывают» (СС7, 329). На этом тема повисала в воздухе.
В течение марта 1931 года в частной переписке Цветаева несколько раз возвращалась к обсуждению личных обстоятельств Пастернака. «О Борисе. Борис – влюбляется. (Всю жизнь!) И влюбляется – по‐мужски. По-пушкински. <…> Катастрофа неминуема, ибо девушка глазастая. И Борис уже боится: уже проиграл» (СС7, 335), – писала она Р. Н. Ломоносовой. Мотив катастрофы нагнетался и в письме к другой корреспондентке, А. Тесковой: «…Борис Пастернак разошелся с женой – потому что любит другую. А другая замужем, и т. д. Боюсь за Бориса. В России мор на поэтов, – зá десять лет целый список! Катастрофа неизбежна: во‐первых муж, во‐вторых у Б<ориса> жена и сын, в‐третьих – красива (Б<орис> будет ревновать), в‐четвертых и в‐главных – Б<орис> на счастливую любовь неспособен» (ПТ, 187)490.
Несколько мотивов, отчетливо проступающих в подавленно-болевой реакции Цветаевой на случившееся, образуют довольно любопытный клубок. Романтическая история с красавицей, чреватая ревностью, предстает прологом к некой катастрофе. Причем эта катастрофа, как будто чисто любовная, тут же обретает и еще одно измерение: она каким‐то образом связана с тем, что «в России мор на поэтов», т. е. с некой фатальной общественной атмосферой. «По-пушкински» влюбляющемуся Пастернаку вдобавок не дают разрешения на выезд из страны. Круг пушкинских «странных сближений» замыкается, и они явно не предвещают ничего хорошего. Вскоре Цветаева берется за чтение книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина»491.
18 марта 1931 года она получила письмо от самого Пастернака с рассказом о последних событиях в его жизни. Оно, по‐видимому, положило предел периоду первой, нетворческой или дотворческой, реакции Цветаевой на случившееся. Сменило ее переключение внимания на сюжеты из прошлого. В апреле – мае Цветаева уже увлеченно работала над «Историей одного посвящения» (прозой о Мандельштаме). Обычно отмечается, что эти воспоминания писались как отклик на мемуарный очерк Георгия Иванова о Мандельштаме «Китайские тени», содержавший ряд недостоверных деталей и возмутивший этим Цветаеву492. Однако очерк этот был опубликован в газете «Последние новости» еще в феврале 1930 года, более чем за год до того, как Цветаева взялась за свой ответ. Непосредственным стимулом для этой работы весной 1931 года стало именно переживание ситуации с Пастернаком: воскрешение в памяти событий давнего, краткого и не слишком серьезного романа с другим поэтом оказывалось формой психологической самозащиты от текущих переживаний.
Однако постепенное осознание масштабов произошедшего в ее (а не Пастернака) жизни потребовало себе более прямого выхода в творчестве. Чувство опустошенности, прежде всего, индуцировало авторефлексию. По рабочим тетрадям Цветаевой легко проследить, как нарастает в них весной – летом 1931 года доля автоаналитических заметок, переходящих в аналитические размышления о поэте вообще, о его судьбе во времени и пространстве. Из этих записей выходят замыслы эссе начала 1930‐х годов – «Поэт и время» и «Искусство при свете совести». Тогда же, летом 1931 года, конкретно-биографическая пастернаковская тема находит себе творческий выход в теме культурно-типологической – пушкинской.
Тетрадный набросок письма к Пастернаку лета 1931 года493, впервые проанализированный в упомянутой статье Е. Б. Коркиной, отражает психологическую потребность Цветаевой в переосмыслении своего отношения к Пастернаку, объективизации собственного знания о нем:
Вчера впервые (за всю с тобой, в тебе – жизнь), не думая о том, чтó делаю (и – делая ли то, чтó думаю?), повесила на стену тебя – молодого, с поднятой головой, явного метиса, работы отца. <…> Выходит – сейчас я просто изъяла тебя из себя – и поставила. – Теперь я просто могу сказать: – А это – Б. П., лучший русский поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, сколько сама знаю (МЦБП, 540).
Слова о «лучшем русском поэте» подготавливают дальнейший выход к пушкинской параллели:
Ты думал о себе – эфиопе – арапе? О связи, через кровь, с Пушкиным – Ганнибалом – Петром? О преемственности. Об ответственности. М. б. после Пушкина – до тебя – и не было никого? Ведь Блок – Тютчев – и прочие – опять Пушкин, ведь Некрасов – народ, т. е. та же Арина Родионовна. Вот только твой «красивый, 22‐летний»… Думаю, что от Пушкина прямая кончается вилкой, вилами, один конец – ты, другой – Маяковский (МЦБП, 540).
Литературная родословная Пастернака мотивируется здесь как будто несколько экстравагантно, а именно – предположением, что для него вполне естественно было бы считать себя «эфиопом» или «арапом». Цветаева, однако, поясняет это ссылкой на антропологическую концепцию пушкинских корней: Ганнибалова арапская кровь была близка семитской, а следовательно, пушкинскую кровь можно определять как близкую еврейской, а еврейскую, соответственно, как близкую арапской494. Сближение по крови в устах Цветаевой символизирует родство не только творческое: «Если бы ты, очень тебе советую, Борис, ощутил в себе эту негрскую кровь <…>, ты был бы счастливее, и цельнее, и с Женей и со всеми другими легче бы пошло (МЦБП, 540).
Таким образом, у проведенной параллели «Пушкин – Пастернак» появляется вторая составляющая: не только литературное значение, но и тип личности, воплощенный в обоих поэтах (и романтически мотивированный «кровью»), оказываются сходными. При этом Цветаева стремится «дотянуть» объективную значимость второй составляющей до значимости первой, уравнять их. Еще в очерке «Наталья Гончарова» (1929), пушкинский субстрат которого был, в частности, связан с недавним знакомством Цветаевой с книгой В. Вересаева «Пушкин в жизни», она дала толкование любви Пушкина к жене как проявления извечной тяги полноты к пустоте: в этой любви так же, как и в поэтических свершениях, проявляла себя, по Цветаевой, творческая личность Пушкина. Теперь эта истина переносилась и на Пастернака (недаром в ее письме он влюблялся «по‐пушкински»). Установленное таким образом творческое и психологическое родство двух поэтов позволяло далее свободно объяснять одного через другого.
Как свидетельствует рабочая тетрадь Цветаевой, накануне или день в день с цитировавшимся наброском письма к Пастернаку она начинает работу над первым стихотворением будущего цикла «Стихи к Пушкину» – «Бич жандармов, бог студентов…». Происходит это после почти годового лирического молчания: предшествующий всплеск лирики был в августе 1930 года, и это был цикл «Маяковскому», ставший откликом на трагическую гибель поэта. Учитывая упомянутые выше «вилы», развилку линии, идущей от Пушкина, на две дороги – к Пастернаку и к Маяковскому, новый цикл вступает в, быть может, и невольные символические отношения с предыдущим.
Цикл «Маяковскому» был рассказом о гибели поэта. «Стихи к Пушкину» становятся рассказом о жизни поэта, жизни во что бы то ни стало, жизни одновременно высокой и пренебрегающей житейскими добродетелями, жизни, которая осуществляется невзирая ни на какие препятствия и драмы. Судьба Пушкина перестает быть источником «катастрофических» коннотаций с судьбой Пастернака, ибо они вытесняются новым, иным пониманием обоих поэтов. Как сказано в цитировавшемся наброске письма к Пастернаку: «Ведь Пушкина убили, п. ч. своей смертью он не умер никогда бы, жил бы вечно <…>. Пушкин – негр (черная кровь, Фаэтон), самое обратное самоубийству, это всё я выяснила, глядя на твой юношеский портрет» (МЦБП, 540–541). К самоубийце-Маяковскому, таким образом, вел тот конец «вил», который давал пушкинской линии непушкинское завершение. Идеальным наследником оказывался именно Пастернак.
«Двойной портрет», который видит Цветаева на воображаемой стене, составляет скрытый от глаз читателя фон ее «Стихов к Пушкину». Разумеется, «Стихи к Пушкину» – это стихи к Пушкину. В них не происходит отождествления двух поэтов или, тем более, замещения названным неназванного. Пастернак лишь присутствует за строками цикла как поэт, размышления над судьбой которого сделали насущным для Цветаевой обращение к судьбе первого «великого русского поэта». Кроме того, для Цветаевой, привыкшей соотносить собственное творческое бытие с пастернаковским, «Стихи к Пушкину» становятся актом выбора нового объекта для такого соотнесения («Прáдеду – товарка: / В той же мастерской!»), объекта, в котором за счет удаленности во времени частные черты стираются, зато выявляются во всей полноте основные «родовые» черты. Отсюда и эпичность Пушкина в цветаевском цикле, – ибо вся ее борьба с пушкинским мифом, с «Пушкиным в роли монумента» (СП, 411) лишь расчищает для Цветаевой путь к утверждению своего собственного мифа-сказания о пушкинской родословной и деяниях, в котором его «связь – через кровь» с Ганнибалом и Петром является важным смыслообразующим звеном:
Был негр ему истинным сыном,
Как истинным правнуком – ты
Останешься. Заговор равных.
И вот, не спросясь повитух,
Гигантова крестника правнук
Петров унаследовал дух,
И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд – коим поныне светла…
Последний – посмертный – бессмертный
Подарок России – Петра.
Петр в этом стихотворении противопоставляется Николаю I: первый, в частности, отпускает Ганнибала «на волю», за границу; второй, подразумевается в тексте, отказывает в том же Пушкину. Внезапно актуальной для Цветаевой эту тему делает, конечно, случай Пастернака.
Однако выстраиванием параллели «Пушкин – Пастернак» Цветаева не ограничивается. В июньском наброске ее письма Пастернаку находится место и теме собственных отношений с Пушкиным: «Я с Пушкиным мысленно, с 16‐ти лет всегда гуляю, никогда не целуюсь, ни разу, ни малейшего соблазна. Пушкин никогда мне не писал “Для берегов отчизны дальней”, но зато последнее его письмо, последняя строка его руки мне, Борис, – “тáк нужно писать историю”»495 (МЦБП, 541). Творческий выход своей боли от утраты Пастернака как возлюбленного Цветаева хочет найти в конструировании новых отношений с ним – как с Пушкиным. Естественным образом уже на Пушкина переносится принцип равенства, идея союза «равных», которая лежала в основе цветаевского отношения к Пастернаку. Отсюда вызывающее «Пушкин? Очень испугали!» (СП, 413) и «Прáдеду – товарка: / В той же мастерской» (СП, 415). Отсюда же и отмеченные С. Ельницкой параллели между фразой «лучший русский поэт» в отношении Пастернака и фразой «наш лучший поэт» (СТ, 451) в отношении самой Цветаевой, из ее тетрадной записи сна о Пушкине.
Изобретение треугольника, образуемого Пушкиным, Пастернаком и ею, оказалось творческим решением той психологической драмы, которой стал для Цветаевой «уход» Пастернака. Тем самым она задала себе внутренние рамки для обсуждения произведений Пастернака, ибо именно это теперь и было единственной формой продолжения отношений с ним. Из этого обсуждения должен был быть исключен всякий намек на личную обиду или горечь; одновременно оно должно было поддерживать идею сохраняющегося взаимопонимания, общности взглядов. В финале первой же из написанных статей, «Поэт и время» (январь 1932), это последнее и постулировалось:
Борис Пастернак – там, я – здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние (Борис Пастернак – с Революцией, я – ни с кем), Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно.
Это и есть: современность (СС5, 345).
Ремарка, помещенная Цветаевой в скобках, симптоматична. Она одновременно констатирует различие и подчеркивает его, с точки зрения автора, несущественность. Отношение к «истории» и к институтам современности не определяет поэта – вот в чем хочет оставаться уверенной Цветаева. С этими институтами поэта могут связывать лишь случайные, невольные отношения:
Поэт не может служить власти – потому что он сам власть.
Поэт не может служить силе – потому что он сам – сила.
Поэт не может служить народу – потому что он сам – народ.
– причем власть – высшего порядка, сила – высшего порядка и т. д.
Поэт не может служить, потому что он уже служит, целиком служит. <…>
Единственный, кому поэт на земле может служить – это другому, бóльшему поэту.
Гёте некому было служить. А служил – Карлу-Августу! (СТ, 449–450)
В статье «Эпос и лирика современной России» (1932) Цветаева вновь стремится подчеркнуть единство своих и пастернаковских взглядов, невзирая на оговорки. После явно полемического пассажа по поводу первых двух строф стихотворения Пастернака «Борису Пильняку»496, Цветаева отмечает, что пастернаковский «коллективизм» все же весьма эфемерен (особенно на фоне Маяковского): «Мы для Пастернака не ограничивается “атакующим классом”. Его мы – все те уединенные всех времен, порознь и ничего друг о друге не зная делающие одно. Творчество – общее дело, творимое уединенными. Под этим, не сомневаюсь, подпишется сам Борис Пастернак» (СС5, 394).
С. Ельницкая отметила очевидные натяжки и недоговоренности, на которые добровольно идет Цветаева в своих статьях, чтобы продолжать видеть в позиции и творчестве Пастернака главным образом соответствия собственным ожиданиям. Наиболее очевидным это становится в статье «Поэты с историей и поэты без истории» (1933), значительная часть которой представляет собой «комментированное чтение» однотомника Пастернака «Стихотворения» (1933), включавшего его произведения 1912–1932 годов. Как убедительно показано в статье С. Ельницкой, Цветаева пропускает, исключает из обсуждения почти все, что в стихах Пастернака последнего периода не только могло бы задеть ее лично, но и не соответствовало бы ее ожиданиям от него как поэта (прежде всего это касается заключительного раздела сборника – «Волны», где воспроизводятся стихи «Второго рождения»).
О том, что такого в книге было немало, свидетельствует сохранившийся обширный набросок письма к Пастернаку в ответ на присылку им этого сборника. В нем Цветаева выражает удивление по поводу того, что Пастернак снял акростих-посвящение ей с «Лейтенанта Шмидта» (она ошибочно называет «Высокую болезнь»), а также говорит о трех стихотворениях, неприятно ее поразивших. Острее всего ее реакция на стихотворение «Любимая, молвы слащавой…», на его строки:
И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем497.
В этом обращении Пастернака к своей возлюбленной Цветаева видит предательский «плагиат» своего собственного стихотворения «Есть рифмы в мире сем…», обращенного к Пастернаку (МЦБП, 543). Позднейшее цветаевское перепосвящение Сонечке стихотворения, обращенного к Пастернаку, можно считать своеобразным ответом на пастернаковский «плагиат». «Изуверски-мужские стихи», – замечает Цветаева о другом стихотворении сборника, «Не волнуйся, не плачь, не труди…», обращенном к оставленной первой жене. «“Заведи разговор по‐альпийски”, это мне, до зубов вооруженному можно так говорить, а не брошенной женщине у которой ничего нет, кроме слёз» (МЦБП, 545), – говорит Цветаева. Наконец, строки «Уходит с Запада душа, / Ей нечего там делать» из стихотворения «Весеннею порою льда…» Цветаева квалифицирует как отречение Пастернака от нее лично: «Эти ст<роки> я давно уже (в журнале?) слышу как личное оскорбление, отречение. И ты тáк <тяжко?> можешь меня оскорбить и от меня отречься. Дальше только ведь всё небо <вариант: Разве что еще от всего неба>, на котором ведь тоже “нечего делать”» (МЦБП, 544).
Но ничего этого нет в статье, которую пишет Цветаева. Концепция статьи как будто нарочно изобретается ею для того, чтобы доказать, даже вопреки очевидности, что и «гражданская тема», и «радования новому миру», и «революционные и социалистические признания» (СС5, 421) Пастернака никак не означают его эволюции, изменения. Ибо он – «поэт без истории», без развития, чистый лирик, «под шум серпа и молота» спящий «детским, волшебным, лирическим сном» (СС5, 428). Цветаева даже готова неявно противопоставить его Пушкину – который для нее, конечно, «поэт с историей». Даже тогда, когда комментарий Цветаевой очевидным образом противоречит ее же общей концепции, она этого как будто не замечает. Так, комментируя те же, что в письме, строчки Пастернака «Уходит с Запада душа, / Ей нечего там делать», – Цветаева определяет их как «полный и открытый отказ от прежнего себя, своей философической молодости в ломоносовском городке Марбурге, полный и открытый акт гражданского насилия над самим собой», добавляя при этом в скобках: «Пастернака никто не принуждал “уходить с Запада”, ибо поэта никто не в силах к чему‐либо принуждать. Здесь все гораздо сложнее правительственного рапоряжения» (СС5, 422–423). Казалось бы, говорит Цветаева именно о наличии «истории», развития у Пастернака, причем именно такого, которое не обусловлено внешним насилием, т. е. органического и не поверхностного. Тем не менее она поспешно и неубедительно дезавуирует такой вывод, переводя разговор на тему о неизменности способов самовыражения у Пастернака. Очевидно, что только такой Пастернак, «поэт без истории», ее устраивает, только таким она хочет его знать.
У Цветаевой в начале 1930‐х годов есть между тем свои причины размышлять об эволюции людей, их взглядов, в текущем историческом контексте, – той самой эволюции, которой у Пастернака-поэта она не хочет видеть. Лето 1931 года, когда она писала «Стихи к Пушкину» и впервые заговорила об особой связанности для нее имен Пушкина и Пастернака, было ознаменовано еще одним событием: в конце июня 1931 года С. Я. Эфрон подал прошение о советском гражданстве и последующем возвращении в СССР. Цветаева отозвалась на это решение мужа стихотворением «Страна» («С фонарем обшарьте…»), в котором декларировался ее отказ разделить возвращенческие иллюзии мужа. В тетрадном наброске июльского письма к Пастернаку о намерении Эфрона упоминалось; при этом Цветаева давала понять, что не присоединится к нему (МЦБП, 541 и 699). И хотя, по непроверенным данным, в 1932 году она также подала аналогичное прошение498 (возможно, соответствующие инстанции потребовали, чтобы прошение подали все члены семьи), – вплоть до середины 1935 года реальных планов отъезда в ее календаре не значилось. Тем не менее наблюдение над стремительной идейной эволюцией мужа и других людей из ее парижского евразийского окружения стало частью и ее исторического опыта.
Свое негативное отношение к реалиям советской жизни, а в особенности – к просоветским увлечением мужа и дочери Цветаева чаще выражает в письмах и тетрадных записях, чем в поэтических и прозаических текстах. Ее позиция – позиция необсуждения истории – укрепляется тем больше, чем большее отчуждение она испытывает по отношению к политическим реалиям 1930‐х годов:
А Бог с вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину.
Выбора между фашизмом и коммунизмом Цветаева делать не собирается, но и само обсуждение подобных тем остается лишь в черновиках. В ее лирике 1930‐х годов (о которой подробнее будет сказано ниже) окружающая действительность присутствует по преимуществу как объект отторжения:
Уединение: уйди
В себя, как прадеды в феоды.
Уединение: в груди
Ищи и находи свободу.
Чтоб ни души, чтоб ни ноги —
На свете нет такого саду
Уединению. В груди
Ищи и находи прохладу.
Кто победил на площади´ —
Про то не думай и не ведай.
В уединении груди —
Справляй и погребай победу
Уединения в груди.
Уединение: уйди,
Жизнь!
Интеллектуальная биография Пастернака в эти же годы складывается иначе. Как уже отметила Е. Б. Коркина, практически одновременно с началом работы Цветаевой над циклом «Стихи к Пушкину» Пастернак пишет стихотворение «Столетье с лишним – не вчера…». Если в цветаевском цикле Пушкин – антагонист власти (в лице Николая I), то Пастернак избирает себе иного Пушкина. Он стремится связать свою новую гражданскую (и историческую) позицию с той, которую выразил Пушкин в написанных после казни декабристов «Стансах» (1826): «Начало славных дней Петра / Мрачили мятежи и казни». Пушкин однако мог позволить себе напрямую обращаться к государю и давать ему напутствие:
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен499.
Пастернаку остается лишь констатировать «силу соблазна», содержащегося в стремлении к «труду со всеми сообща и заодно с правопорядком». В отличие от Пушкина, напутствует он в финале стихотворения лишь самого себя:
Ему страстно хочется почувствовать себя «своим» в новой исторической реальности – не из страха перед властью, но из страха остаться за бортом истории. В декабрьском письме 1934 года к родителям он со всей ясностью объясняет это: «Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал». Отсюда следует и сознательный выбор: «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими»501.
Эпистолярные контакты между Пастернаком и Цветаевой в первой половине 1930‐х годов были единичными. Насколько образ «поэта без истории» мало сходится с реальным обликом Пастернака середины 1930‐х годов, Цветаева смогла почувствовать лишь в июне 1935 года в Париже, куда Пастернак приехал как делегат Международного конгресса писателей в защиту культуры. О том, сколь травмирующей была эта встреча для Цветаевой, свидетельствуют многие ее записи и эпистолярные признания. Тяжелого психического состояния самого Пастернака, приехавшего в Париж не по своей воле и страдавшего в это время психастенией, она очевидно так и не осознала. Характеризуя тогдашние настроения Пастернака как «предательство Лирики» (СС7, 552), Цветаева исходила из собственной концепции, что «чистый лирик» не существует в истории. Погруженность Пастернака в современность и была для нее этим «предательством». Позже, в сердцах записывая, что во время этой встречи она «плакала от его ничтожества»502, Цветаева тем самым подчеркивала сознание собственного фиаско, крушение собственных надежд видеть в Пастернаке единомышленника. Тетрадный набросок письма к Пастернаку, сделанный по следам каких‐то групповых споров в Париже, подтверждает, что источником расхождений была именно тема взаимоотношений поэта с исторической действительностью:
Я защищала право человека на уединение – не в комнате, для писательской работы, а – в мире, и с этого места не сойду. <…>
Я вправе, живя раз и час, не знать, чтó такое К<олхо>зы, так же как К<олхо>зы не знают – чтó такое – я. Равенство – так равенство.
Мне интересно всё, что было интересно Паскалю и не интересно всё, что было ему не интересно. Я не виновата, что я так правдива, ничего не стóило бы на вопрос: – Вы интересуетесь будущим народа? ответить: – О, да. А я ответила: нет, п. ч. искренно не интересуюсь никаким и ничьим будущим, которое для меня пустое (и угрожающее!) место.
Странная вещь: что ты меня не любишь – мне всё равно, а вот – только вспомню твои К<олхо>зы – и слёзы. <…>
Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество, п. ч. все стóющие были одиноки, а я – самый меньший из них (МЦБП, 554–555).
Разумеется, неостывшая личная боль составляет живой фон парижского разочарования в Пастернаке, и именно она делает их общение столь травмирующим для Цветаевой. «Воспевать к<олохо>зы и з<аво>ды – то же самое, что счастливую любовь» (МЦБП, 555), – столь странная параллель и явный укол в адрес пастернаковского «Второго рождения», конечно, указывает на «двойной» источник болевых реакций Цветаевой. Даже не пытаясь скрыть этого от себя, она начинает письмо к Пастернаку именно с темы личной, которая, впрочем, одновременно оказывается «пушкинской»: «Дорогой Б<орис>, я теперь поняла: поэту нужна красавица, т. е. без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et se prête à toutes les formes503» (МЦБП, 554). Тем самым Цветаева восстанавливает параллель «Пастернак – Пушкин». Говорить о творчестве Пастернака напрямую она больше уже не будет. Писать она будет о Пушкине.
Подспудное продолжение неудавшегося парижского диалога с Пастернаком можно усмотреть в нескольких стихотворениях лета – осени 1935 года. Но наиболее очевидно оно в стихотворении октября 1935 года «Двух станов не боец, а – если гость случайный…»504: в нем звучит и тема одиночества и голос Пушкина. « – Ты царь: живи один… Но у царей – наложниц / Минута. Бог – один. Тот – в пустоте небес» (СП, 448), – свою пушкинскую родословную Цветаева ведет от того Пушкина, который высшее достоинство поэта увидел в одиночестве. Однако образ, воплощающий для Пушкина одиночество, Цветаеву не устраивает. Как установила она еще в 1927 году, эротические коннотации (пусть всего лишь потенциальные) с миром одиночества несовместимы. Потому не царь, а Бог – эталон одиночества. Этому одинокому Богу Цветаева совсем недавно давала и другое имя – Черт: одиночеству научил ее, как мы помним, именно он.
К марту следующего года относится последний известный тетрадный набросок письма Цветаевой к Пастернаку. На этот раз она откликается на выступление Пастернака на февральском пленуме правления Союза писателей в Минске, текст которого под названием «О скромности и смелости» был опубликован 24 февраля в «Литературной газете»505. Трудно сказать, насколько внимательно она следит в это время за газетными публикациями, относящимися к так называемой «дискуссии о формализме», с которой и связано выступление Пастернака506. Возможно, следит: в начале 1936 года ее решение о возвращении в СССР вместе с другими членами семьи уже принято, так что интерес к происходящему в стране вполне вероятен. Тем показательнее, что скидок на время и место она Пастернаку не делает, видя в «бесстрашии» его речи прежде всего никчемный диалог с недостойным собеседником:
Борис! Ты был бы собой, если бы на своем Пленуме провозгласил двадц<атилетнее> юношеское вещание, сорокалетнее безумие и бессрочное бессмертие Гёльдерлина <…>, а не мазался бы, полемизируя с Безыменским. <…>
То, что у вас счит<ается> бесстрашием (очевидно, так надо понимать твою речь) – не у «нас» (у нас – нет), не у нас, в Париже, а у нас – в Лирике —
Ничего ты не понимаешь, Борис (о лиана, забывшая Африку!) – ты Орфей, пожираемый зверями: пожрут они тебя (МЦБП, 562–563).
Африка здесь, конечно, «притянута» ассоциацией с Пушкиным. В общем контексте отрывка ее упоминание – способ указать на предательство поэтом собственных корней, хотя появляющийся рядом образ Орфея, архетипического поэта, уравновешивает пейоративные оттенки характеристики Пастернака. Во всяком случае, на тот момент выбор исторической позиции, свой и пастернаковский, Цветаева осознает как противоположные. В столь резкой реакции на пастернаковскую речь сказывается, впрочем, вообще тяжелое эмоциональное состояние Цветаевой, которое фиксировала недавняя новогодняя запись 1936 года: «Все чувства иссякли, кроме негодования и горечи. Нет друзей, нет любви, нет перспективы»507. Ее подавленное самочувствие вызвано многими причинами (о них пойдет речь в следующем разделе), но июньской «невстрече» 1935 года с Пастернаком принадлежит среди них свое место. На волне этого самочувствия Цветаева вскоре попытается завершить поэму «Автобус», и зашифрованный выпад в адрес Пастернака в этой поэме говорит о неутихающей внутренней боли, связанной с ним.
В начале 1937 года Цветаева завершает приуроченный к «юбилею» (столетию со дня смерти поэта) очерк «Мой Пушкин». О его смысле в контексте личного эпоса Цветаевой уже было сказано. Пастернаковские подтексты в нем тоже можно обнаружить, хотя напрямую имя Пастернака называется лишь в конце очерка, включаясь в кульминационный для всего текста рассказ о стихотворении Пушкина «К морю». Пушкинское стихотворение не может не ассоциироваться у Цветаевой с Пастернаком: ее короткая поэма 1926 года «С моря», обращенная к Пастернаку, играла не только с названием и смыслом элегии Пушкина, но и с «пушкинскими» стихами из пастернаковского сборника «Темы и вариации». Одно из этих стихотворений Пастернака, «Над шабашем скал, к которым…», Цветаева теперь, в «Моем Пушкине», и цитирует. Тем самым в контекст очерка вводятся и другие «пушкинские» стихи из «Тем и вариаций»508, наиболее очевидным образом – первое из них, «Тема». Оно начинается с экспозиции: «Скала и шторм»509, – той самой, в которую помещается рассказ Цветаевой о писании пушкинского стихотворения на скале в ожидании набегающей волны. Полуявное, полускрытое появление Пастернака в конце «Моего Пушкина» свидетельствует о том, что в творческом сознании Цветаевой, несмотря ни на что, треугольник «я – Пушкин – Пастернак» продолжает жить.
Тот Пушкин, о котором рассказывала Цветаева в «Моем Пушкине», гражданских и политических стихов не писал, кроме разве что «Памятника». Другой Пушкин появляется в рабочих тетрадях Цветаевой вскоре после завершения ее «юбилейного» очерка. Эти записи дают представление о том, из чего рождается замысел «Пушкина и Пугачева» и уже были предметом анализа в статье Е. Б. Коркиной.
Странно, что именно от Пушк<ина>, якобы поэта гармонии, у меня первое непосредств<енное> <…> чувство: поэт контрастов, вещей, в быту, взаимоисключающих.
Как аттичес<кий> солдат – В св<оего> врага влюбл<енный>
Конечно, мож<но> попыт<аться> истолков<ать> эт<и> контра<сты> биографиче<ски>: посл<ание> декабрист<ам> – <пропуск в рукописи> года, прив<етствие> Царю – такого‐то. Поверхност<но>. Ибо не палача декабр<истов>, не политика в Н<иколае> приветствовал Пуш<кин>, а – силу, к<отор>ую любил везде и всегда510,
– с таких размышлений начинает Цветаева свою работу над статьей. «Контрасты», которые она обнаруживает у Пушкина, относятся к области взаимодействия поэта и власти, поэта и исторических обстоятельств. Если Пушкин ее «Стихов к Пушкину» был антагонистом власти, то теперь Цветаева пытается объяснить себе пушкинский порыв навстречу власти:
Есть у поэта, [в] котором, как в народе, все обратные, который, как народ – все обратные – обратная страсти к мятежу – страсть к законному монарху. (Простая законная неистребимая неискоренимая сыновняя любовь. Есть на это у Пушкина прямое указание: «Его я просто полюбил», читай: пытался полюбить, как сын – отца…) Любовь поэту, кроме сыновности, предписываемая еще его честью (достоинством): того – кому подвластен – любить511.
Эта тема лишь мелькнет в окончательном тексте статьи: «Страстный верноподданный, каким бы мог быть Пушкин, живой пищи не нашел, и пришлось ему, по сказке того же Пугачева, клевать мертвечину (“Нет, я не льстец, когда царю…”)» (СС5, 510). Иначе говоря, «обратная страсти к мятежу», страсть Пушкина к власти-силе была обречена на неудовлетворенность незначительностью личности монарха:
Нет, я не льстец, когда царю
Я правду говорю свободно…
Не льстец, конечно. Не лесть, но неудавшаяся попытка любви, даже не самообман, а попытка самообмана, поди‐ка обмани самого себя с такими ясными очами!
Не лесть, – а грусть. Не лесть, а месть: самой природы поэта – поэту за насильную любовь. Поэтому все стихотворение – от конца до начала – особенно в строке: Он бодро, честно правит нами – так неубедительно и оставляет нас такими холодными. «Он бодро, честно правит нами»… Если со всей живостью своего африканского и пиитического воображения, со всей ясностью своего французского разума Пушкин ничего не нашел, кроме этого «честно, бодро» – значит в герое его – уже вовсе ничего не было. Как оно и было512.
В тексте статьи Цветаева оставила от этих предварительных размышлений лишь вывод: «На самозванце-Емельяне Пушкин отвел душу от самодержца-Николая, не сумевшего его ни обнять, ни отпустить» (СС5, 510). Тем самым она предлагала допустить, что Пушкин в своем Пугачеве невольно воплотил и мятежника, восставшего против власти, и самую власть. Параллель, которую она усматривает в диалогах Гринева с Пугачевым и Пушкина с Николаем (СС5, 503), подчеркивает эту двойственность пушкинского Пугачева.
«Вся “Капитанская дочка” для меня сводилась и сводится к очным встречам Гринева с Пугачевым» (СС5, 500), – без обиняков обозначает Цветаева рамки своего интереса к тексту Пушкина513. И затем, имитируя воспоминание собственного детского чтения одной из таких ключевых встреч, она переходит к главной для себя теме:
«Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку».
Подсказывала ли я и тут (как в том страшном сне) Гриневу поцеловать Пугачеву руку?
К чести своей скажу – нет. Ибо Пугачев, я это понимала, в ту минуту был – власть, нет, больше – насилие, нет, больше – жизнь и смерть, и так целовать руку я при всей своей любви не смогла бы. Из-за всей своей любви. Именно любовь к нему приказывала мне ему в его силе и славе и зверстве руки не целовать: оставить поцелуй для другой площади (СС5, 500).
Пугачев «в его силе и славе и зверстве» есть воплощенная власть, а не мятеж. Она, Цветаева, не может целовать руки властителю в апогее его могущества и жестокости. Мотивы поведения Гринева (тоже руки не целующего) Цветаеву не интересуют, как и сам Гринев: «С явлением на сцену Пугачева на наших глазах совершается превращение Гринева в Пушкина: вытеснение образа дворянского недоросля образом самого Пушкина» (СС5, 506). Интересует Цветаеву – поэт в его взаимоотношениях с властью или мятежом, и, перефразируя Цветаеву, можно сказать, что вся «Капитанская дочка» сводится для нее к встречам Пушкина и Пугачева.
Из всего сказанного ей Пастернаком в июне 1935 года Цветаева впоследствии вспоминала лишь одну ужаснувшую ее фразу: «Борис Пастернак, на к<оторо>го я годы подряд – через сотни и сотни верст – оборачивалась, как на второго себя, мне на Пис<ательском> Съезде шепотом сказал: – Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь С<тали>на, я – испугался» (ПТ, 288). Однако к 1937 году хотя бы некоторые свидетельства пастернаковского интереса к Сталину, которые известны современным исследователям514, должны были попасть в поле зрения Цветаевой. «Примирение с действительностью», отметившее начало и середину 1930‐х годов в биографии Пастернака, сопровождалось формированием в его сознании личного мифа о «поэте и царе», представления об особой роли своего диалога со Сталиным. Ряд событий, начиная со звонка к нему Сталина в 1934 году, после ареста Мандельштама, способствовал укреплению Пастернака в сознании важности поддержания такого диалога. Миф достиг своей кульминации к началу 1936 года, когда Пастернак опубликовал в «Известиях» два стихотворения, внутренне обращенных к Сталину: «Я понял: все живо…» и «Мне по душе строптивый норов…». Речь Пастернака на минском пленуме полтора месяца спустя, на которую откликался тетрадный набросок Цветаевой, тоже была из числа важных свидетельств пастернаковского интереса к Сталину: «Я не помню в нашем законодательстве декрета, который бы запрещал быть гениальным, а то кое‐кому из наших вождей пришлось бы запретить самих себя»515, – этого было достаточно, чтобы понять, что страх не был единственным чувством, определявшим отношение Пастернака к Сталину. И остается лишь гадать, не восходит ли таинственно звучащая характеристика Пугачева как «жизни и смерти» в приведенном отрывке из статьи Цветаевой к пересказам телефонного разговора Пастернака со Сталиным в 1934 году. Как известно, именно этими словами Пастернак обозначил тогда тему желанного ему разговора с вождем.
Еще одной встрече Гринева (Пушкина) и Пугачева Цветаева уделяет особое внимание: диалогу, в котором Пугачев предлагает Гриневу перейти к нему на службу. «Все бессмертные диалоги Достоевского я отдам за простодушный незнаменитый гимназический хрестоматийный диалог Пугачева с Гриневым» (СС5, 503), – настолько важным представляется Цветаевой этот эпизод. Отказ Гринева перейти к самозванцу, по Цветаевой, – победа чувства долга над человеческим влечением; отказ Пугачева от мести – победа человеческого сердца над пороками самовластья. Однако главную, роковую мысль, ради которой и пустилась она в обсуждение диалога, Цветаева высказывает лишь несколько страниц спустя:
Только – вопрос: устоял ли бы Пушкин, тем дворянским сыном будучи, как устоял дворянский сын Гринев, Пушкиным будучи, перед чарой Пугачева? Не сорвалось ли бы с его уст: «Да, Государь. Твой, Государь». Ибо за дворянским сыном Гриневым – сплошной стеной – дворянские отцы Гринева, за Пушкиным – та бездна, которой всякий поэт – на краю (СС5, 508).
Вопрос, заданный Цветаевой, остается без прямого ответа, но этим ответом является для нее сама повесть Пушкина. Поэт в своем отношении к властителю-мятежнику оказывается заложником «чары». По Цветаевой, это и есть то «слово, которое Пушкин за всю повесть ни разу не назвал и которое одно объясняет всё» (СС5, 506). «Пушкин Пугачевым зачарован» (СС5, 506), сам факт изображения его таким, как в «Капитанской дочке», означает, что поэт перед его «чарой» не устоял:
Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя ее круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить – никакая благодарность не заставит. А чара – и не то заставит, заставит и полюбить того, кто на твоих глазах зарубил самое любимую девушку. Чара, как древле богинин облак любимца от глаз врагов, скроет от тебя все злодейство врага, все его вражество, оставляя только одно: твою к нему любовь (СС5, 508).
О том, что «злодейство врага» Пушкину хорошо известно, Цветаева напоминает своим читателям во второй части статьи, посвященной пушкинской «Истории Пугачева». Отталкивающий образ самозванца, встающий со страниц исторического исследования, подтверждает для нее лишь одну истину о поэте: неодолимость власти над ним неких «чар», влекущих его от «низких истин» к «возвышающему обману». Так же, как мог Пушкин «просто полюбить» монарха, казнившего его друзей, мог он подпасть и под «чару» мятежника-самозванца, злодеяниям которого знал меру. «Страсть к мятежу» и «страсть к законному монарху» оказывались лишь вариациями одной и той же тяги поэта – к силе, одной и той же одержимости его – чарой.
Было бы наивно сегодня, как это попытался сделать в свое время В. Ходасевич516, оспаривать цветаевскую интерпретацию «Капитанской дочки», ибо ее статья не о повести Пушкина. Было бы столь же наивно видеть в «Пушкине и Пугачеве» чистое иносказание, целиком отсылающее к современному Цветаевой историческому контексту. Ее миф о «чаре» власти и силы, довлеющей над художником, никак не приурочен хронологически и не привязан к конкретным лицам: он, по ее мысли, универсален. Но повод для его разработки ей дает, конечно, не одна биография Пушкина. Избрав «уединение» оплотом перед силами истории в 1930‐е годы, Цветаева тем отчетливее, взглядом стороннего наблюдателя, отмечает метаморфозы, которые творит история с ее современниками. Обнаруженные ею в начале 1930‐х годов «странные сближенья» в творческих и человеческих обликах Пушкина и Пастернака дают повод к осмыслению их интеллекуальных биографий как взаимообъясняющих – вне зависимости от смены исторического контекста.
Впрочем, основания мифа, разрабатываемого в «Пушкине и Пугачеве», вполне проясняются лишь в рамках более широкого контекста аналитической прозы Цветаевой 1930‐х годов.
Вышедшие из единого замысла эссе «Поэт и время» и «Искусство при свете совести»517 являются итоговыми для философских размышлений Цветаевой об искусстве и художнике. Именно они, написанные в начале 1930‐х годов, подводят общий знаменатель под ее оценки своего и чужого творческого опыта.
«Когда я думаю о нравственной сущности этой человеческой особи: поэта, я всегда вспоминаю определение толстовского отца в “Детстве и Отрочестве”: – Он принадлежал к той опасной породе людей, которые один и тот же поступок могут рассказать, как величайшую низость и как самую невинную шутку» («Искусство при свете совести»; СС5, 354), – таким собирательный портрет художника увиделся Цветаевой из ее «уединения». На заре 1930‐х годов она взялась за своеобразный комментарий к своему творчеству 1920‐х годов. Его целью было утвердить статус искусства как иной реальности, подчиняющейся иному этосу. «Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя» (СС5, 353), – постулировала Цветаева свою позицию. Определению главного объекта полемики была посвящена преамбула «Искусства при свете совести»:
«Искусство свято», «святое искусство» – как ни обще это место, есть же у него какой‐то смысл, и один на тысячу думает же о том, что говорит, и говорит же то, что думает.
К этому одному на тысячу, сознательно утверждающему святость искусства, и обращаюсь.
Что такое святость? Святость есть состояние, обратное греху, греха современность не знает, понятие грех современность замещает понятием вред. Стало быть, о святости искусства у атеиста речи быть не может, он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему, настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого – Бог – грех – святость – есть (СС5, 346).
Чем помешало Цветаевой «святое искусство»? Что вдохновило ее на неистовую речь в защиту искусства от святости и святости от искусства? Только одно: сознание, что миф о «святом искусстве» закрывает дорогу другому мифу, для художника цветаевского склада наиболее важному, – мифу о художнике как представителе природы, а не культуры, жителе Вечности, а не истории. «Всякий поэт по существу эмигрант <…>. Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы» («Поэт и время»; СС5, 335), – отправной точкой мифа о поэте и его искусстве стало именно такое «двойное» определение его родины. «Высшие силы», которым в 1920‐е годы Цветаева отдавала руководство поэтом, соответственно, также обретали «двойное гражданство», причем теперь не «высота» их, а принадлежность миру природы, стихийность акцентировалась Цветаевой.
Итак, «искусство есть та же природа», и «произведение искусства есть произведение природы, такое же рожденное, а не сотворенное»; «самоволия художника» не существует, «художник – земля, рождающая, и рождающая всё» (СС5, 346). Природа же не свята и не грешна. Но здесь Цветаева и обрывает параллель: «земля, рождающая, безответственна, а человек, творящий – ответственен». Эта ответственность есть ответственность, налагаемая на художника культурой: «Земля в раю яблока не ела, ел Адам. Не ела – не знает, ел – знает, а знает – отвечает. И поскольку художник – человек, а не чудище, одушевленный костяк, а не коралловый куст, – он за дело своих рук в ответе» (СС5, 347). Иначе говоря, художник принадлежит природе, но, будучи человеком, знает культуру, и эта двойственность его естества, как в зеркале, отражается в создании его рук: «Нравственный закон в искусство привносится, но из ландскнехта, развращенного столькими господствами, выйдет ли когда‐нибудь солдат правильной армии?» (СС5, 347). Во внеэтическую стихию искусства художник стремится внести человеческую этику, но искусство этому сопротивляется, и смена «господств» тех или иных этических идей лишь «развращает» его. Правда, Цветаева специально выделяет явления, о которых можно сказать, что они «еще не искусство» или «уже не искусство», но «больше, чем искусство» (СС5, 356): это наивные или неровные по способам художественной выразительности, но бесспорно высокие по своему духовному пафосу тексты. Однако главным объектом интереса в ее статье являются не они.
Силы природы – стихии; «наитие стихий» на художника – то, что лежит в основе всякого творческого импульса и результатом чего является всякое произведение искусства. Через динамику взаимодействия сознания художника со стихиями может быть описан масштаб его дарования:
Гений: высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности.
Дать себя уничтожить вплоть до какого‐то последнего атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет – мир.
Ибо в этом, этом атоме сопротивления (-вляемости) весь шанс человечества на гения. Без него гения нет – есть раздавленный человек, которым (он все тот же!) распираются стены не только Бедламов и Шарантонов, но и самых благополучных жилищ.
Гения без воли нет, но еще больше нет, еще меньше есть – без наития. Воля – та единица к бессчетным миллиардам наития, благодаря которой только они и есть миллиарды (осуществляют свою миллиардность) и без которой они нули – то есть пузыри над тонущим. Воля же без наития – в творчестве – просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шел в солдаты (СС5, 348).
Таким образом, произведение искусства – результат взаимодействия психики художника со стихиями. Результат этот может быть трагическим, если стихии окончательно побеждают волю человека; отсюда исходит, по Цветаевой, угроза перерастания творческого состояния в сумасшествие. Искусство как «последний атом сопротивления стихии во славу ей» является ничем иным, как волевым актом выведения стихии за пределы индивидуальной психики художника, т. е. воплощения ее: «Весь Вальсингам – экстерриоризация (вынесение за пределы) стихийного Пушкина. С Вальсингамом внутри не проживешь: либо преступление, либо поэма. Если бы Вальсингам был – Пушкин его все равно бы создал» (СС5, 351). Именно песню Вальсингама из «Пира во время чумы» и выбирает Цветаева, чтобы показать стихии в действии:
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю.
Упоение, то есть опьянение – чувство само по себе не благое, вне-благое – да еще чем?
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного сулит
Неизъяснимы наслажденья.
Когда будете говорить о святости искусства, помяните это признание Пушкина.
– Да, но дальше…
– Да. Остановимся на этой единственной козырной для добра строке.
Бессмертья, может быть, залог!
Какого бессмертья? В Боге? В таком соседстве один звук этого слова дик. Залог бессмертья самой природы, самих стихий – и нас, поскольку мы они, она. Строка, если не кощунственная, то явно-языческая.
И дальше, черным по белому:
Итак – хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье —
Быть может – полное Чумы.
Не Пушкин, стихии. Нигде никогда стихии так не выговаривались. Наитие стихий – все равно на кого, сегодня – на Пушкина. Языками пламени, валами океана, песками пустыни – всем, чем угодно, только не словами – написано.
И эта заглавная буква Чумы, чума уже не как слепая стихия – как богиня, как собственное имя и лицо зла.
Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто – не судим. Скажи кто‐нибудь из нас это – в жизни, или, лучше, сделай (подожги дом, например, взорви мост), мы все очнемся и закричим: – преступление! Именно, очнемся – от чары, проснемся – от сна, того мертвого сна совести с бодрствующими в нем природными – нашими же – силами, в который нас повергли эти несколько размеренных строк (СС5, 347–348).
Автокомментарий в этом рассуждении Цветаевой присутствует имплицитно: она находит у Пушкина (или приписывает ему) то, что дает ей ключ к интерпретации собственного творчества. Искусство создает реальность, в которой действуют иные законы и иначе оцениваются поступки, говорит Цветаева. В искусстве правда может принадлежать матери, отрекшейся от своего ребенка; Крысолову, утопившему в озере детей; Марусе, сведшей в могилу мать и брата; Федре, страстно желающей своего пасынка; вообще силе, разрушающей человеческое счастье; соблазну, сбивающему с пути. Искусство, как особое «ответвление природы», существует параллельно культуре («жизни»). Жизнь не верифицирует искусства, и искусство не верифицирует жизни; однако они взаимодействуют, потому что существуют художники и их читатели, зрители, слушатели. Художник – это тот, кто культуру заражает природой, и отзыв читателей на его «слово» есть подпадение под ту же «чару» («стихию»), что владела им самим. «Чара» эта вне-этична, но если «переводить» ее суть на язык культуры, она вполне может оказаться грешной:
В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на Бога в ней нет, только хвала Чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта песня?
Кощунство не в том, что мы, со страха и отчаяния, во время Чумы – пируем (так дети, со страха, смеются!), а в том, что мы в песне – апогее Пира – уже утратили страх, что мы из кары делаем – пир, из кары делаем дар, что не в страхе Божьем растворяемся, а в блаженстве уничтожения.
Если (как тогда верили все, как верим и мы, читая Пушкина) Чума – воля Божия к нас покаранию и покорению, то есть именно бич Божий.
Под бич бросаемся, как листва под луч, как листва под дождь. Не радость уроку, а радость удару. Чистая радость удару как таковому.
Радость? Мало! Блаженство, равного которому во всей мировой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума – или как их еще зовут.
Ведь после гимна Чуме никакого Бога не было. И что же остается другого священнику, как не: войдя («входит священник») – выйти (СС5, 350).
Воздействие «чары» на поэта может быть сколь угодно кратким, но воплотив ее в тексте, он увековечивает ее, «зачаровывает» ею отдельного читателя и культуру в целом. И тогда, желая осмыслить свою «зачарованность», культура или читатель начинают отыскивать в произведении искусства те смыслы, которые существенны для них, – лично или социально, политически или этически: «Все уроки, которые мы извлекаем из искусства, мы в него влагаем» (СС5, 352). Отсюда вытекают все противоречия бытия и восприятия поэтического начала в жизни культуры. Последняя, с одной стороны, «переводит» поэта на свой язык (этики, социальных задач и т. д.), а с другой – постоянно сталкивается с неосуществимостью такого перевода:
«Исключение в пользу гения». Все наше отношение к искусству – исключение в пользу гения. Само искусство тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона.
Что же все наше отношение к искусству, как не: победителей не судят – и кто же оно – искусство, как не заведомый победитель (обольститель) прежде всего нашей совести (СС5, 353).
Исконные, а не привнесенные культурой истины искусства практического назначения в жизни культуры не имеют, – кроме одного: служить напоминанием о существовании иной реальности, реальности искусства – природы – Вечности. «Истина» или «правда» этой реальности открывается непосредственно в акте творчества, в акте воплощения стихийного импульса. Поэтому «правда поэта» видится Цветаевой как
безответственная и беспоследственная, которой – ради Бога – и не пытаться следовать, ибо она и для поэта безвозвратна. (Правда поэта – тропа, зарастающая по следам. Бесследная бы и для него, если бы он мог идти позади себя.) Не знал, что произнесет, а часто и чтó произносит. Не знал, пока не произнес, и забыл, как только произнес. Не одна из бесчисленных правд, а один из ее бесчисленных обликов, друг друга уничтожающих только при сопоставлении. Разовые аспекты правды. Просто – укол в сердце Вечности (СС5, 365).
Художник узнает «истину» в процессе творчества, говорит Цветаева, он не знает ее до него. Однако признает Цветаева и другое: «этический подход», «требование идейности» – объективно существующая сила, видоизменяющая искусство, влияющая на отношение к нему и художника, и читателя. Отсюда – возможное желание художника служить в своем творчестве «идеям», на которые есть социальный спрос, и тем самым поддерживать этот спрос: «Россия, к ее чести, вернее к чести ее совести и не к чести ее художественности (вещи друг в друге не нуждающиеся), всегда подходила к писателям, вернее: всегда ходила к писателям – как мужик к царю – за правдой» (СС5, 360). Тем не менее объективная природа искусства берет свое, и не во власти художника, если он остается художником, контролировать «истины», которые выражаются в его творчестве:
Посему, если хочешь служить Богу или людям, вообще хочешь служить, делать дело добра, поступай в Армию Спасения или еще куда‐нибудь – и брось стихи.
Если же песенный твой дар неистребим, не льсти себя надеждой, что – служишь, даже по завершении Ста Пятидесяти Миллионов. Это только твой песенный дар тебе послужил, завтра ты ему послужишь, то есть будешь отброшен им за тридевять земель или небес от поставленной цели (СС5, 374).
Истинный художник, подчеркивает Цветаева, одержим не искусством, а стихиями, из которых рождается искусство. Одержимость искусством – это «эстетство», порождающее вторичные тексты и существующее вне контакта со стихиями. Гений как существо – в своей творческой ипостаси – природное par excellence, отличается именно высочайшей степенью подверженности воздействию «чар», этих эманации стихийных сил мира. И поскольку в истории также действуют природные стихии, гений откликается на те исторические события, в которых эти стихии проявляют себя с наибольшей очевидностью. Такими для Цветаевой являются всякие масштабные социальные потрясения – бунты, революции, войны, – которые невозможно объяснить только культурными (т. е. внеприродными) причинами. Художник откликается и на человеческие характеры как на продукты природы; поэтому его героями, в частности, становятся люди, стоящие в центре социальных потрясений и собой воплощающие эпицентры стихий.
Поскольку бунт для художника – торжество стихийных сил, а не баланс целей и средств, требующий этической оценки, то роковой и часто неисполнимой для него задачей становится отторжение этически неприемлемого в тех явлениях стихии, на которые он внутренне не может не отозваться:
Поэта, не принимающего какой бы то ни было стихии – следовательно и бунта – нет. <…>
Найдите мне поэта без Пугачева! без Самозванца! без Корсиканца! – внутри. У поэта на Пугачева может только не хватить сил (средств). Mais l’intention y est – toujours518.
Не принимает (отвергает и даже – извергает) человек: воля, разум, совесть.
В этой области у поэта может быть только одна молитва: о непонимании неприемлемого: не пойму, да не обольщусь, единственная молитва поэта – о неслышании голосов: не услышу – да не отвечу. Ибо услышать, для поэта – уже ответить, а ответить – уже утвердить – хотя бы страстностью своего отрицания. Единственная молитва поэта – молитва о глухости. Или уж – труднейший выбор по качеству слышимого, то есть насильственное затыкание себе ушей – на ряд зовов, неизменно-сильнейших. Выбор отродясь, то есть слышанье только важного – благодать, почти никому не данная (СС5, 367).
С этими особенностями устройства творческого слуха художника и связана его объективная безответственность, с которой входит в неразрешимое противоречие навязываемое ему культурой и его человеческим естеством чувство ответственности:
«Двенадцать» Блока возникли под чарой. Демон данного часа Революции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока и заставил его.
А наивная моралистка З. Г. (Зинаида Гиппиус. – И. Ш.) потом долго прикидывала, дать или нет Блоку руку, пока Блок терпеливо ждал.
Блок «Двенадцать» написал в одну ночь и встал в полном изнеможении, как человек, на котором катались.
Блок «Двенадцати» не знал, не читал с эстрады никогда. («Я не знаю “Двенадцати”, я не помню “Двенадцати”». Действительно: не знал.) (СС5, 355).
Художник не может распознать и предугадать этические импликации своих откликов на проявления стихии. Здесь и находится источник трагического во взаимоотношениях поэта с историей и ее действующими лицами. Откликаясь на стихийное в них, он становится заложником стихии. Различия между художниками – в том, что касается их взаимоотношений со стихиями, – объясняются индивидуальной избирательностью слуха, над которой каждый из них властен лишь в малой мере. «Насильственное затыкание себе ушей – на ряд зовов, неизбежно-сильнейших» и молитва о «неслышании неприемлемого» – единственные способы самозащиты поэта перед стихиями. Но в конце концов лишь отделение «своего» от «не-своего» в мире стихий – область его ответственности:
Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям.
Чужим? А есть ли для поэта – чужое? Пушкин в Скупом Рыцаре даже скупость присвоил, в Сальери – даже без-дарность. Не по примете же чуждости, а именно по примете родности стучался в меня Пугачев.
Тогда скажу: не хочу не вполне моего, не заведомо моего, не сáмого моего.
А что если самое‐то мое (откровение сна) и есть – Пугачев?
– Ничего не хочу, за что в 7 ч. утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру.
За Пугачева – не умру – значит не мое (СС5, 368).
В этом признании, сделанном за пять лет до написания «Пушкина и Пугачева», Цветаева определила границу отзывчивости собственного слуха. По ту сторону проведенной границы остались для нее и «страсть к мятежу» и «страсть к законному монарху» в их актуальной политической аранжировке. «Неизменно-сильнейшие» зовы политической современности, в избытке пришедшиеся на ее поколение, были ею отклонены – как не соответствующие ее дару, как не связанные с теми «чарами», которым она не в силах сопротивляться, т. е. за которые готова умереть. «Если даже велик – это не мое величие» (ПТ, 289), – обмолвилась она о Сталине в письме к А. Тесковой в 1936 году.
Но не менее важным в выстроенном Цветаевой мифе о творчестве было и другое. Ни Пушкин, ни Блок, ни Пастернак, ни Маяковский не могли быть, по Цветаевой, объектами осуждения – за то, что поддались тем «чарам» и воспели те «стихии», которым не сочувствовала она. «Права суда над поэтом никому не даю. Потому что никто не знает. Только поэты знают, но они судить не будут» (СС5, 373), – утверждала Цветаева, и подразумевала она именно суд этический. Она могла испытывать личную горечь по поводу отзывчивости того или иного поэта на неблизкие ей стихии; это означало разочарование в нем как в единомышленнике, но не как в поэте. Поэт должен был быть оправдан. Именно потому «Пушкин и Пугачев» заканчивался парадоксальным, на первый взгляд, прославлением пушкинского творения, в котором «силой поэзии, Пушкин самого малодушного из героев сделал образцом великодушия» (СС5, 520):
Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Высшему, что есть: поэту в себе. Непогрешимому чутью поэта на – пусть не бывшее, но могшее бы быть. Долженствовавшее бы быть. <…>
И сильна же вещь – поэзия, раз все знание всего николаевского архива, саморучное, самоочное знание и изыскание не смогли не только убить, но пригасить в поэте его яснозрения.
Больше скажу: чем больше Пушкин Пугачева знал, тем тверже знал – другое, чем яснее видел, тем яснее видел – другое (СС5, 521).
Круг замыкался. Пушкин делал с Пугачевым то же, что делает художник вообще и всегда. Он творил иную реальность, противопоставив «неправде фактов» (СС5, 521) – «долженствовавшее быть». Бессмысленно верифицировать Пугачева «Капитанской дочки» с помощью Пугачева «Истории Пугачева», говорила Цветаева. Пугачев «Капитанской дочки» – творение Пушкина, создание искусства, а не рассказ о «бывшем». Экстраполируя тот же принцип на творения своих современников, Цветаева могла и должна была бы сказать, что их «возвышающий обман» имел ту же природу519.
Но одно дело концептуализировать механизмы творческой отзывчивости художника, и совсем другое – смириться с мыслью об отсутствии среди современников своих единомышленников, поэтов тех же чар и стихий, что она сама. Статья «Поэт и время» еще была в значительной степени пронизана уверенностью, что таким единомышленником является Пастернак; отсюда и ее финал, утверждавший, что оба они, «не сговариваясь, думают одно и говорят одно» (СС5, 345). В стихотворении 1929 года «Марине Цветаевой» («Ты вправе, вывернув карман…») Пастернак, отвечая на некоторые темы их переписки, предлагал свою версию отношений поэта и времени: поэт всегда ощущает себя чужим своей эпохе, связь с ней кажется ему случайной или насильственной, он стремится вырваться из ее оков, – но этим порывом из времени он увековечивает эпоху, дает ей имя – свое имя. В «Поэте и времени» Цветаева эту мысль подхватывала: «Гений дает имя эпохе, настолько он – она, даже если она этого не доосознает. <…> Гений дает имя эпохе, настолько он – она, даже если он этого не доосознает» (СС5, 331).
Разделить с эпохой другие ее имена, присваиваемые ей иными агентами, Цветаева не была готова. Сопутствовавшие ей всю жизнь (и после смерти) предположения о приверженности ее то ли Белой идее, то ли «глашатаю революции» Маяковскому, то ли монархизму, то ли большевизму, отражали как раз «время», образ мышления эпохи. В 1933 году Цветаева писала по этому поводу В. Н. Буниной:
Поймите меня в моей одинокой позиции (одни меня считают «большевичкой», другие «монархисткой», третьи – и тем и другим, и все – мимо) – мир идет вперед и должен идти: я же не хочу, не НРАВИТСЯ, я вправе не быть своим собственным современником <…>. А если у меня «свободная речь» – на Руси речь всегда была свободная, особенно у народа, а если у меня «поэтическое своеволие» – на то я и поэт. Всё, что во мне «нового» – было всегда, будет всегда. – Это всё очень простые вещи, но они и здесь и там одинаково не понимаются (СС7, 243–244).
«Одинокая позиция» Цветаевой состояла в принципиальном отказе мыслить исторически. Однажды совершив рывок из истории и на нем построив свое творческое кредо, Цветаева, подобно собственной Эвридике, возвращаться назад не желала. В 1928 году она писала «Перекоп» и помещала в газете «Евразия» приветствие Маяковскому520 одновременно, – ибо уже исключила себя из «идущего вперед» мира и не имела на вещи политической точки зрения. Явления действительности, полагала она, чтобы быть понятыми, должны быть сначала «переведены» на язык не-истории; тогда в каждом из них открывается своя истина, каждое какой‐то своей стороной оказывается причастным миру Вечности.
Природа, представительствующая на земле за Вечность, учит поэта: то, что на языке истории называется «новизной», на языке природы – всего лишь еще одно из бесчисленных и никогда не повторяющихся проявлений ее творчества. «В природе нет повторения: оно вне природы и, значит, вне творчества, – настаивает Цветаева в статье «Поэты с историей и поэты без истории». – Природа, создавая очередной лист, не смотрит на уже существующие, сотворенные ею листы, – не смотрит, потому что весь облик будущего листа заключен в ней самой; она творит без образцов» (СС5, 407–408). Поэтому, делает вывод Цветаева, и каждый новый текст творится поэтом не из предшествующих текстов, а из источника, общего всем текстам, имя которому – стихии природы или мир Вечности.
В природе нет ни нового, ни старого, и «новизна» как категория автоописания неорганична для поэта. Для него – «современность: всевременность» (СС5, 341). Однако попадая «эмигрантом» в историю, поэт неизбежно попадает и в зависимость от времени – постольку, поскольку именно оно предоставляет ему свой язык для самовыражения. «Язык – примета века» (ПР, 49), – сформулировала Цветаева для себя еще в 1923 году. Теперь она конкретизировала этот тезис: «Мое время <…> меня оврáжило и, естественно, огромчи´ло, мне часто пришлось говорить (орать) на его языке – его голосом, “несвоим голосом”, к<оторо>му предпочитаю – собственный, которому – тишину» (СТ, 437). Культ поэтического новаторства, столь важный для эпохи модернизма, замещается у Цветаевой постулатом о «голосовом рабстве» поэта у времени. По Цветаевой, своего, в полном смысле этого слова, поэтического голоса у поэта вообще нет; есть те самые «языки пламени, валы океана, пески пустыни», – есть стихии, им овладевающие, им через себя пропускаемые. Голос, рождающийся «на выходе», принадлежит времени и индивидуален лишь в пределах, допускаемых временем. Единственная современность, на которую поэт обречен, и есть современность его языка:
Современность у поэта не есть провозглашение своего времени лучшим, ни даже просто – приятие его – нет тоже ответ! – ни даже насущность того или иного ответа на события (поэт сам событие своего времени и всякий ответ его на это самособытие, всякий самоответ, будет ответ сразу на все), – современность поэта настолько не в содержании (что ты этим хотел сказать? – А то, что я этим сделал) – что мне, пишущей эти строки, своими ушами довелось слышать после чтения моего Мóлодца – это о Революции? (Сказать, что слушатель просто не понял – самому не понять, ибо: не о революции, а она: ее шаг.) (СС5, 333).
Только в такой внесмысловой «отзывчивости на новое звучание воздуха» (СС7, 386), как определила она это свойство в письме к Ю. Иваску, и заключается для Цветаевой неизбежная дань поэта своему времени. Истинная ценность принадлежит, однако, не современной языковой оболочке, а той вечной «стихии» или «силе», которая в нее облекается, и потому единственной проверкой подлинности любого творения может быть лишь его «перевод» – в расширительном толковании этого слова: «Мировая вещь та, которая в переводе на другой язык и на другой век – в переводе на язык другого века – меньше всего – ничего не утрачивает. Все дав своему веку и краю, еще раз все дает всем краям и векам. Предельно явив свой край и век – беспредельно являет все, что не-край и не-век: навек» (СС5, 331).
Тридцатые годы, пожалуй, не оставляли Цветаевой иной продуктивной позиции, чем делать ставку на эту «беспредельную» составляющую собственного творчества. Потенциал эмигрантской литературной жизни стремительно иссякал – по причинам объективным и непреходящим: закрывались из‐за отсутствия денег газеты, журналы и издательства, сокращались средства правительственных и неправительственных организаций, поддерживавших эмигрантов. Политические распри внутри эмиграции накладывались на это материальное неблагополучие и усугубляли раздробленность. На литературную судьбу каждого отдельного автора влияли и свои, частные обстоятельства.
С конца 1920‐х годов Цветаева все чаще сталкивалась с невозможностью – по тем или иным причинам – опубликовать то, что было написано. Первой в этом ряду была поэма «Перекоп», которую она сначала стремилась напечатать, но затем переменила свое решение по просьбе сестры521. Та же участь ждала и «Поэму о Царской Семье», которая оттого писалась медленно и была в основном закончена, по воспоминаниям Марка Слонима, лишь в 1936 году522. Не нашлось издателя и для французского автоперевода Цветаевой поэмы «Мóлодец» («Le Gars»), над которым она работала в 1929–1930 годах. Ни один из ее французских прозаических текстов также не заинтересовал редакторов и издателей. Не реализовался план отдельного издания поэмы «Крысолов». Начиная с 1932 года, когда прекратил свое существование дружественный Цветаевой журнал «Воля России», у нее все чаще возникали конфликты с «Современными записками» – единственным оставшимся солидным литературным журналом эмиграции. Из раза в раз очерки, представляемые Цветаевой в редакцию, подвергались сокращению – либо по цензурным соображениям (как это было с «Чертом»), либо потому, что казались редакторам слишком длинными и утомительными для читателя (так было с эссе «Искусство при свете совести» и с очерком «Живое о живом»). Из крупных прозаических произведений остались неопубликованными при жизни Цветаевой «История одного посвящения» и вторая часть «Повести о Сонечке»; статья «Поэты с историей и поэты без истории» появилась только на сербско-хорватском языке, и ее русская рукопись считается утраченной.
С публикацией стихов дело обстояло тоже непросто: журналы брали их все менее охотно; перспективы издания сборника стихов были и вовсе призрачными523. Многие из стихотворений Цветаева, видимо, вообще не предлагала в журналы, либо предлагала с большой задержкой. Так, цикл «Стихи к Пушкину» (его первые четыре стихотворения) был предложен «Современным запискам» спустя почти шесть лет после написания, в юбилейном 1937 году. Не были опубликованы при жизни Цветаевой такие ее стихотворения 1930‐х годов, как «Ода пешему ходу», «Читатели газет», «Бузина», «Сад» и ряд других; только частично появились в печати циклы «Стихи к Пушкину», «Ici – Haut» (цикл памяти Волошина) и «Стол». Наконец, невозможной оказалась и публикация в 1939 году «Стихов к Чехии».
Сложность публикаций была лишь одной из примет времени, сказавшихся в литературной судьбе Цветаевой в 1930‐е годы. Другие его приметы запечатлены в самой динамике развития и в темах поздней лирики Цветаевой.
В 1930 году она писала Р. Н. Ломоносовой:
Я могла бы быть первым поэтом своего времени, знаю это, ибо у меня есть всё, все данные, но – своего времени я не люблю, не признаю его своим. <…>
Еще – меньше, но метче: могла бы просто быть богатым и признанным поэтом – либо там, либо здесь, даже не кривя душой, просто зарядившись другим: чужим. Попутным, не-насущным своим. (Чужого нет!) И – настолько не могу, настолько отродясь ne daigne524, что никогда, ни одной минуты серьезно не задумалась: а что если бы?, – так заведомо решен во мне этот вопрос, так никогда не был, не мог быть – вопросом (СС7, 320).
На протяжении 1930‐х годов Цветаевой суждено было узнать и творческую, и психологическую цену такой позиции. Верность собственным «стихиям», противостояние соблазну «зарядиться чужим» дались Цветаевой куда легче, чем психологическое примирение со своим положением великого поэта, живущего вне читательской аудитории и вне признания литературного круга. «В мире сейчас – м<ожет> б<ыть> – три поэта и один из них – я» (ЗК2, 390), – записывала она в мае 1933 года. И тогда же писала Пастернаку: «Не могу я, Борис, после 20 лет деятельности ходить по редакциям, предлагая рукопись. Я этого и в 16 лет не делала. И еще менее могу, еще более не могу объяснять в прозе, кто я: известная (??) русская писательница и т. д.» (МЦБП, 545–546). Последнее относилось к попыткам Цветаевой наладить контакты с французскими литературными кругами, которые неизменно заканчивались фиаско. Это усугубляло горечь и ожесточение, обостряло переживание несоответствия своей репутации масштабу своего дара. Накапливаясь, эти чувства выплескивались в лирике, и обличительная риторика таких стихов вела к ощутимой утрате чувства стиля:
С жиру лопающиеся: жир – их «лоск»,
Что не только что масло едят, а мозг
Наш – в поэмах, в сонатах, в сводах:
Людоеды в парижских модах!
Нами – лакомящиеся: франк за вход.
О, урод, как водой туалетной – рот
Сполоснувший – бессмертной песней!
Будьте прóкляты вы – за весь мой
Стыд: вам руку жать – когда зуд в горсти:
Пятью пальцами – да от всех пяти
Чувств – на память о чувствах добрых —
Через всё вам лицо – автограф!
Конечно, Цветаева подобных стихов не печатала. Однако дидактичность и, часто, ожесточенность интонации стали устойчивыми приметами ее лирики 1930‐х годов. «Когда отпадет социальная обида, иссякнет один из главных источников лирического вдохновения: негодование»525, – подобные признания означали кризис не просто творческий, но кризис идентичности Цветаевой как поэта. Творческая реактивность, в основе которой лежит ответ на «социальную обиду», – в такой метаморфозе представления о «лирическом вдохновении» наиболее ясно и жестоко сказалось вмешательство времени в ее творческий мир. В лучших стихах Цветаевой удавалось отвоевывать у «негодования» интонацию, но тематически «социальная обида» действительно стала стержнем значительной части ее лирики 1930‐х годов.
Это произошло не сразу. Стихи начала 1930‐х годов по своему духу, скорее, включались в общую «эпическую» линию творчества Цветаевой. И цикл «Маяковскому», и «Стихи к Пушкину», и цикл памяти Волошина «Ici – Haut» тяготели к жизнеописательному мифотворчеству. Однако для такого развития лирике требовались специальные поводы, и стержнем цветаевской поэзии 1930‐х годов стала иная лирика – медитативная, философская. Поскольку писала Цветаева все меньше стихотворений и работа над ними растягивалась на все бóльшие промежутки времени526, каждое приобретало отчетливый программный оттенок.
Период с лета 1933 до осени 1934 года – пожалуй, самый значительный в поздней лирике Цветаевой. Он начинается после завершения последней из серии цветаевских аналитических эссе – «Поэты с историей и поэты без истории», и стихи этого времени по‐своему продолжают, развивают и толкуют темы недавних статей. В этот период пишется цикл «Стол»527, стихотворения «Тоска по родине! Давно…», «Куст» (скорее диптих, чем цикл), «Уединение: уйди…», «Сад».
В цикле «Стол» можно усмотреть скрытую полемику с пастернаковскими стихами последнего периода, которые Цветаева только что обсуждала в названной выше статье. Любовной лирике и «социалистическим признаниям» Пастернака она противопоставляет любовное признание столу, «тридцатую годовщину» верности которому отмечает: «Да, был человек возлюблен! / И сей человек был – стол / Сосновый» (СП, 434). Противовес описаниям достоинств пастернаковской «красавицы» Цветаева находит в целой серии славословий – «прочности», «просторности» и иным важным качествам своего «возлюбленного». Свою с ним совместность она описывает в подчеркнуто телесных образах, усиливающих эффектность этого внеэротического союза528:
Так будь же благословен —
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный, – как пила
В грудь въевшийся – край стола!
Полемический пафос «Стола» интересен, однако, лишь постольку, поскольку поясняет, чтó могло послужить толчком к замыслу этих стихов. Программный смысл цикла, как уже отмечалось, в другом: это манифестация собственного понимания жизни как процесса письма. При этом показательно, что Цветаева посвящает отдельное стихотворение цикла теме живой связи стола с миром природы:
Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что ствол
Отдав мне, чтоб стать – столом,
Остался – живым стволом!
С листвы молодой игрой
Над бровью, с живой корой,
С слезами живой смолы,
С корнями до дна земли!
«Природность» стола, или же сохранение столом своей природности, несмотря на культурность его функции, – олицетворяет «природность» искусства. Цветаева продолжает в лирике тему, подробно разрабатывавшуюся ею в статьях. В двух стихотворениях 1934 года, «Тоска по родине. Давно…» и «Куст», эта тема находит свое наиболее полное – и трагическое – воплощение.
«Эти стихи могли бы быть моими последними»529, – записала Цветаева под стихотворением «Тоска по родине! Давно…» (май 1934 года). Оно отталкивалось от уже упоминавшегося стихотворения Пастернака, посвященного ей, – «Ты вправе, вывернув карман…»; однако, в отличие от статьи «Поэт и время», стихотворение развивало уже не пастернаковскую, а совершенно иную идею. Тема будущего, которое назовет данную эпоху именем вырывавшегося из нее поэта, становилась все более безразлична Цветаевой. «То, что я буду жить в моих стихах, меня так же мало утешает, как то, что я сейчас живу в сердцах – к<отор>ых я не знаю. <…> Посмертная слава такое же утешение как прижизненная незнаемая любовь»530, – записывала она около того времени, когда начинала работу над стихотворением. Тема «тоски по родине» – лишь отправная точка для рассуждения на куда более актуальную для автора тему: о своих разрушающихся связях с реальностью. Будущее и прошлое, история и география, время и место исключаются из разряда категорий, через соотнесение с которыми может определить себя поэт. Исключается из них и язык. Цепочка отречений от «дома», «храма» и «языка», от «признаков», «мет» и «дат» культуры завершается не эмоциональным парадоксом, как его часто понимают, а логичным для Цветаевой противопоставлением всему отвергнутому выше образа природного – «куста»:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…
Однако это далеко не полный смысл стихотворения. То, что рябина оборачивается у Цветаевой именно кустом, едва ли случайность. Ибо куст в этом стихотворении столько же природный образ, сколько образ божественный – Неопалимая купина, которую в красный, огненный цвет и «окрашивает» рябина. Синкретизм найденного образа кодирует важное для Цветаевой представление о «двойном» родстве поэта – с божественным и с природным началами. Природно-божественный образ «куста» символизирует лишь ту вневременную ипостась «родины», ту «даль», ту «тридевятую землю», которой оборачивалась Россия уже в стихотворении 1932 года «Родина» (СП, 426). И по этой России поэту действительно «совершенно всё равно», где тосковать. «Куст рябины» – единственное, что еще дает поэту чувство своей связи с землей (ибо является ему этот куст именно на земле), единственное, что еще вызывает его отклик. Однако суть этого отклика остается в стихотворении нераскрытой. О нем рассказывает уже другое стихотворение – диптих «Куст» (август 1934 года)531, рождающийся из обрыва фразы, которым завершается «Тоска по родине! Давно…».
Из многих атрибутов «мира человечьего», отвергнутых автором в предыдущем стихотворении, мысль нового стихотворения сосредоточена на одном, названном в первых же строках: «Что нужно кусту от меня? / Не речи ж! Не доли собачьей / Моей человечьей» (СП, 437). Этот атрибут – «речь», язык, та часть «человечьей доли», которой поэт причастен особым образом. В том, что кусту что‐то от нее нужно, Цветаева не сомневается: «А нужно! иначе б не шел / Мне в очи, и в мысли, и в уши» (СП, 437). И невзирая на только что сказанное «Не речи ж!», Цветаева именно ей посвящает свой обращенный к кусту монолог:
Чего не видал (на ветвях
Твоих – хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?
Чего не слыхал (на ветвях
Молва не рождается в муках!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания звуках?
Да вот и сейчас, словарю
Предавши бессмертную силу —
Да разве я тó говорю,
Чтó знала – пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
Губ, той – за которой осколки…
И снова, во всей полноте
Знать буду – как только умолкну.
Бесконечно разнообразное творчество природы (об этом шла речь в статье «Поэты с историей и поэты без истории») и ограниченное, затрудненное и искаженное языковыми формами творчество поэта – чем может быть обусловлена нужда первого во втором? Именно интонационной резкостью поставленного вопроса Цветаева переводит старую романтическую тему на новый модернистский язык. В русской поэзии эта романтическая тема была в свое время ярко воплощена в знаменитом «Невыразимом» (1819) В. Жуковского:
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью…
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
<…>
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие создателя в созданье —
Какой для них язык?.. Горé душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит532.
Для Жуковского тема неподражаемости природного (божественного) творения оказывалась поводом воспеть это творение еще раз. В самом отказе художника от состязания с природой был для него источник поэтического вдохновения. Цветаева эту романтическую тему превращала в экзистенциальную: зачем существую я, поэт, если природное (божественное) творение совершенно и полно без меня? Это был тот же вопрос о «вакансии поэта», который с такой остротой встал в начале 1930‐х годов перед Пастернаком, только ставился он Цветаевой в ином идейном регистре. На стихотворение Пастернака «Другу» («Борису Пильняку») она, как мы помним, откликалась в статье «Поэты с историей и поэты без истории», хотя и не процитировала там его последнего четверостишия:
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста533.
Если Пастернак проблему «вакансии поэта» увидел как проблему исторического поведения, то Цветаева увидела ее как проблему внеисторическую, онтологическую. Это не значит, конечно, что конкретный исторический опыт не имел отношения к самому факту постановки ею этой проблемы.
Вопрос «Чтó нужно кусту от меня?» – вариант того вечного вопроса о смысле своего существования в мире, на который без конца отвечает художник. Этот вопрос существует и в других вариантах: что нужно от меня истории, обществу, родине, классу, современнику, потомку, человеку вообще? Выбор Цветаевой своего варианта вопроса есть уже, в значительной мере, ее ответ на собственное бытие. Этот выбор логически вытекает из всей философии зрелой Цветаевой: поэт, вечный и единственный, может интересоваться лишь своим местом в онтологии мира. Природа физически репрезентирует в этом мире вечное божественное начало; это то самое «присутствие создателя в созданье», о котором говорил Жуковский и которое лежит в основе всей романтической натурфилософии. Однако цветаевский поэт стремится определить свою идентичность через отношение с природой еще и потому, что «искусство», по мысли Цветаевой, «есть та же природа» или же «ответвление природы (вид ее творчества)» (СС5, 346). Разговор с кустом – это разговор с иным «ответвлением природы», более совершенным, с точки зрения поэта, ибо внеположным «миру человечьему». В наброске письма Ходасевичу в мае того же года Цветаева определяла «Лирику» как «пятую стихи<ю>, безглагольную, к<ак> всякое до, беспомощную, не-сущую без нас поэтов»534. Поэт оказывается тем, кто дает голос одной из природных стихий, вне этого воплощения «не сущей». Куст зримо воплощает творчество природы, осуществляющееся помимо человека, но ему внятное. Однако скрыто куст (как и божество, в нем себя явившее) воплощает и ту «пятую стихию», которая без поэта, т. е. без его голоса и слова, остается «беспомощной», не внятной миру.
Прямого поэтического выражения эта последняя мысль не находит: Цветаева лишь констатирует несомненность нужды куста в ней – нужды, которая и заставляет ее каждый раз «придавать бессмертную силу» языку. Здесь и вступает в игру мотив «невыразимого», становящийся под пером Цветаевой экзистенциально трагическим. «Знание», получаемое поэтом из природы, и та часть его, которую поэту удается воплотить в слове, оказываются несоизмеримыми величинами. Путь поэта должен быть путем осознания этой личной онтологической трагедии. Если в «Столе» жизнь была приравнена к процессу письма, то теперь Цветаева говорит о трагичности этого процесса – не жизни, а именно письма. Трагичность взаимоотношений поэта со своим временем, с теми историческими обстоятельствами, в которых выпало существовать, – превращается в частность по сравнению с самой трагедией творческого предназначения.
Вторая часть «Куста» рассказывает как раз о том «знании», которое открывается поэту в природе, – причем открывается именно в его до-речевой ипостаси:
А мне от куста – не шуми
Минуточку, мир человечий!
А мне от куста – тишины:
Той – между молчаньем и речью.
Той – можешь ничем, можешь – всем
Назвать: глубока, неизбывна.
Невнятности! Наших поэм
Посмертных – невнятицы дивной.
Невнятицы старых садов,
Невнятицы музыки новой,
Невнятицы первых слогов,
Невнятицы Фауста Второго.
Той – до всего, после всего,
Той – между согласьем и спором,
Ну – шума ушного того,
Всё соединилось – в котором.
«Невнятица», которую слышит художник и которую не может сохранить в своем творении, – это абсолютное воплощение «пятой стихии», то, что наполняет «тишину» мира. Отблеск этой «невнятицы» сохраняют редкие земные творения, «пограничные» в своей сущности, т. е. близкие либо к «до всего» («первые слоги» ребенка), либо к «после всего» (в старости завершенная Гете вторая часть «Фауста»).
Должно быть, «невнятица первых слогов» неслучайно попадает в тот ряд, который репрезентирует в стихотворении нечто не подвластное поэтической речи. В это время Цветаева уже работает над очерком «Мать и музыка», первом в своей «трилогии» о детстве как эпохе становления поэта. Поразительно, что в нем нет и следа того экзистенциального отчаяния, к которому Цветаева приходит в лирике. Творчество, слово, поэзия – прекрасные, вечные, всесильные герои ее прозы. И лишь в соседствующих с этой прозой стихах Цветаева не в силах не говорить об ином: о поражении слова, о бессилии поэта в мире, об отсутствии для себя иного выхода, чем «уединение в груди». В лирике высказывается то, что вытекает из текущего опыта Цветаевой как поэта. Глубокий творческий кризис, обусловленный и историческими и частными причинами, Цветаевой необходимо онтологизировать, чтобы дать ему смысл. В прозе она свободна от подобной необходимости, и это одна из причин все более сознательной и сильной потребности Цветаевой давать выход своим творческим силам именно в ней.
В конце 1934 – начале 1935 года Цветаева пишет несколько стихотворений памяти Николая Гронского, молодого поэта, погибшего в результате несчастного случая в парижском метро. В конце 1920‐х годов Цветаеву связывали с ним романтические отношения; именно ко времени их начала (весне – лету 1928 года) относится единственный всплеск лирики Цветаевой за всю вторую половину 1920‐х годов535. Творческий отклик на его гибель, на «удар, заглушенный годами забвенья» (СП, 657), сразу превращается в метатекст, тесно связанный с текущими размышлениями Цветаевой о предназначении поэта:
Есть счастливцы и счастливицы,
Петь не могущие. Им —
Слезы лить! Как сладко вылиться
Горю – ливнем проливным!
Чтоб под камнем – что‐то дрогнуло.
Мне ж – призвание как плеть —
Меж стенания надгробного
Долг повелевает – петь.
Это – продолжение темы «Куста», продолжение разговора о творческом призвании как онтологически трагическом. Именно в набросках к этому незавершенному стихотворению Цветаева находит знаменательную формулу этой трагедии: «Ибо раз голос тебе поэт / Дан, остальное – взято» (СП, 686). Написание стихов памяти Гронского – частный случай подчинения предназначению: их цель – не дать ушедшему «умереть совсем», «порасти быльем», «поседеть в сердцах» (СП, 442). Единственное, в чем может остаться умерший, это ее слово, воплощающее память о нем как человеке. Ибо ни «кость», ни «дух» человека не являют; ни небо, ни земля его человеческой цельности не получают. Человек уходит «совсем» и «со всем» (СП, 442), повторяет Цветаева слова, уже сказанные ею однажды в «Доме у Старого Пимена» (СС5, 133).
Осень 1935 года – еще один период всплеска цветаевской лирики. Написанные в сентябре – ноябре цикл «Отцам» и стихотворения «Двух станов не боец, а – если гость случайный…», «Читатели газет», «Деревья» объединяет иной пафос, нежели группу стихотворений 1933–1934 годов. Это стихи о «поэте и времени» более в историческом, чем в онтологическом понимании темы. Трудно усомниться, что актуализирует этот модус размышлений июньская встреча с Пастернаком. Именно как реакцию на утрату понимающего собеседника в нем можно интерпретировать цветаевский цикл «Отцам» с его истовыми словами признательности «уходящей расе», уже выбывшей из истории, «в счет не идущей», с которой одной Цветаева может продолжать себя идентифицировать:
Не Сиреной – сиренью
Заключенное в грот —
Поколенье – с пареньем!
С тяготением – от
Земли, над землей, прочь от
И червя и зерна —
Поколенье – без почвы,
Но с такою – до дна
Днища – узренной бездной,
Что из впалых орбит
Ликом девы любезной —
Как живая глядит.
Поколенье, где краше
Был – кто жарче страдал!
Поколенье! Я – ваша!
Продолженье зеркал.
Ваша – сутью и статью,
И почтеньем к уму,
И презрением к платью
Плоти – временному!
Автопортрету на фоне поколенья «отцов» другие стихотворения осени 1935 года противопоставляют портрет современности, на фоне которой Цветаева себя не видит. Отсюда повторенное за Пушкиным «Ты царь: живи один» со следующей далее поправкой: «Бог» вместо «царь» («Двух станов не боец, а – если гость случайный…»; СП, 448). Отсюда и человеческий паноптикум «Читателей газет» и «Деревьев», в которых явно в ущерб чувству стиля Цветаева выплескивает весь отрицательный заряд собственного самочувствия – отчаяния:
Кто – чтец? Старик? Атлет?
Солдат? Ни чéрт, ни лиц,
Ни лет. Скелет – раз нет
Лица: газетный лист!
Которым – весь Париж
С лба до пупа одет.
Брось, девушка!
Родишь —
Читателя газет.
Кача – «живет с сестрой»,
ются – «убил отца!»
Качаются – тщетой
Накачиваются.
<…>
Уж лучше на погост —
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет!
«Стихи? Все чувства иссякли, кроме негодования и горечи»536, – запишет она вскоре. Постепенно к Цветаевой приходит понимание того, что из одних этих чувств стихи не пишутся или же пишутся не те стихи, которые достойны усилия. «Стихов почти не пишу: строки приходят – и уходят – откуда пришли»537, – в мае 1936 года она констатирует иссякновение желания записывать обреченные оставаться лишь фрагментами строки. Сил на завершение уже начатых стихотворений все равно нет: «Мне нечего давать в С<овременные> З<аписки>, п<отому> ч<то> все стихи недописаны: в последнюю секунду уверенность, что можно – или отчаяние, что должно – данную строку (иногда дело в слове) сделать лучше»538. Более всего Цветаеву страшит потеря контроля над собственным творческим состоянием, то «переутомление мозга», о котором она говорит в августовском письме 1935 года к В. Н. Буниной:
…я день (у стола, без стола, в море, за мытьем посуды – или головы – и т. д.) ищу эпитета, т. е. ОДНОГО слова: день – и иногда не нахожу – и – боюсь <…> – что я кончу как Шуман, который вдруг стал слышать (день и ночь) в голове, под черепом – трубы en ut bemol – и даже написал симфонию en ut bemol – чтобы отделаться – но потом ему стали являться ангелы (слуховые) – и он забыл, что у него жена – Клара, и шестеро детей, вообще – всё – забыл, и стал играть на рояле – вещи явно-младенческие, если бы не были – сумасшедшие. И бросился в Рейн (к сожалению – вытащили). И умер как большая отслужившая вещь (СС7, 293–294).
Ни нарушить свою ригористическую творческую этику, ни найти путь к источнику прежней поэтической силы Цветаева не может. В 1935 году она бросает работу над поэмой «Певица». «Вещь остается неоконченной, ибо – пустая (случайная) тема: та же, что в Переулочках, но несравненно бледнее»539, – записывает Цветаева. Едва ли еще недавно тема «Переулочков», тема «дьявольского соблазна» искусства, показалась бы ей «пустой» или «случайной». Теперь она такова, и такова именно потому, что «несравненно бледнее» и переживается и воплощается. Нельзя и тут не увидеть контраста с прозой: написанный в этом же году «Черт» – апофеоз той же темы – исполнен истинной силы и яркости.
Следом за «Певицей» бросает Цветаева и работу над поэмой «Автобус» (начатой еще в 1934 году)540. Под беловиком фрагментов поэмы в беловой тетради оставлена следующая запись: «Мечта – кончить. – Их танец. – Кафэ может быть под вишней. – Потом дать погасание. Вся гасну… (в свою особость.) – Гремя подходил автобус. Тáк, по крайней мере, тá боль будет иметь смысл»541. Поездка на автобусе оказывается в поэме развернутой метафорой жизни; спутник, которого героиня обретает в этой поездке, с которым вместе открывает «ворота в счастье», в последней части вдруг катастрофически «меняет облик»:
И какое‐то дерево облаком целым —
– Сновиденный, на нас устремленный обвал…
«Как цветная капуста под соусом белым!» —
Улыбнувшись приятно, мой спутник сказал.
Этим словом – куда громовее, чем громом
Пораженная, прямо сраженная в грудь:
– С мародером, с ворóм, но не дай с гастрономом,
Боже, дело иметь, Боже, в сене уснуть!
<…>
Мародер отойдет, унося по карманам —
Кольца, цепи – и крест с отдышавшей груди.
Зубочисткой кончаются наши романы
С гастрономами.
Помни! И в руки – нейди!
Скорее всего, справедливо предположение, что источником «той боли» действительно является Пастернак542 и что именно «гастрономические» образы из «Второго рождения» послужили Цветаевой способом зашифровки фигуры «спутника». Именно поэтому почти невероятным представляется, невзирая на высказанное Цветаевой желание, окончание ею этой поэмы. Так расправляться с собственным мифом о человеке, отношения с которым сыграли ни с чем не сравнимую роль в ее жизни и творчестве, было бы именно с творческой точки зрения деструктивным. Самый замысел поэтического развенчания Пастернака свидетельствовал более всего об остроте творческого кризиса с его опустошающими чувствами «негодования и горечи».
Ни один из крупных поэтических замыслов, существовавших у Цветаевой в 1935 году, уже не реализовался. От замысла поэмы о Марии Вечере остались незначительные отрывки543, к замыслам о Наполеоне на Св. Елене544 и конце Шумана545 Цветаева, по‐видимому, так и не приступила. Настойчивый поиск опоры для собственной творческой фантазии в историях чужих жизней подтверждал, среди прочего, оскудение лирического русла.
Внезапный на этом фоне лирический взрыв, которым обернулась для Цветаевой начавшаяся в конце июля 1936 года переписка с молодым поэтом Анатолием Штейгером, был настоящим творческим чудом. Читая письма Цветаевой к Штейгеру, трудно не поддаться ощущению, что весь процесс конструирования романа с далеким корреспондентом был для нее полуосознанным самопогружением в состояние дежа вю. Ведь именно из таких переписок и рождалась лучшая цветаевская лирика 1920‐х годов, и теперь, когда последние всплески той лирики остались в далеком прошлом, соблазн пережить еще раз прежнее чувство собственной творческой силы оказывался непреодолимым. Одно из прекраснейших в поздней лирике Цветаевой стихотворений открывало штейгеровский цикл:
Ледяная тиара гор —
Только бренному лику – рамка.
Я сегодня плющу – пробор
Провела на граните замка.
Я сегодня сосновый стан
Догоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан —
Как ребенка за подбородок.
Чувство к «бренному лику» (фотографическому изображению на фоне Альп) переносилось на «плющ», на «сосновый стан», на бутон тюльпана, – заполняя пространство вокруг героини образами воображаемого возлюбленного. Точно так же растворяла себя в природных образах сама Цветаева, передавая им свое чувство:
Всей Савойей и всем Пиемонтом,
И – немножко хребет надломя —
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым – и руками двумя!
Шесть стихотворений к Штейгеру (и набросок седьмого, оставшегося незаконченным) были написаны одно за другим менее чем за месяц, в августе – сентябре 1936 года. Тем более резким было поэтическое молчание, вскоре после этого воцарившееся в творчестве Цветаевой на два года. С осени 1936 до сентября 1937 года она последовательно работала над тремя крупными прозаическими текстами: «Мой Пушкин», «Пушкин и Пугачев» и «Повесть о Сонечке». После окончания последней (дополнения во вторую часть, впрочем, вносились и в 1938 году) почти единственным занятием Цветаевой стало приведение в порядок своего архива перед ставшим неизбежным отъездом в СССР.
В марте 1936 года Цветаева писала своей многолетней пражской корреспондентке А. Тесковой:
Живу под тучей – отъезда. Еще ничего реального, но мне – для чувств – реального не надо.
Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам и что это ее – последний конец.
Завтра или через год – я всё равно уже не здесь («на время не стóит труда»…) и всё равно уже не живу. Страх за рукописи – чтó‐то с ними будет? половину – нельзя везти! а какая работа (любовь) – безумная жалость к последним друзьям: книгам – тоже половину нельзя везти! – и какие оставить?? – и какие взять?? – уже сейчас тоска по здешней воле, призрачному состоянию чужестранца, которое я так любила (stranger here546) <…>.
То, встав утром, радостная: заспав! – сразу кидаюсь к рукописи Царской Семьи (поэма, дописанная до половины и брошенная 5 лет назад, ныне возобновленная), то – сразу вспомнив, – à quoi bon?547 всё равно не допишу, а – допишу – всё равно брошу: в лучшем случае похороню зáживо в каком‐нибудь архиве: никогда не смогу перечесть! (не то, что: прочесть или – напечатать)…
С<ергея> Я<ковлевича> держать здесь дольше не могу – да и не держу – без меня не едет, чего‐то выжидает (моего «прозрения»), не понимая, что я – такой умру.
Я бы на его месте: либо – либо. Летом – еду. Едете?
И я бы, конечно, сказала – да, ибо – не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду.
Но он этого на себя не берет, ждет, чтобы я добровольно – сожгла корабли (по нему: распустила все паруса) (ПТ, 294–295).
В начале 1936 года Цветаева приняла окончательное решение, которого долго ждали от нее члены семьи548, – вернуться вместе с ними в Россию. Впрочем, уже летом 1935 года, в дни встречи с Пастернаком, вопрос этот стоял в повестке дня, о чем сам Пастернак впоследствии свидетельствовал549. В октябре 1935 года в наброске письма к нему Цветаева также упоминала: «Про отъезд (приезд) я ничего не знаю. <…> Поеду – механически, пассивно, волей вещей» (МЦБП, 561). Можно не сомневаться, что ее творческий кризис с осени 1935 года усугублялся чувством полной неопределенности своей дальнейшей судьбы, как и сознанием бессилия изменить что‐то в сложившейся ситуации.
Безвыходность ее положения Цветаевой была понятна. Даже в лучшие годы литературный заработок не давал ей необходимых средств к существованию. Никакой иной работы она для себя не мыслила, да и не могла бы рассчитывать ее найти. Все последние годы семья сводила концы с концами благодаря заработкам С. Эфрона, служившего в Союзе возвращения на Родину, – организации, созданной под эгидой советского полпредства во Франции. Остаться в Париже одной с Муром – то, на чем Цветаева, очевидно, настаивала прежде, – не было реалистичным и в начале 1930‐х годов. Но к середине 1930‐х к материальной нереалистичности добавилась и человеческая невозможность такого разделения семьи: Мур был привязан к отцу и сестре и уже, как с горечью отмечала Цветаева, «с полным ртом программных общих мест» (ПТ, 294), несомненно от них воспринятых. Такова была домашняя – и решающая – сторона дела.
Облегчало принятие решения об отъезде сознание тупиковости эмигрантской литературной ситуации. Вспыхнувшая было в начале 1930‐х годов надежда Цветаевой найти путь к франкоязычной аудитории обнаружила свою полную несостоятельность: практически ничего из написанного по‐французски при ее жизни света не увидело. Даже переводы на французский язык ряда стихотворений Пушкина, выполненные ею летом – осенью 1936 года, в преддверии столетней годовщины со дня смерти поэта, опубликовать, за малыми исключениями, не удалось. Что же касается эмигрантской литературной жизни, то и куда более благополучно, чем Цветаева, устроившиеся в ней литераторы испытали в 1930‐е годы период резкого отчуждения от всей ее атмосферы. О своей мечте «прекратить ужасающую профессию эмигрантского писателя»550 говорил в 1936 году В. Ходасевич, который, как ведущий критик «Возрождения», был одним из сравнительно немногих, кому удавалось жить литературным заработком. Замкнутая жизнь «эмигрантского гетто» вступала в стадию апатического саморазрушения. Материальная нужда, неудовлетворенные амбиции и сознание принесенности своей жизни в жертву слепым силам истории – в такой атмосфере ни творческие свершения, ни литературные дискуссии уже не могли иметь серьезного смысла. «Когда у одного “старшего” запирают газ, а у другого “полустаршего” описывают мебель, известная “мудрость” не позволяет спорить»551, – писала З. Гиппиус. Кроме всего прочего, политические процессы, происходившие в это время в Европе, оставляли эмигрантам мало надежды, что хотя бы относительное благополучие их жизни в изгнании будет стабильным.
В марте 1937 года, когда уехала в Россию дочь Цветаевой, отъезд остальных членов семьи стал вопросом времени. Дальнейшее хорошо известно. Катастрофа октября 1937 года, когда С. Эфрон, замешанный в политическом убийстве советского невозвращенца Игнатия Рейсса552, вынужден был тайно бежать из Франции под угрозой ареста французской полицией; последовавшее затем почти двухлетнее ожидание Цветаевой собственного отъезда под бдительным надзором советского полпредства и спецслужб; доходившие до нее еще в Париже вести о неблагополучии в судьбе мужа553 и подтверждение этих опасений по приезде в Россию; осознание всего, что касалось рода деятельности С. Эфрона в 1930‐е годы; последовавшие вскоре аресты дочери и мужа; передачи обоим в тюрьму и письма дочери в ссылку; наконец, начало войны и панический страх за сына, через полтора года подлежавшего призыву… «Уединение» Цветаевой было разбито, и она оказалась один на один с историей554.
Еще в Париже на первое зарево будущей мировой войны, зажженное родной ей Германией, Цветаева откликнулась резким: «Пора – пора – пора / Творцу вернуть билет» (СП, 467). В растоптанной историей Чехии она увидела себя, и последний яростный лирический взрыв осени 1938 – весны 1939 года был ответом надвинувшемуся на них обеих бессмысленному хаосу времени:
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.
«Все твое богоборчество – бой за одиночество» (СС5, 55), – сказала Цветаева о своем Черте. Час ее богоборчества пробил именно тогда, когда надежды на восстановление собственного одиночества уже не осталось. Долг перед близкими заставлял заботиться о заработке, налаживать литературные контакты, строить рациональные планы на будущее. Сознание, что ее психические силы на исходе, лишь нарастало по мере совершаемых усилий.
«Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не» (СС7, 687), – это было сказано за год до смерти. Отказ от письма и был для поэта отказом от жизни, ибо, по Цветаевой, никакой иной жизни у него быть не могло. «Я раньше умела писать стихи, но теперь разучилась» (ЦВС3, 193), – об этом говорила Цветаева за несколько дней до смерти Лидии Чуковской.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий: слово.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно.
Гибель поэта – отрешение от стихий. Проще сразу перерезать себе жилы («Искусство при свете совести»; СС5, 351),
– эти слова были сказаны еще в начале 1930‐х годов. Но в том, что на «Страшном суде слóва [она] чиста» (СС5, 374), Цветаева была уверена уже тогда.
Индивидуальный путь художника всегда лишь частично совпадает с теми макропроцессами, которые видит историк (историк литературы, в частности) в той или иной эпохе. То особенное сочетание личного и эпохального, которое обнаруживается в этом пути, всегда уникально; однако потенциал востребованности этого уникального опыта и внутри данной эпохи, и тем более за ее пределами трудно предсказуем.
Анализ литературного развития Цветаевой позволяет, прежде всего, сформулировать суть того уникального опыта, который определяет специфику ее положения в литературе русского модернизма. Если бегло перечислить ключевые пункты, в которых особость ее пути кажется наиболее очевидной, то перечень может быть таков.
Она начинает свою литературную карьеру не так, как принято, по форме и очень рискованно по сути, одним словом – по‐дилетантски; продолжает ее еще более экстравагантно, практически не печатаясь в тот период, когда творчество ее ближе всего сходится с магистральной линией развития русской поэзии; возвращается в литературу, наконец осознав себя литератором-профессионалом, и дает новую жизнь в своем творчестве, казалось бы, отработавшим свое символистским мифам и мифотворческим стратегиям; развивает идеологию поглощения жизни «чистым» письмом, когда и жизнь и письмо повсеместно поглощаются совсем иными идеологиями. Задача самоопределения реализуется на каждом важном этапе ее творческого развития как выбор (или принятие) по возможности маргинальной позиции, которая становится для нее источником творческого пафоса и творческой свободы. Ответ Цветаевой на главное историческое событие своего времени, революцию 1917 года, столь же идиосинкразичен: там, где ее современники видят императив диалога с историческим временем, она видит императив выхода из диалога – выбор, который дает ей поразительной силы творческий импульс. При этом базовые источники творческой идеологии Цветаевой не только не оригинальны, но скорее типичны для эпохи: романтическое двоемирие, демонизм художника, ницшеанство, метафизика пола.
Особенности пути Цветаевой, по‐видимому, легче всего описать, соотнеся его с одной из базовых идеологем модернизма – автономностью искусства. Понимая автономность как наличие у искусства особой ниши в культуре, особых закономерностей развития, не связанных напрямую с динамикой развития других социальных институтов и практик, – художники и идеологи модернизма «дробили» эту общую идею на множество частных: автономности языка искусства по отношению к языку вообще, автономности этики искусства, независимости его идеологии от интересов «буржуазного класса» и т. д. Из этого спектра возможностей Цветаева усвоила спонтанно и очень лично одну идею: об автономности самого художника. Эта идея по существу «маскировала» комфортную для нее социальную идентичность, и потому огромная творческая энергия и творческая фантазия, отпущенная ей, направлялась на конструирование и удержание за собой этой культурной ниши: поэта – частного человека. Все поиски в области поэтики и идеологии были уже своеобразной «надстройкой» над этой базовой для ее творческого бытия сверхидеей.
Опора на «приватные» жанры как источник новаций и отказ от соотнесения своего творческого бытия с категориями «истории», «власти», «государства» – это те рефлексы позиции Цветаевой, которые наиболее прямо связаны с названной сверхидеей. Раздвигая границы литературного, Цветаева, как никто из крупных литераторов-современников в России, была еще и невольным «агентом» и летописцем кризиса института профессиональной литературы, каким этот институт достался модернизму от XIX века и каким окончательно перестал быть с уходом модернизма с исторической сцены. Эпоха «восстания масс» перекроила культурную карту, сделав то, что было «автомаргинализацией» для Цветаевой, новой нормой существования поэзии и интеллектуальной литературы в обществе. Полагавшая, что конструирует свою идентичность по лекалам прошедших времен, Цветаева оказалась более созвучной рубежу XX и XXI веков, чем возможно было предугадать.
ЗК (1–2) – Цветаева М. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. / Сост., подгот. текста, примеч. Е. Б. Коркиной и М. Г. Крутиковой. М.: Эллис Лак, 2000–2001.
МЦБП – Цветаева М., Пастернак Б. «Души начинают видеть». Письма 1922–1936 годов / Издание подготовили Е. Б. Коркина и И. Д. Шевеленко. М.: Вагриус, 2004.
ПР – Цветаева М. Письма к Константину Родзевичу. Ульяновск: Ульяновский Дом печати, 2001.
ПТ – Цветаева М. «Спасибо за долгую память любви…». Письма к Анне Тесковой / Публ. и примеч. Г. Ванечковой. М.: Русский путь, 2009.
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РПЦ – Рильке Р. М. Дыхание лирики: Переписка с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Письма 1926 года / Сост. и коммент. К. М. Азадовского, Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака. М.: АРТ-ФЛЕКС, 2000.
СИП – Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах / Сост. и коммент. Е. Б. Коркиной. М.: Эллис Лак, 1999.
СП – Цветаева М. Стихотворения и поэмы / Под ред. Е. Б. Коркиной. Л.: Советский писатель, 1990 (Б‐ка поэта. Большая сер.).
СС (1–7) – Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. / Под ред. А. Саакянц и Л. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1994–1995.
СТ – Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради / Подгот. текста и примеч. Е. Б. Коркиной и И. Д. Шевеленко. М.: Эллис Лак, 1997.
ЦВС (1–3) – Марина Цветаева в воспоминаниях современников: [Т. 1] Рождение поэта; [Т. 2] Годы эмиграции; [Т. 3] Возращение на родину / Сост., подгот. текста, примеч. Л. А. Мнухина и Л. М. Турчинского. М.: Аграф, 2002.
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМЫХ И УПОМИНАЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ
«А Бог с вами!..»
Автобус
Але («Аля! – Маленькая тень…»)
Андрей Шенье, цикл
«Андрей Шенье взошел на эшафот…»
Ариадна, пьеса
Байрону
Барабан
«Безумье – и благоразумье…»
Бессонница, цикл
«Бессрочно кораблю не плыть…»
«Бич жандармов, бог студентов…»
«Блаженны дочерей твоих, Земля…»
«Бог – прав…»
«Брожу – не дом же плотничать…»
Бузина
«Быть в аду нам, сестры пылкие…»
«Быть мальчиком твоим светлоголовым…»
«Быть нежной, бешеной и шумной…»
В. Я. Брюсову («Улыбнись в мое “окно”…»)
В. Я. Брюсову («Я забыла, что сердце в вас – только ночник…»)
«В гибельном фолианте…»
В зале
В Люксембургском саду
«В мире, где всяк…»
«В огромном липовом саду…»
«В оны дни ты мне была как мать…»
«В просторах покроя…»
«В сиром воздухе загробном…»
«В смертных изверясь…»
«В тяжелой мантии торжественных обрядов…»
«В час, когда мой милый брат…»
«Век коронованной интриги…»
«Вереницею певчих свай…»
Версты, сборник
Версты I, сборник
Версты II, неосуществл. сборник
«Весна наводит сон. Уснем…»
Вечерний альбом, сборник
(Взятие Крыма)
Возвращение вождя
«Война, война! – Кажденья у киотов…»
Волшебный фонарь, сборник
Волшебство в стихах Брюсова
Вольный проезд
«Всё великолепье…»
«Всё круче, всё круче…»
«Вспомяните: всех голов мне дороже…»
Встреча («Вечерний дым над городом возник…»)
Встреча с Пушкиным
«Вы, идущие мимо меня…»
«Вы столь забывчивы, сколь незабвенны…»
Гамлет, цикл
Генералам двенадцатого года
Германии
Герой труда
«Гибель от женщины. Вóт – знáк…»
Гимназистка
«Даны мне были и голос любый…»
«Два солнца стынут – о Господи, пощади!..»
Двое, цикл
«Двух станов не боец, а – если гость случайный…»
Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным
«День угасший…»
Деревья, цикл
Деревья («Кварталом хорошего тона…»)
Диалог Гамлета с совестью
Дикая воля
Дом у Старого Пимена
Дон-Жуан, цикл
Дортуар весной
Дочь Иаира, цикл
Драматические этюды, неосуществл. сборник пьес
«Древняя тщета течет по жилам…»
«Други его – не тревожьте его!..»
«Думали – человек!..»
«Душа, не знающая меры…»
Егорушка
«Есть некий час – как сброшенная клажа…»
«Есть рифмы в мире сем…»
«Есть счастливцы и счастливицы…»
«Есть счастливцы и счастливицы…» (варианты)
«Еще один огромный взмах…»
Жертвам школьных сумерок
Живое о живом
«За то, что некогда, юн и смел…»
«Завораживающая! Крест…»
«Заповедей не блюла, не ходила к причастью…»
Земные приметы, неосуществл. книга прозы
«Знаю, умру на заре! На которой из двух…»
«Золото моих волос…»
«И сказал Господь…»
«И тучи оводов вокруг равнодушных кляч…»
«Идет по луговинам лития…»
«Идешь, на меня похожий…»
«Идите же! – Мой голос нем…»
Из двух книг, сборник
«Из строгого, стройного храма…»
«Имя твое – птица в руке…»
«Ипполиту от Матери – Федры – Царицы – весть…»
Искусство при свете совести
История одного посвящения
«Ищи себе доверчивых подруг…»
«К озеру вышла. Крут берег…»
«Кабы нас с тобой – да судьба свела…»
«Как жгучая, отточенная лесть…»
«Как перед царями да князьями стены падают…»
«Как разгораются – каким валежником!..»
«Каким наитием…»
«Какой-нибудь предок мой был – скрипач…»
«Каменной глыбой серой…»
«Канун Благовещенья…»
Кедр
Колдунья
«Коли милым назову – не соскучишься!..»
Конец Казановы
Красный бычок
Крик станций
«Кровных коней запрягайте в дровни!..»
Крысолов
«Кто дома не строил…»
Куст
Лебединый стан, сборник
«Ледяная тиара гор…»
«Лежат они, написанные наспех…»
Лесное царство
Лестница
Литературным прокурорам
«Лицо без обличия…»
«Лорд Байрон! – Вы меня забыли!..»
«Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе…»
«Люди на дýшу мою льстятся…»
Магдалина, цикл
«Мальчиком, бегущим резво…»
Мариула, цикл
Мария Башкирцева, неосуществл. сборник
«Масти, плоченные втрое…»
Мать и музыка
Маяковскому, цикл
«Меж нами – десять заповедей…»
Метель
«Милые спутники, делившие с нами ночлег!..»
«Милый читатель! Смеясь, как ребенок…»
«Мимо иди!..»
«Могу ли не вспоминать я…»
«Мое убежище от диких орд…»
Мои службы
«Моим стихам, написанным так рано…»
Мой ответ Осипу Мандельштаму
«Мой письменный верный стол!..» (1-е из цикла «Стол»)
«Мой письменный верный стол!..» (5-е из цикла «Стол»)
Мой Пушкин
Мóлодец
«Молодость моя! Моя чужая…»
«Москва! Какой огромный…»
Муза
«На базаре кричал народ…»
«На заре морозной…»
«На заре – наимедленнейшая кровь…»
На красном коне
«На назначенное свиданье…»
«На што мне облака и степи…»
«Над синевою подмосковных рощ…»
«Над церкóвкой – голубые облака…»
«Напрасно глазом – как гвоздем…»
«Настанет день – печальный, говорят!..»
Наталья Гончарова
Наяда
«Не гони мою память! Лазурны края…»
«Не думаю, не жалуюсь, не спорю…»
«Не краской! Не кистью!..»
«Не надо ее окликать…»
«Не отстать тебе. Я – острожник…»
«Не самозванка – я пришла домой…»
«Нежный призрак…»
Нездешний вечер
Несбывшаяся поэма
«Ни тагана…»
«Никогда не узнаешь, чтó жгу, чтó трачу…»
«Никто ничего не отнял…»
«Никуда не уехали – ты да я…»
«Но тесна вдвоем…»
Новогоднее
Новолунье
«Новолунье и мех медвежий…»
«Ночные ласточки Интриги…»
Ночные места
О Германии
«О души бессмертный дар…»
О любви
«О муза плача, прекраснейшая из муз!..»
«О путях твоих пытать не буду…»
«О, слезы на глазах!..»
Оба луча
«Обвела мне глаза кольцом…»
«Обидел и обошел?..»
«Облака – вокруг…»
«Обнимаю тебя кругозором…»
Ода пешему ходу
«Он приблизился, крылатый…»
«Оперением зим…»
«Оставленного зала тронного…»
«Осыпались листья над Вашей могилой…»
«От руки моей не взыгрывал…»
Ответ на анкету (1926)
Ответ на анкету газеты «Возрождение»
Ответ на анкету газеты «Последние новости»
Ответ на анкету журнала «Своими путями»
«Откуда такая нежность…»
«Отмыкала ларец железный…»
Отрывки из книги «Земные приметы»
Отцам, цикл
«Охватила голову и стою…»
Офелия – в защиту королевы
Офелия – Гамлету
Ошибка
П. Э., цикл
Памяти Нины Джаваха
Певица
Перекоп
Переулочки
(Петр и Пушкин)
Письмо к Амазонке
Плащ, цикл
Пленный дух
«По нагориям…»
Повесть о Сонечке
«Повторю в канун разлуки…»
«Под лаской плюшевого пледа…»
Подруга, цикл
Поезд жизни
Пожалей…
«Поколенью с сиренью…»
Попытка комнаты
«Посвящаю эти строки…»
После России, сборник
Последний моряк
«Последняя прелесть…», черн. набросок
Посмертный марш
«Поступь легкая моя…»
Поэма воздуха
Поэма горы
Поэма конца
Поэма о Царской Семье
Поэт и время
«Поэт – издалека заводит речь…»
Поэт о критике
Поэты, цикл
Поэты с историей и поэты без истории
Пражский рыцарь
<Предисловие к сборнику «Из двух книг»>
Приключение
Провода, цикл
Прокрасться…
Психея, сборник
Пушкин и Пугачев
«Радость всех невинных глаз…»
Разговор с гением
Разлука, сборник
Разлука, цикл
«Рано еще – не быть!..»
Ремесло, сборник
Родина
Роландов рог
«Руки люблю…»
«С другими – в розовые груды…»
С моря
Сад
Световой ливень
«Седой – не увидишь…»
«Сердце, пламени капризней…»
Сибирь
Сивилла, цикл
«Сивилла: выжжена, сивилла: ствол…»
Сивилла – младенцу
«Сини подмосковные холмы…»
«Слава падает так, как слива…»
Смерть Стаховича
«Собирая любимых в путь…»
«Солнце Вечера – добрее…»
«Солнцем жилки налиты – не кровью…»
«Спят трещотки и псы соседовы…»
(Станок)
Старуха
Стенька Разин
Стихи к Ахматовой, цикл
Стихи к Блоку, сборник
Стихи к Блоку, цикл
Стихи к Пушкину, цикл
Стихи к Сонечке, цикл
Стихи к сыну, цикл
Стихи к Чехии, цикл
Стихи о Москве, цикл
Стихи сироте, цикл
Стол, цикл
Страна
Страховка жизни
Сугробы, цикл
«Так плыли: голова и лира…»
Твоя смерть
Тебе – через сто лет
«Терпеливо, как щебень бьют…»
«Тихонько…»
«Тише, хвала!..»
То, что было
Только девочка
«Тоска по родине! Давно…»
«Тридцатая годовщина…» (2-е из цикла «Стол»)
«Тридцатая годовщина…» (3-е из цикла «Стол»)
«Ты будешь невинной, тонкой…»
«Ты запрокидываешь голову…»
«Ты проходишь на запад солнца…»
«Ты проходишь своей дорогою…»
«Ты солнце в выси мне застишь…»
«Ты, срывающая покров…»
«У меня в Москве – купола горят…»
«Удар, заглушенный годами забвенья…»
«Уж сколько их упало в эту бездну…»
«Уже богов – не те уже щедроты…»
«Уединение: уйди…»
Ученик, несохран. пьеса
Ученик, цикл
Федра, пьеса
Федра, цикл
Феникс
Фортуна
Ханский полон, цикл
«Ханский полон…»
Хлыстовки
Царь-Девица
Царю – на Пасху
«Цветок к груди приколот…»
Цыганская свадьба
«Цыганская страсть разлуки…»
Чародей
Чародею
Чердачное
Черт
Четвертые, несохран. повесть
Читатели газет
«Чтó другим не нужно – несите мне!..»
Эвридика – Орфею
Эпос и лирика современной России
Эстеты
«Это пеплы сокровищ…»
Юношеские стихи, сборник
«“Я берег покидал туманный Альбиона”…»
«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!..»
«Я помню ночь на склоне ноября…»
Ici – Haut, цикл
Le Gars
Lettre à l’Amazone – см. Письмо к Амазонке
Neuf lettres avec une dixième retenue et une onzième reçue – см. Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным
Rouge et Bleue
1
Основные работы этого направления таковы (указаны последние переиздания): Белкина М. Скрещение судеб. М.: Эллис Лак, 2008; Кудрова И. Путь комет: В 3 т. СПб.: Крига, 2007; Саакянц А. Марина Цветаева: Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак, 1999; Разумовская М. Марина Цветаева. Миф и действительность. М.: Радуга, 1994; Швейцер В. Марина Цветаева. М.: Молодая гвардия, 2009 (ЖЗЛ); Karlinsky S. The Woman, her World, and her Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Lossky V. Marina Tsvétaeva: Un itinéraire poétique. Paris: Solin, 1987; Taubman J. A Life Through Poetry: Marina Tsvetaeva’s Lyric Diary. Columbus: Slavica Publishers, 1989, русский перевод: Таубман Д. «Живя стихами…»: Лирический дневник Марины Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2000.
2
Вне нашего поля зрения останутся, в частности, специальные стиховедческие работы, исследования по лингвистической поэтике и работы психоаналитического направления.
3
Ельницкая С. Поэтический мир Цветаевой: Конфликт лирического героя и действительности. Wien, 1990 (Wiener Slawistischer Almanach. Sdbd. 30).
4
Здесь и теперь. 1992. № 2. С. 116–130.
5
Slavic Review. 1979. Vol. 38 (4). P. 563–582.
6
Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» – «Царь-девица» – «Переулочки»). Wien, 1985 (Wiener Slawistischer Almanach. Sdbd. 18); Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. Evanston: Northwestern University Press, 1996; Осипова Н. О. Творчество М. И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века. Киров, 2000; Dinega A. W. A Russian Psyche: The Poetic Mind of Marina Tsvetaeva. Madison: University of Wisconsin Press, 2001.
7
Makin M. Marina Tsvetaeva: Poetics of Appropriation. Oxford: Clarendon Press, 1993; русский перевод: Мейкин М. Марина Цветаева: Поэтика усвоения. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1997; Smith A. The Song of the Mocking Bird: Pushkin in the Work of Marina Tsvetaeva. Frankfurt а./Main: Peter Lang, 1994, русский перевод: Смит А. Песнь пересмешника: Пушкин в творчестве Марины Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1998.
8
Hauschild Ch. Häretische Transgressionen: Das Märchenpoem “Mólodec” von Marina Cvetaeva. Göttingen: Wallstein Verlag, 2004; Grelz K. Beyond the Noise of Time: Readings of Marina Tsvetaeva’s Memories of Childhood. Stockholm: Almqvist och Wiksell International, 2004.
9
Stock U. The Ethics of the Poet: Marina Tsvetaeva’s Art in the Light of Conscience. Leeds: Maney Publishing, 2005; Войтехович Р. Психея в творчестве М. Цветаевой: эволюция образа и сюжета. Tartu: Tartu University Press, 2005 (перепечатано в кн.: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2008); Ciepiela C. The Same Solitude: Boris Pasternak and Marina Tsvetaeva. Ithaca & London: Cornell University Press, 2006.
10
Среди немногих работ, ставивших себе сходную задачу, отметим статьи Е. Б. Коркиной «Поэтический мир Марины Цветаевой» и «Лирическая трилогия Цветаевой» (Коркина Е. Архивный монастырь: Археография, история, текстология. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. С. 155–186, 189–196). Однако эти работы очень невелики по объему, что определяет их установку на лаконизм и схематизм анализа, в котором нет места слишком многим нюансам. Кроме того, предметом анализа в обеих статьях является только поэзия Цветаевой (во втором случае – только ее поэмы). Свою концепцию развития Цветаевой как поэта предлагает в статье «Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова» М. Л. Гаспаров – также предельно схематичную, так как исследователь говорит «не о конкретных произведениях, но о самых общих особенностях развития поэтики Цветаевой» (Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М.: Новое литературное обозрение, 1995. С. 307–315).
11
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1996–1997. Т. 2. С. 7.
12
В действительности Цветаева окончила седьмой (выпускной) класс гимназии М. Г. Брюхоненко еще весной 1910 года, за несколько месяцев до выхода сборника.
13
Любопытно, что через год с небольшим, готовя к печати свой второй сборник стихов «Волшебный фонарь» (1912), Цветаева уже нашла способ иронически обыграть представление об издательской марке как важном атрибуте издаваемой книги. Сборник вышел под маркой эфемерного издательства «Оле-Лукойе», инфантильностью и «несерьезностью» своего названия демонстрировавшей безразличие автора к нормам «серьезной» литературной жизни.
14
Л. Поликовская приводит документ, сохранившийся в студенческом деле Нилендера, который свидетельствует о том, что в 1908 году, при расторжении брака Нилендера с С. М. Нилендер (урожд. Ставской), «на “ответчика Нилендера, повинного в нарушении супружеской верности” наложена семилетняя епитимья» (Поликовская Л. «Мудрец-филолог». Кто он? // Звезда. 1992. № 10. С. 175). Епитимья означала и запрет на женитьбу. Это обстоятельство заставляет подвергнуть сомнению версию, изложенную в воспоминаниях Анастасии Цветаевой, – о том, что Нилендер сделал Марине Цветаевой предложение и получил от нее отказ (Цветаева А. Воспоминания. Изд. 3‐е. М., 1983. С. 317–320). Едва ли М. Цветаевой хотелось посвящать сестру в истинные причины своей разлуки с Нилендером, скорее все‐таки связанной с невозможностью для него сделать ей предложение. Во всяком случае, присутствие в стихах Цветаевой, обращенных к Нилендеру, мотивов желанного обоим и невозможного счастья говорит не в пользу биографической версии, предложенной А. Цветаевой.
15
«Вечерним альбомом», по свидетельству А. Цветаевой, сёстры Цветаевы назвали «темно-синий кожаный альбом, книжку с золотым обрезом», в который они записали свои разговоры с Нилендером и который преподнесли ему в канун 1910 года (Цветаева А. Воспоминания. С. 315).
16
Если в «Вечернем альбоме» было сто одиннадцать стихотворений, то в «Волшебном фонаре» и того больше – сто двадцать четыре.
17
О чтении этой повести упоминает А. Цветаева (Цветаева А. Воспоминания. С. 254) и две гимназические подруги М. Цветаевой – Валентина Перегудова (урожд. Генерозова) и Софья Липеровская (урожд. Юркевич) (ЦВС1, 20 и 35–36).
18
См. упоминание о ней в осеннем письме 1908 года к Петру Юркевичу (СС7, 729).
19
О чтении в 1906–1907 годах детских дневников Цветаевой упоминает ее гимназическая подруга В. Перегудова; она датирует начало этих дневников временем жизни Цветаевой в Нерви (Италия), т. е. 1903 годом (ЦВС1, 23).
20
Впервые «Дневник» Башкирцевой был опубликован по‐русски полностью (т. е. в объеме его первого французского издания) в 1892 году на страницах журнала «Северный вестник»; затем он трижды переиздавался отдельной книгой. Полемика вокруг этой книги однозначно связала ее (в сознании как сторонников, так и противников автора) с новыми, «декадентскими», веяниями в современной культуре. «Ничего так не воскрешает меня, как дневник М. Башкирцевой. Она – это я сам, со всеми своими мыслями, убеждениями и мечтами», – записывал в 1892 году в своем дневнике Валерий Брюсов (Брюсов В. Дневники. 1891–1910. М., 1927. С. 5). Десять лет спустя, подводя итог воздействию личности Башкирцевой на своих современников, С. А. Андреевский писал: «Психология славолюбия и творческих терзаний переданы в Башкирцевой, как никогда ранее они не были выражены. Поэты и художники должны признать в ней свою кровную сестру, передавшую в своем дневнике и выражавшую примером своей жизни – историю их тайных радостей, надежд, колебаний, стремлений и горестей» (Андреевский С. Литературные очерки. СПб., 1902. С. 407). Однако к концу 1900‐х годов увлечение Башкирцевой уже сходило на нет, и ее дневник стал восприниматься как юношеское чтение. Никто, кроме Цветаевой и Хлебникова, в их поколении о своей привязанности к Башкирцевой не упоминал.
21
Таковым он станет уже в сборнике «Юношеские стихи», в который войдут стихи 1913–1915 годов, но который будет составляться Цветаевой лишь в первой половине 1920 года. В последующих ее сборниках, за небольшими исключениями, хронологический принцип композиции, с точными (дневниковыми) датировками стихов, сохранится.
22
Цветаева А. Воспоминания. С. 321, 331–332.
23
Дневник Марии Башкирцевой. СПб., 1894. С. 6.
24
Цветаева А. Воспоминания. С. 355.
25
Вскоре после составления «Вечернего альбома» Цветаева так и сделала: два ее стихотворения были приняты в «Антологию», выпущенную в 1911 году издательством «Мусагет».
26
Об этом свидетельствует в том числе и явная «арифметичность» в распределении стихов по разделам сборника: в первые два включено по тридцать пять стихотворений, а в третий – сорок, причем внутри разделов стихи пронумерованы, т. е. сосчитаны автором.
27
Дневник Марии Башкирцевой. С. 1.
28
Там же. С. 5–6.
29
Неизданный дневник Марии Башкирцевой и переписка с Гюи‐де-Мопассаном. Ялта, 1904. С. 250.
30
Весы. 1909. № 12. С. 190.
31
Существо полемик было связано с утверждением или отрицанием экстра-литературных или экстра-эстетических (религиозных, мистических) функций символистского искусства (см. краткий обзор высказанных точек зрения в кн.: Пайман А. История русского символизма. М.: Республика, 2000. С. 309–313). Кроме того, символизм осмыслялся в этот период как транс-историческое явление, т. е. как выражение существеннейших вечных начал искусства, проявление которых можно проследить на протяжении всей истории европейской словесности (см., например, экскурс «О секте и догмате» Вяч. Иванова или вводный раздел книги Эллиса «Русские символисты» («О сущности символизма»)).
32
Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924. М.: Советский писатель, 1990. С. 333. Впервые: Брюсов В. Новые сборники стихов // Русская мысль. 1911. № 2.
33
Там же. С. 336.
34
Там же. С. 339.
35
Там же.
36
Шагинян М. Литературный дневник // Приазовский край. 1911. 3 окт. № 259. С. 2.
37
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. С. 121. Впервые: Гумилев Н. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1911. № 5.
38
Волошин М. Женская поэзия // Утро России. 1910. 11 дек. № 323. С. 6.
39
Не случайно Цветаева два десятилетия спустя подчеркнет, что именно Волошину «обязана первым самосознанием себя как поэта» (СС6, 402).
40
Брюсов, в частности, писал: «Мы будем <…> ждать, что поэт найдет в своей душе чувства более острые, чем те милые пустяки, которые занимают много места в “Вечернем альбоме”, и мысли более нужные, чем повторение старой истины: “надменность фарисея ненавистна”» (Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924. С. 340).
41
Сведения о ряде экземпляров «Вечернего альбома», посланных или подаренных автором, впервые приведены в статье Л. А. Мнухина «Первая книга Марины Цветаевой» (Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж, 1979. С. 166–174). Более подробный перечень известных на сегодняшний день дарственных надписей на сборнике см. в кн.: Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. Цветаевой. Ч. I: 1892–1922. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2012. С. 32–35, passim.
42
См.: Саакянц А. Марина Цветаева: Жизнь и творчество. С. 12.
43
См. замечания о датировке этой статьи в кн.: Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. Цветаевой. Ч. I. С. 36.
44
Свое былое увлечение Брюсовым Цветаева подтверждает и в «Герое труда», начиная очерк фразой: «Стихи Брюсова я любила с 16 л. по 17 л. – страстной и краткой любовью» (СС4, 12).
45
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. С. 121.
46
Шагинян М. Литературный дневник. С. 2.
47
Там же.
48
Автографы поэтов Серебряного века. М.: Книга, 1995. С. 454.
49
Подробный анализ этого аспекта ранней поэзии Цветаевой см.: Thomson R. D. B. The Metrical and Strophic Inventiveness of Tsvetaeva’s First Two Books // Canadian Slavonic Papers. 1988. Vol. XXX (2) P. 220–244.
50
Впрочем, строчка «Новый месяц встал над лугом», открывающая стихотворение Цветаевой «Новолунье», по‐видимому, является бессознательным парафразом блоковской строчки «Полный месяц встал над лугом», открывающей его стихотворение «Ночью». Это стихотворение Блока было впервые напечатано в детском журнале «Тропинка» (1908. № 11), однако, судя по развитию темы в цветаевском стихотворении, ассоциировалось у нее не с детским чтением, а с «взрослой» символистской поэзией.
51
См.: Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Сиситема поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Академический проект, 1999. С. 199–224 (раздел «Лунный мир»).
52
Последние темы, как и тему связи «лунного начала» с подавлением/отрицанием пола, андрогинностью разовьет вскоре В. Розанов в книге «Люди лунного света».
53
Бальмонт К. Стихотворения. М.: Книга, 1989. С. 423.
54
Очень похожий пример будет и в «Волшебном фонаре». Цветаева попытается поэтически откликнуться на балладу К. Павловой «Старуха» (стихотворение Цветаевой имеет то же название и изометрично стихотворению Павловой). Отклик получится кратким и «темным» по смыслу. Зато в 1922 году Цветаева балладу Павловой вспомнит опять – в поэме «Переулочки», тоже очень «темной». См. об этом подробнее в главе 3.
55
Цветаева А. Воспоминания. С. 316.
56
Очень возможно, например, что цветаевское понимание революционной борьбы, как оно изложено в письме 1908 года к П. Юркевичу, цитировавшемся выше, вдохновлено именно Эллисом.
57
Белый А. Начало века. М.: Художественная литература, 1990. С. 43. А. В. Лавров в комментарии к этому изданию приводит следующую выдержку из дневника Эллиса за лето 1905 года:
Внешний мир, т. е. все воплощенное, и деревья, и цветы, и я сам, телесный, – это отблеск иного, которое я духовный – люблю до экстаза.
Но познать сущность, познать то, к чему стремились каждый миг, невозможно иначе, как через среду, толщу реального. Отсюда раздвоение.
Я люблю мир, ибо он отблеск вечного.
Я не люблю его, ибо он отблеск вечного.
Проклятое раздвоение!
Тело = символ души.
То же самое раздвоение применимо и к нему.
Отсюда дуализм всякой любви. Это еще ужаснее!.. (С. 574–575).
58
Роденбах Ж. Покрывало. Драма / Пер. Эллиса. М., 1907. С. 30–31.
59
Там же. С. 7.
60
Там же.
61
Цветаева А. Воспоминания. С. 234–235.
62
Чарская Л. За что? Моя повесть о самой себе. Изд. 2‐е. СПб.; М.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1910. С. 131.
63
Принятый в русском издании книги М. Мейкина (см. прим. 1 на с. 11) перевод этого термина как «поэтика усвоения» кажется нам менее удачным.
64
Эта же издательская марка появилась на книге рассказов С. Эфрона «Детство» (1912), сборнике Цветаевой «Из двух книг» (1913) и брошюре М. Волошина «О Репине» (1913).
65
Дневник Марии Башкирцевой. С. 6.
66
«В поэзии, как и в любви, оставаться на том же месте – значит отступать?» (фр.). Не откомментированная ни в одном издании Цветаевой, эта фраза является «перевернутой» парафразой слов главной героини романа Теофиля Готье «Мадмуазель де Мопэн»: «En amour comme en poésie, rester au même point, c’est reculer» («В любви, как и в поэзии, оставаться на том же месте, значит отступать»).
67
Ам-и. [Цетлин М.] Заметки любителя стихов: О самых молодых поэтах // Заветы. 1912. № 1, 2‐е изд. С. 94.
68
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. С. 145. Впервые: Гумилев Н. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1912. № 5.
69
Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924. С. 372. Впервые: Брюсов В. Сегодняшний день русской поэзии // Русская мысль. 1912. № 7.
70
См. изложение истории об этом призе в цветаевском очерке «Герой труда» (СС4, 27–29). Воспоминания одной из современниц подтверждают этот эпизод: Чулкова-Ходасевич А. И. Воспоминания о Владиславе Ходасевиче // Russica-81. Литературный сборник. New York: Russica Publishers, 1982. С. 281.
71
Одно из них, «В. Я. Брюсову» («Я забыла, что сердце в вас – только ночник…»), Цветаева включит в сборник «Из двух книг» (1913); другое, «Он приблизился, крылатый…», будет впоследствии открывать авторскую машинопись сборника «Юношеские стихи».
72
См.: Саакянц А. Марина Цветаева: Жизнь и творчество. С. 36.
73
Кадмин Н. [Абрамович Н. Я.] История русской поэзии. Т. 2: От Пушкина до наших дней. М., 1915. С. 311.
74
Мать Цветаевой была родовой дворянкой. Ее отец происходил из духовенства, однако выслужил дворянство, что, по законам того времени, делало его детей уже наследственными дворянами.
75
См. об этом: Stites R. The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism. 1860–1930. Princeton: Princeton University Press, 1978; Edmondson L. Feminism in Russia. 1900–1917. Stanford: Stanford University Press, 1984.
76
К таким отклонениям можно отнести и брак с человеком без определенного социального статуса (Эфрон на момент женитьбы не имел даже гимназического аттестата), и полубогемный стиль существования в первые годы семейной жизни, и несомненное нарушение норм поведения замужней женщины своего класса в годы последующие.
77
См. об этом: Rosenthal Ch. Carving out a Career: Women Prose Writers. 1885–1917. The Biographical Background // Gender and Russian Literature: New Perspectives / Ed. by Rosalind Marsh. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 129–140.
78
в иной (потусторонний) мир (нем.).
79
В 1912 году Цветаевой исполнилось 20 лет.
80
Ходасевич В. [Рец.] София Парнок. Стихотворения. Петроград, 1916 // Ходасевич В. Собр. соч. Анн Арбор: Ардис, 1990. Т. 2. С. 255.
81
О нем дает, например, представление составленная М. Л. Гаспаровым, О. Б. Кушлиной и Т. Л. Никольской антология «Сто одна поэтесса Серебряного века» (СПб.: ДЕАН, 2000).
82
См. об этом: Stites R. The Women’s Liberation Movement in Russia; Edmondson L. Feminism in Russia; Kelly C. A History of Russian Women’s Writing. 1820–1992. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 121–180 (глава «Configurations of Authority: Feminism, Modernism, and Mass Culture. 1881–1917»).
83
Волошин М. Женская поэзия. С. 6.
84
Там же.
85
Там же.
86
Там же.
87
Об идеях Вейнингера и их рецепции в России см. подробнее: Берштейн Е. Трагедия пола: две заметки о русском вейнингерианстве // Новое литературное обозрение. 2004. № 65. С. 208–228.
88
За период с 1908 по 1912 год переводы «Пола и характера» достигли рекордного для своего времени суммарного тиража; к тому же, книга подробно реферировался в газетах и журналах. (О тиражах книги см.: Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton: Princeton University Press, 1997. P. 39.) В обсуждении идей Вейнингера приняли участие многие видные представители русского модернизма: Вяч. Иванов, А. Белый, З. Гиппиус, Н. Бердяев, В. Розанов, П. Флоренский.
89
Вейнингер не отрицал, однако, существования женщин, одаренных творческими талантами. По его теории, все люди совмещают в себе мужское и женское начало, однако в биологических мужчинах доминирует мужское, в биологических женщинах – женское. Те биологические женщины, в которых мужское начало близко к 50 % (каковых очень немного) как раз и оказываются способными к творчеству. Иначе говоря, творчество может быть открыто человеку постольку, поскольку в нем присутствует мужское начало, и принадлежит творческая способность именно и только этому началу.
90
Этот культурный миф оказался очень живучим; любопытно, что уже в зрелые годы сама Цветаева высказывалась в пользу понимания женского творчества как «родового». См. ее франкоязычную тетрадную запись 1932 года «Anonimat de la création féminine» (СТ, 492).
91
На роль символистской идеологии в формировании особых ожиданий от женского творчества указывает также К. Келли (см.: Kelly C. A History of Russian Women’s Writing. P. 163–165).
92
Иванов Вяч. О достоинстве женщины // Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1979. Т. 3. С. 137.
93
На наш взгляд, неправа К. Келли, утверждающая, что книга Вейнингера способствовала формированию атмосферы, неблагоприятной для вхождения женщин в литературу, и что этим (неблагоприятной атмосферой) и отличаются 1910‐е годы («пост-символистский» период) от предыдущего десятилетия (Kelly C. A History of Russian Women’s Writing. P. 171–173). Это умозрительное заключение слишком очевидно противоречит фактам (см. ниже в тексте).
94
[Б. п.] Новости литературы // Голос Москвы. 1912. 24 мар. № 70. С. 5.
95
П-ов П. [Перцов П.] Интимная поэзия // Новое время (Илл. прил.). 1913. № 13327. С. 9–10.
96
Городецкий С. Женское рукоделие // Речь. 1912. 3 апр. № 117. С. 3.
97
Новинский Н. [Ашукин Н. С.] Современные женщины-поэты // Мир женщины. 1913. № 19. С. 6.
98
См. интересные наблюдения на эту тему: Gove A. The Feminine Stereotype and Beyond: Role Conflict and Resolution in the Poetics of Marina Tsvetaeva // Slavic Review. 1977. Vol. 36 (2). P. 231–255.
99
Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 12–13.
100
Существует несколько вариантов рукописей сборника, различающихся по составу. О двух рукописях, находящихся в фонде М. Цветаевой в РГАЛИ, см.: Коркина Е. Б. О «Юношеских стихах» Марины Цветаевой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник на 1983 год. Л.: Наука, 1985. С. 124–125, прим. 7. О третьей рукописи, по которой сборник опубликован в первом томе пятитомника Цветаевой «Стихотворения и поэмы» (New York: Russica Publishers, 1980), см. заметку В. Швейцер «Юношеские стихи» в примечаниях к этому тому (С. 291–292).
101
Волошин М. Женская поэзия. С. 6.
102
Коркина Е. Б. О «Юношеских стихах» Марины Цветаевой. С. 120.
103
Эллис. Русские символисты. М.: Мусагет, 1910. С. 31.
104
Следует иметь в виду, что эти стихи писались в эпоху эпидемии самоубийств, охватившей русское общество после поражения революции 1905–1907 годов. Сообщения о самоубийствах и предсмертные записки самоубийц печатались в газетах. Стихотворение «Жертвам школьных сумерок» из «Вечернего альбома» – отклик на одну из таких газетных корреспонденций.
105
Бальмонт К. Собр. стихов. М., 1904. Т. 1. С. 3–4.
106
Вопрос о том, какие произведения Ницше, кроме «Так говорил Заратустра», Цветаева к этому времени прочитала, несущественен; ницшеанство было в эти годы частью очень широкого дискурса, и об идеях Ницше можно было знать, не читая его. О рецепции Ницше в России см.: Clowes E. W. The Revolution of Moral Consciousness: Nietzsche in Russian Literature, 1890–1914. DeKalb: Northern Illionois University Press, 1988.
107
Цветаева А. Королевские размышления. М., 1915. С. 25.
108
Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1988. С. 102. Впервые статья опубликована в пятом выпуске альманаха «Северные цветы» (М.: Скорпион, 1911).
109
Цит. по: Ахматова А. Десятые годы. М.: Изд-во МПИ, 1989. С. 50.
110
Там же. С. 51.
111
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 8.
112
Строки этого стихотворения «Я слишком сама любила / Смеяться, когда нельзя!» – очевидная референция к смеху Заратустры, раскрывающая ницшеанскую сущность героини.
113
Первый том его «Философии общего дела» был опубликован в 1906 году, второй – в 1913 году.
114
Это стихотворение сохранилось лишь в виде автографа на экземпляре сборника «Вечерний альбом», подаренном Цветаевой К. Ф. Богаевскому.
115
См. об этом стихотворении: Венцлова Т. О призвании и признании: «Моим стихам, написанным так рано…» // Венцлова Т. Собеседники на пиру: Литературоведческие работы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 359–368.
116
Знаете ли Вы историю другого молодого человека, проснувшегося в одно прекрасное утро увенчанным лаврами и лучами? Этим молодым человеком был Байрон, и его история, мне говорили, будет и моей. Я этому верила, и я в это больше не верю.
– Не та ли это мудрость, которая приходит с годами?
Я только знаю, что ничего не сделаю ни для своей славы, ни для своего счастья. Это должно явиться само, как солнце (фр.).
117
Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. М.: Прогресс-Литера; СПб.: Алетейя, 1995. С. 212.
118
в моих возможностях (фр.).
119
Возможно описка, и следует читать «много».
120
Розанов В. Уединенное. СПб., 1912. С. 52.
121
Можно предположить, что использование ницшевского образа у Ахматовой («канатная плясунья») в ее стихотворении «Меня покинул в новолунье…» из сборника «Вечер» (1912) также не прошло мимо внимания Цветаевой.
122
Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 28 дек. № 125. С. 2.
123
См. некоторые замечания об источниках этого стихотворения в кн.: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 291 (статья «“Тайна” Волошина и эзотеризм в поэзии Цветаевой»).
124
Сестры Герцык: Письма / Сост. и коммент. Т. Н. Жуковской. СПб.: ИНАПРЕСС; М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. С. 161.
125
Об этом периоде в биографиях обоих поэтов см.: Полякова С. Незакатные оны дни: Цветаева и Парнок // Полякова С. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб.: ИНАПРЕСС, 1997. С. 188–269. (Впервые работа была опубликована в 1983 году.)
126
РГАЛИ, ф. 1190 (М. И. Цветаева), оп. 3, ед. хр. 23, л. 94. (Черновик письма к Г. Адамовичу от 9 мая 1933 года.)
127
Часть этих стихотворений объединены Цветаевой в цикл «Подруга», другие остались вне цикла. Ниже принадлежность или не принадлежность упоминаемых стихов к циклу не оговаривается. Попутно следует заметить, что название, данное циклу в 1920 году, было «Ошибка», и лишь пересматривая рукопись стихов в 1940 году, Цветаева переправила его на «Подруга». В исследовательской литературе утвердилось мнение о смысловом характере такой замены. Между тем слово «ошибка» в поэтическом языке начала ХХ века является узнаваемым эвфемизмом слова «любовь», эвфемизмом, который вовсе не имеет снижающего оттенка. Ср., например, в стихотворении Бальмонта:
Слова смолкали на устах,
Мелькал смычок, рыдала скрипка,
И возникала в двух сердцах
Безумно-светлая ошибка.
(Бальмонт К. Собр. стихов. М., 1905. Т. 1. С. 96.)
Стихотворение Цветаевой «Ошибка» (1909) из «Вечернего альбома» своим названием, по‐видимому, играло именно с двойственностью смысла этого слова в тогдашнем поэтическом языке. Представляется правомерным поэтому оспорить мнение исследователей Цветаевой, видящих в названии цикла «Ошибка» оценочный смысл. Замена названия на более нейтральное – «Подруга» – свидетельствует лишь о том, что в 1940 году сама Цветаева должна была почувствовать утрату первоначальным названием прежних смысловых коннотаций, и как следствие, неизбежную неадекватность его прочтения.
128
РГАЛИ, ф. 2080 (Ю. Л. Оболенская), оп. 1, ед. хр. 21, л. 6. (Письмо от 30 декабря 1914 года.)
129
Там же, л. 14–14 об. (Письмо от 21/22 января 1915 года.)
130
Ср. финальную строфу стихотворения Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…»:
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
131
Парнок С. Собр. стихотворений. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 176.
132
В дневниковой записи «Моя судьба – как поэта» (1931) Цветаева объясняет свое сотрудничество в журнале тем, что «очень просили и очень понравились издатели, – в порядке дружбы» (СТ, 436). Однако с издателями «Северных записок» (С. И. Чацкиной и Я. Л. Сакером) Цветаева познакомилась, скорее всего, лишь по приезде в Петербург, т. е. год спустя после начала сотрудничества. Поэтому более вероятно, что первые свои стихи она отдала в журнал именно «в порядке дружбы» с Парнок.
133
Список этих стихотворений таков (названия и первые строчки даются в журнальных редакциях): 1915, № 1 – «Байрону», «Генералам 12 года»; 1915, № 5/6 – «Солнцем жилки налиты, – не кровью…», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Идешь, на меня похожий…»; 1916, № 3 – «Какой‐нибудь предок мой был скрипач…», «Ты будешь невинной, тонкой…», «Аля. Маленькая тень…»; 1916, № 7/8 – «Два солнца стынут, – о Господи, пощади…», «Я знаю правду – все прежние правды, прочь…», «Заповедей не блюла, не ходила к причастью…», «Новолунье и мех медвежий…», «День угасший…».
134
О связи этого стихотворения Цветаевой с почти одновременно написанным стихотворением Парнок «Я не знаю моих предков – кто они?..» см.: Белякова И. Ю. “Стихи о предках” М. Цветаевой и С. Парнок: структура и семантическое наполнение // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9–13 октября 2000 года): Сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2001. С. 158–166. На наш взгляд, оба эти стихотворения соотнесены со стихотворением М. Кузмина «Мои предки» из сборника «Сети» (1908).
135
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 1. М., 2000. С. 186.
136
Коркина Е. Поэтический мир Марины Цветаевой // Коркина Е. Архивный монастырь. С. 161–162.
137
Это название зафиксировано в рабочих тетрадях Цветаевой (СТ, 36). Анонсы сборника Цветаевой с таким названием появились в печати в начале 1922 года (см.: Книга в Советской России // Последние новости. 1922. 12 янв. № 534. С. 4; Хроника. Москва // Вестник литературы. 1922. № 1. С. 24).
138
Важные соображения, касающиеся интерпретации стилистического решения и идейного контекста цикла и некоторых примыкающих к нему по времени стихотворений, содержатся в опубликованной докторской диссертации: Боровикова М. Поэтика Марины Цветаевой (лирика конца 1900‐х – 1910‐х годов). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. C. 77–91.
139
В редакциях (составе) цикла в журнальной публикации и в «Верстах I» имеются небольшие разночтения.
140
Адамович Г. Литературная неделя // Иллюстрированная Россия. 1929. 8 июня. № 24. С. 14.
141
Е. А. Романова в статье «Марина Цветаева и София Парнок. Последняя встреча» убедительно показала, что с Парнок непосредственно связано относящееся к январю 1922 года стихотворение Цветаевой «Завораживающая! Крест…», которое в полном смысле слова можно назвать ее прощанием со своим прежним чувством (Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция. С. 167–182). В данном случае, мы говорим лишь о последнем в ряду стихотворений, хронологически прямо связанных с романом.
142
Краткий обзор этих тенденций, включая библиографию вопроса, см.: Шевеленко И. Модернизм как архаизм: национализм, русский стиль и архаизирующая эстетика в русском модернизме // Wiener Slawistischer Almanach. 2005. Bd. 56. S. 141–183.
143
Коркина Е. Поэтический мир Марины Цветаевой. С. 162.
144
Полякова С. Незакатные оны дни: Цветаева и Парнок. С. 219–220.
145
Имена этих адресатов были вписаны Цветаевой в 1941 году в один из экземпляров «Верст I». См.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. Аннотированный каталог. Публикации. М.: Книга, 1989. С. 225–226.
146
Оба зафиксированы как циклы лишь в 1921 году. Однако стихи, составляющие каждый из них, написаны в короткий промежуток времени как серия стихотворений, обращенных к одному лицу. Поэтому далее мы без оговорок называем их циклами применительно к 1916 году.
147
Кубиков Ив. [Рец.] Пересвет. Сб. 1‐ый. Кн-во Васильева. Москва. 1921 // Печать и революция. 1922. № 1. С. 293.
148
В той или иной мере касаются этих циклов в своих книгах С. Карлинский, В. Швейцер, А. Саакянц, В. Лосская, Д. Таубман, М. Мейкин, А. Динега (последняя из книг содержит обширный раздел, посвященный обоим циклам). См. также: Зубова Л. В. Традиции стиля «плетение словес» у Марины Цветаевой («Стихи к Блоку», 1916–1921 гг., «Ахматовой», 1916 г.) // Вестник ЛГУ. 1985. № 9. С. 47–52; Голицына В. Н. М. Цветаева о А. Блоке (Цикл «Стихи к Блоку»). Статья 1 // Мир А. Блока. Блоковский сборник <V>. Тарту, 1985. С. 113–125. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 657.); Голицына В. Н. М. Цветаева об А. Блоке (Цикл «Стихи к Блоку») // Биография и творчество в русской культуре начала ХХ века. Блоковский сборник IX. Тарту, 1989. С. 99–113. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 857.); Sloan D. «Stixi k Bloku»: Cvetaeva’s Poetic Dialogue with Blok // New Studies in Russian Language and Literature. Columbus, Ohio: Slavica, 1986. P. 258–270; Hasty O. P. Tsvetaeva’s Onomastic Verse // Slavic Review. 1986. Vol. 45 (2). P. 245–256; Полляк С. Славословия Марины Цветаевой (Стихи к Блоку и Ахматовой) // Марина Цветаева: Труды 1‐го международного симпозиума / Под ред. Р. Кембалла. Bern: Peter Lang, 1991. P. 179–191.
149
Зубова Л. В. Традиции стиля «плетение словес» у Марины Цветаевой.
150
Сохранился текст этого стихотворения Мандельштама, записанный рукой Цветаевой (РГАЛИ, ф. 1893 (О. Э. Мандельштам), оп. 2, ед. хр. 1, л. 8). См. об этом в примечаниях к изданию: Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 470. Текст, записанный Цветаевой, содержит существенные разночтения в последней строфе с окончательным вариантом этого стихотворения в «Камне». Вероятнее всего, Цветаева записала стихотворение именно летом 1915 года, когда она и Мандельштам одновременно были в Коктебеле.
151
См.: Мец А. Г. «Камень» // Мандельштам О. Камень. Л.: Наука, 1990 (Лит. памятники.). С. 280.
152
Начало имяславию (если отбросить его глубокие вековые корни в христианской теологии) положила книга схимонаха Илариона «На горах Кавказа. Беседа двух старцев подвижников о внутреннем единении с Господом наших сердец через молитву Иисус Христову», выдержавшая три издания (1907, 1910, 1912). Об откликах на имяславскую тему таких видных литераторов модернистского круга, как П. Флоренский, С. Булгаков, В. Эрн, С. Аскольдов, Вяч. Иванов и собственно Мандельштам см.: Паперно И. О природе поэтического слова: Богословские источники спора Мандельштама с символизмом // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 29–36. (Статья содержит библиографические отсылки к более широкому кругу работ, связанных с анализом имяславской темы у Мандельштама.)
153
Паперно И. О природе поэтического слова. С. 30.
154
Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. СПб.: Академический проект, 1995 (Новая б‐ка поэта.). С. 123–124.
155
Согласно концепции Потебни, всякое слово состоит из трех элементов – «единства членораздельных звуков, т. е. внешнего знака значения; представления, т. е. внутреннего знака значения и самого значения». При этом, «звук и значение навсегда остаются непременными условиями существования слова, представление же теряется» (Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. С. 133). «Представление» – есть этимологическая мотивация значения слова при его рождении; в процессе бытования и использования слова его значения умножаются и удаляются от первоначального «представления», лежавшего в основе его значения. Вводя понятие «внутреннего знака», или «внутренней формы» слова, концепция Потебни давала обоснование поэтическому поиску скрытых в слове «представлений», забытых значений, открываемых при помощи погружения в этимологические истоки составляющих его элементов.
156
О. Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С. П. Каблукова // Мандельштам О. Камень. С. 252.
157
А. Эткинд справедливо указывает и на строки другого стихотворения Мандельштама, обращенного к Цветаевой, – «Нам остается только имя: / Чудесный звук на долгий срок» («Не веря воскресенья чуду…») – как на содержащие имяславские коннотации. Ему также принадлежит наблюдение, что «имяславские мотивы очевидны в цветаевских стихах 1916 года, когда она была близка с Мандельштамом», однако далее эта мысль автором не развита. См.: Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение; Кафедра славистики Университета Хельсинки, 1998. С. 575.
158
См.: Паперно И. О природе поэтического слова. С. 31–32; Uspensky B. Semiotics of the Icon (An Interview) // PTL. A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature. 1978. № 3. P. 537–539.
159
См. ее статью «“Поэтика имени” М. И. Цветаевой» (Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция. С. 276–290).
160
Стихотворение датировано 15 апреля, и следующее стихотворение в цикле отстоит от него на полмесяца; при этом, все оставшиеся семь стихотворений цикла пишутся уже в течение примерно полумесяца (к числу стихотворений цикла мы относим и стихотворение «И тучи оводов вокруг равнодушных кляч…», по‐видимому, выпавшее из состава цикла в «Верстах I» лишь по техническим причинам и позже включенное Цветаевой в сборник «Стихи к Блоку» (1922)).
161
В этом смешении или отождествлении Бога и Демона в одном лице Цветаева, впрочем, следует за самим Блоком, как и вообще за обширной символистской традицией. Ср., в частности, замечание З. Г. Минц о том, что Блок (речь идет о его статье «О лирике») «снимает оппозицию и устанавливает тождество: “Христос – Демон”» (Минц З. Г. Поэтика Александра Блока. СПб.: Искусство-СПБ, 1999. С. 379).
162
Вообще любопытно отметить, что стихотворение о смерти героя (героини) есть не только в блоковском цикле, но и в ахматовском (третье в цикле); кроме того, среди стихов, обращенных к Мандельштаму, есть одно о его смерти – «Гибель от женщины. Вóт – знáк…»; наконец, собственной смерти Цветаева посвящает стихотворение «Настанет день – печальный, говорят!..», включенное в цикл «Стихи о Москве». Через описания их смертей герои «Верст I» выстраиваются в своеобразную цепочку культурно-психологических типов, которая заслуживала бы отдельного анализа.
163
Эти стихотворения в «Верстах I» не составляют цикла, но объединенность их мотивом «бессонницы» очевидна и при отсутствии структурно оформленного цикла. Цветаева объединит их в цикл «Бессонница» при составлении сборника «Психея» (1923), добавив к ним одно более позднее стихотворение.
164
Вообще любопытно, что и имяславская тема (стихотворение «Люди на душу мою льстятся…») и тема бессонницы (стихотворение «Обвела мне глаза кольцом…») начинаются в «Верстах I» одновременно: 6 апреля пишется первое, 8 апреля – второе. При этом само слово «бессонница» произносится Цветаевой уже в стихотворении «Коли милым назову – не соскучишься!..», написанном 6 апреля, в один день с «Люди на ду´шу мою льстятся…». В нем связка «бессонница – любовь» уже эксплицирована: «Коли суженого жду – где бессонница?» (СП, 108).
165
Ельницкая С. Две «Бессонницы» Марины Цветаевой // Ельницкая С. Статьи о Марине Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2004. С. 71. Исследовательница, однако, не связывает появление этого слова в стихах Цветаевой со стихотворением Мандельштама.
166
Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. С. 226.
167
Все одиннадцать стихотворений будущего цикла написаны между 19 июня и 2 июля 1916 года.
168
Возможно, к этому подталкивает Цветаеву сама Ахматова, уже обыгравшая свое имя в «Отрывке из поэмы», завершавшем сборник «Четки» (1914): «В то время я гостила на земле. / Мне дали имя при крещенье – Анна, / Сладчайшее для губ людских и слуха».
169
О хронологии и обстоятельствах этого визита см.: Лубянникова Е. И. Осип Мандельштам в Александрове // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция. С. 353–358.
170
Миф о романтических отношениях, якобы существовавших между Ахматовой и Блоком, современники основывали в это время на стихотворном посвящении Ахматовой Блоку «Я пришла к поэту в гости…» из «Четок» и блоковском ответном стихотворении «Анне Ахматовой» («“Красота страшна” – Вам скажут…»).
171
Значительная доля таких подтекстов и цитат выявлена исследователями, писавшими о циклах (см. примеч. 2 на с. 115).
172
Узнав о планах Цетлина возобновить издательство «Зерна», Волошин писал ему, в частности: «Сейчас же написал Марине Цветаевой в Москву, чтобы она выслала тебе рукописи своих обеих новых книг стихов» (цит. по предисловию В. П. Купченко к публикации писем М. Цветаевой к М. Волошину в кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.: Наука, 1977. С. 155).
173
Волошин М. Лики творчества. С. 545. Впервые статья опубликована в газете «Речь» за 4 июня 1917 года.
174
Кузмин М. Проза и эссеистика: В 3 т. М.: Аграф, 1999–2000. Т. 3. С. 406.
175
См. обзор критики в первом разделе Главы 4.
176
Буквально: деклассированный элемент (фр.).
177
О. Г. Ревзина справедливо замечает, что данный вопрос вообще частотен в лирике Цветаевой с середины 1910‐х и до начала 1920‐х годов, и связывает это с определенным возрастным этапом в истории самопознания Цветаевой: Ревзина О. Г. Борисоглебская лирика // Ревзина О. Г. Безмерная Цветаева. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2009. С. 29–36. Это безусловно справедливо, но в пореволюционные годы на возрастные обстоятельства накладываются обстоятельства исторические, которые заостряют цветаевский вопрос совершенно по‐новому.
178
Д. Бургин в своей книге статей «Марина Цветаева и трансгрессивный эрос» (СПб.: ИНАПРЕСС, 2000) предприняла неудачную попытку понять эту «сексуальную трансгрессивность» в современных терминах «сексуальной ориентации». Между тем совершенно очевидно, что термины эти и по историческим и по сущностным причинам к Цветаевой неприложимы (см. подробнее нашу рецензию на книгу Бургин: Новая русская книга. 2000. № 4/5. С. 77–80).
179
Выяснение источников цветаевского понимания сексуальности, т. е. тех концепций пола, на которые она так или иначе опиралась в своих размышлениях, составляет отдельную задачу, которую мы не беремся здесь разрешить. Как все современники ее круга, Цветаева была несомненно знакома с идеями В. Соловьева, О. Вейнингера, В. Розанова, Вяч. Иванова, Н. Бердяева, как минимум – по их обсуждениям в публичном дискурсе (документально удостоверятся лишь ее чтение «Людей лунного света» Розанова). Наиболее очевидным представляется влияние на цветаевское понимание пола компилятивных по своей сути, но порой весьма радикальных идей Волошина, вероятнее всего воспринятых из разговоров с ним. На последнее уже обращалось внимание, см.: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 293–294.
180
Реанимированный и многообразно переформулированный модернистами платоновский миф об андрогинах составляет важную часть дискурса о поле в 1900–1910‐е годы. См. об этом, в частности: Matich O. Androgyny and the Russian Religious Renaissance // Western Philosophical Systems in Russian Literature. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1979. P. 164–175; Eadem. Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia’s Fine de Siecle. Madison: University of Wisconsin Press, 2005; Bershtein E. The notion of universal bisexuality in Russian religious philosophy // Understanding Russianness / Ed. by Risto Alapuro, Arto Mustojaki, and Pekka Pesonen. London: Routledge, 2012). P. 210–231. Некоторые наблюдения над репрезентацией андрогинности в поэзии Цветаевой содержатся в статье: Kroth A. M. Androgyny as an Exemplary Feature of Marina Tsvetaeva’s Dichotomous Poetic Vision // Slavic Review. 1979. Vol. 38 (4). P. 563–582.
181
Весьма вероятно, что Психея попадает в цветаевский словарь и начинает идентифицироваться ею с собственным обликом благодаря книге А. Франса «Сад Эпикура», которую Цветаева впервые читает в дни октябрьского переворота 1917 года (см.: СИП, 256). Франс в разговоре о Психее как раз разводит понятия «пола» и «души»: «Психея – не женщина: Психея – душа. А это не одно и то же. Это даже противоположности» (цит. по: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 41).
182
Подробный анализ образа Психеи в процитированном стихотворении см.: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 34–47.
183
См., например, такой фрагмент: «Деньги – моя возможность писать дальше. Деньги – мои завтрашние стихи. Деньги – мой откуп от издателей, редакций, квартирных хозяек, лавочников, меценатов – моя свобода и мой письменный стол. <…> Деньги – моя возможность писать не только дальше, но лучше, не брать авансов, не торопить событий, не затыкать стихотворных брешей случайными словами» (СС5, 286–287).
184
В «Нездешнем вечере» (1936) Цветаева упоминает о подарках, которые дарили ей редакторы журнала, ибо «гонораров [она] не хотела» (СС4, 288).
185
До своего отъезда из Москвы в мае 1922 года Цветаева подготовила к печати следующие сборники стихов: «Юношеские стихи», «Версты I», «Версты» (стихи 1917–1920 годов), «Стихи к Блоку», «Психея», «Разлука». Кроме сборников стихов, была издана отдельной книгой поэма «Царь-Девица», а вышедшая в 1922 году книга «Конец Казановы» представляла третий акт пьесы «Феникс».
186
О рукописных книжках, продававшихся через Книжную лавку писателей в Москве, см.: Осоргин М. Рукописные книги московской Лавки Писателей: 1919–1921 // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1932. Вып. III. С. 49–60; Богомолов Н. А., Шумихин С. В. Книжная лавка писателей и автографические издания 1919–1921 годов // Ново-Басманная, 19. М.: Худож. литература, 1990. С. 84–130. В настоящее время известны восемь рукописных книжечек Цветаевой этого периода.
187
с учетом пропорций (фр.).
188
с еще бóльшим учетом пропорций (фр.).
189
Эту запись следует датировать 1932 годом. Ее первоначальный набросок сделан в черновой тетради в конце 1922 года (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 6, л. 39), однако этот текст представляет собой не до конца разработанный черновик лишь первого абзаца приведенной цитаты.
190
См. объявление в газете «Воля России» за 9 января 1922 года. Выпуск сборника планировался берлинским издательством «Огоньки».
191
Павлов М. [Павлович Н.] [Рец.] Марина Цветаева. «Версты». Изд. «Костры», 1921 г. // Феникс: Сборник художественно-литературный, научный и философский. М.: Костры, 1922. Кн. 1. С. 187.
192
Рождественский В. [Рец.] Марина Цветаева. «Версты», стихи. «Костры». Москва 1921. – «Версты», стихи. Госиздат. Москва 1922 // Записки Передвижного театра. 1923. № 54. С. 7–8.
193
Павлов М. [Павлович Н.] [Рец.] Марина Цветаева. «Версты». С. 188.
194
Павлович Н. Московские впечатления // Литературные записки. 1922. № 2. С. 8.
195
Рождественский В. [Рец.] Марина Цветаева. «Версты», стихи. С. 8.
196
Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1997. Т. 1. С. 213, 216.
197
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 1, л. 70.
198
Нет умения жить без умения умирать (фр.).
199
«Завтра не будет!» (фр.).
200
В 1931 году, размышляя над «несвоевременностью [своего] явления» в мир, Цветаева обмолвится: «чтó бы на двадцать лет раньше» (СТ, 437). Могущая показаться случайной в своем числовом выражении, эта хронологическая поправка к собственной биографии имеет очень конкретный смысл – мечту о принадлежности к тому поколению, чей потенциал, творческий и человеческий, уже реализовался к моменту революционной катастрофы и перед которым не стояла с такой трагической неотвратимостью задача поиска для себя новой ниши, новой социальной идентичности.
201
Началом века Цветаева считает 1800 год.
202
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 1, л. 24.
203
Ревзина О. Г. Борисоглебская лирика. С. 31.
204
См. об этом, в частности: Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca & London: Cornell University Press, 1992; Naiman E. Sex in Public. P. 27–57; Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М.: ИЦ-Гарант, 1996 (особенно главы 2 и 4); Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция; Matich O. Erotic Utopia; Берштейн Е. Трагедия пола: две заметки о русском вейнингерианстве; Bershtein E. The notion of universal bisexuality in Russian religious philosophy.
205
См. об этом в указанных выше книгах Э. Наймана и А. Эткинда.
206
Волошин М. Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову «Пиру») // Волошин М. Из литературного наследия. СПб.: Алетейя, 1999. Вып. II. С. 21. Этот текст Волошина не печатался при его жизни, но вполне мог быть известен Цветаевой в рукописи. Не настаивая на последнем, мы пользуемся им как источником для реконструкции тех идей, которые она должна была почерпнуть в общении с Волошиным. Сходные мысли высказывались им и в опубликованных статьях – например, в рецензии на сборник стихов Вяч. Иванова «Эрос».
207
Там же. С. 21.
208
Там же. С. 30.
209
Полякова С. В. К вопросу об источниках поэмы Цветаевой «Царь-Девица» // Полякова С. В. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. С. 345–353. См. также о поэме: Smith G. S. Characters and Narrative Modes in Marina Tsvetaeva’s «Tsar’-Devitsa» // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1979. Vol. 12. P. 117–134.
210
«Юноша любит девушку» (нем.).
211
Генетическая сопряженность в творческом сознании Цветаевой идеи расставания с землей с переживанием своего «выпадения» из истории позволяет объяснить смысл странного финала поэмы, не связанного с ее сюжетом. Этот финал, рассказывающий о мужиках, которые пришли «Царю брюхо пороть» (СС3, 268), – создает «исторический» фон для рассказа о Царь-Девице и Царевиче, покидающих землю.
212
Коркина Е. Лирический сюжет в фольклорных поэмах Марины Цветаевой // Коркина Е. Архивный монастырь. С. 94.
213
Можно принять и интепретацию образа героини, предложенную в названной статье Е. Б. Коркиной: Царь-Девица как жительница небесного царства – существо бесполое; пол она получает, являясь на землю. Ее бегство с земли, в любом случае, отказ от этого полученного ею пола.
214
Е. Фарыно видит здесь другой «треугольник»: Небо (Царь-Девица) и Земля (Мачеха), борющиеся за Искусство (Царевич) (см.: Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой. С. 111–255).
215
Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 47–60.
216
Бобров С. [Рец.] Марина Цветаева. Царь-Девица. Поэма-сказка. Госиздат. М. 1922; Ее же. Ремесло. Книга стихов. К-во «Геликон». Москва-Берлин. 1923 // Печать и революция. 1924. № 1. С. 276.
217
Вторая дочь Цветаевой, Ирина, родилась в апреле 1917 года и умерла от голода в детском приюте в феврале 1920 года.
218
Цветаева М., Гронский Н. «Несколько ударов сердца». Письма 1928–1933 годов. М.: Вагриус, 2003. С. 72.
219
Общая концепция значения этой поэмы в творческой истории Цветаевой впервые предложена в упоминавшейся статье Е. Коркиной «Лирический сюжет в фольклорных поэмах Марины Цветаевой» (Коркина Е. Архивный монастырь. С. 90–106). А. Динега, анализирующая поэму в своей книге, приходит к похожему общему выводу о смысле поэмы, но, к сожалению, обнаруживает свое незнакомство с упомянутой более ранней работой (см.: Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 71–89). Обе исследовательницы не связывают смысл происходящего в поэме с идеей восхождения от пола к Эросу.
220
Цветаева была знакома с поэмой еще по ее первой публикации в «Аполлоне» в 1915 году: в пятом стихотворении из цикла «Стихи к Ахматовой» есть прямые отсылки к ней. Сборник Ахматовой «Белая стая» (1917), где поэма была перепечатана, упоминается Цветаевой в письме к Ахматовой от 26 апреля (ст. ст.) 1921 года как имеющийся у нее. В архиве Цветаевой сохранилось также отдельное издание поэмы (1921) с надписью Ахматовой: «Марине Цветаевой – Анна Ахматова, вместо письма. 1921» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 165).
221
К нему следует отнести фразу «Чтоб дух мой из ребер взыграв – к Тебе / Не смертной женой – / Рожденный!» в начальном фрагменте поэмы (к сожалению, воспроизведенном с существенной смысловой опечаткой в СС3). Вряд ли прошло мимо сознания Цветаевой отождествление Эроса с Христом, проповедовавшееся Волошиным (Волошин М. Пути Эроса. С. 31–34). Отсюда – «Ты» с большой буквы в обращении; отсюда и характеристика Всадника как «за ны – распятого» (СС3, 21).
222
Нам не кажется продуктивным интерпретировать сюжет поэмы «На красном коне» через миф об Эросе и Психее, хотя структурный каркас этого мифа в поэме легко обнаружить. То, что одето на этот каркас, уже слишком индивидуально. И Эрос у Цветаевой другой – тот, который вне пола, и воссоединение с ним означает другое – творчество.
223
С пониманием «бесчеловечности» идеологии поэмы связаны, по‐видимому, попытки Цветаевой сократить текст поэмы, предпринятые вскоре после ее окончания. В творческой практике Цветаевой это уникальный случай. О сохранившихся вариантах текста поэмы см. примечания Е. Б. Коркиной к изданию: Цветаева М. Поэмы: 1920–1927. СПб., 1994. С. 323.
224
Ср. в рецензии М. Волошина на «Эрос» Вяч. Иванова: «Эрос – Демон пытливых исканий, демон, который учит человека дерзать и преступать законы человеческие и законы божественные» (Волошин М. Лики творчества. С. 483).
225
Документальные свидетельства об этой встрече собраны в первой части кн.: Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Хроника 1921 года. Дневники Ольги Бессарабовой (1915 – 1925). М.: Эллис Лак, 1910. С. 15–94.
226
Подробнее об этапах работы Цветаевой над поэмой см.: Коркина Е. Б. «Егорушка» М. Цветаевой: К вопросу об истории создания и жанровой принадлежности незавершенного произведения» // Поэмы Марины Цветаевой «Егорушка» и «Красный бычок». Третья международная научно-тематическая конференция (9–10 октября 1995 года): Сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1995. С. 40–42.
227
Ходасевич В. Книги и люди. «Современные Записки», кн. 50 // Возрождение. 1932. 27 окт. № 2704. С. 4.
228
всерьез (фр.).
229
Это слово в применении к собственному творчеству впервые появляется в записных книжках Цветаевой весной 1920 года (ЗК2, 161, 176).
230
Зноско-Боровский Е. А. Заметки о русской поэзии. Марина Цветаева: Ремесло. Книга стихов. Изд. Геликон. Москва-Берлин. 1923 г. // Воля России. 1924. № 3. С. 95.
231
Образы, к которым Цветаева прибегает в этом иносказании, восходят к истории, популярной в немецкой романтической традиции и рассказанной, например, в новелле Э. Т. А. Гофмана «Рудники Фалуна», вошедшей в роман «Серапионовы братья». Однако ближайшим для Цветаевой текстом, перелагавшим этот сюжет, была, скорее всего, баллада К. Павловой «Рудокоп» (1841). Она, как и другие тексты этой традиции, рассказывала о магической власти недр земли (олицетворяющих для романтиков силы природы) над душой человека, власти, заставляющей его отказаться от своих житейских, земных привязанностей.
232
Волконский С. М. Художественные отклики. СПб., 1912. С. 132.
233
Бахрах А. Поэзия ритмов // Дни. 1923. 8 апр. № 133. С. 19.
234
См., например, запись от 10 мая 1920 года: «Вчера начала пьесу “Ученик” – о НН (Вышеславцеве. – И. Ш.) и себе, очень радовалась, когда писала, но вместо НН – что‐то живое и нежное, и менее сложное» (ЗК2, 133).
235
Коркина Е. Поэтический мир Марины Цветаевой. С. 168.
236
Первоначально они составили сборник «Разлука» (1922); затем цикл вошел в «Ремесло» (1923), а поэма в сокращенном варианте – в «Психею» (1923).
237
Подробный анализ этого стихотворения в контексте «орфического мифа» у Цветаевой см. в книге: Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. P. 20–25.
238
О. Хейсти в своем разборе стихотворения замечает, что лира и голова могут вкладывать в слово «мир» разные смыслы, т. е. что первую реплику головы можно читать и как продолжение к неверно ею понятому слову «мир» как «земля», а не как «покой» (Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. P. 22–23). (Стихотворение было первоначально напечатано по старой орфографии, так что нет сомнения в том, какой «мир» имеет в виду Цветаева, однако, как справедливо замечает Хейсти, она могла в своем тексте учитывать омофонностью двух разных слов, ибо голова воспринимает реплики лиры на слух.) При таком прочтении лишь второй обмен репликами проясняет для участников диалога разность их устремлений. Так или иначе, факт неслиянности двух голосов таким прочтением лишь подтверждается.
239
См. об этой поэме: Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой. С. 257–292; Коркина Е. Б. Лирический сюжет в фольклорных поэмах Марины Цветаевой. С. 97–99.
240
Связь поэмы с былиной проанализирована в статье: Белякова И. Ю. Поэма М. Цветаевой «Переулочки» и былина о Добрыне и Маринке // «Лебединый стан», «Переулочки» и «Перекоп» Марины Цветаевой. Четвертая международная научно-тематическая конференция (9–10 октября 1996 года): Сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1997. С. 167–177.
241
Кажется весьма вероятным, что перечитывала, ибо след К. Павловой в «Ремесле» слишком отчетлив: это и собственно название сборника, и отсылка к «Рудокопу» Павловой в стихотворении «На што мне облака и степи…», и разбираемая здесь связь поэмы «Переулочки» с балладой «Старуха». О других отзвуках поэзии Павловой в творчестве Цветаевой см.: Венцлова Т. Почти через сто лет: к сопоставлению Каролины Павловой и Марины Цветаевой // Венцлова Т. Собеседники на пиру. С. 308–331.
242
Павлова К. Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Советский писатель, 1964 (Б‐ка поэта. Большая серия). С. 86–87.
243
Там же. С. 87.
244
К ним относятся эссе «Волшебство в стихах Брюсова» (1910 – 1911?) и два рассказа под общим названием «То, что было» (1912?). В двух последних уже ясно ощущается неповторимая стилистическая манера, характерная для позднейшей прозы Цветаевой.
245
Наиболее заметным исключением является Ахматова, в чьем творчестве эссеистика вообще никогда не заняла существенного места (ее историко-литературные статьи и мемуарные скетчи принадлежат к иному ряду). В 1910‐е годы отсутствие у Ахматовой собственных металитературных высказываний компенсировалось умело инструментованной подачей ее текстов через предисловия и рецензии, исходящие из близкого литературного круга.
246
Эта оговорка необходима, поскольку в ноябре 1918 года при поступлении на работу в Наркомнац Цветаева на вопрос служебной анкеты «Прежняя служебная деятельность» ответила: «Отзывы о книгах в журнале “Северные записки”» (СС4, 618). Возможно, что подобный ответ был лишь нейтральной отпиской, ибо следов участия Цветаевой в критическом разделе этого журнала не обнаружено. Однако возможно и то, что она действительно пробовала себя в жанре рецензии в середине 1910‐х годов и предлагала свои опыты названному журналу (критический отдел «Северных записок» вела С. Парнок, приведшая Цветаеву в журнал). В таком случае, ее рецензии либо были отвергнуты, либо остались ненапечатанными ввиду прекращения журнала в начале 1917 года.
247
«Метод» скрытых аллюзий на собственную биографию в цветаевском прочтении биографии Пастернака далее переносился ею и на прочтение его стихов. На один из таких случаев обратил внимание в своем письме к Цветаевой от 12 ноября 1922 года сам Пастернак: «Но в одном замечаньи о фразе: “Нельзя, не топча мирозданья” – говоря об ответственности каждого шага, с содроганьем при мысли, как бы: не нарушить, – Вы великодушно и самоотверженно обокрали самое себя. Это у Марины Цветаевой сказано:
Пляшущим шагом прошла по земле. Неба дочь.
С полным передником роз, ни ростка не наруша» (МЦБП, 21).
248
Иванов Г. Почтовый ящик // Цех поэтов. Кн. 4‐ая. Берлин: Трирема, 1923. С. 70.
249
См.: П. Л. [Лутохин П.] [Рец.] Эпопея. № 3 // Накануне. 1923. 13 марта. № 283. С. 5; Тансман А. Хроника литературы и искусства. Эпопея, № 3 // Звено. 1923. 16 апр. № 11. С. 3. Нейтральным по тону был лишь один беглый отзыв: Б-х А. [Бахрах А.] [Рец.] Эпопея № 3 (декабрь) // Дни. 1923. 4 февр. № 81. С. 14.
250
Тансман А. Хроника литературы и искусства.
251
Адамович Г. Литературные заметки // Звено. 1924. 6 окт. № 88. С. 2.
252
Н. Б. [Бахтин Н.] [Рец.] Записки наблюдателя. Литературный сборник. Кн. I. Прага, 1924 // Звено. 1924. 30 июня. № 74. С. 4.
253
«Слишком фрагментарны мир и жизнь» (нем.).
254
Именно в силу этого кажется оправданным предположение, что поэтика цветаевской прозы (записных книжек) далее влияла на поэтику ее поэзии. Здесь нет возможности подробно развивать эту мысль, но перемены в поэтическом синтаксисе Цветаевой в начале 1920‐х годов (появление эллиптических конструкций, незаконченных предложений и т. п.) можно интерпретировать как результат влияния ее собственного прозаического стиля – т. е. стиля записных книжек. Это, конечно, не исключает последующего обратного влияния ее поэзии на прозу, на которое, как на более очевидное, критики и исследователи уже указывали.
255
О том, почему эпопея Пруста попадает в категорию не-литературных произведений, речь пойдет в пятой главе.
256
Ср. обобщение С. Бойм по поводу характера прозы Цветаевой: «There is something in the very structure of Tsvetaeva’s prose works <…> that insults the notion of “good taste” and shocks so many literary critics. This element reveals itself in excessive “hysteric” lyricism, overflowing subjectivism, and the impossibility to distinguish between writing about the self and writing about others. The interferences go both ways: Tsvetaeva’s critical and fictional writings become autobiographical to the same extent that her more conventionally autobiographical writings are both critical and fictional. Tsvetaeva’s prose goes beyond all acceptable boundaries of genre and does not allow us to draw comfortable distinctions between criticism and autobiography, prose and poetry, fact and fiction, author and narrator, person and persona» (Boym S. Death in Quotation Marks: Cultural Myths of the Modern Poet. Cambridge, Mass. & London, England: Harvard University Press, 1991. P. 203).
257
Письмо к Ю. Оболенской от мая 1922 года. Цит. по: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.: Наука, 1977. С. 157 (в тексте предисловия В. П. Купченко к письмам М. Цветаевой к М. Волошину).
258
Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924. С. 572. Впервые: Брюсов В. Среди стихов // Печать и революция. 1922. № 6.
259
Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 257–258. Впервые: Мандельштам О. Литературная Москва // Россия. 1922. № 2. См. интерпретацию шутки Мандельштама об Озирисе, важную для понимания смысла отрывка, в статье: Ронен О. «Бедные Изиды»: Об одной вольной шутке Осипа Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 91–92.
260
Известны лишь два отклика собственно на «Версты I»: Родов С. «Оригинальная» поэзия Госиздата // На посту. 1923. № 2/3. С. 137–160; Лавренев Б. Христолюбивая палингензия (Литературные заметки) // Туркестанская правда. 1923. 14 марта. № 54. С. 8. В обоих обличаются религиозные мотивы в стихах Цветаевой, в связи с чем подвергается критике политика Госиздата, выпустившего сборник.
261
Белый А. Поэтесса-певица // Голос России. 1922. 21 мая. № 971. С. 7.
262
Там же. С. 7–8.
263
На указанной странице сборника напечатано стихотворение «Как разгораются – каким валежником!..».
264
Иванов Г. Почтовый ящик // Цех поэтов. Кн. 4‐ая. Берлин: Трирема, 1923. С. 72.
265
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 112. Впервые: Маслов Ф. [Ходасевич В.] [Рец.] М. Цветаева. Ремесло. Книга стихов. Берлин, 1923; М. Цветаева. Психея. Романтика. Берлин, 1923 // Книга и революция. 1923. № 4.
266
Там же.
267
См. об этом: Ратгауз М. Г. 1921 год в творческой биографии В. Ходасевича // Блоковский сборник. Вып. Х. Тарту, 1990. С. 117–129.
268
Нельзя однако сказать, что мнение Ходасевича об этой новейшей эстетике были догматически неизменным. Через два с половиной года, рецензируя цветаевского «Мóлодца», он писал, например: «Новейшие течения в русской поэзии имеют свои хорошие и дурные стороны. Футуристы, заумники и т. д. в значительной мере правы, когда провозглашают самодовлеющую ценность словесного и звукового материала. Не правы они только в своем грубом экстремизме, заставляющем их, ради освобождения звука из смыслового плена, жертвовать смыслом вовсе. Некоторая “заумность” лежит в природе поэзии. Слово и звук в поэзии – не рабы смысла, а равноправные граждане. Беда, если одно господствует над другим. Самодержавие “идеи” приводит к плохим стихам. Взбунтовавшиеся звуки, изгоняя смысл, производят анархию, хаос – глупость» (Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 124). Тем не менее теоретическое приятие основ новейшей эстетики Ходасевичем-критиком соседствовало с органической нелюбовью и нечувствительностью к ее возможностям Ходасевича-читателя. Это и давало себя знать в его оценках ряда современных поэтов, в том числе и Цветаевой.
269
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 112–113.
270
Там же. С. 113.
271
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 12, л. 321.
272
Струве Г. [Рец.] Марина Цветаева. Ремесло (Изд. Геликон. 1923); Психея (Изд. З. И. Гржебина. 1923) // Руль. 1923. 24 июня. № 779. С. 14.
273
Mirsky D. S. Uncollected Writings on Russian Literature / Ed. by G. S. Smith. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1989. P. 102.
274
В цитировавшейся выше рецензии на «Версты» Цветаевой Брюсов, в частности, писал: «Лучшее в ее книжке это – песни, немного в манере народных заклятий или ворожбы. Женственный оттенок, приданный автором таким его стихотворениям, делает их оригинальными и рядом с подобными же стихами других символистов» (Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924. С. 572–573).
275
Бобров С. [Рец.] Марина Цветаева. Царь-Девица. Поэма-сказка. Госиздат. М. 1922; Ее же. Ремесло. Книга стихов. К-во «Геликон». Москва-Берлин. 1923 // Печать и революция. 1924. № 1. С. 276. Далее в этой статье Бобров, правда, называл Марселину Дебор-Вальмор и Эдмона Ростана «главными учителями» Цветаевой, подразумевая романтическую идеологию как основу ее миросозерцания. Однако новейшей цветаевской поэтики учителя эти явно не определяли.
276
Струве Г. [Рец.] Марина Цветаева. Ремесло (Изд. Геликон. 1923); Психея (Изд. З. И. Гржебина. 1923). С. 14.
277
Там же. С. 14.
278
Свентицкий А. [Рец.] Марина Цветаева. Версты. «Костры». Москва // Утренники. 1922. № 2. С. 153.
279
Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924. С. 619. Впервые: Брюсов В. Среди стихов // Печать и революция. 1923. № 1.
280
Иванов Г. Почтовый ящик. С. 72.
281
Бобров С. [Рец.] Марина Цветаева. Царь-Девица. Поэма-сказка…; Ее же. Ремесло. Книга стихов… С. 277.
282
Зноско-Боровский Е. А. Заметки о русской поэзии. Марина Цветаева: Ремесло… С. 95.
283
Лурье В. [Рец.] Марина Цветаева. Ремесло. Книга стихов. Изд. «Геликон». Берлин. 1923 // Новая русская книга. 1923. № 3/4. С. 14.
284
Там же. С. 14.
285
Там же. С. 15.
286
Б-х А. [Бахрах А.] [Рец.] «Эпопея» № 3 (декабрь). Берлин, 1922. С. 14.
287
Бахрах А. Поэзия ритмов // Дни. 1923. 8 апр. № 133. С. 19.
288
Тетрадный набросок письма Бахраху был сделан Цветаевой 20 апреля 1923 года (СТ, 135–137); но переписала и послала она это письмо с позднейшими дополнениями лишь 9 июня.
289
Там же. С. 19.
290
Адамович Г. [Рец.] После России (Новые стихи Марины Цветаевой) // Последние новости. 1928. 21 июня. № 2647. С. 3.
291
Н. Б. [Бахтин Н.] [Рец.] «Записки наблюдателя». Литературный сборник. Кн. I. Прага, 1924 // Звено. 1924. 30 июня. № 74. С. 3.
292
Цикл «Федра» был сохранен в сборнике «После России»; цикл «Гамлет» распался в сборнике на три отдельных стихотворения: «Офелия – Гамлету», «Офелия – в защиту королевы» и «Диалог Гамлета с совестью».
293
Адамович Г. Литературные заметки // Звено. 1924. 6 окт. № 88. С. 2.
294
Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 20 апр. № 116. С. 2.
295
Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 20 июля. № 129. С. 2; 28 дек. № 152. С. 2.
296
В какой степени планировавшаяся книга была действительно обработкой прежних записей, а в какой писалась с чистого листа, как воспоминания, сказать трудно: отдельных рукописей, представляющих этот замысел, в архиве Цветаевой не сохранилось (хотя о переписке «Земных примет» неоднократно упоминается в ее письмах и тетрадях). В сохранившихся записных книжках и черновых тетрадях Цветаевой действительно есть фрагменты, которые были использованы ею в опубликованных очерках из жизни революционных лет; однако эти фрагменты несравненно меньше по объему, чем тексты, появившиеся в печати. Возможно, однако, что какие‐то тетради с революционными дневниками не сохранились. В равной мере можно предположить, что Цветаева писала эти очерки как мемуарные – с использованием дневниковых фрагментов.
297
Договоренность с издательством «Геликон» о публикации «Ремесла» была достигнута Цветаевой еще в период ее пребывания в Берлине, т. е. до 31 июля 1922 года. Сборник же «Психея», хоть и вышел из печати чуть позже «Ремесла», был продан Цветаевой издательству З. И. Гржебина еще раньше – до отъезда ее из России (СТ, 437).
298
Наиболее подробный на сегодняшний день разбор поэмы содержится в кн.: Hauschild Ch. Häretische Transgressionen: Das Märchenpoem “Mólodec” von Marina Cvetaeva.
299
Ср. сходные замечания в кн.: Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. P. 168.
300
См. также наблюдения над некоторыми литературными источниками «Мóлодца», расширяющими возможности интерпретации поэмы: Осипова Н. О. Творчество М. И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века. С. 134–147; Телетова Н. К. Трагедия «Фауст» Гете и поэма «Мóлодец» Цветаевой // Русская литература. 2000. № 1. С. 78–102. На наш взгляд, в последней работе, несмотря на ряд очень существенных наблюдений, смысл текста Цветаевой подвергается значительному искажению. Г. Дюсембаева обнаружила любопытные сюжетные и идейные переклички между поэмой Цветаевой и пьесой «Гадибук» («Меж двух миров») С. Ан-ского, ставившейся в 1922 году Вахтанговым в Еврейском театре «Габима» в Москве: Дюсембаева Г. Цветаева и «Габима» // Русская литература. 2003. № 2. С. 141–148.
301
Это порой вызывало недоразумения в критических отзывах. Так, в 1928 году В. Ходасевич сетовал на «ничем не оправданное и безвкусное смешение стилей» в драме Цветаевой «Федра»: «“Античные” персонажи трагедии изъясняются на неслыханном, отчасти архаизированном, отчасти модернизированном русском языке. Людям, не искушенным по части стиля, это может показаться своеобразным и поэтическим. В действительности это смешно и наивно» (Ходасевич В. [Рец.] «Современные записки». Кн. 36‐ая // Возрождение. 1928. 27 сент. № 1213. С. 4). Такое стилистическое решение «Федры» не было, однако, ни смешным, ни своеобразным: оно лишь ничем не выделялось на фоне стилистической практики Цветаевой после 1922 года, яркой чертой которой как раз и стало «неслыханное» смешение архаизированного и современного языков в речи любого из ее персонажей и в ее собственной непосредственной лирической речи.
302
О связи цикла «Дочь Иаира» со стихотворением «Эвридика – Орфею» см.: Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. P. 38–45. Стихотворение «Терпеливо, как щебень бьют…» своей концовкой прямо отсылает к концовке «Мóлодца»: «И домой: / В неземной – / Да мой» (СП, 330).
303
Наиболее подробно о взаимоотношениях двух поэтов см.: Ciepiela C. The Same Solitude: Boris Pasternak and Marina Tsvetaeva.
304
Попытка подробно проследить весь пастернаковский субстрат в стихотворениях сборника Цветаевой «После России» сделана в книге Е. Айзенштейн. Невзирая на натяжки в интерпретациях и излишнюю описательность, эта книга содержит ряд важных и интересных наблюдений. См.: Айзенштейн Е. О. «Борису Пастернаку – навстречу!» Марина Цветаева: О книге Марины Цветаевой «После России» (1928). СПб.: Журнал «Нева», 2000.
305
На этот перенос уже обращали внимание исследователи. Мифотворческий смысл такого переноса (от Орфея-Блока к Орфею-Пастернаку) проанализирован в книге: Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. P. 29–36, passim. В этой связи заслуживает пояснения стихотворение «Брожу – не дом же плотничать…», которое Цветаева включает в подборку стихов, обращенных к Пастернаку (МЦБП, 72–92), и в котором И. Кудрова совершенно справедливо обнаруживает лексические маркеры «обращенности» к Блоку (Кудрова И. «Встретились бы – не умер…» (Цветаева и Блок) // Кудрова И. Просторы Марины Цветаевой. СПб.: Вита Нова, 2003. С. 375–392). В стихотворении действительно есть знаки его обращенности и к тому и к другому адресату – и в этом нет противоречия: Цветаева обращается в нем к своему истинному спутнику, противопоставленному неистинному, «минутному баловню», – и то, что этот истинный спутник одновременно Блок и Пастернак, лишь подтверждает преемственность второго по отношению к первому в ее мифе.
306
А. Динега указывает на структурные сходства создаваемого Цветаевой нового мифа с мифом об Эросе и Психее (Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 92–95, passim). В этом она следует за Е. Витинс, которая обнаруживает этот миф в цикле «Провода» (Vitins I. The Structure of Marina Cvetaeva’s «Provoda»: From Eros to Psyche // Russian Language Journal. 1987. Vol. 41 (140). P. 143–156). Структурные сходства здесь действительно налицо, однако смысловых, содержательных несходств тоже немало. На наш взгляд, мифологизируя свои отношения с Пастернаком, Цветаева не возвращается назад, к уже творчески пройденному ею этапу манипуляций с мифом об Эросе и Психее, а развивает дальше свой текущий миф, в котором выжнейшим структуро– и смыслообразующим элементом является творческая ипостась обоих героев и их «равенство».
307
Впервые под названием «Река» оно было напечатано в берлинском альманахе «Струги» (1923), а через три года появилось без названия в составе цикла «Сивилла» на страницах журнала «Воля России» (1926, № 5). В сборнике «После России» оно не имеет названия и не входит в цикл.
308
В беловой тетради стихов Цветаевой над этим стихотворением крупными буквами написано: «30 ЛЕТ» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 92 об).
309
Учение о цвете (нем.).
310
Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 201.
311
Стихотворный набросок «В сиром воздухе загробном…» (СС2, 160–161), датированный 28 октября 1922 года, является именно наброском, а не законченным стихотворением.
312
Ср. ремарку внутри рукописи: «Из стихов посылала только те, что непосредственно к Вам, в упор» (МЦБП, 90).
313
С одной стороны, имя «Орфей» Пастернак в цветаевском мифе наследует от Блока. С другой стороны, нельзя не отметить, что с Блоком связывался миф о гибели Орфея (миф о смерти поэта), тогда как с Пастернаком – миф о любящем Орфее. Для Цветаевой это безусловно важно: сохранение имени при перемене мифологического сюжета.
314
К этому «циклу» мы относим все стихотворения, включенные Цветаевой в упомянутую выше рукопись 1923 года (МЦБП, 72–92).
315
Ср. отождествление «взрыва» с «творчеством» в наброске неосуществленной статьи Цветаевой о Пастернаке 1924 года: «Есть два рода поэтов: парнасцы и – хочется сказать – везувцы (-ийцы? Нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем. (NB! Взрыв – из всех явлений природы – менее всего неожиданность.) Насколько такие взрывы нужны? В природе (а искусство не иное) к счастью вопросы не существуют, только ответы» (СТ, 308).
316
О стихах этого цикла как части «пастернаковского» субстрата в «После России» см.: Айзенштейн Е. «Борису Пастернаку – навстречу!»… С. 108–131. См. также анализ цикла: Vitins I. The Structure of Marina Cvetaeva’s «Provoda»…; Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 113–128.
317
Анализу стихотворения посвящены статьи: Фарыно Е. Стихотворение Цветаевой «Прокрасться…» // Wiener Slawistischer Almanach. 1987. Bd. 20. S. 89–113; Гольштейн В. Стихотворение М. Цветаевой «Прокрасться…»: Парадокс поэтического молчания // Вестник Московского университета. Филология. 1995. Вып. 2. С. 134–146; Ревзина О. Г. Парадокс поэтического анализа // Там же. С. 147–151.
318
Можно далее разбирать цветаевскую игру с «горно-органной» образностью в разных стихотворениях и выстроить связку «оргáн как óрган горы», раскрывающую соотношение функций между участвующими в анаграммической связке словами.
319
Ассоциация Лермонтова с Орфеем почти наверняка опосредована Пастернаком: Лермонтову, как известно, был посвящен сборник «Сестра моя жизнь».
320
Здесь есть умысел (фр.).
321
Цветаевские эстетические воззрения связаны безусловно с романтико-символистской традицией. Существенна не мера их оригинальности, а факт фиксирования Цветаевой своих представлений именно в это время, указывающий на новое качество творческой рефлексии.
322
«Всё преходящее есть только подобие» (нем.).
323
Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. P. 94–96, 107.
324
Об этих стихотворениях и, в частности, об апокрифичности и о контаминациях в связи с его библейскими референциями см.: Faryno J. Мифологизм и теологизм Цветаевой. С. 9–110; Бродский И. Примечание к комментарию // Бродский И. Соч. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. Т. 7. С. 179–202.
325
В беловой тетради стихов Цветаевой это, третье, стихотворение цикла вообще не датировано, тогда как первые два датированы, соответственно, 26 и 31 августа. Возможно, это означает, что третье стихотворение написано (или дописано) даже несколько позже, чем 31 августа. См.: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 7, л. 14 об.
326
С. Я. Эфрон.
327
Это выражение уже использовалось Цветаевой в майском стихотворении 1923 года «Каким наитием…» (СП, 303–304).
328
Ср. также более позднее объяснение в письме к А. Черновой от 1 апреля 1925 года: «Вы, конечно, будете человеком искусства – потому что других путей нет. Всякая жизнь в пространстве – самом просторном! – и во времени – самом свободном! – тесна. <…> Вы должны жить одну жизнь, скорей всего – Вами не выбранную, случайную. И любить сразу, имея на это все права и все внутренние возможности, Лорда Байрона, Генриха Гейне и Лермонтова, встреченных в жизни (предположим такое чудо!) Вы не можете. В жизни, Аденька, ни-че-го нельзя, – nichts – rien. Поэтому – искусство («во сне всё возможно»). Из этого – искусство, моя жизнь, как я ее хочу, не беззаконная, но подчиненная высшим законам, жизнь на земле, как ее мыслят верующие – на небе» (СС6, 670).
329
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 7, л. 22.
330
См. о поэме: Smith G. S. Marina Cvetaeva’s «Poema gory»: An Analysis // Russian Literature. 1978. Vol. VI (4). P. 365–388 (русск. перевод в кн.: Смит Дж. Взгляд извне: статьи о русской поэзии и поэтике. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 177–200); Венцлова Т. «Поэма горы» и «Поэма конца» Марины Цветаевой как Ветхий Завет и Новый Завет // Венцлова Т. Собеседники на пиру. С. 163–172; Осипова Н. О. Творчество М. И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века. С. 151–160.
331
В тексте «Поэмы горы», как он был напечатан при жизни Цветаевой (в 1926 году), пятая и шестая строки «Посвящения» читались: «Красной ни днесь, ни впредь / Не заткну дыры». В редакции 1939 года, воспроизводимой всеми современными изданиями, «красной» заменено на «черной». Это не меняет смыла образа: в первом случае речь идет о кровавой ране, во втором – о дымящейся, обугленной, подобной жерлу вулкана.
332
Венцлова Т. «Поэма горы» и «Поэма конца» Марины Цветаевой как Ветхий Завет и Новый Завет. См. также о поэме: Ревзина О. Г. Из наблюдений над семантической структурой «Поэмы конца» М. Цветаевой // Ревзина О. Г. Безмерная Цветаева. С. 90–114; Осипова Н. О. Творчество М. И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века. С. 160–172.
333
В лирике осени 1923 года этот мотив также присутствовал: «Никогда не узнаешь, каких не-наших / Бурь – следы сцеловал!» (СП, 364).
334
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 8, л. 299.
335
В письме к Цветаевой от 6 марта 1923 года Пастернак предположительно назвал май 1925 года и Веймар как время и место их встречи (МЦБП, 44–45). О своем желании побывать с ним вместе в Веймаре Цветаева ранее сама писала Пастернаку (МЦБП, 30).
336
О литературных и мифологических источниках этих пьес см.: Мейкин М. Марина Цветаева: Поэтика усвоения. С. 230–256.
337
См. об этой пьесе: Thomson R. D. B. Tsvetaeva’s Play «Fedra»: An Interpretation // Slavonic and East European Review. 1989. Vol. 67 (3). P. 337–352.
338
с белыми руками (фр.).
339
См. о поэме главу в книге М. Мейкина, а также: Bott M.‐L. Studien zu Marina Cvetaevas Poem “Krysolov”: Rattenfänger– und Kitezh-Sage // Marina Cvetaeva: Studien und Materialien. Wien, 1981 (Wiener Slawistischer Almanach. Sdbd. 3). S. 87–112; Эткинд Е. Разгадка «Крысолова»: поэма Цветаевой в контексте немецкой народной легенды и ее литературных обработок // Эткинд Е. Там, внутри: о русской поэзии ХХ века. Спб.: Максима, 1996. С. 392–421; Ciepiela C. Leading the Revolution: Tsvetaeva’s “The Pied Piper” and Blok’s “The Twelve” // Столетие Цветаевой. Материалы симпозиума [= Marina Tsvetaeva: One Hundred Years] / Под ред. В. Швейцер, Д. Таубман, П. Скотто, Т. Бабенышевой. Oakland: Berkeley Slavic Specialties, 1994. P. 111–130; Суни Т. Композиция «Крысолова» и мифологизм М. Цветаевой. Хельсинки: Институт России и Восточной Европы, 1996.
340
поэзии (нем.).
341
Мы согласны с Н. Осиповой, которая ставит под сомнение продуктивность поиска конкретных исторических прототипов Крысолова (Троцкий, Маяковский) и других персонажей поэмы: Осипова Н. О. Творчество М. И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века. С. 174.
342
Подробнее об этом см.: Johnston R. H. «New Mecca, New Babylon»: Paris and the Russian Exiles. 1920–1945. Kingston & Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1988.
343
Омельянов А. [Бем А. Л.] Эмигрантское гетто // Молва. 1932. 23 сент.
344
См.: Постников С. По поводу («Русский Современник» № 1, 2, 3) // Воля России. 1925. № 1. С. 230–240; Слоним М. Литература эмиграции // Воля России. 1925. № 2. С. 174–182; № 4. С. 182–192.
345
См.: Бем А. Л. Мысли о современной русской литературе // Своими путями. 1925. № 6/7.
346
Своими путями. 1926. № 10/11. С. 22–23.
347
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 126. Впервые: Ходасевич В. Заметки о стихах (М. Цветаева. «Молодец») // Последние новости. 1925. 11 июня.
348
Вот (фр.).
349
Последние новости. 1926. 21 янв. № 1765. С. 3.
350
Вспомнили бы вы того, кто на вопрос, зачем он тратит столько усилий для совершенствования в искусстве, которое не может снискать понимания в людях, ответил: «Мне достаточно немногих. Мне достаточно одного. Мне достаточно и ни одного» (фр.).
351
О том, что такое понимание творчества сформировалось у Цветаевой уже довольно давно, свидетельствует ее запись, сделанная еще весной 1917 года: «Словесное дарование должно быть в уровень дарования душевного. Иначе – в обоих случаях – трагедия» (ЗК1, 160). Ср. также более позднюю запись Цветаевой, относящуюся к весне 1927 года: «У Ес<енина> был песенный дар, а личности не было. Его трагедия – трагедия пустоты. К 30-ти годам он внутренно кончился. У него была только молодость» (СТ, 544).
352
Лосский Б. Что мне вспоминается (ЦВС2, 89).
353
Эйхенбаум Б. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 379.
354
Там же.
355
дьявольская красота (фр.).
356
Осоргин М. Поэт Марина Цветаева // Последние новости. 1926. 21 янв. № 1765. С. 3.
357
Там же.
358
Цветаева с обоими детьми жила в это время в квартире О. Е. Колбасиной-Черновой, где, кроме самой хозяйки, жили еще три ее дочери: Ариадна, Ольга и Наталья.
359
М. Г. [Гофман М.] Вечер Марины Цветаевой // Руль. 1926. 12 февр. № 1580. С. 5.
360
Г. А. [Адамович Г.] Вечер Марины Цветаевой // Звено. 1926. 14 февр. № 159. С. 10.
361
Святополк-Мирский Д. О «Крысолове» М. Цветаевой // Воля России. 1926. № 6/7. С. 99–100.
362
Там же. С. 100.
363
На поэму отозвались Ю. Айхенвальд (Руль. 1925. 10 июня. № 1372), В. Ходасевич (Последние новости. 1925. 11 июня. № 1573), Г. Адамович (Звено. 1925. № 129), В. Кадашев (Студенческие годы. 1925. № 4), А. Рудин (Перезвоны. 1925. № 5), А. Чернова (Благонамеренный. 1926. № 1), Д. Святополк-Мирский (Современные записки. 1926. № 27). За исключением Айхенвальда и Адамовича, рецензенты были настроены благожелательно.
364
Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль. 1925. 9 дек. № 1527. С. 2.
365
Айхенвальд писал, в частности: «Сказка эта написана стихами и написана так, что ее трудно понять. Виною в этом не непонятливость читателя, а непонятность книжки». Далее, отмечая фонетическую изощренность цветаевского письма, он заключал: «Если же, сверх звуков, вам хочется получить еще и смысловое наслаждение, то для этого изощрите все свое внимание и понимание» (Ю. А. [Айхенвальд Ю.] [Рец.] Марина Цветаева. Мóлодец. Сказка // Руль. 1925. 10 июня. № 1372. С. 5).
366
Даватц В. Тлетворный дух // Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. М.: Аграф, 2003. Ч. I: 1910–1941 годы. С. 231. До Даватца словосочетанием «набор слов» по отношению к творчеству Цветаевой уже воспользовался Г. Адамович (Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 20 апр. № 116. С. 2; см. цитату на с. 225).
367
Струве Г. [Рец.] Ковчег. Сборник Союза русских писателей в Чехословакии. Прага, 1926 // Возрождение. 1926. 21 янв. № 233. С. 3.
368
Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 20 июля. № 129. С. 2.
369
Мы говорим здесь и ниже не о направлении как объективном историко-литературном понятии, но о направлении как конструкте литературной политики, в котором могут воплощаться и эстетические, и политико-идеологические ценности.
370
Tsvetaeva M. Le cahier rouge / Traduit du russe et annoté par C. Bérenger et V. Lossky. Paris: Éditions des Syrtes, 2011. P. 163. (Издание включает факсимильное воспроизведение рабочей тетради Цветаевой 1932–1933 года.)
371
Резников Д. Поэма конца // Дни. 1926. 24 янв. № 912. С. 3. С большой степенью вероятности можно предположить, что Резников, как вскоре и Мирский, отчасти перелагал в своем отзыве суждения самой Цветаевой.
372
Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака / Сост. Д. Святополк-Мирский. Париж: Франко-русская печать, 1924. С. XII.
373
Святополк-Мирский Д. [Рец.] Марина Цветаева. Мóлодец. Сказка. Прага. 1924 г. // Современные записки. 1926. № 27. С. 569.
374
Цетлин М. «Версты» // Дни. 1926. 22 авг. № 1087. С. 3.
375
[не] существуют, а воспринимаются (лат.).
376
Святополк-Мирский Д. [Рец.] Марина Цветаева. Мóлодец. Сказка. Прага. 1924 г. С. 570.
377
Святополк-Мирский Д. О «Крысолове» М. Цветаевой. С. 100.
378
Там же.
379
Святополк-Мирский Д. [Рец.] Марина Цветаева. Мóлодец. Сказка. Прага. 1924 г. С. 569.
380
Там же. С. 571.
381
Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 20 июля. № 129. С. 2.
382
Брей А. [Рец.] Благонамеренный. Журнал русской литературной культуры. Брюссель, 1926, кн. I и кн. II // Своими путями. 1926. № 12/13. С. 71.
383
Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 2 мая. № 170. С. 2.
384
Позднее, когда критические страсти вокруг статьи Цветаевой улеглись, «Звено» опубликовало за подписью Евг. Винавера статью «О правах критики» (1926. 12 сент. № 189. С. 3–4). Частота упоминания в ней имени Сент-Бёва (которого Цветаева в своей статье ставила в пример Адамовичу) и полемика с его принципами синтетической критики делали понятным для всякого посвященного, куда метит автор. Такой замысловатый способ защиты «Звеном» своего сотрудника как бы задним числом возвращал спор в рамки литературных приличий. Сам Адамович, впрочем, как ни сдерживался, не мог впоследствии скрыть своей глубокой уязвленности и совсем не кстати вдруг вставлял в свою статью фразу: «Ну, а мы все – не Сент-Бёвы» (Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1928. № 4. С. 189).
385
Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль. 1926. 5 мая. № 1647. С. 3.
386
Об этом шла речь в записях «Отрывки из книги “Земные приметы”» (СС4, 514–515) и очерке «Герой труда» (СС4, 14–15).
387
Яблоновский А. В халате // Возрождение. 1926. 5 мая. № 337. С. 2.
388
Цветаева включила в свой «Цветник» фрагмент из статьи Адамовича, в котором тот называл ее «поэтической Вербицкой»: Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 20 апр. № 116. С. 2.
389
Яблоновский А. В халате.
390
Осоргин М. Дядя и тетя («Благонамеренный». Кн. 2‐ая. Брюссель.1926 г.) // Последние новости. 1926. 29 апр. № 1863. С. 2.
391
Осоргин М. Поэт Марина Цветаева. С. 3.
392
Мих. Ос. [Осоргин М.] [Рец.] Благонамеренный. Журнал русской литературной культуры. Кн. 1. Брюссель, 1926 // Современные записки. 1926. № 27. С. 566.
393
Яблоновский А. В халате.
394
Бицилли П. Завет Пушкина // Современные записки. 1926. № 29. С. 469. См. также его рецензию на книгу М. Гершензона «Статьи о Пушкине» в том же номере журнала (С. 488).
395
Крайний А. [Гиппиус З.] Мертвый дух // Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 4. С. 259.
396
Там же. С. 259–260.
397
Фохт В. [Рец.] Воля России, VIII–IX, 1926 // Новый дом. 1926. № 1. С. 38.
398
Крайний А. [Гиппиус З.] Мертвый дух. С. 262.
399
Там же.
400
Журналу было предпослано краткое предисловие «От редакции» с довольно прозрачными реминисценциями некоторых мыслей Гиппиус из статьи «Мертвый дух»:
Пора литературе и критике вновь стать идейными, отбросив как нигилизм, так и эстетизм. На этих основаниях и строится «Новый Дом».
Основанный молодыми силами, он зовет всех, кто хочет вернуться к подлинному искусству духа: в единении поколений возникает непрерывная преемственность идей.
Живя на чужбине и не забывая России, мы, однако, не тоскуем по ее «березкам» и «ручейкам». Она с нами, в нас самих, – поскольку ее язык, ее литература, ее культура навсегда унесены нами и живы в нас, где бы мы ни были. Но и Европа – старая сокровищница мировой духовности, дорога нам (Новый дом. 1926. № 1. С. 2).
Полемическая настроенность журнала по отношению к «Верстам» (проводившим, среди прочих, евразийскую идею российской обособленности от Европы) была, таким образом, внятно заявлена. «Молодые силы» в лице Нины Берберовой, Довида Кнута, Юрия Терапиано и Всеволода Фохта, значившихся редакторами журнала, его политику едва ли определяли. Нина Берберова впоследствии вспоминала: «Кнут был инициатором журнала, куда он и я вошли редакторами, но уже после первого номера (1926 год) “Новый дом” оказался нам не под силу: Мережковские, которых мы позвали туда (был позван, конечно, и Бунин), сейчас же задавили нас сведением литературных и политических счетов с Ремизовым и Цветаевой, и журнал очень скоро перешел в их руки под новым названием (“Новый корабль”)» (Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 318). Можно усомниться в точности рассказа мемуаристки о предыстории журнала, но ее указание на полную зависимость редколлегии от Мережковских подтверждается содержанием самого «Нового дома».
401
Значительное место уделили журналу в своих литературных обзорах также Адамович и Слоним. Первый был импрессионистичен, но политических инвектив в адрес журнала не произносил, увлекшись развитием одной из мыслей статьи Г. П. Федотова (опубликованной под псевдонимом Е. Богданов) об эмиграции как «выражении петербургского духа» (Литературные беседы // Звено. 1926. 22 авг. № 186. С. 20). Что же касается Слонима, то его реакция на «Версты» и их политическую линию была сдержанной. Посвятив восторженные строки «Поэме горы» Цветаевой, он с нескрываемым изумлением отнесся к тому, что в эмигрантском журнале так мало места нашлось для собственно эмигрантских авторов: «“Версты” обращены лицом к России – и это хорошо. Но еще лучше было бы, если б обращены они были – своим лицом» (Литературные отклики // Воля России. 1926. № 8/9. С. 103).
402
В тетрадном наброске письма к Ходасевичу по поводу его статьи Цветаева резко отзывалась именно об этом. Она выразила недоумение в связи с тем, что Пастернак мог именоваться «советским» поэтом и на основании такого эфемерного определения противопоставляться ей или иным поэтам, живущим в эмиграции. «Я русский поэт и, что еще чище (еще точнее), просто – поэт, родивш<ийся> в России», – подчеркивала Цветаева (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 14, л. 73).
403
Ходасевич В. Собр. соч. Анн Арбор: Ардис, 1990. Т. 2. С. 408. Впервые: Ходасевич В. О «Верстах» // Современные записки. 1926. Кн. 29.
404
Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. 1922–1931 / Ed. by G. Smith. Birmingham: University of Birmingham, 1995 (Birmingham Slavonic Monographs. № 26).
405
Leeds Russian Archive (Great Britain). MS. 901/1–2. Эти мемуары были записаны на пленку в январе 1974 года профессором Джеральдом Смитом.
406
Цетлин М. «Версты» // Дни. 1926. 22 авг. № 1087. С. 3.
407
Бунин И. «Версты» // Возрождение. 1926. 5 авг. № 429. С. 3.
408
Крайний А. [Гиппиус З.] О «Верстах» и о прочем // Последние новости. 1926. 14 авг. № 1970. С. 3.
409
Злобин В. «Версты» // Новый дом. 1926. № 1. С. 36. Курсив Злобина. – И. Ш.
410
Цетлин М. Письмо в редакцию // Последние новости. 1926. 14 нояб. № 2062. С. 4.
411
Струве Г. Литературные «реакционеры» // Возрождение. 1926. 25 нояб. № 541. С. 3.
412
Сосинский Б. [Рец.] «Новый дом», № 1. Париж, 1926 // Воля России. 1926. № 11. С. 188.
413
В. Н. Среди молодых поэтов // Дни. 1926. 11 нояб. № 1156. С. 1.
414
При порой натянутых отношениях с редакцией этого журнала Цветаева оставалась одним из его самых активных сотрудников все годы эмиграции. Об отношении к ней редакции журнала см., в частности: Вишняк М. «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб.: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993. С. 106–107, passim. См. также переписку Цветаевой с упомянутым в письме к Тесковой Вадимом Рудневым: Цветаева М., Руднев В. «Надеюсь – сговоримся легко». Письма 1933–1937 годов / Издание подготовлено Л. А. Мнухиным. М.: Вагриус, 2005. Интересные статистические данные о сотрудничестве Цветаевой в русской парижской печати см. в статье: Lossky V. Marina Cvetaeva et la presse parisienne // Марина Цветаева: Статьи и тексты. Wien, 1992 (Wiener Slawistischer Almanach. Sdbd. 32). S. 29–41.
415
М. С. [Слоним М.] [Рец.] Марина Цветаева. После России // Дни. 1928. 17 июня. № 1452. С. 4; Ходасевич В. [Рец.] Марина Цветаева. После России // Возрождение. 1928. 19 июня. № 1113. С. 3; Адамович Г. После России (Новые стихи Марины Цветаевой) // Последние новости. 1928. 21 июня. № 2647. С. 3; П-ий П. [Пильский П.] Книга: Марина Цветаева. После России // Сегодня. 1928. 25 авг. № 229. С. 8.
416
Sv’atopolk Mirskij D. Die Literatur der Russischen Emigration // Slavische Rundschau. 1929. № 1. S. 290–294. Русский перевод части статьи, относящейся к сборнику Цветаевой см.: Марина Цветаева в критике современников. Ч. I. C. 375–376.
417
Слоним М. Литературные поколения // Новая газета. 1931. 1 апр. № 3. С. 1.
418
Бем А. Письма о литературе. Praha: Slovansky ustav; Euroslavica, 1996. С. 65. Впервые: Бем А. Письма о литературе. В защиту читателя // Руль. 1931. 16 июля. № 3232.
419
Здесь и ниже мы частично опираемся на данные текстологического комментария Е. Б. Коркиной к поэме Цветаевой «Лестница» и фрагментам «Несбывшейся поэмы» (СП, 754–755, 766).
420
В начале января 1926 года Пастернак послал Цветаевой главы «Гапон» и «Бунт на Потемкине» (в окончательном тексте поэмы носящие названия, соответственно, «Детство» и «Морской мятеж»).
421
Статья была предложена в «Версты» и в «Современные записки», но отклонена и теми и другими. См. письма Цветаевой к П. Сувчинскому от 29 марта (СС6, 318–319) и к М. Вишняку от 15 апреля 1926 года (СС7, 54). Беловик статьи не сохранился; ее текст восстановлен и опубликован по тетрадному черновому варианту.
422
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 13, л. 95.
423
«Тройственной» в полном смысле слова эта переписка стала, как известно, лишь для Цветаевой; Пастернак и Рильке написали друг другу лишь по одному письму.
424
Рильке Р. М. Дыхание лирики: Переписка с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Письма 1926 года. М.: АРТ-ФЛЕКС, 2000. См. также предисловие и комментарии К. М. Азадовского в подготовленной им книге «Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке» (СПб.: Акрополь, 1992; 2‐е изд.: 1998). Этой переписке уделено внимание во всех основных биографиях Цветаевой. Интересный анализ эпистолярного диалога между Цветаевой и Рильке см.: Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. P. 134–162. О переписке и поэтических текстах Цветаевой, с ней связанных, см. также: Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 129–176; Ciepiela С. The Same Solitude: Boris Pasternak and Marina Tsvetaeva. P. 158–160, passim.
425
По-немецки эта строка (как часть двустишия) присутствует в письме к Пастернаку от 23–26 мая 1926 года (МЦБП, 214). По-русски она записана в СТ (с. 542).
426
О пушкинско-пастернаковских коннотациях в названии поэмы и в ее образности см.: Карлинский С. Пастернак, Пушкин и океан в поэме Марины Цветаевой «С моря» // Boris Pasternak and His Times / Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak / Ed. by L. Fleishman. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1989. P. 46–57.
427
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 13, л. 165.
428
Иначе трактует их А. Динега, однако ее утверждение, что полумесячное молчание Цветаевой было связано с ее осознанием серьезности болезни Рильке, текстуально никак не подтверждается, более того – всем, что Цветаева пишет, опровергается. См.: Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 133–134.
429
См. об этой поэме: Бродский И. Об одном стихотворении // Бродский И. Соч. Т. 5. С. 142–187; Hasty O. P. Marina Tsvetaeva’s Orphic Journeys in the Worlds of the Word. P. 163–222; Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 147–166.
430
См. о ней: Гаспаров М. Л. «Поэма воздуха» Марины Цветаевой: опыт интерпретации // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. С. 259–274; Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 166–176. Ряд статей о поэме включен в сб.: «Поэма воздуха» Марины Цветаевой. Вторая международная научно-тематическая конференция (9–10 октября 1994 года): Сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1994.
431
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 15, л. 76 об.
432
Подробнее о развитии замысла поэмы см. примечания Е. Б. Коркиной в СП (с. 756–757).
433
См. замечания о связи такого развития замысла с текстом элегии Рильке, посвященной Цветаевой, в статье: Джимбинов С. Б. Паденье в твердь (Р. М. Рильке и «Поэма воздуха» М. Цветаевой) // «Поэма воздуха» Марины Цветаевой. Вторая международная научно-тематическая конференция. C. 31–38.
434
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 15, л. 91 об.
435
На эту перекличку образности двух поэм также обращает внимание А. Динега (см.: Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 170).
436
«Цветаева упоминает французских летчиков Ненжессера и Колли, пытавшихся совершить трансатлантический перелет одновременно с Линдбергом, но в обратном направлении – из Франции в Америку» (СП, 756–757).
437
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 17, л. 4.
438
8 августа 1927 года в письме к Цветаевой Пастернак говорил о своем потрясении от только что прочитанного сборника Рильке «Дуинезские элегии», в котором тот «сам, не нуждаясь в помощи чужих показательных потрясений, стал истории на плечи и так сверхчеловечески свободен» (МЦБП, 379).
439
См. анализ этой темы в переписке и творческих поисках обоих поэтов в статье: Шевеленко И. История и творчество в диалоге Пастернака и Цветаевой // The Real Life of Peirre Delalande: Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin: In 2 parts. Stanford, 2007. Part I (Stanford Slavic Studies. Vol. 33). P. 315–334.
440
См. запись осени 1921 года: «Только плохие книги – не для всех. Плохие книги льстят слабостям: века, возраста, пола. Мифы – Библия – эпос – для всех» (СТ, 61).
441
Ср. замечания о «мифотворческом» характере поэмы «Перекоп» в статье: Малова Т. Е. Незавершенность как структурная особенность поэмы М. Цветаевой «Перекоп» // «Лебединый стан», «Переулочки» и «Перекоп» Марины Цветаевой. Четвертая международная научно-тематическая конференция. С. 195–197. См. также наблюдения над повествовательными особенностями «Перекопа» в работе О. Г. Ревзиной «Заметки о “Красном бычке” и “Перекопе”» (Ревзина О. Г. Безмерная Цветаева. С. 193–213).
442
См. о ней указанную выше статью О. Г. Ревзиной, а также статью С. Б. Джимбинова «Преодоление очевидностей (Поэма М. Цветаевой «Красный бычок». Опыт истолкования)» (Поэмы Марины Цветаевой «Егорушка» и «Красный бычок». Третья международная научно-тематическая конференция. С. 112–118).
443
Цветы и гончарня: Письма Марины Цветаевой к Наталье Гончаровой, 1928–1932. М., 2006. С. 34.
444
Об истории текста и сохранившихся фрагментах см. примечания Е. Б. Коркиной в СП (с. 766–767) и ее статью «Поэма о Царской Семье», включающую ряд фрагментов поэмы (Коркина Е. Архивный монастырь. С. 119–151).
445
О Прусте и Цветаевой см.: Кудрова И. Просторы Марины Цветаевой. С. 239–240; Таганов А. Н. Марина Цветаева и Марсель Пруст // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. Иваново, 1993. С. 179–188. О влиянии Пруста и его значении для молодого поколения писателей в среде русской эмиграции см.: Livak L. How It Was Done in Paris: Russian Émigré Literature and French Modernism. Madison: University of Wisconsin Press, 2003. P. 90–134.
446
«Великое деяние Пруста состоит в том, что он обрел свою жизнь в письме, тогда как русское предвоенное поколение растратило ее в разговорах» (фр.). (Marcel Proust. Paris, 1930. P. 51. (Cahiers de la Quinzaine. XX serie. Cahier 5.))
447
Утраченное время (фр.).
448
малая история (фр.).
449
См., например: Ельницкая С. Сеанс словесной магии: О скрытом сюжете в автобиографической прозе «Страховка жизни» // Ельницкая С. Статьи о Марине Цветаевой. С. 73–108; Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. С. 556–584 (глава о Цветаевой).
450
Ходасевич В. Книги и люди. «Современные записки», кн. 59‐ая // Возрождение. 1935. 28 нояб. № 3830. С. 4.
451
О некоторых темах очерка см.: Kolchevska N. Mothers and Daughters: Variations on Family Themes in Tsvetaeva’s «The House at Old Pimen» // Engendering Slavic Literatures / Ed. by P. Chester and S. Forrester. Bloomington: Indiana University Press, 1996. P. 135–157.
452
Анализ целого ряда прозаических произведений этого периода см. в кн.: Grelz K. Beyond the Noise of Time: Readings of Marina Tsvetaeva’s Memories of Childhood.
453
Ср. фразу из тетрадного наброска письма 1933 года к Ю. Иваску: «Знаете ли Вы мою большую прозу о Гончаровой – не важно, что о Гончаровой: всё только повод» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 23, л. 80).
454
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 154. (Запись февраля 1936 года.)
455
«Без семьи» (фр.).
456
калека (фр.).
457
полдень (фр.).
458
Ходасевич В. Книги и люди. «Современные записки», кн. 57 // Возрождение. 1935. 4 апр. № 3592. С. 3.
459
См. об этом очерке: Ельницкая С. Цветаева и Чорт // Ельницкая С. Статьи о Марине Цветаевой. С. 9–32; Chester P. Engaging Sexual Demons in Marina Tsvetaeva’s “Devil”: The Body and the Genesis of the Woman Poet // Slavic Review. 1994. Vol. 53 (4). P. 1025–1045. По поводу последней статьи следует заметить, что обсуждение репрезентации пола на материале цветаевской «автобиографической» прозы 1930‐х годов представляется малопродуктивным вне соотнесения ее с теми представлениями о поле, сексуальности и творчестве, которые складываются у Цветаевой в первые годы после революции. В ее поздней прозе концептуализируются те же элементы авторской идентичности, связанные с полом, которые уже знакомы нам по лирике, поэмам и записным книжкам революционных лет.
460
В очерке «Живое о живом» (1932) Цветаева говорит о том, что знакомством с этой книгой обязана Волошину (СС4, 169). Следовательно, оно произошло в начале 1910‐х годов.
461
Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. СПб.: Наука, 1988–1996. Т. 10. С. 159–160 («Братья Карамазовы», кн. 11, гл. Х).
462
Там же. С. 139–140, 143–144.
463
Любопытно, что в написанном в 1934 году «Пленном духе» Цветаева прямо включит себя, не смущаясь очевидной натяжкой, в круг символистов. Что особенно показательно, мотивироваться ее «мы», ее единство с символистами, будет общим для них пониманием «любви» (СС4, 258–259).
464
В середине 1930‐х годов английский язык начинает учить ее сын Мур, и в письмах Цветаевой, которая сама английского языка не знала, именно в это время проскальзывают отдельные английские слова. Предположение о наличии в тексте Цветаевой указанной анаграммы независимо от нас было высказано также Д. Бургин. См.: Бургин Д. Л. Марина Цветаева и трансгрессивный эрос. С. 171–172.
465
См. об этом раздел «Поэт и время» в настоящей главе.
466
Один из экземпляров сохранился в базельском архиве Цветаевой и был использован впоследствии при публикации полного текста «Черта»: Universitätsbibliothek Basel. Handschriften Abteilung. Depositum Marina Cvetaeva, № 8.17b-c.
467
См. об этом очерке: Смит А. Песнь пересмешника. С. 127–179.
468
См. о ней в следующем разделе.
469
В черновом варианте текста «Моего Пушкина» героиня пишет «обломком грифеля на грифелевой же скале» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 15, л. 93), что делает несомненным наличие мандельштамовско-державинского подтекста у этой фразы и у фрагмента в целом. См. «Грифельную оду» Мандельштама и комментарий к ней в книге: Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. С. 176–178, 567–569.
470
При публикации «Мой Пушкин» датирован 1937 годом, однако рукопись была начерно завершена в конце 1936 года (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 15, л. I).
471
См. сходное наблюдение: Ельницкая С. «Возвышающий обман»: Миротворчество и мифотворчество Цветаевой // Ельницкая С. Статьи о Марине Цветаевой. С. 33–53.
472
«У памяти хороший вкус» (фр.).
473
Цветаева М., Руднев В. Письма 1933–1937 годов. С. 27.
474
До этого, в 1929–1930 годах она сделала автоперевод на французский язык своей поэмы «Мóлодец» («Le Gars»), но издателя не нашла; в малотиражном журнале «France et monde» (1930, № 138) была опубликована лишь первая глава поэмы. Полностью французский текст поэмы впервые опубликован в 1992 году парижским издательством «De femmes». См. также двуязычное издание поэмы, включающее предисловие, написанное Цветаевой для французской версии: Цветаева М. Мóлодец (Le Gars). М.: Эллис Лак, 2005. Анализ переводческой работы Цветаевой см. в статье Е. Г. Эткинда «Мóлодец Цветаевой: оригинал и автоперевод», включенной в указанное издание, а также в кн.: Эткинд Е. Там, внутри. С. 422–445.
475
Несколько фрагментов на французском языке в тексте первой части «Повести о Сонечке» – это именно «осколки» набросков 1933 года.
476
Эта повесть в письмах была опытом превращения «приватного» текста в беллетристику: Цветаева перевела на французский язык, предварительно их обработав, свои письма к А. Г. Вишняку и одно его письмо к ней. Все они относились к 1922 году, к их краткому берлинскому роману. См. французское издание: Tsvetaeva M. Neuf lettres avec une dixième retenue et une onzième reçue. Paris: Clémence Hiver, 1985. В обратном переводе на русский язык напечатаны как «Флорентийские ночи» в СС4. Письма, которые легли в основу этого текста, переписаны Цветаевой в СТ. Все три текста сведены вместе в издании: Цветаева М. Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным, – и Послесловием / Сост., перевод, коммент. Ю. П. Клюкина. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1999.
477
В русском переводе опубликово в СС5. Французский текст см.: Zvétaieva M. Mon frère féminine. Lettre à l’Amazone. Paris: Mercure de France, 1979.
478
См. об этом, в частности: Matich O. Erotic Utopia; Naiman E. Sex in Public. P. 27–45; Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция.
479
Волошин М. Пути Эроса. С. 22.
480
Женское начало не обязательно отождествлялось с живой женщиной как таковой; чаще эти понятия разводились, и женское начало представало некой абстрактной категорией, проявляющей себя в обоих полах. На этом, в частности, настаивал Волошин: «…все мы гермафродиты в духе своем, и разделение физической стихии в человеке стало почти формально. Самосознанием человек стоит уже вне пола» (Волошин М. Пути Эроса. С. 25).
481
Мы сохраняем это имя в такой форме – как имя героини цветаевского текста.
482
В основном работа над рукописью была закончена в конце сентября 1937 года. Однако Цветаева продолжала делать дополнения и поправки ко второй части еще в первые месяцы 1938 года.
483
См. о ней: Бродская Г. Ю. Сонечка Голлидэй. Жизнь и актерская судьба. Документы. Письма. Историко-театральный контекст. М.: ОГИ, 2003.
484
Полякова С. Незакатные оны дни: Цветаева и Парнок. С. 223. Вместе с тем некоторые аллюзии в повести, отсылающие к Парнок, отмечены Поляковой совершенно справедливо (С. 223–224).
485
Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М.: Художественная литература, 1989–1992. Т. 1. С. 109. Перевод: «Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда в движении бури мне видятся, девочка, твои черты» (нем.).
486
РГАЛИ, ф. 2887 (Е. Б. Тагер), оп. 1, ед. хр. 463.
487
См. их первые письма друг к другу в июне 1922 года.
488
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 155 об.
489
В этом разделе мы неоднократно будем ссылаться на две статьи, имеющие непосредственное отношение к его темам: Коркина Е. Пушкинская тема в судьбе Пастернака и Цветаевой в 1930‐е годы // Коркина Е. Архивный монастырь. С. 213–237; Ельницкая С. О некоторых особенностях цветаевского антигастрономизма и неприятия «строительства жизни» в ее лирике 1930‐х годов // Ельницкая С. Статьи о Марине Цветаевой. С. 174–253.
490
«Пушкинские» коннотации в этом фрагменте впервые отмечены в статье: Knapp L. Tsvetaeva and the Two Natal’ia Goncharovas: Dual Life // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age / Ed. by B. Gasparov, R. P. Hughes, and I. Paperno. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1992. P. 99.
491
Впоследствии она датировала свое знакомство с этой книгой летом 1931 года, временем написания цикла «Стихи к Пушкину» (ПТ, 315).
492
В базельском архиве Цветаевой сохранилась газетная вырезка с этим очерком Георгия Иванова, снабженным нелестными пометами Цветаевой. В частности над его заголовком крупными буквами написано «СПЛОШЬ – ЛОЖЬ», а пометы в конце текста завершает обобщение «Георгий Иванов – жалкий лжец» (Universitätsbibliothek Basel. Handschriften Abteilung. Depositum Marina Cvetaeva, № 9.4).
493
Он цитируется ниже по оригинальной рабочей тетради; в первом издании книги набросок цитировался по СТ, т. е. в более поздней редакции, отсюда – разночтения.
494
Цветаева, по‐видимому, следует здесь, хоть и не вполне точно, концепции Д. Н. Анучина. См. подробнее комментарий в СТ (с. 605).
495
Цветаева неточно цитирует здесь письмо Пушкина к детской писательнице А. О. Ишимовой, написанное им перед дуэлью.
496
При жизни Пастернака печаталось под названием «Другу».
497
Пастернак Б. Собр. соч. Т. 1. С. 400.
498
Если эта информация справедлива, то цикл «Стихи к сыну» можно считать приуроченным ко времени прошения.
499
Пушкин А. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 3‐е. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. Т. 2. С. 342.
500
Пастернак Б. Собр. соч. Т. 1. С. 421.
501
Пастернак Б. Письма к родителям и сестрам. 1907–1960 / Подгот. текста и коммент. Е. Б. и Е. В. Пастернаков. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 628.
502
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 155.
503
и готова принять любую форму (фр.).
504
В рабочей тетради Цветаевой черновики этого стихотворения «обрамляют» набросок осеннего письма 1935 года к Пастернаку (МЦБП, 558–562).
505
См. также публикацию этого выступления по архивному источнику, без редакционных изменений: Barnes Ch. The Original Text of “O skromnosti i smelosti” // Slavica Hierosolymitana. 1979. Vol. IV. P. 294–303.
506
Подробнее об этой дискуссии, о позиции в ней Пастернака и об общей дискуссии на минском пленуме см.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930‐х годов. СПб.: Академический проект, 2005. С. 402–459; Галушкин А. Сталин читает Пастернака // В кругу Живаго: Пастернаковский сборник / Ed. by L. Fleishman. Stanford, 2000 (Stanford Slavic Studies. Vol. 22). P. 38–58.
507
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 139.
508
См. также: Смит А. Песнь пересмешника. С. 159–163.
509
Пастернак Б. Собр. соч. Т. 1. С. 183.
510
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 16, л. 1–1 об. Приведенная Цветаевой цитата – из стихотворения О. Мандельштама «Теннис» (1913).
511
Там же, л. 34–35.
512
Там же, л. 35.
513
О субъективности чтения Цветаевой текста «Капитанской дочки» см.: Смит А. Песнь пересмешника. С. 222–224.
514
См. об этом названную статью Е. Коркиной, а также: Галушкин А. Сталин читает Пастернака; Флейшман Л. Еще о Пастернаке и Сталине: К публикации А. Ю. Галушкина // В кругу Живаго: Пастернаковский сборник. P. 66–86.
515
Пастернак Б. О скромности и смелости // Литературная газета. 1936. 24 февр. № 12 (575). С. 3.
516
Ходасевич В. Книги и люди. «Русские записки», книга 2‐ая // Возрождение. 1937. 26 нояб. № 4107. С. 9.
517
Связь названия этой статьи с давней книгой Н. Минского «При свете совести» (1890) весьма вероятна, однако это не означает непосредственной идейной зависимости Цветаевой от Минского. Скорее всего знавшая о работе Минского и ее идеях лишь понаслышке, Цветаева в диалог с этим текстом не вступала. Тем не менее работа Минского, «заложившая основу декадентского аморализма» и воспринимавшаяся в свое время как манифест «декадентского эстетического нигилизма» (Ханзен-Лёве А. Русский символизм. С. 163), объективно находилась в начале той традиции внутри русской модернистской эстетики, концом которой можно считать статью (а по замыслу – книгу) Цветаевой.
518
Но намерение есть – всегда (фр.).
519
Хочется заметить, что исследователи, увидевшие в тексте «Пушкина и Пугачева» оправдание реальным жизненным поступкам, реальным деяниям, которые можно квалифицировать как зло, глубоко неправы. Цветаева говорит здесь только о механизмах творчества, о способности художника «заражаться» чарами зла в жизни и, заразившись, переносить эти чары в тексты, заражая ими читателей. Популярная одно время идея о связи текста «Пушкина и Пугачева» с «делом Эфрона» не выдерживает критики не только фактически-хронологической (Цветаева закончила очерк еще весной 1937 года), но и сущностной. Обсуждение зла в поступках людей не является предметом ни этой статьи, ни «Искусства при свете совести». Цветаеву волнует совсем другая тема: загадка репрезентации в текстах зла как добра или того, что по силе своего очарования и притягательности подобно добру.
520
О скандале внутри евразийской верхушки, связанном с публикацией этого приветствия Цветаевой Маяковскому см.: Шевеленко И. К истории евразийского раскола 1929 года // Темы и вариации. Сборник статей к 50‐летию Лазаря Флейшмана. Stanford, 1994 (Stanford Slavic Studies. Vol. 8). С. 395–396 и прим. В базельском архиве Цветаевой сохранился экземпляр первого номера газеты «Евразия» с пометой рукой Цветаевой рядом с публикацией ее приветствия Маяковскому: «За это меня мгновенно выгнали из “Последних новостей”» (Universitätsbibliothek Basel. Handschriften Abteilung. Depositum Marina Cvetaeva, № 9.17a). Действительно, сотрудничество Цветаевой с этой газетой прервалось тогда более чем на четыре года.
521
См. запись в СТ и прим. 769 (СТ, 443 и 606), а также МЦБП, 541. По-видимому, в 1929 году, когда поэма была окончена, Цветаева отложила ее публикацию по настоянию мужа: это был период раскола и кризиса в евразийстве, и С. Эфрон мог просить ее повременить с напечатанием «Перекопа». Затем, зимой – весной 1931 года, Цветаева предлагала поэму в несколько изданий («Числа», «Воля России», «Современные записки»), но они отказались ее напечатать – очевидно, по политическим мотивам. Однако тогда же «Перекоп», по‐видимому, согласилась напечатать газета «Россия и славянство». То, что эта публикация не осуществилась, скорее всего, и было связано с просьбой сестры.
522
См.: ЦВС2, 138–139. Черновые тетради свидетельствуют о том, что поэма была закончена еще позже или вообще осталась незавершенной. В письме к А. Тесковой от 3 июня 1931 года Цветаева ссылалась на просьбу сестры не печатать именно эту поэму (ПТ, 189). Однако соположение разных источников позволяет заключить, что просьба касалась обоих произведений.
523
В рабочей тетради Цветаевой сохранилась запись ее разговора 24 марта 1933 года с одним из редакторов «Современных записок» В. Рудневым. В частности, затрагивался вопрос об издании сборника стихов: «Издать в из<дательст>ве Совр<еменных> Зап<исок>? С удов<ольствием>, дорогая, только дайте нам деньги: мы авторам не платим, они – нам. Да. Вы, м<ожет> б<ыть> дум<аете>, что Шестов за св<оего> Иова от нас что-н<и>б<удь> получил? Он нам заплатил 7 тысяч. А три тома Милюкова, – Вы м<ожет> б<ыть> думаете?.. За Милюкова заплатило голландское прав<ительство>. Откуда у авт<оров> деньги? У них есть друзья. Меценаты. Найдите мецената – с удовольствием напечатаем» (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 23, л. 64).
524
не снисхожу (фр.).
525
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 127. (Запись ноября 1935 года.)
526
Даты, проставленные под стихами этого времени, иногда фиксируют начало и окончание работы над стихотворениями, иногда – только окончание.
527
Часть стихотворений цикла дорабатывалась Цветаевой позже, однако первое и пятое стихотворения (по СП) были завершены уже в это время, а остальные были близки к завершению.
528
Ср. также: Dinega A. A Russian Psyche. P. 220–222.
529
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 7, л. 135 об.
530
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 24, л. 72 об.
531
См. разборы этого стихотворения: Ревзина О. Г. Цикл «Куст» и поэма «Автобус» // Ревзина О. Г. Безмерная Цветаева. С. 214–236; Зубова Л. «Место пусто» в поэзии Марины Цветаевой // Literary Tradition and Practice in Russian Culture: Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mukhailovich Lotman / Ed. by V. Polukhina, J. Andrew, and R. Reid. Amsterdam: Rodopi, 1993. – P. 177–191; Грельз К. Удар тишины – «Куст» Марины Цветаевой // День поэзии Марины Цветаевой: Сб. статей / Под ред.Б. Леннквист и Л. Мокробородовой. Turku, 1997. С. 58–84 (Russica Aboensia. 2). Связь образа куста с Неопалимой купиной в этом стихотворении впервые отмечена в статье Л. Зубовой.
532
Жуковский В. А. Избр. соч. М.: Художественная литература, 1982. С. 119–120.
533
Пастернак Б. Собр. соч. Т. 1. С. 226.
534
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 24, л. 98. При прежних публикациях этого тетрадного наброска на месте словосочетания «пятая стихия» значилась ремарка «неразборчиво» (СС7, 466).
535
Именно тогда были написаны «Разговор с гением» и «Наяда». О стихотворениях этого времени, непосредственно связанных с Гронским, см.: Ельницкая С. «Сто их, игр и мод!» Стихи Цветаевой Н. Гронскому, 1928 // Ельницкая С. Статьи о Марине Цветаевой. С. 109–173.
536
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 139.
537
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 27, л. 1.
538
Там же, л. 2.
539
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 78.
540
О структуре и темах поэмы см.: Ревзина О. Г. Цикл «Куст» и поэма «Автобус».
541
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 7, л. 134 об.–135.
542
О «пастернаковском» подтексте в поэме писали: Гаспаров М. Л. «Гастрономический» пейзаж в поэме Марины Цветаевой «Автобус» // Гаспаров М.Л. Избранные труды: В 3 т. М.: Языки русской культуры, 1997. Т. 2. С. 162–167; Ронен О. Часы ученичества Марины Цветаевой // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 177–190; Ельницкая С. О некоторых особенностях цветаевского анти-гастрономизма и неприятия «строительства жизни» в ее лирике 1930‐х годов // Ельницкая С. Статьи о Марине Цветаевой. С. 174–253.
543
РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 11, л. 4–5.
544
См. упоминание: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 97 об.
545
См. упоминание: Там же, л. 87 об.
546
чужой/чужая здесь (англ.); в оригинале – неверная орфография («hear»).
547
зачем? чего ради? (фр.).
548
По письмам С. Я. Эфрона к сестре, Е. Я. Эфрон, можно пунктирно проследить развитие семейных планов отъезда. Осенью 1933 года Эфрон сообщал ей, что может «довольно скоро» вернуться и что приедет он «один», т. е. без Цветаевой (СИП, 356–357). В августе 1934 года он сетовал: «Почти все мои друзья уехали в Сов<етскую> Россию. Радуюсь за них и огорчаюсь за себя. Главная задержка семья, и не так семья в целом, как Марина. С нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что и делать» (СИП, 358). Весной 1935 года он вновь упоминал, что «с Мариной прямо зарез» (СИП, 359), но в декабре того же года уже высказывал осторожную уверенность, что «через год-два» Цветаеву можно будет «перевезти обратно, только не в Москву, а куда‐нибудь на Кавказ» (СИП, 363). Наконец, в марте 1936 года, невнятно упоминая о том, что «все новые и новые препятствия мешают [его] отъезду», Эфрон неожиданно сообщал: «Очень может случиться, что Марина с Муром приедут раньше меня» (СИП, 364). Естественно, во всех этих письмах не упоминалось о том, что отнюдь не одни семейные обстоятельства (и даже не они в первую голову) препятствовали возвращению Эфрона в Россию на протяжении ряда лет. В 1931 году, после того, как он подал заявление о получении советского гражданства, ему – очевидно, в качестве «платы» за возвращение – было предложено стать сотрудником советской разведки за рубежом. Согласившись на это сотрудничество, Эфрон рассчитывал быстро заслужить право на возвращение в Россию; однако планы его работодателей были иными, и он должен был оставаться во Франции и выполнять задания разведки вплоть до провала, последовавшего за убийством И. Рейсса.
549
Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 340.
550
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 708.
551
Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Анн Арбор: Ардис, 1978. С. 108.
552
Об обстоятельствах «дела Эфрона» и о его дальнейшей судьбе в СССР см.: Кудрова И. Путь комет. Т. 2. С. 466–517; Т. 3. С. 5–146. См. также: Huber P., Kunzi D. Paris dans les années 30. Sur Serge Efron et quelques agents du NKVD // Cahiers du monde russe et soviétique. 1991. T. XXXII (2). Avril – juin. P. 285–310 (в приложении к этой статье воспроизводятся протоколы допросов Цветаевой французской полицией в октябре 1937 года, которые приведены по‐русски в третьем томе книги И. Кудровой).
553
В письме к Тесковой от 7 июня 1939 года (за пять дней до отъезда из Франции) Цветаева, в частности, писала: «Спасибо за ободрение, Вы сразу меня поняли, всю мою глубочáйшую неохоту, но неохота – иногда – пуще воли (пословица: «охота пуще неволи»), выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась» (ПТ, 372).
554
События и обстоятельства последних двух лет жизни Цветаевой, после ее возвращения в СССР, подробно документированы в кн.: Коркина Е. Б. Летопись жизни и творчества М. И. Цветаевой. Ч. III: 1939–1941. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2014.