Книга: Фолия
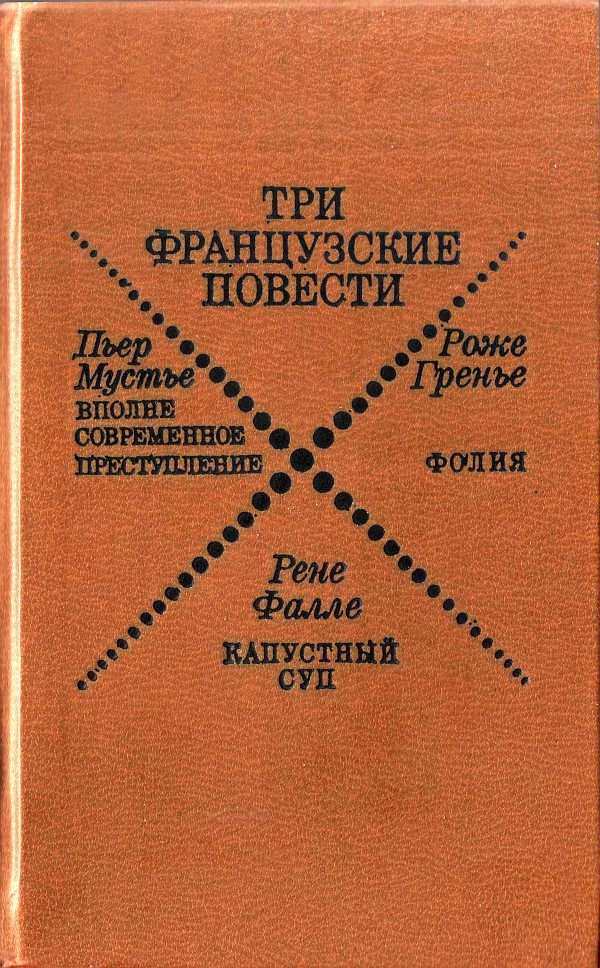
Фолия
Roger Grenier
LA FOLLIA
Перевод Л. Завьяловой
Редактор M. Финогенова
© Éditions Gallimard, 1980
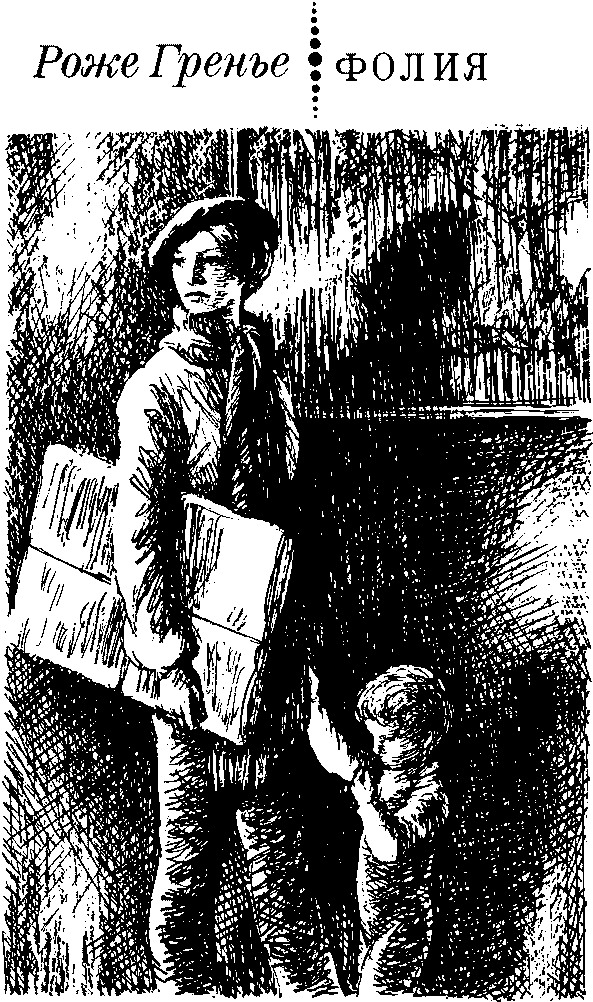
…Эти прелестные чаконы, безумия Испании…
Senza alcun ordine la danza sia: chi il minuetto, qui la follia, qui l’alemanna farai ballar.
Им было лет по тринадцать-четырнадцать, и все четверо учились в лицее Лафонтен. Как-то в воскресенье они отправились на дневной сеанс в кино «Орфелен» в Отейе. Шел фильм «Скала буйных ветров» с Лоуренсом Оливье. В антракте Валери Понс купила пакетик конфет. Да, в памяти Нины Ору запечатлелось, что их купила именно Валери Понс. Эта худышка только и думала о еде. Девочки заметили, что на каждой конфетной обертке написано какое-нибудь предсказание. Когда Нина прочла: «Вы выйдете замуж дважды», подруги захихикали и заверещали. Валери Понс было предсказано: «Вы проживете 99 лет». Они сочли, что это не слишком интересно, но расхохотались, уже настроившись на смешливый лад. Наступила очередь Барбары Крюзон. Нина снова увидела перед собой ее лицо — такое невыразительное, — прямые волосы и челку. «Вас ждет блестящая артистическая карьера». Ерунда. Женевьева Вико еще не развернула свою конфетку. Подружки торопили ее, и она впопыхах надорвала обертку. Наконец, расправив бумажку на ладони, Женевьева прочитала: «Вы станете миллионершей». Девочка, пожав плечами, тряхнула темными локонами:
— А я уже миллионерша! — Она сунула конфетку в рот, и лукавые складочки затаились в уголках ее губ.
Вместо того чтобы сразу забыть эту сценку, Нина Ору запомнила ее навсегда. С того дня миллионеры не шли у нее из головы. Она не могла забыть, с какой неподражаемой простотой Женевьева Вико заявила, ни капельки не задирая нос и не стыдясь, словно речь шла о вещах самых обыденных, хотя вместе с тем и необычайных: «А я уже миллионерша!» Хотя Нина жила в Шестнадцатом округе, лишь много лет спустя ей довелось наблюдать жизнь настоящих богачей. Отец Нины был инженером в Дорожном ведомстве. Сразу после войны его перевели в Ажан главным инженером. Примерно в это же время Нина закончила лицей. Она не поехала следом за родителями, а осталась в Париже учиться на курсах декоративного искусства. Затем она устроилась в фирму, где стала работать под началом известного декоратора. В двадцать четыре года она вышла замуж за художника Алексиса Валле. Чтобы заработать на жизнь, он поступил оформителем на полставки в большой универсальный магазин. После двух лет супружеской жизни Нине и Алексису стало ясно, что между ними нет настоящего взаимопонимания, хотя они и не желали в этом себе признаваться. Нина, которая считала, что искусство, безусловно, требует жертв, в конце концов пришла к выводу, что ее муж слишком долго «пробивается» как художник и что жертвы тут, может быть, вовсе ни к чему. Похоже, живопись никогда не принесет Алексису ни славы, ни денег. Он и сам не был уверен, что когда-нибудь станет великим мастером или хотя бы просто неплохим художником. Возможно, он всего лишь один из двадцати тысяч пачкунов, поселившихся в Париже. Во всяком случае, он предпочитал не задаваться подобными вопросами. Живопись, которая поначалу была для него привычкой, в конце концов стала необходимостью. Рисовал он, в общем-то, ради собственного удовольствия, что особенно выводило из себя его жену. То были послевоенные годы, когда жилищному кризису, казалось, не будет конца. Алексис отдавал себе отчет в том, что Нине надоело жить в двух комнатах, заставленных картинами, красками и прочими материалами, с малюсенькой кухней, без ванной, с крошечной туалетной комнатой, где невозможно было даже оборудовать душ. Кроме того, квартира эта находилась в центре Семнадцатого округа, в скучнейшем квартале, в доме, затерявшемся где-то между проспектом Вилльерс и бульваром Мальзерб. Нина была в полном смятении. Она не могла оборудовать по своему вкусу две комнаты, превращенные в мастерскую, хотя и была художником по интерьеру.
А что думал он, Алексис Валле, о своей супруге? С тех пор как рассеялась иллюзия любви и миновали дни, когда возлюбленную скорее выдумываешь, нежели оцениваешь трезво, он хладнокровно взвешивал достоинства и недостатки своей спутницы жизни. В конце концов все женщины далеки от идеала. Он еще не вполне понимал, что рассуждения такого рода разрушительнее любой страсти.
Однажды вечером Нина пришла с работы очень возбужденная.
— Знаешь, кого я встретила? Женевьеву Вико.
— Женевьеву Вико?
— Да, «миллионершу», которая училась вместе со мной в лицее Лафонтен. Да я тебе говорила о ней сто раз. Впрочем, теперь она и в самом деле похожа на миллионершу больше, чем когда бы то ни было. Кажется, вышла замуж за какого-то сказочно богатого типа. Сегодня утром патрон объявляет нам, что получил крупный заказ — особняк на авеню Анри Мартена, который предстоит весь отделать заново — сверху донизу. Он ведет нас на стройку. Я начинаю ползать на четвереньках — измерять комнату, и тут вдруг появляется женщина, останавливается в дверях, словно боится мне помешать, поднимаю голову и узнаю Женевьеву. Оказывается, это на нее мы будем работать.
— А она тебя узнала?
Нина резко вскинула голову, словно вопрос этот был неуместен.
— Конечно. Мы расцеловались. Патрон был совершенно потрясен.
Шли дни, и Нина сообщала Алексису новые подробности о своей бывшей однокашнице. Мужем Женевьевы оказался коммерсант по имени Шарль Тремюла, занимавшийся внешнеторговыми сделками.
— У меня есть два пригласительных билета на футбольный матч, — однажды объявила Нина. — Мне предложила их Женевьева. Вдобавок ко всему ее муж еще и президент спортивного клуба. Это очень ответственный матч в розыгрыше кубка. Если команда выиграет, она попадет в полуфинал.
— Ну, раз это доставит тебе удовольствие…
— Ты ничем не интересуешься. Я так и сказала Женевьеве: Алексис — медведь, не уверена, удастся ли мне оторвать его от живописи. В конце концов, неужели тебе не хочется познакомиться с моей подругой после того, как я тебе о ней столько рассказывала? Мне, например, очень хотелось бы увидеть ее мужа. Он ведь еще ни разу не появлялся на стройке. Невероятно занятой человек! Похоже, он страшно устает, буквально падает от усталости. Каждую минуту ему приходит в голову новая идея. Так, недавно он создал сеть прачечных-автоматов по всей Франции, и все они оборудованы американскими стиральными машинами.
— Я его непременно поблагодарю. Спасибо, мсье, благодаря вам я ношу чистое белье.
— Не нужно презирать всех на свете. Ты считаешь себя настолько выше других, что на остальных тебе наплевать. Тебя ничем не проймешь. Ты погряз в себялюбии и снобизме. А между прочим, этот человек с его прачечными облегчает нам жизнь и наверняка способствует нашему прогрессу больше, чем какой-то там художник.
Надувшись, Нина удалилась в другую комнату. Но вскоре вернулась.
— Так или иначе, а на этот матч пойти надо. Было бы очень невежливо не воспользоваться приглашением.
Таким образом, в воскресенье днем они сели в поезд на вокзале Сен-Лазар и отправились на стадион в Коломб. Их усадили на трибуне для почетных гостей, неподалеку от Женевьевы и Шарля Тремюла. Они поздоровались. Глаз художника быстро схватывал особенности каждого лица, но внешность бизнесмена Алексис Валле нашел ничем не примечательной, мужчина как мужчина, только несколько склонен к полноте. Он оказался старше своей жены, очевидно, старше и их с Ниной, правда, лет на пять, не больше. Женевьева Тремюла была брюнетка с короткими вьющимися волосами, но с такой светлой кожей, какая редко встречается у брюнеток, с большими черными глазами — в этом он убедился несколько позже, когда она сняла солнечные очки. Ростом она была немного ниже Нины.
Апрель радовал одним из своих первых погожих деньков, когда в бледно-голубом небе плывут легкие облачка. Мадам Тремюла сняла жакет и осталась в блузке с короткими рукавами. Руки и ноги у нее отличались необыкновенным изяществом.
Какое удовольствие было сидеть на этой трибуне для избранных! Пока шел матч, Алексис расслабился, следя за движением желто-белых и сине-красных игроков на зеленом прямоугольнике футбольного поля — настоящий калейдоскоп. Это было похоже на «движущуюся картину», где яркие детали то собираются вместе, то разбегаются в разные стороны. Солнце садилось, и тень от трибуны, закрывшая часть поля, перерезав его по диагонали, еще более усложняла картину, которая действовала на Алексиса гипнотически. Он воображал себя Раулем Дюфи[2], который с восторгом передвигает эти цветные пятнышки. Затем он попытался представить себе, как это поле и две команды из одиннадцати игроков могли бы выглядеть на гобелене Люрса[3]. Команда Тремюла вышла победительницей. Алексис и Нина пошли поздравить своих благодетелей и поблагодарить.
— Нужно отпраздновать это событие, — сказал Тремюла. — Милости просим к нам, если вы не заняты.
— Мы не хотели бы навязывать вам свое общество, — пробормотал Алексис.
— Вы приехали на машине? Нет? Тогда поедемте с нами.
Они возвращались в Париж в черном «кадиллаке», бесшумно катившем по булыжным мостовым окраинных улиц. Тремюла пожелал сесть рядом с шофером, Алексиса усадили между двумя дамами на широком мягком заднем сиденье. В машине пахло кожей, сигаретами, духами мадам Тремюла. Время от времени коммерсант оборачивался к своим гостям с какой-нибудь репликой. Он изъяснялся как-то робко, слегка заикаясь.
— Как ни странно, мы с вами находимся в одинаковом положении. Вы знаете обо мне только то, что моя жена могла рассказать вашей. Я тоже знаю о вас только то, что ваша жена рассказывает моей.
— Как ты все усложняешь! — заметила Женевьева Тремюла.
Ожидая, когда закончится отделка особняка на авеню Анри Мартена, Тремюла продолжали жить в огромной квартире на авеню Петра I Сербского. У них собралось человек тридцать, в том числе несколько игроков из команды, одержавшей победу в сегодняшнем матче, в частности, ее вратарь — знаменитый Кристиан Марманд, многократный чемпион, принимавший участие в соревнованиях международного класса. Алексис узнал также тучного мужчину, выделявшегося среди присутствующих высоким ростом, — популярного эстрадного комика Батифоля, заглянувшего ненадолго между утренним и вечерним представлениями в «Бобино», где он блистал в это время. Метрдотель разносил фужеры с шампанским и бокалы с виски — большие хрустальные бокалы с тонкой гранью, который свидетельствовали о роскоши. Мадам Тремюла и Нина исчезли, очевидно, одна из них куда-то увела другую. Тремюла, проходя мимо Алексиса, поднял бокал.
— За ваши успехи, художник!
— Я работаю, — сказал Алексис, — я в вечных поисках… Это все, что я могу пока что сказать о себе.
Тремюла спросил, опять с некоторой робостью:
— Ну, а как вам понравилась моя жена?
— Я был наслышан о ней от Нины. Она прекрасно помнит ее со школьных времен. Поэтому и у меня создалось впечатление, будто я тоже чуть-чуть знаком с нею. Она красивее, чем я себе представлял.
— Но очень, очень хрупка.
Алексис не знал, что на это ответить. Впрочем, бизнесмен уже удалился к своим гостям. Через некоторое время опять появилась Женевьева Тремюла в сопровождении Нины. Теперь она была в черном декольтированном платье, удачно оттенявшем ее молочно-белую кожу. Она обошла приглашенных, заполнивших гостиную. После того, что сказал ее муж, лицо Женевьевы показалось Алексису грустным, несмотря на лукавые, нежные складочки в уголках рта, которые создавали некое подобие улыбки. Локоны, очевидно, тоже должны были придавать ей вид веселой легкомысленной куколки, но глаза, увеличенные гримом, переходили с одного гостя на другого и, казалось, взывали о помощи. Нина заново подкрасилась. Губы ее блестели, глаза сияли, и вся она светилась каким-то новым светом. Алексису показалось, что в ее лице появилась даже какая-то жесткость.
Люди заглядывали в дом ненадолго — выпивали бокал-другой и исчезали. Прошло минут двадцать, и Алексис подумал, что пора и ему попрощаться с хозяевами, но заметил, что Нина увлечена беседой с Кристианом Мармандом, футбольным вратарем. Каждый держал в руке по бокалу шампанского. Приблизившись к ним, Алексис услышал, как всемирно известный чемпион произнес:
— Время для меня — это девяносто минут, в течение которых я гоняюсь за мячом. Мое прошлое не представляет интереса, а вообразить себе будущее я не в силах. Но в течение этих кратких минут на стадионе, пока мое тело и мой ум выдают лучшее, на что они способны, пока крики болельщиков, опьяняя, влекут меня вперед, я как бы делаю шаг в бессмертие.
— Понимаю, — сказала Нина.
Алексис отошел. Видя, что он остался в одиночестве, мадам Тремюла подошла, чтобы занять гостя. Возможно, она просто выполняла свой долг хозяйки дома, как только что это делал ее муж.
— Я рада вас видеть наконец. Вы действительно так обаятельны, как утверждает Нина?
— Неужели она говорила обо мне хорошо?
— Да. Очень.
— А мне просто не верится, что я вижу вас воочию. Я так много наслушался от жены о вас, что вы в моих глазах стали едва ли не героиней легенды.
— Я? Но я ничего особенного собой не представляю.
Она удалилась, оставив позади себя запах духов, пряный запах, какого ему еще никогда не приходилось вдыхать, — должно быть, потому, что духи эти были слишком дороги для женщин его круга. Алексис отметил, что у нее изящная походка. Хотя высокой ее не назовешь, похоже, у нее длинные ноги. Как хотел бы он влюбиться в такую женщину! Потом он подумал, что ему ничего не стоит воспылать страстью — ослепительная внешность и несколько любезных фраз, ничего не значащих в устах светской львицы и искусно оборванных на полуслове в соответствии с правилами светского общества. И еще это самоуничижение, то ли искреннее, то ли притворное: «Я ничего особенного собой не представляю».
Появилась толстая рыжая девочка лет шести или семи. Она пришла поцеловать маму с папой и приветствовать знакомых гостей. Всем остальным она сделала глубокий реверанс, и Алексис с удивлением подумал: вот ведь попал в такой дом, где девочки приучены делать реверанс. Жаль только, что она такая толстушка!
Батифоль подошел к Женевьеве Тремюла, обнял ее за талию и слегка приподнял.
— Как он глуп! — смеясь, сказала она.
Батифоль фальцетом повторил за ней:
— Как он глуп! Как он глуп!
Этими восклицаниями комик обычно пересыпал свои монологи, чем в основном и был знаменит. Стоило заговорить о Батифоле, как кто-нибудь тут же подхватывал: «Как он глуп! Как он глуп!»
Но девочка, сжав кулачки, наступала на Батифоля:
— Отпусти ее! Сейчас же отпусти!
Батифоль сделал вид, будто намеревается унести свою добычу, и толстушка преследовала его, пока он не поставил ее маму на пол.
— Кати очень ревнива, — объяснила гостям Женевьева.
После этот инцидента толстая девочка исчезла так же неожиданно, как и появилась. Худая брюнетка с короткими прямыми волосами, которую Алексис раньше не заметил, обрушилась на комика с упреками:
— Ты получаешь удовольствие, поддразнивая Кати. По-моему, это отвратительно. Сколько бы я ни возмущалась, это сильнее тебя — ты каждый раз снова принимаешься за свое.
— Оставь его, Фаншон, — сказала Женевьева Тремюла. — Он не столько зол, сколько глуп.
И все опять зашумели:
— Как он глуп! Как он глуп!
Почти все гости разошлись, и Алексис снова надумал откланяться, но теперь в гостиной оставалась очень небольшая компания — супруги Тремюла, Батифоль, его собственная жена и Кристиан Марманд, который взял Нину за руку. Они хором запели старинный вальс Фрагсона — должно быть, одну из своих излюбленных песенок:
«Ах, сударыня, я в восхищенье!
Как в раю я блаженствую тут».
«Сударь, — шепчет она без смущенья, —
Это гнездышко — скромный приют».
Я в ответ ей: «Сударыня, право,
Таково уж любви волшебство,
Что влюбленным, поверьте, по нраву
Это гнездышко больше всего».
Алексис наблюдал, как мадам Тремюла вместе со всеми распевает двусмысленные куплеты. Возможно, она немного выпила. Она пела, покачивая в такт головой. Как могла эта принцесса произносить такие пошлые слова:
«Ах, сударыня, я в восхищенье!
Подле вас умереть был бы рад!»
«Вижу, — шепчет она без смущенья, —
Вам по вкусу мой маленький сад»[4].
Разлучив Нину с Мармандом, Батифоль закружился с нею в вальсе. Она, казалось, была в упоении. Допев песенку, все весело зааплодировали. Фаншон, жена Батифоля, объявила, что ему пора уходить.
— Смотри, опоздаешь к началу представления, — добавила Женевьева Тремюла.
— Ничего страшного, без меня не начнут. Налей-ка мне последнюю рюмочку.
— А ты, — обратилась Фаншон к Кристиану Марманду, — вспомни-ка о своих детках, которые плачут дома.
— Дорогие мои белокурые головки! — ответил футболист. — Думаешь, и это тоже смешно? Не отравляй мне вечер. Ведь сегодня мы одержали победу.
Когда Батифоль удалился, Тремюла сказал Алексису:
— Занятный тип. Батифоль тоньше, чем кажется, если судить по эстрадному номеру, с которым он выступает. Его настоящее имя Леонар де Сен-Маме. Он маркиз. В прежние времена у него был бы свой замок и псовая охота. Батифоль любит выпить, но человек не злой, и готов на все, лишь бы развлечь Женевьеву.
Было непонятно, радует ли Тремюла это знакомство с аристократом или он находит удовлетворение в том, что достиг определенных высот, в то время как представитель бывшего правящего класса низведен до положения шута?
— А его жена?
— Фаншон — актриса. Закончила консерваторию, но после этого так и не совершила в искусстве ничего сколько-нибудь значительного. Две-три маленькие роли в театре — вот и все. С тех пор как она стала жить с Батифолем, она уже не рвется на сцену. Целиком поглощена им, а это не всегда легко. Парень он славный, но в любую минуту может выкинуть какой-нибудь номер.
— Трогательно видеть, как ваша дочь отважно бросается на этого великана.
— Очень боюсь, что Кати меня не любит. И поэтому чрезмерно любит свою маму.
— Нам тоже пора. Спасибо за чудесный день.
— Надеюсь, еще увидимся.
Алексис спросил себя, что это — простая формула вежливости или искреннее пожелание. А Шарль Тремюла добавил:
— Люди, с которыми мне приходится общаться, не очень-то интересны, и моя жена страдает от того, что у нее мало настоящих друзей.
Женевьева Тремюла проводила Алексиса и Нину. Женщины расцеловались. Нина начала спускаться по лестнице, Алексис, встав навытяжку, церемонно протянул на площадке руку хозяйке дома. Черные глаза молодой женщины блестели в полумраке. Она потянулась к нему и уже на пороге полуоткрытой двери, прежде чем повернуться к художнику спиной, дважды коснулась его щеки губами, не проронив при этом ни слова.
— Давай возьмем такси, — взмолилась Нина, когда они очутились на улице. — После «кадиллака» очень тяжко тащиться в метро.
Она была возбуждена и чуточку пьяна.
— Видал! Меня пригласил танцевать Батифоль — ведь он знаменитая звезда мюзик-холла! И этот футболист! Он показался мне очень интеллигентным. Интересуется всем — литературой, джазом. Мне ужасно нравятся мужчины подобного типа. Такой способен увлечь кого угодно… Впрочем, на обращай внимания на то, что я болтаю, — я выпила чересчур много шампанского.
Но она продолжала опьяняться словами и никак не могла умолкнуть. Дома Нина сразу же улеглась в постель и прижалась к нему.
— Ну как тебе понравились мои друзья? — спросила она наутро.
— В этом я еще не разобрался. Не люблю толстосумов. Впрочем, бедняков я люблю не больше.
— Ты никого не любишь, и я это прекрасно знаю. За твоей любезностью кроется всего лишь равнодушие. Но ты убедился, что у них собираются только люди незаурядные — актеры, знаменитости.
— А твоя подруга — настоящая красотка. Должно быть, вы составляли занятную компанию в лицее Лафонтен. Хотел бы я ее тогда увидеть.
— Не знаю, как обстоит с этим делом сейчас, но в то время в нашем классе лишь три-четыре девочки уже крутили романы с мальчиками. В том числе и Женевьева. Рядом с ней я была желторотым птенцом.
Нина и Алексис стали частыми гостями в доме Тремюла. Коммерсант выдавал себя за великого знатока по части вин и самолично спускался в погреб выбирать подходящие к ужину местные сорта. Случалось, он делал это, когда гости были уже в сборе. И по тому, как он поднимался с бутылками, все понимали, что он черпает в этом удовольствие, которого никому не согласился бы уступить. Алексис в этих делах был полнейшим профаном. Он даже не решался похвалить Тремюла, боясь, что скажет что-нибудь не то. Обе супружеские пары стали бывать вместе в театре, кино, а иной раз и в ночных ресторанах на Елисейских полях. Беседуя с Тремюла, Алексис открывал для себя деловой мир, о котором до этого он имел лишь смутное и, возможно, совсем неверное представление.
— А между тем здесь все проще простого. Я руководствуюсь весьма распространенным суждением, что между американской цивилизацией и нашей существует разрыв в десять лет. Так что достаточно перенести сюда то, что уже вошло в обиход там и пока неизвестно у нас, нужно только заручиться помощью хороших адвокатов, чтобы у тебя не украли твою идею… или чтобы никто не смог обвинить тебя в краже чужих.
— Именно таким образом вы и ввели у нас стиральные автоматы?
— Они просуществуют недолго. Пройдет еще несколько лет, и каждая семья приобретет стиральную машину. Нужно быть готовым ликвидировать все в тот момент, когда я выжму из этого все, что возможно.
— Что вы подразумеваете под словом «ликвидировать»?
— Перепродать их людям, которые еще не уразумели, что эра стиральных автоматов кончилась.
Временами контраст между его спокойным, чуть заикающимся голосом и тем, что он говорил, вызывал у Алексиса мурашки.
— Одним словом, — понимающе кивнул Алексис, — в основе вашего успеха — разрыв во времени между Америкой и Европой.
Тремюла вежливо улыбнулся.
— Единственная неприятность заключается в том, что, когда я играю со временем, мне невольно приходится задумываться над тем, что и я не вечен, да, к великому сожалению. Мое дрянное сердце похоже на неисправные часы, которые работают с перебоями. В один прекрасный день оно остановится, причем остановится навсегда.
Смущенный этим признанием, Алексис заметил:
— В тот раз, когда мы были у вас в гостях, Марманд тоже излагал свою теорию времени.
— В самом деле?
Женевьева, казалось, спешила получше узнать художника и хотела, чтобы и он узнал ее. Ее признания оборачивались тревожным допросом, словно она пыталась разобраться в себе самой. Похоже, она постоянно требовала, чтобы ей подсказывали, ради чего следует жить.
— Моя мама была артисткой, музыкантшей. Если б она не принадлежала к богатой семье, мама наверняка сделала бы блестящую карьеру и стала бы виртуозной пианисткой. Она, видите ли, родилась в Штатах. В Бостоне. Общалась только с поэтами, художниками, музыкантами. И вот, чтобы она не почувствовала себя оторванной от артистической среды, папа решил поселиться в Париже. По отцовской линии мы родом из Туке, с севера Франции. В их семье были торговцы мукой и пивовары. У меня и поныне есть там собственный дом. А в Лилле живут мои старший брат и сестра. Если бы не мама, и я бы навсегда застряла там. Не стала бы парижанкой, не училась бы в лицее с Ниной, не познакомилась бы с вами…
И Женевьева покачала головой, тряхнув своими короткими вьющимися волосами.
— В сущности, богатство помешало маме стать настоящей артисткой. Ну и, наверное, то, что она умерла слишком молодой. Когда она заболела, ее по совету врачей отправили в санаторий. Она уехала в Швейцарию, в Саас Фее. А полгода спустя умерла. Я была тогда совсем еще маленькой и помню ее плохо.
— А отец?
— Женился во второй раз. Он умер два года назад.
Алексис подумал, что Женевьева, вероятно, любит воображать себя другом художников, как и ее мать, и, возможно, тоже считает себя больной. Молодая женщина расспрашивала его не о том, что он рисует, а о том, что побуждает его писать картины. Что значит для него художественное творчество? Быть может, он не в силах перенести мысль о смерти и творчество помогает ему жить? Алексис поначалу отвечал ей как мог, включившись в игру, но потом его загнало в тупик однообразие ее вопросов, и почему-то захотелось ободрить Женевьеву. И приблизиться к ней.
— Теперь, когда я лучше познакомилась с ними, — сказала Нина, — я поняла, что Шарль Тремюла — замечательный человек, несмотря на свой неприступный вид. А вот Женевьева страшная зануда, которая только и умеет, что делать его жизнь невыносимой.
— Так или иначе, но он очень любит жену. И дочь тоже. Жаль только, что она такая толстушка! Всякий раз, когда он начинает говорить о своей жене или смотрит на нее, он вдруг становится таким незащищенным, и это очень трогательно.
— Да, — мечтательно проговорила Нина. — Надо быть женщиной, чтобы почувствовать такие вещи, но мне сразу стало ясно, что на этого мужчину нельзя возлагать никаких надежд. Женевьева его просто-напросто околдовала. Он никогда ее не оставит. Нечего даже тратить силы. Непонятно, что только он в ней нашел.
— У меня такое чувство, что ты разлюбила свою подругу.
— Однако не все могут сказать о себе то же самое. Думаешь, я не вижу, как ты увиваешься вокруг нее?
— Я веду себя как благовоспитанный человек — вот и все. Иначе ты первая стала бы меня корить. Или ты хотела бы, чтобы я притворялся, будто совершенно к ней равнодушен?
— Будь уверен, я хорошо ее знаю. Понимаешь, она просто не может видеть мужчину и не попытаться его увлечь. И при всем том вечно изображает принцессу-недотрогу. В их доме собираются не гости, а придворные. И все должны притворяться, будто поклоняются ей.
— Напротив. Я нахожу, что временами вид у нее какой-то приниженный.
— Приниженный! Скажешь тоже!
— Она заявила: «Я ничего особенного собой не представляю!»
— И ты поверил ей?
— По-видимому, ей нелегко живется.
— Мне бы ее миллионы, уж я-то не стала бы жаловаться.
Семейство Тремюла проводило часть июля и август в своем поместье, в Туке, но коммерсанту приходилось частенько наведываться в Париж.
Алексис и Нина поехали отдыхать на юг. Нине очень хотелось попутешествовать, но Алексис предпочел обосноваться на одном месте и рисовать.
В сентябре Тремюла перебрались в свой особняк на авеню Анри-Мартен, который был наконец отделан. Они наняли побольше прислуги. У них теперь был даже привратник — краснолицый великан, русский по происхождению, некий Каплунцов. Увидев его в первый раз, Алексис так оробел, что невольно отпрянул, словно намереваясь ретироваться. И только презрительный взгляд Нины заставил его сделать шаг вперед. Но сколько бы раз Алексис не бывал на авеню Анри-Мартен, он всегда испытывал страх, когда, войдя в ворота, шел по аллее сада, — и все это из-за Каплунцова.
Вскоре после переезда Тремюла пышно отпраздновали новоселье. Гостей пригласили так много, что в доме началась невообразимая сутолока. Никакой возможности ни увидеть кого хочешь, ни поговорить с кем бы то ни было.
— Они очень симпатичные люди, — сказал Алексис. — И я люблю встречаться с ними в тесном кругу. Но большие приемы им явно не удаются.
Тремюла опять устроили праздник — на сей раз встречу Нового года. И снова, проходя мимо Каплунцова, Алексис почувствовал, что его охватывает робость, едва ли не страх, — он видел в этом детине-портье бывшего офицера деникинского воинства или, еще того хуже, армии барона Унгерна, отъявленного черносотенца. Словно в подтверждение теории Алексиса по поводу вечеров, устраиваемых их новыми друзьями, этот праздник не удался совершенно. Батифоль, который в ту ночь выступал со своим эстрадным номером в нескольких кабаре, отсутствовал, и это не могло не сказаться на общем настроении. Его жена, Фаншон, пришла одна. С этим темным тоном на лице, в юбке с высоким разрезом она выглядела очень эффектно и была красива той возбуждающей красотой, которая свойственна худощавым женщинам. Увидев ее рядом с Женевьевой, Алексис был поражен контрастом: аристократка и женщина из народа. Движения, жесты, модуляции голоса, казалось, были отработаны в течение многих лет, и все-таки этот цветок оставался диким, несмотря на все веяния моды.
Алексис спросил Шарля Тремюла:
— Как вы познакомились с Батифолем?
— В полку. Такое иногда случается. Он пользовался большой популярностью. Собрал группу артистов-любителей и пригласил меня. Я тогда умел показывать несколько фокусов. Теперь я этого уже не смог бы сделать.
Алексис сразу представил себе Тремюла, извлекающего голубей и длинные полотнища из цилиндра, яйца — из рукавов или монеты — бесчисленное множество монет — из носа или ушей какого-нибудь оцепеневшего от изумления солдата.
— Бизнес тоже до некоторой степени сродни фокусничеству.
— Ничего нельзя предугадать… В те времена я думал, что Батифоля ждет блестящая карьера. Что он станет вторым Морисом Шевалье. Но оказалось, что я ошибался. Он сделал себе имя, однако особых высот не достиг. То, чем он стал сегодня, — его потолок, и выше этого он не поднимется. Он слишком порядочен и не умеет за себя постоять. И потом, он теряет голову из-за любой юбки. Поверьте мне, из-за любой.
Тремюла посмотрел в другой конец гостиной, где Фаншон и Женевьева устроились на диване и, заставив тарелками низенький столик, решили перекусить.
— Помню как сейчас: был летний день. Кажется, наш полк находился на маневрах, только не могу вспомнить, где именно. Мы расположились на площади, в тени деревьев, по-моему платанов. Собралась толпа. Батифоль пел. Он уже тогда был полноват. Он один изображал целую бретонскую свадьбу: игроков на волынке, распорядителя, стариков и старух… Как же он умел смешить публику! Боюсь, что с той поры выше этого уровня он не поднялся.
— А как поживает ваша дочурка?
— Хорошо. Сейчас она, естественно, уже отправилась спать. Она и ее мать считают, что жизнь — это борьба. Борьба со мной…
И, пожав плечами, он удалился к гостям. Алексис остался один. Но тут же увидел, что Женевьева и Фаншон знаками подзывают его к себе. Он приблизился.
— Посидите немножечко с нами, — попросила Женевьева.
Он придвинул свое кресло к дивану, на котором сидели молодые женщины. Они предложили ему выпить и закусить.
— Я чувствую себя несчастным, если мне приходится стоять с тарелкой в руке. А вот вы обе умеете расположиться с удобствами.
Фаншон, похоже, выпила шампанского и развеселилась.
— До чего же он мне нравится, твой новый друг, — сказала она Женевьеве. — До чего же нравится!
— Осторожно, он Нинин. И чуточку мой.
Женевьева встала и взяла Алексиса за руку.
— Вы никогда не приглашали меня танцевать.
Когда они танцевали одни посреди гостиной, она сказала:
— У меня создалось впечатление, что вы подружились с Шарлем. А ведь вы с ним такие разные.
— Вы тоже на него очень не похожи.
— А кто вам сказал, что у нас полное взаимопонимание? Чем дольше мы живем вместе, тем более чужим становится для меня этот человек. К счастью, у меня есть дочь. У нас с нею своя, обособленная жизнь. Она очень внимательна к своей маме.
Поскольку Алексис продолжал молчать, размышляя о взаимоотношениях этой хорошенькой женщины с ее дочерью-толстушкой, Женевьева снова заговорила:
— Вы вдруг словно куда-то уходите, совершенно исчезаете. Я давно уже заметила у вас эту привычку. Так и хочется сказать вам: «Не исчезайте».
— Извините.
Алексис снова умолк. Он смотрел на ее тонкие губы с двумя насмешливыми складочками, возможно, она унаследовала их через маму-американку от какого-нибудь ирландского предка. Он спрашивал себя: заинтересовал ли его необычный рисунок ее губ как художника или просто в Женевьеве ему нравится все: и этот рот, и эти большие глаза. И тут же посмеялся над собой: надо же задаваться такими глупыми вопросами! А тем временем партнерша не сводила с него иронического взгляда. Заметив это, Алексис снова извинился.
— Опять то же самое. Когда я был маленьким, меня часто спрашивали: «Ты что, язык проглотил?»
Пластинка кончилась, и Женевьева объявила:
— А теперь очередь Фаншон.
— Вы думаете, она правильно поймет мое молчание? И потом, я плохой танцор.
— Напротив.
Танцуя с Фаншон, он не удержался и сказал:
— Вы не находите, что у Женевьевы временами такой невыносимо несчастный вид, точно она жертва? Похоже, ей нелегко живется.
— Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать. Как раз этим-то она и опасна. Она чуть было не свела с ума Батифоля, этого бедного дурачка. И самое ужасное, что мне же пришлось его утешать, буквально собирать по кусочкам.
Когда Фаншон делала шаг вперед, в разрезе юбки открывалось бедро. Не менее соблазнительным был ее рот — покрытые густо-красной помадой полные чувственные губы. В ней тоже была какая-то затаенная грусть и, пожалуй, даже горечь.
— Ни вы, ни ваша подруга, по-моему, не испытываете слишком большого уважения к своим мужьям.
— Я никогда не брошу Батифоля. Это мой ребенок.
Вскоре обеих женщин увели другие гости, и Алексис снова остался один. Как нередко случалось во время званых вечеров, он почувствовал, что на него внезапно нахлынула тоска. Он стоял в сторонке с бокалом в руке, в противоположном конце комнаты; в неярко освещенном уголке несколько человек полулежали на большом диване и казались издали одним клубком. Нина тоже была там, рядом с ней расположился футболист Кристиан Марманд.
— Что-то не похоже, чтобы вы очень веселились, старина, — сказал Тремюла, появившийся сзади.
— Извините, я раздумывал о своей работе.
— Картина?
— Нет. Роспись на декоративных тарелках. Надо же на что-то жить… Заказ, который мне давно уже пора сдавать. С вашего позволения, я хотел бы вернуться домой и закончить эту работу.
— Работать в первые часы нового года?!
— Лучшего просто не придумаешь, вы не находите?
— Я нахожу, что вы ведете себя неправильно. Всегда следует отдаваться любому занятию до конца. Работать так работать. А развлекаться, так развлекаться.
К ним подошла Женевьева.
— Опять вы беседуете вдвоем!
— Я как раз объяснял Шарлю, что хотел бы уйти. Мне нужно закончить срочную работу.
— Слышите эту мелодию? Она из фильма «Лаура»… Мне бы хотелось, чтобы она всегда ассоциировалась у вас с этими часами, ведь это наше время…
— Да, наше время… Это наводит меня на мысль о Кати. Сейчас она воспринимает жизнь как бы через нас. Но пройдет еще лет десять, и она заживет своей собственной жизнью. И так же как сегодня нам кажется, что мы участники пьесы, насыщенной увлекательными событиями, так в свое время она и ее сверстники станут опьяняться мыслью, будто они тоже играют первую роль в своей пьесе. И то, что с такой силой переживали вы, в лучшем случае послужит ей как декорация, как потускневший дальний план, к которому она повернется спиной, чтобы шагать в свете огней рампы вперед! Извините меня. Я немного выпил и сказал все это спьяну. Мне и в самом деле пора домой.
— А Нина?
Алексис сделал неопределенный жест. Женевьева отошла, и, пока она удалялась, художник перехватил взгляд, каким Тремюла проводил ее, — восторженный, беспокойный и ставший вдруг необычайно нежным. Решив не прощаться, Алексис пошел за пальто.
Отыскивая вещи, он почувствовал, что Женевьева снова стоит у него за спиной.
— Вы решили ускользнуть от меня? — шутливо спросила она.
Однако шутка прозвучала невесело. Женевьева проводила его до двери и почти шепотом добавила:
— Я не говорила вам, что мой муж серьезно болен? У него вконец расшатано сердце. Но он совершенно не умеет отдыхать. Я не помню, чтобы он спал более пяти часов в сутки.
— Если он мало спит, это еще не значит, что он болен. Я слышал, будто все деловые люди — те, кто занят крупным бизнесом, — не нуждаются в длительном сне. Как им такое удается — это их секрет. Я же, наоборот, все время сплю. Я сплю всю ночь, а потом, случается, вздремну еще и после обеда. Во время путешествий стоит мне только сесть в поезд или в машину, и я тут же засыпаю. Так что не приходится ждать от меня ничего путного.
— Значит, как я понимаю, вам просто-напросто хочется спать, бедный мой Алексис? В самом деле, уже три часа ночи. И все-таки уверяю вас, у моего мужа очень больное сердце.
Алексис хотел поцеловать Женевьеву на прощанье в щеку, как обычно, но она приблизила губы к его губам. Он настолько откровенно растерялся, что она сделала ему замечание:
— Какой же вы, однако, недотрога! Не забывайте, что я наполовину американка. У нас так принято прощаться.
Казалось, она почти сердится.
Выскользнув за дверь, Алексис с удовольствием отметил, что не встретился с портье: наверное, тот уже лег спать. Несмотря на новогоднюю ночь, на улице не было ни души. По-видимому, прошел дождь, так как тротуары и мостовые были мокрые, но холода не чувствовалось. Время от времени стремительно проносилась машина, и колеса, попадая в лужи, издавали звук, похожий на пощечину. Алексис шагал по широкому мрачному проспекту, ведущему от площади Этуаль в Семнадцатый округ. На это путешествие у него ушло больше часа. Дома он налил себе чашку растворимого кофе и в самом деле принялся за роспись тарелок. Иногда он с удовольствием предавался этому занятию — своего рода горькой усладе. Даже не хотелось отрываться. Но он обуздывал себя: «Хватит, довольно» — и делал передышку. За полчаса работа заметно продвинулась. Пожалуй, это было единственной отрадой в ту грустную ночь. Да еще поцелуй Женевьевы, даже если ее поцелуй был всего лишь знаком американской вежливости. Она сказала: «Не исчезайте». И правда, в этот вечер он не мог избавиться от своего обычного отсутствующего вида — даже соседство с такой красивой женщиной ничего не могло изменить, — а в конце концов и в самом деле исчез.
Алексиса стало клонить Ко сну, и он улегся в постель. Нина вернулась в семь утра.
Алексис часто говорил своим новым друзьям, что ему неловко постоянно бывать у них в гостях, не имея возможности принять их у себя. А между тем ему так хотелось бы показать им свои картины. Однако их двухкомнатная квартирка и в самом деле была слишком маленькой, захламленной и казалась нежилой. Кончилось тем, что Тремюла однажды сказал:
— У меня есть связи в Управлении недвижимым имуществом. Я займусь вами.
Где только у него не было связей!
Он нашел им нечто такое, на что они не могли и надеяться. Большая мастерская, две спальни и ванная в верхнем этаже старого дома на улице Жан-Ферранди, неподалеку от Шерш-Миди. Требовался лишь небольшой ремонт. Единственное неудобство заключалось в том, что договор о найме с ними заключать не стали. Фирма, выкупившая эту квартиру, постепенно приобретала весь дом с намерением снести его и построить здесь современное здание. Но до этого было еще очень далеко.
И вот художник впервые получил настоящую мастерскую. Он мог разложить свои принадлежности, развесить картины. Когда он раскупоривал бутылку скипидара, чтобы снять лак со старого полотна, резкий запах словно пробудил воспоминания детства. В Савойе мальчишкой он ходил ловить раков в ручье и поливал скипидаром мясо, привязанное к грузилам. Это было запрещено, но так поступали все. Говорили, что скипидар помогает запаху тухлого мяса быстрее распространяться в воде и привлекать раков. Он подумал, что воспоминание о радостных годах детства в новой мастерской — доброе предзнаменование.
Нина и Алексис переехали в апреле. Настал их черед отпраздновать новоселье, которое пало на май. Это был шумный вечер, довольно многолюдный: собрались коллеги художника, коллеги его жены, старые друзья, а также друзья новые, с которыми они познакомились у Тремюла; пришли и Батифоль с Фаншон.
— Как я счастлива, что вы поселились тут, — сказала Фаншон. — На левом берегу, рядом с Монпарнасом. Теперь ты почувствуешь себя настоящим художником. Какое чудо жить в Париже, ощущать себя парижанами!
И она запела, картавя:
Я родилась в предместье Сен-Дени,
Парижская девчонка…
Пришли еще какие-то люди, с которыми Алексис не был знаком, — очевидно, друзья друзей. Суета и толкотня словно служили наглядным доказательством того, что их новое жилище не так уж и просторно, как казалось поначалу. Танцующие сбились стайкой посередине мастерской. Женевьева, присев на краешек стола, беседовала с какими-то незнакомыми гостями. Черные чулки делали еще тоньше ее длинные скрещенные ноги с точеными лодыжками. Черное платье из джерси, не закрывавшее колен, плотно облегало бедра. Алексис пристально разглядывал ее. Он уловил запах духов Женевьевы, несмотря на то что в комнате было очень накурено. Едва собеседники Женевьевы отошли, Алексис приблизился к ней.
— Все хорошо?
— Все хорошо.
Чем меньше они произносили слов, тем больше это походило на сговор.
— Довольно с меня всех этих людей, — сказал он. — Не хотите пройтись по улице?
— Пожалуй.
Она поставила бокал и последовала за ним. Они не спеша дошли до угла, так, словно просто вышли подышать чистым воздухом. Из-за того что тротуары были очень узкие, им пришлось шагать посередине мостовой.
— Вам не холодно?
Женевьева отрицательно покачала головой. Алексис подумал: наверное, она испытывает такое же, как и он, странное удовольствие от того, что покинула этот праздник, откровенно повернувшись ко всем спиной.
— Я начал изучать этот квартал, — сказал он. — Тут есть поразительные уголки. Сейчас убедитесь в этом сами.
Он повел ее на улицу Шерш-Миди. Приоткрыл какие-то ворота — при свете луны вырисовывался большой деревенский двор с бывшими конюшнями. Алексис взял Женевьеву под руку, чтобы помочь ей идти по булыжнику. Пролом в стене, видневшейся в глубине двора, соединял двор с садом. Они опустились на каменную скамью. Вокруг стояла тишина, которую нарушал лишь далекий приглушенный гул, не стихающий в городе никогда.
— Что-то стало холодно, — сказала Женевьева.
Алексис обнял ее за плечи. Потом поцеловал — на этот раз по-настоящему, а не так, как в новогоднюю ночь. И стал гладить под платьем ее длинные ноги.
— Нет, не надо, — сказала она. — Я и так слишком люблю вас.
В ее больших глазах было смятение, точно в глазах животного, которое не понимает, что с ним происходит. Каждую попытку Алексиса она отвергала, защищаясь этой своей фразой: «Я и так слишком люблю вас».
И все-таки кончилось тем, чем и должно было кончиться.
Когда Алексис встал, намереваясь вернуться домой, Женевьева взмолилась:
— Нет, побудьте со мной еще немножко.
Он снова опустился на скамью рядом с Женевьевой, крепко обнял ее и, скользнув рукой под блузку, нежно задержал ее на груди. Но вскоре его обычное благоразумие взяло верх.
— Нас станут искать.
— Да… — с отчаянием в голосе согласилась она.
Прежде чем покинуть ночной сад, она еще раз пылко поцеловала Алексиса — так, словно ей больше не суждено было его увидеть.
Какие-нибудь несколько шагов, и они снова оказались среди шума, сутолоки, в клубах табачного дыма. Фаншон заметила их возвращение.
— Ну, знаете…
Женевьева поцеловала ее. А еще через несколько минут Нина обрушилась на Алексиса:
— Куда ты подевался? Мог бы заняться своими гостями!
— Мне стало душно, и я решил пройтись по улице.
Его угнетала мысль, что началась серия обманов. Шарль Тремюла с Женевьевой подошли проститься.
— Вы меня извините, но я немного утомился и, похоже, в самом деле должен подумать о своем здоровье. Мы непременно придем к вам как-нибудь еще провести спокойный вечерок. И вы покажете нам свои картины. Правда, дорогая?
Женевьева не ответила. Алексису почему-то представилось, что перед ним Мелизанда, уронившая свое обручальное кольцо в глубокий колодец. Тремюла продолжал:
— Наши жены со школьной скамьи друг с другом на «ты». Почему бы нам не последовать их примеру?
— Можно попробовать, — сказал Алексис. — Иногда это получается сразу, а иногда не выходит.
— Ну что ж, я прощаюсь с тобой. До скорой встречи.
Через два дня Женевьева явилась к Алексису с утренним визитом. Погода была пасмурная, и она надела плащ из бежевого габардина, перетянутый в талии поясом. Он подумал: Мишель Морган из «Набережной туманов» или Элина Лабурдет из фильма «Дамы Булонского леса». Поскольку он не спешил заключить ее в объятия, Женевьева принялась расхаживать по мастерской, рассматривая картины — сначала висевшие на стене, потом ту, которая стояла на подрамнике. Алексис Валле переживал период абстракционизма: голубой фон рассекали широкие черные полосы, но они не были прямыми и перекрещивались наподобие решетки старой тюрьмы, а через все полотно шла белая царапина. Она как бы все перечеркивала, отрицая черные полосы, а возможно, просто оттеняла их. И на всех картинах этой серии повторялись голубой фон, черные полосы и белая царапина.
— Вы знали, что сегодня утром я дома один, потому и пришли? — спросил Алексис.
Женевьева не ответила и продолжала рассматривать картины, не вынимая рук из карманов плаща. Обойдя мастерскую, она остановилась перед Алексисом.
— Что происходит? — спросила она. — Вас останавливает дружба с Тремюла? Как можно быть таким старомодным!
— Вот именно, дружба. Мы оказались в немыслимой ситуации.
Он спешил воспользоваться предлогом, хотя это был и не совсем предлог. Перед ним стояла самая красивая, самая обаятельная и самая трогательная женщина из всех, что его когда-либо привлекали, а все его мысли были направлены на то, как бы отступить.
Женевьева закурила сигарету и снова принялась ходить по комнате.
— А я, — сказала она, — не питаю к Нине никаких дружеских чувств. Позвольте спросить, почему вы женились на ней? Вы любили ее?
— Не знаю.
— Но ведь в конце концов речь идет о вас!
— Я в счет не иду, я ничего не значу.
— Как вы можете так говорить?
— Такое уж представление сложилось у меня о жизни и о себе. Мы все значим ничтожно мало. Когда я увидел вас впервые, вы сами сказали мне: «Я ничего особенного собой не представляю». Это почти то же самое.
Алексис предложил Женевьеве кофе. Она пошла за ним на кухню.
— Ваши слова причиняют мне боль, — сказала она. — Раз вы так о себе говорите, значит, вы не испытываете ко мне никакой любви.
Они выпили кофе стоя.
— Я ухожу, — сказала Женевьева.
Провожая ее к двери, он увидел, что она готова разрыдаться. Он взял ее лицо в ладони и стал целовать. Женевьева сначала отвечала на его поцелуи, но потом высвободилась.
— Я веду себя непозволительно, — сказала она. — Я пришла вас соблазнять, при том, что сегодня мне нельзя этого делать.
Несколько дней спустя Тремюла отвел Алексиса в сторону.
— Не могли бы вы уделить мне минутку?
Он, видимо, забыл, что они перешли на «ты».
— Пройдемте в библиотеку.
Значит, у них в доме была даже библиотека! Читают ли они книги, это уже другой вопрос.
После того как они заперлись вдвоем, Тремюла протянул Алексису портсигар.
— Вы знаете о Женевьеве далеко не все. У меня такое впечатление, что она начинает увлекаться вами, и я хотел бы вас предостеречь. У нее периоды экзальтации постоянно сменяются депрессией. Уже не первый раз ей кажется, что она нашла выход для своей неуспокоенности. Она воображала себя влюбленной то в Марманда, то в Батифоля и, наконец, еще в одного человека — его вы не знаете. И каждый раз все кончалось тем, что ее приходилось помещать в клинику.
Алексис не нашелся что ответить и пробормотал:
— Понимаю… понимаю…
— Это не женщина, а чудо, — продолжал Тремюла. — Она и Кати для меня все, даже если обе они думают, что я им ненавистен.
— Если вы считаете, что есть какая-то опасность для Женевьевы, не лучше ли нам перестать встречаться?
— Нет. Это значило бы поступить слишком прямолинейно. К тому же я сам очень люблю бывать в вашем обществе. Я думаю: может быть, все еще и обойдется. К Марманду, который когда-то тревожил ее сон, у нее в конце концов пропал всякий интерес, и Батифоль стал для нее просто товарищем, который ее смешит.
— А третий?
— С ним мы больше не встречаемся.
— Зачем же вы по-прежнему приглашаете к себе Марманда, если он перестал ее интересовать?
— Он необходим моей футбольной команде, которая полностью держится на нем, а значит, нужен мне. Он ведь король футбола. Ни один вратарь никогда еще так не парировал удара, как он. Болельщики от него просто без ума.
И Тремюла закончил:
— Сожалею, что навязал вам этот неприятный разговор. Но ведь вы сами поставили меня в затруднительное положение.
Несколько дней Алексис ничего не слыхал о Женевьеве. Объяснение он получил от Фаншон:
— Женевьеву отправили отдохнуть в Туке — в поместье ее родителей.
— Она меня даже не предупредила.
— Похоже, ее отправили туда очень спешно.
Фаншон рассказала художнику, что Женевьева живет там под замком, почти как в тюрьме. Она находится, так сказать, под стражей у главы семейства — своего брата Анри, который старше ее на тринадцать лет и очень серьезно относится к своей роли старшего в семье. Время от времени Женевьеву, когда у нее сдают нервы, ненадолго отсылают туда. При всем том, что эти люди богаты, цену деньгам они знают — клиника обошлась бы куда дороже. К тому же так легче избежать нежелательной огласки.
— Женевьева казалась мне вполне здоровой, — возразил Алексис.
— Она была явно близка к тому, чтобы в тебя влюбиться.
— А это считается болезнью?
— Да. Такая мера, несомненно, спасительна и для тебя. Ведь каждое увлечение Женевьевы плохо кончается.
С этого момента для Алексиса, который полагал, что он, с его холодным картезианским умом, совершенно лишен полета воображения, образ Женевьевы приобрел некие мистические черты. Она стала для него принцессой Грезой, которую можно любить только на расстоянии. Женщиной, которую втайне почитаешь превыше всех других. И если все это затянется надолго, в конце концов начнешь страшиться дня, когда придется сличить этот созданный тобою самим образ с реальностью.
— Ты что, уснул?
— Мне уже не раз задавали такой вопрос.
— Ты просто всего не знаешь. Еще немного, и ее роман с Мармандом обернулся бы настоящей драмой. У него ведь жена и дети. Прежде чем стать знаменитым футболистом, он, кажется, работал на заводе, и Мари-Жо, его жена, тоже. Марманд очень неглуп и, общаясь с Тремюла и другими, быстро пообтесался. Но как это бывает сплошь и рядом, жена его нисколько не изменилась и продолжала жить в своем домике, в Бобиньи, подтирая зад детишкам. У них двое детей, нет, трое — не так давно она снесла ему еще одно яичко — девочку. Эта Мари-Жо ни разу не переступала порог дома Тремюла, нет, вру, один раз это все же случилось. Заметив неладное, она однажды заявилась на авеню Петра I Сербского с бутылкой купороса и плеснула купоросом в Женевьеву. Но немного промахнулась. Твоя возлюбленная получила лишь несколько брызг в лицо. Маленький шрам на ее виске — след этой истории.
— Какой шрам?
— А я полагала, что ты рассмотрел ее во всех подробностях.
Казалось, Фаншон потешается над ним.
— Твоя жена наверняка не столь примитивна, но думаю, даже если до купороса дело и не дойдет, то ревновать она все же будет.
— Ты не любишь Нину?
— Не люблю. А тебя… тебя я не понимаю. Похоже, ты просто подчиняешься ей, сам не зная почему.
Алексис промолчал. Фаншон погладила его по щеке.
— Не сердись.
Алексис снова удивился, и особенно тому, как Тремюла может выносить Кристиана Марманда. Правда, бизнесмен утверждал, что этот футболист просто незаменим в команде. Но как Тремюла при его аристократической манере держаться чуточку отчужденно, при его благовоспитанности — а этого у него не отнимешь — может интересоваться футболом, таким вульгарным видом спорта? Чего стоят одни крикуны-болельщики! Право же, это совершенно ему не подходит.
— Я иногда задаюсь вопросом, — сказала Фаншон, — а не использует ли он Марманда в таких делах, о которых не полагается говорить вслух? Если стремишься к богатству, мало иметь хорошую голову, иной раз бывает, нужна чья-то помощь, чтобы действовать силой.
— Ты преувеличиваешь. Он, несомненно, крут в делах, но очень деликатен во всем остальном. Что же касается личной жизни, то тут он кажется мне даже робким. Я могу упрекнуть его лишь в том, что он скрыл от меня решение отправить Женевьеву в Туке. Но не будем требовать от него слишком много. Он очень озабочен всем, что касается жены и дочери, просто дрожит за них. Как грустно, что они его так мало любят.
— Какой ты наивный! Тремюла — робкий! Да этот человек начисто лишен жалости и великодушия. Расскажу тебе один эпизод. Как-то Батиньолю посулили ежедневную передачу на радио. Нужен был лишь соответствующий телефонный звонок, и Тремюла мог оказать ему эту услугу. Я решила его попросить. Он согласился, но за это мне пришлось с ним переспать.
— Я — тебе, ты — мне?
— Да, он такой. Это была своего рода месть Женевьеве и болвану Батифолю за их шашни.
— А Каплунцов, этот громадина портье, — тоже его подручный? У него вид настоящего гангстера.
— Не знаю. Все возможно. Он сказал Батифолю, якобы Каплунцов был когда-то актером, сыграл эпизодическую роль в фильме «Тарас Бульба» с Гарри Бауром.
Алексис растерялся.
— Не понимаю, — сказал он. — Послушать вас — тебя и Тремюла, — Женевьева влюбляется в каждого встречного мужчину. Тогда как логичнее было бы обратное. Достаточно на нее один раз посмотреть, и сразу понимаешь: она неповторимая женщина. Все мужчины должны были бы с первого взгляда влюбляться в нее — обожать ее тень, следы ее ног… и не осмеливаться даже приблизиться к ней.
Фаншон его высмеяла:
— Однако же ты осмелился, и далеко не без успеха.
Алексис получил из Туке письмо, на которое не решился ответить, предполагая, что переписка изгнанницы проходит цензуру.
«Говорят, я безумная. Быть может, так оно и есть. Во всяком случае, я схожу с ума с тех пор, как ты отрекся от меня. Все мысли мои о тебе одном».
Женевьева вернулась в Париж осенью. Алексис провел отпуск на Корсике, неподалеку от Бонифаччо. Они с Ниной собирались объехать весь остров, но было слишком жарко, дороги оказались слишком похожими на серпантин, и ими овладела лень. Как и каждое лето, Алексис почти все время рисовал. Вскоре по возвращении Женевьева позвонила ему по телефону, но разговор у них совершенно не клеился. Алексиса сковывала робость. В конце концов он спросил:
— Хотите повидаться?
— Да, но при условии, что вы тоже этого хотите. Есть у вас такое желание?
— Да.
После длинных словопрений по поводу того, где они встретятся, Женевьева попросила Алексиса зайти к ней в первом часу. Дверь открыл Каплунцов. Далее Алексиса повела за собой тщедушная горничная с вечно заплаканным лицом — жена портье. Она встретила гостя любезно, но так, словно в этом доме скорбят по покойнику. И даже пробормотала:
— Бедная мадам…
Оставшись наедине, Алексис и Женевьева снова не знали, что сказать, так же как и при разговоре по телефону. Женевьева решила не вызывать горничную и пошла приготовить кофе сама. Алексис присел на краешек кресла, словно гость, который чувствует себя в доме неловко. Так вот она, эта очаровательная женщина, думал он, самая красивая, самая трогательная из всех, кого он когда-либо встречал. Однако он тут же отключился от реальной действительности, словно Женевьевы не было здесь, рядом с ним, и он один, вдали от нее, мечтает о ней, но никак не может воссоздать в памяти черты ее лица, эту доводящую до отчаяния красоту. Он воображал разные ситуации, например, будто он гостит в ее семье, на севере, в их роскошном родовом поместье в Туке. Как бы ему хотелось, чтобы эти люди не считали его чужаком и радовались тому, что Женевьева встретила его, чтобы они наконец успокоились, видя, как она счастлива с ним.
Женевьева первая нарушила молчание:
— Мне нужно немного восстановить силы.
Возвращаясь к реальной действительности, Алексис попытался определить, выразить словами новую ситуацию. Но слова предавали его — едва произнесенные, они закрепляли их новые отношения раз и навсегда, а он был вовсе не уверен, что хочет этого. Женевьева, похоже, лучше вышла из положения.
— Не знаю, есть ли у вас основание вести себя благоразумно, но коль скоро вы этого хотите, я вынуждена смириться. И все же я вас люблю. Возможно, настанет день, когда вы будете думать иначе или обстоятельства изменятся… А пока поберегите себя. Быть может, я и безумная, но вы — вы не умеете быть счастливым.
Пока она говорила, он снова почувствовал и узнал сладкий запах ее духов. Женевьева поставила пластинку. Долгоиграющие пластинки только начали появляться, и в том, чтобы слушать вот так музыку, была еще и прелесть новизны.
— Это моя тема, — сказала Женевьева. — «Фоли́я»[5] Корелли.
— В ней вовсе нет того смысла, какой вы ей придаете, — произнес Алексис менторским тоном. Он предпочитал разыгрывать ментора, лишь бы не подключаться к ее игре, видя, как она упивается, выдавая себя за безумную. — Здесь нет ни малейшего намека на безумие. Фолия была лишь танцем — вариантом чаконы, который называли, правда, также «безумие Испании». В этом жанре сочиняли все композиторы. Даже сам великий Иоганн Себастьян Бах создал свою фолию.
— Вы в этом уверены? Послушайте скрипку. Она воет точно так же, как готова выть я, когда чувствую, что моя мысль прокручивается вхолостую. Умоляю вас, не отнимайте у меня этой мелодии. Вы же видите, что она моя, моя!
Когда пластинка кончилась, Алексис объявил, что ему пора уходить.
— Я могла бы что-нибудь соврать мужу, — вдруг сказала Женевьева, словно она нашла выход из создавшегося положения.
— Поздно. Тремюла уже обо всем догадался.
Она проводила Алексиса, и ее легкая, чуть томная походка показалась ему более чем когда-либо поступью принцессы. Женевьева похудела. На ней было платье табачного цвета с глубоким вырезом. Она заметила, что он смотрит на ее грудь, и тихонько рассмеялась. В этом смехе было что-то порочное.
— А помните, — сказал он, — как я пришел сюда в первый раз, после футбольного матча? Вы меня еще плохо знали, но, когда я стал прощаться, вы поцеловали меня так, словно это был порыв, потребность уйти от одиночества. Этот внезапный порыв удивил меня, а может быть, и вас тоже. Все было так трогательно.
Она решила больше не дразнить его, разыгрывая притворщицу-девчонку, и вздохнула.
— Вы перешли уже на воспоминания! Но это ничего. То, что вы сейчас сказали, все равно приятно.
Потом выпалила на одном дыхании:
— А теперь уходите.
Алексис подумал, что эта сценка нарушила тот образ поведения, какой они себе только что определили. В любую минуту все могло начаться снова.
Прежняя жизнь компании возобновилась. Вечеринки в том же составе. Театральные спектакли, балет, концерты, кино. Словно они знали, что скоро у них на это не останется ни сил, ни желания. Эта светская жизнь была как бы последним рывком. Через пять — десять лет у кого из них хватит мужества выбраться из дому, чтобы посмотреть пьесу или выставку, послушать оперу? Настанет пора запереться в четырех стенах, слушать пластинки и смотреть телевизор.
Женевьева держалась теперь с Алексисом отчужденно, словно низвела его в ранг своих бывших любовников наряду с футболистом и Батифолем. Но Фаншон ошибалась, когда объявила: «Твое время миновало».
Алексис изредка получал от Женевьевы письма, печальные и страстные. Его всегда удивлял ее ровный почерк — аккуратно выведенные круглые буквы. Он не писал ответов, просто говорил при встрече: «Я получил от вас письмо». «Ах, да…» — отвечала она, кивнув головой и не показывая виду, что придает этому какое-то значение. Однажды она написала ему: «Я все выяснила. Прочла в истории музыки, что фолия — танец, который танцуют без партнера. Очень грустно! Вот видите, как это на меня похоже». Алексис представил себе, как в просторной пустой гостиной Женевьева медленно раскачивается в такт лихорадочным пассажам скрипки Корелли, наклоняется в реверансе, затем распрямляется, тряхнув кудрявой головкой, и вдруг замирает, отрешенно глядя перед собой широко раскрытыми глазами, а пластинка все крутится, крутится, словно повторяя вновь и вновь: «Безумная и одинокая… безумная и одинокая…»
Как-то раз Женевьева сказала ему доверительно:
— Слушать музыку и плакать — это все, что нам остается.
Теперь она, казалось, скучала на вечеринках, устраиваемых ее мужем. По-видимому, она поняла, до какой степени заурядна ее жизнь. Наверняка ей хотелось подражать своей матери — аристократке из Бостона, которая окружала себя представителями артистического мира, но ей не удалось найти никого, кроме грубоватого спортсмена, паяца из мюзик-холла и его, Алексиса, — несостоявшегося художника. Однажды Алексис отважился сказать ей, что все, с кем она встречается, неинтересные люди: либо это деловые связи мужа — с большинстве случаев убийственно скучные господа, — либо узкий круг ее придворных-друзей, собранный по воле случая.
— В этом-то все мое несчастье, — ответила она. — Мечтаешь о богатой духовной жизни, об избранном обществе. И вот на тебе…
— Это и мой удел, — сказал он, желая смягчить суровость своей критики.
— Все мы должны осознать свою никчемность. По крайней мере я лично это сделала, — с горечью заключила Женевьева.
Несмотря на всю свою светскую благовоспитанность, молодая женщина постоянно забывала об обязанностях хозяйки дома, совершенно не интересовалась своими гостями и нередко уходила к себе в спальню или подолгу сидела в углу одна со стаканом в руке. Иной раз за целый вечер не промолвит ни единого слова. Как-то раз, когда Алексис захотел с ней попрощаться, он обнаружил Женевьеву свернувшейся клубочком в кресле. Она уснула. Черное гипюровое платье задралось выше колен. Оно держалось на двух узких бретельках, оставляя открытыми плечи. Алексис взял с соседнего дивана шаль и нежно, стараясь не разбудить, тепло укрыл Женевьеву.
Алексиса Валле заинтриговала фигура Шарля Тремюла. Если Женевьева происходила из весьма состоятельной буржуазной семьи, то ее муж был всего-навсего одним из нуворишей.
И тем не менее отрешенный, немножко грустный вид придавал Тремюла некий аристократизм. Глядя на него, трудно было поверить в рассказы Фаншон — что он довольно суров, когда речь заходит о деловых отношениях, что он использует таких подручных, как Марманд, и неподобающим образом ведет себя с некоторыми женщинами. Тремюла был на несколько лет старше Женевьевы. Когда же он начал сколачивать свое состояние? С чего пошло его богатство? Чем занимался он в годы войны? Такие вопросы невольно возникают, как только подумаешь о деньгах, добытых за столь короткий срок. Однако никто вроде бы не мог упрекнуть его в связях с нацистами. Время от времени у него в доме бывал даже кое-кто из бывших участников Сопротивления, но не слишком часто, казалось, ровно столько, чтобы это могло служить как бы охранной грамотой хозяину дома. Возможно, дела, которые вершил Тремюла, были не из тех, что требуют покровительства властей и заигрывания с влиятельными людьми, он предпочитал скорее держаться независимо и действовал как одинокий волк. Все это представлялось довольно туманным Алексису, далекому от мира бизнеса. Если он и задавался подобными вопросами, то исключительно потому, что тревожился за Женевьеву. Теперь, думая о ней, он любил в ней то красивую, элегантную женщину, словно сошедшую со страниц светских журналов «Вог» или «Харпер’с базар», то несчастную, заблудшую душу, которую хотелось спасти. Но чаще всего оба эти образа сосуществовали рядом. Да разве сама Женевьева не жила мечтами? У Алексиса часто создавалось впечатление, будто он для нее — всего лишь одна из химер, созданных воображением неудовлетворенной женщины. Она часто говорила:
— Жизнь так скучна… Мы все время делаем одно и то же.
По мере того как Женевьева и кружок ее друзей завладевали Алексисом, он забросил прежних знакомых, не вполне отдавая себе отчет, в самом ли деле начинается новая глава его жизни — погружается ли он в глубину леса или, по своему обыкновению, остается на опушке. Он испытывал такое же чувство неудовлетворенности, как перед неудавшейся картиной, написанной неумелой рукой. Ему хотелось бы выстроить свою жизнь так, как он выстраивал композицию своих картин, и тщательно отделывать все детали до тех пор, пока они не обретут гармонию и смысл. Ведь главный смысл его картин — это он сам, человек немолодой и одинокий, — его внутреннее «я», которое руководит его поступками во всех жизненных перипетиях, хотя временами, похоже, он и сбивается с правильного курса.
Примерно в этот же период Алексис подружился с поэтом по имени Анж Марино-Гритти. Они вместе работали над эскизами оформления книги — сборника стихов Марино-Гритти, — иллюстрированной гравюрами Валле, но работа эта так и не была завершена. Ни тот ни другой не пользовались достаточной известностью, чтобы заинтересовать солидное издательство. Алексису нравились стихи Марино-Гритти, да и самого поэта он считал человеком, способным внушить симпатию. Высокий, чуточку полноватый, Марино-Гритти походил на боксера. Он был завсегдатаем кабачков на Сен-Жермен-де-Пре, где с ним приключались всевозможные истории. Он любил выпить, постоянно лез в драку, между прочим, нередко в пылу политических дискуссий, желая слыть человеком твердых убеждений. В таких случаях он возвращался домой с физиономией, помятой еще больше, чем всегда. А потом с юмором повествовал о своих подвигах. И эти рассказы обычно прерывались приступами странного, почти беззвучного хохота — уставившись на собеседника, он щерился, отчего лицо его приобретало свирепое выражение. Поговаривали, что в войну, когда он семнадцатилетним юнцом ушел в маки где-то под Лимузеном, Марино-Гритти был настоящим головорезом. Поди проверь. Теперь же состоялся возврат к цивилизованным временам, к поэзии. Не совсем такого образца, как «В вазочке вянет вербена…»[6], нет, к поэзии сильной, воспевающей веру в общественные потрясения и перемены. Но тем не менее кому мог теперь внушить страх поэт? Тем паче что звали его Анж[7]. Он был женат на Жоан, немом долговязом существе неопределенного пола, — танцовщице из труппы современного балета. Нередко он зазывал друзей ночью к себе, в многоэтажный дом муниципальной застройки, неподалеку от заставы Баньоль, выпить красного винца и послушать, как он читает вирши собственного сочинения, а также стихи Батая и Арто.
Вскоре Анж Марино-Гритти стал всеобщим любимцем в компании Тремюла. Они всегда приглашали его в гости. Особенно увлекались им женщины. Они находили его забавным, обаятельным и неожиданным. В нем было что-то и от грубоватого увальня, и от греческого пастуха. Когда он приходил, Женевьева, Нина и Фаншон не переставали смеяться и болтать, блестя глазами. Но стоило ему уйти, и женщины сразу тускнели. Женевьева опять начинала скучать. Раньше Тремюла неизменно приглашал свою маленькую компанию в кабаре на правом берегу. Поэт же повел их в «Табу», в «Красную розу», в «Ориенте». Казалось, он знаком со всеми на свете, всюду находился для него свободный столик, он знал, когда и какой кабачок выходил из моды и в каком необыкновенном погребке, открытом всего неделю назад, непременно следует побывать.
Несколько обстоятельств повлияли на ход жизни Алексиса. Во-первых, он заболел. Воспаление легких и последовавший за ним плеврит довольно долго продержали его в постели. Он думал — и не без тайного удовольствия, — что под предлогом болезни ему удастся уехать в какой-нибудь санаторий и избежать таким образом всяческих объяснений. Разумеется, он прочитал «Волшебную гору», и санатории представлялись ему роскошными дворцами, где живут элегантные, красивые женщины, созданные для любви. Ведь эта американка, мать Женевьевы и, судя по всему, замечательная женщина, окончила свои дни как раз в санатории. Но, как выяснилось, в санатории нет никакой нужды, и ему так и не пришлось сопоставить свои мечты с реальностью, наверняка куда менее заманчивой.
Однажды, во время болезни, ему вдруг пришло в голову, что он на пути к смерти, и он даже попытался свыкнуться с этой мыслью, сжиться с нею настолько, чтобы она органически стала как бы частью его самого. Это было довольно трудно, ибо жажда жизни разметала все мрачные мысли, словно ураган — тучи. Алексис никак не мог примириться с сознанием, что через три месяца, самое большое через полгода, его жизнь оборвется навсегда, и всеми силами старался себя успокоить, но страх смерти возвращался. Приходилось снова бороться с тревогой и отчаянием. Необходимо было постичь науку примирения с идеей неизбежности конца. Он считал, что единственно приемлемая нравственная заповедь сейчас — это не обманывать самого себя.
В конце кондов ему надоело чувствовать себя больным, и он выздоровел. Он потерял работу в универсальном магазине, однако прикинул, что, если выполнит несколько заказов — например, займется рисунком для столового сервиза или эскизами книжных обложек, — это поправит его дела. Денег у него будет немножко меньше, но, если чуть-чуть сократить личные расходы, Нина даже не ощутит никаких затруднений. Впрочем, не считая покупки красок и холста да еще время от времени пластинок, особых расходов у Алексиса и не было. Никогда он не стремился покупать себе красивые костюмы или дорогие вещи. Он сказал себе, что это увольнение даже пошло ему на пользу — сам бы он ни за что не решился стать человеком свободной профессии.
Отныне он свободен. Что касается Нины, то она как будто бы отнеслась к его увольнению спокойно. У нее были свои деньги. Впрочем, она не подавала виду, что сердится на мужа, — очевидно, потому, что за этим скрывались претензии куда более серьезные. По всей видимости, она считала Алексиса бездарным человеком, от которого бесполезно ждать слишком много (а возможно, еще и ленивым). Между тем Алексис не терял времени даром: вместо того чтобы шататься по улице или целыми днями валяться на диване, читая детективы, он решил заняться живописью серьезно, не страшась начать все сначала, и не отходил от мольберта до тех пор, пока у него не темнело в глазах или от усталости не начинали подгибаться ноги. Праздность неизменно рождала у него чувство какой-то вины и страх перед пустотой. Впрочем, не только это заставляло его работать. Он испытывал минуты счастья, если картина ему легко давалась; в такие дни хотелось смеяться, позвать кого-нибудь, чтобы показать, что он сумел… Сумел что? Запечатлеть на холсте то, что порождено его воображением и усилием его воли… Но чаще всего он был один, и приходилось довольствоваться этим.
Однажды Нина, изменив своей обычной манере держаться с ним отчужденно или рассеянно, как ведут себя с человеком, который стал чужим, устроила ему сцену. Алексис, видите ли, не сумел даже использовать свои отношения с таким богачом, как Тремюла, — отношения, которые завязались благодаря ей, Нине, — и не попытался продать несколько своих картин. А вот Анж Марино-Гритти оказался несравненно умнее. Он задумал написать пьесу, ну, не пьесу, пожалуй, нечто более современное, и уже договорился о том, что поставит ее на средства Тремюла. А ведь он еще не написал ни строчки!
И, продолжая приводить Марино-Гритти в пример своему незадачливому мужу, Нина добавила:
— Видишь, Анж участвует и в политической жизни. Не без пользы для себя. Партия его поддерживает. И среди художников есть такие, кто не пренебрегает поддержкой коммунистической партии. Даже Пикассо!
— Не говори глупостей!
— И это не мешает им получать правительственные заказы! А ты… ты даже не участвуешь в голосовании!
На этот раз Алексис взорвался:
— Меня воротит от политики. Та группировка, что стоит сейчас у власти во Франции, — новый вариант Гизо с его лозунгом «Обогащайтесь!». Впрочем, и другие тоже не лучше. Политика — это убиение во имя лжи. Что представляет собой это племя, этот род человеческий? Одна половина поглощена собственными неврозами, одержима жаждой власти и не останавливается даже перед массовым истреблением, спокойно предоставляя второй половине своих соплеменников подыхать с голоду.
— Вот именно это я и говорю: тебе ненавистно все человечество.
Во время болезни Алексиса у Нины появилась привычка проводить вечера вне дома. Художник не упрекал ее, но она вовсе не испытывала к мужу никакой признательности и даже заявила, что он рад случаю, который позволяет ему оставаться в одиночестве и жить дикарем. Должно быть, под влиянием Тремюла и его друзей она заинтересовалась футболом. Вместе с Тремюла она ездила в разные города, чтобы посмотреть игру команды его клуба. Тщетно пытался Алексис внушить ей, что пристрастие к такому грубому зрелищу свидетельствует об отсутствии вкуса, — Нина лишь пожимала плечами, считая, что он просто ничего в этом не смыслит. Ведь комбинации на футбольном поле иногда не уступают в красоте и сложности математическим. Однажды она бросила Алексису:
— В тебе говорит ревность.
— При чем тут ревность? И к кому мне тебя ревновать? К Марманду? К этому тупице, который только и умеет, что пинать ногами мяч?
— Не надо так презирать других. Не то сразу же возникает вопрос: а что ты умеешь сам? Ты относишься к людям с таким пренебрежением, что даже не заметил, что Кристиан очень умен. Знаешь, что он мне однажды сказал? Он решил стать вратарем, потому что это единственный игрок на футбольном поле, которого можно сравнить с театральным актером. Его игра эффектнее игры других, и потом, когда он стоит в воротах — в этой рамке, — он у всех на виду, как актер на сцене. Да, он тоже своего рода артист.
Когда Нина уезжала или запаздывала к обеду или ужину, Алексис уверял ее, что ей не о чем беспокоиться — он прекрасно сам приготовит себе поесть. Но постепенно им овладела лень и его ежедневное меню свелось к яичнице либо ветчине с ломтиком сыра. Впрочем, с тех пор как он стал проводить свои дни в одиночестве дома, мир стал казаться ему далеким, населенным какими-то призраками. Не считая редких ссор, подобных той стычке из-за футбола, Нина приходила и уходила, даже не повидавшись с ним. Шарль Тремюла казался теперь Алексису то робким и трогательным другом, то обманутым «вечным» мужем, которому он нанес обиду, то темным дельцом, способным покупать мужчин и женщин, так что его образ принимал все более и более расплывчатые очертания. Комическую пару Батифоль — Фаншон Алексис воспринимал не иначе как персонажей трагедии. Он интуитивно чувствовал, что Батифоль в любую минуту может пойти ко дну, а веселость его подруги, ее несколько извращенная чувственная красота и сексуальная привлекательность служат лишь маскировкой неминуемой катастрофы. Что касается Женевьевы — далекой принцессы, то он почему-то никак не мог решиться на простой шаг — стать ее любовником.
И в живописи Алексиса появилось что-то новое. На его полотнах теперь возникал туман, сквозь который едва пробивался золотистый свет и сквозила небесная голубизна, — все это позволяло думать, что если бы картина изображала что-то конкретное, то это, несомненно, был бы пейзаж. Когда же он приступал ко второй стадии работы, изображение, словно высвеченное неумолимым светом, обретало четкие линии. Картина представлялась абстрактной, но чем-то продолжала напоминать пейзаж — пасмурный день, предвещающий дождь, когда воздух настолько прозрачен, что кажется, будто можно дотянуться рукой до обычно таких далеких гор.
Еще в те дни, когда Алексис был болен и считал себя обреченным, Нина как-то пригласила нескольких друзей к ужину. Алексис был не в силах подняться с постели. Он слышал, как гости разговаривают и смеются в мастерской. Дверь приоткрылась настолько тихо, что он этого даже не заметил и почувствовал запах духов Женевьевы раньше, чем увидел ее. Она опустилась на колени у самой кровати и, сжав голову Алексиса обеими руками, поцеловала его, вкладывая в этот поцелуй все отчаяние своей несостоявшейся любви. И на этот раз в ее черных глазах он уловил какое-то безумие. Она положила голову на грудь Алексиса и замерла. Ему захотелось признаться: «Смерть торопит меня, а между тем сейчас я люблю жизнь как никогда». Кому он мог довериться, как не ей? Но это было бы низостью — нанести ей такой удар. А искушение так велико! Она подняла голову и снова устремила на него свой взгляд все с тем же безумным выражением. Он понял, что ее мысли бесконечно далеки от того, что терзает его. Он вовсе не ломал комедию. И совсем не желание растревожить ее или вызвать жалость к себе побуждали его сказать: «Я скоро умру». Он чувствовал, как в нем растет тоска, а Женевьева даже не догадывалась об этом именно потому, что любила его и пришла к нему с единственной целью — обрести его любовь.
Рядом продолжали разговаривать. Алексис различал кудахтанье Батифоля, парижский выговор Фаншон и характерный голос Марино-Гритти.
— Возвращайтесь к ним, — сказал он Женевьеве.
Она поднялась с колен и двинулась к двери как сомнамбула, не произнеся ни слова.
На следующий вечер Нина ушла из дому, и Алексис остался один. У него поднялась температура. Из радиоприемника, стоявшего возле кровати, лилась церковная музыка в исполнении детского хора. Он подумал о Женевьеве, о том, как она вчера, коленопреклоненная, стояла у его постели. Ему казалось, что он вот-вот расплачется, сам не зная почему.
Иногда к Тремюла приезжала сестра Женевьевы Мари-Тереза — увядшая блондинка, ростом чуть выше Женевьевы. Она жила на севере, там и вышла замуж. Уже по первому взгляду, который она бросила на него, Алексис понял, что Женевьева все ей рассказала. Он спросил ее об этом.
— Мы говорим друг другу все, — ответила Женевьева. — Открою тебе тайну. У Мари-Терезы здесь свои дела интимного свойства, ради этого она и приезжает в Париж.
— Что ты об этом думаешь?
— Ничего, для меня такие вещи — не новость.
Алексис нарисовал небольшую картину, где преобладали красные и черные спирали. Изображение прояснялось лишь в центре полотна, и тут можно было различить не то статую, не то странного ангела, а в самой темной части, там, где сгущалась жгучая чернота, глаз с трудом различал части сломанной скрипки. Он назвал свою картину «Фолия» и подарил ее Женевьеве.
Молодая женщина продолжала писать ему письма, как всегда очень короткие. В одном из них она сообщала: «Похоже, я скоро стану вдовой. Так мне сказали по секрету врачи».
Потом она стала писать всякую чепуху, например: «Я вытаскиваю из стенных шкафов все, что попадется под руку, и выбрасываю. Тоже своего рода развлечение».
Несмотря на свой затворнический образ жизни, Алексис завел нового знакомого. Длинные пряди желтых волос были у этого человечка одни светлее других, а неухоженная седая борода, нос картошкой, широкие скулы и шишковатый лоб делали его похожим на деревенского мужика. Алексис встречал его днем на лестнице, когда выносил мусор или шел покупать сигареты. Кончилось тем, что они заговорили друг с другом. Соседа звали Бюнем, и он изъяснялся по-французски с сильным акцентом. Однажды, когда Алексису захотелось показать кому-нибудь свои работы, он пригласил Бюнема зайти.
Тот долго рассматривал картины, и Алексис обратил внимание, что заметно выступающий кадык под бородой Бюнема дрожит.
— Живопись, — сказал гость, — это психология. Сезанн утверждал, будто стремится уловить то общее, что существует между деревьями и людьми. Ну а если не психология, как в вашем случае, то самоанализ.
Алексис спросил Бюнема, как получается, что он постоянно свободен днем. У него такая работа, объяснил сосед, от которой если и не разжиреешь, то по крайней мере чувствуешь себя абсолютно независимым. Какая работа? Так называемый литературный труд.
— Вы писатель?
Бюнем поспешил ответить, не скрывая раздражения:
— Не имею ни малейшего желания участвовать в этой свалке. Писатели вырывают друг у друга из зубов одну и ту же тему, словно волки, которые раздирают труп околевшей лошади. Если желаете, я поясню свою мысль не столь… плотоядной метафорой: едва в воздухе начинает витать новая идея, как все бросаются за ней, точно дети за красным воздушным шариком.
Он же предпочитает оставаться в тени, сидит себе в библиотеке, роется в каталогах, составляет библиографические справки, а если представляется случай — пишет за нерадивых студентов дипломные работы. Днем он иногда ненадолго идет в Национальную библиотеку, но это случается не каждый день. Чаще всего он сидит в кафе «Франсуа Коппе» и работает.
— Это в двух шагах отсюда, в Дюроке. Туда захаживают и Сартр с Симоной де Бовуар. Собственная популярность заставила их сбежать из «Флоры». Мы раскланиваемся. Быть популярным писателем — это несчастье. Лично я предпочитаю писать за других, выступать в роли «белого негра» и подписывать свои труды псевдонимом. Выпустить книгу под своим именем не доставило бы мне ни малейшего удовольствия. Именно по той самой причине, о которой я вам только что сказал. А кроме того, как весьма высокопарно выразился Кафка, не помню точно, где именно он написал это: «Заниматься литературным творчеством мне не дано».
Пока он излагал свои мысли в порыве откровения, кадык все ходил у него на шее вниз-вверх. Он продолжал:
— В настоящее время я связан с одной очень богатой супружеской парой — во время войны они потеряли троих сыновей, — все трое погибли героически: один был убит в Монте-Кассино, второй погиб в затонувшей подводной лодке, а третий попал в концлагерь за участие в Сопротивлении. Они хотят, чтобы я написал книгу, которая увековечила бы память их сыновей.
Примерно в это же время Анж Марино-Гритти пригласил к себе друзей послушать выступление по радио деятелей театра и кино в записи Антонена Арто[8] на гибкой пластинке, которую недавно запретили: «Пора покончить с осуждением бога». Гости расселись кто куда — одни на подушках, другие прямо на полу. Угощали ромовым пуншем. К сожалению, пластинка оказалась настолько стертой, что ухо почти не улавливало слов. В полумраке блестели зубы Марино-Гритти, который, должно быть, по своему обыкновению, беззвучно смеялся. Жоан, его жена — высокая, худая танцовщица, — продолжала стоять, прислонившись к стене. На ней был толстый пуловер, облегавший бедра, и узкая юбка. При ее прямых волосах и плоской фигуре казалось, что она существует только в двух измерениях. Женевьева уселась рядом с поэтом на краешке ковра. Несмотря на плохое качество записи, крики Арто, Марии Казарес, Роже Блена и Поля Тевенена, похоже, действовали на нее завораживающе. В какой-то момент, протянув негнущуюся руку, словно у нее не сгибался локтевой сустав, она схватила Марино-Гритти за руку и не отпускала до тех пор, пока ему не пришлось встать, чтобы подойти к проигрывателю.
Все гости, участники этого прослушивания, вышли из дому вместе и зашагали по ночной улице в надежде найти такси. Алексис на минуту остался с Женевьевой с глазу на глаз и, спеша воспользоваться этим обстоятельством, спросил:
— Почему вы держали за руку Марино-Гритти?
— Потому что вы бросили меня.
И, пройдя еще несколько шагов, она добавила:
— Когда мне становится совсем невмоготу от одиночества, я ищу мужчин. Но вас — вас я любила.
Было холодно, изо рта у нее вырывался белый пар, и это легкое облачко, мгновенно таявшее в морозном воздухе, не успев даже принять определенную форму, было для Алексиса как бы материализовавшимся образом ее беспокойной души.
Поведение Женевьевы в тот вечер не ускользнуло и от внимания Нины. Она прокомментировала его по-своему:
— Видал, что проделывала эта шлюха с Марино-Гритти?
Однажды ночью в ту же зиму, когда вся компания была приглашена на ужин к Тремюла, выйдя на улицу, они обнаружили, что Париж окутан густым туманом. С трудом удалось отыскать машины Марманда и Батифоля — только у них и были в ту пору автомобили. Нина и Алексис сели к футболисту, Марино-Гритти поехал с Фаншон и Батифолем. Они попытались держаться по возможности близко, но очень скоро потеряли друг друга из виду. В двух шагах ничего не было видно. Никогда еще в столице не бывало такого густого тумана, и чем ближе они подъезжали к Сене, тем он казался плотнее. Марманд остановился посреди площади Альма.
— Не знаю даже, где мост, — пожаловался он.
Выйдя из машины, Алексис, ориентировавшийся тоже с трудом, двинулся вперед, указывая дорогу.
Когда они добрались до улицы Жан-Ферранди, стало ясно, что Марманду не добраться до северного предместья, и Алексис предложил футболисту переночевать у них. Тот согласился.
— А твоя жена? — спросил Алексис. — Она не станет беспокоиться? Позвони-ка ей.
— В этом нет необходимости — она уже привыкла.
— Заблудиться в тумане, — сказал Алексис. — Посреди Парижа! Невероятно.
Некоторое время спустя Анж Марино-Гритти объявил, что издатель наконец согласился выпустить сборник его стихов. В отличие от Бюнема, странного маленького соседа Алексиса, провозгласившего своим принципом приверженность к псевдонимам, к соблюдению строжайшего инкогнито, Марино-Гритти горел от нетерпения увидеть свое имя на обложке книги и ради этого готов был идти на все. В той серии, в которой собирались опубликовать его стихотворения, на фронтисписе обычно помещали портрет автора. Поэт попросил Алексиса нарисовать его.
— Это будет для тебя удобным поводом выйти наконец за рамки абстракционизма.
В течение нескольких дней он приходил к Алексису позировать. Во время сеансов они говорили о чем придется, иной раз даже о политике.
— Товарищи… Их сочувствие! — восклицал Марино-Гритти.
Алексис писал маленькими штрихами, которые множились и накладывались друг на друга. Можно было бы назвать этот метод аналитическим, потому что он воспринимал лицо не в целом, а как бы фиксировал последовательно его части, пытаясь уловить основное, например линию скул, припухлость губ, характерное закругление подбородка. Закончив работу, Алексис заметил, что его портрет лишен фотографического сходства с моделью, но зато достигает большей глубины, скажем, как если бы он старался отразить те изменения, какие характер налагает на внешний облик человека. А еще он заметил, что нарисовал лицо проходимца. Он оставил свое открытие при себе. Впрочем, сам поэт остался портретом доволен.
Когда книга вышла из печати, Алексис узнал из кисловатого замечания Нины, что дело вовсе не в том, будто молодое дарование наконец-то признано. Издание, оказывается, осуществлено за счет автора, а оплатил его Тремюла.
Бюнем вел себя очень тактично. Он заходил редко и, когда Алексис открывал ему дверь, неизменно спрашивал:
— Я не помешаю?
Однако стоило ему переступить порог, о том, что он боится помешать Алексису, больше не было и речи. Он держался так, словно пришел в гости по приглашению и теперь должен развлечь и хозяина, и себя. Усевшись в углу, он окидывал взглядом мастерскую: не появилось ли тут новой картины, и разговаривал о чем угодно, только не о себе. Бюнем был по-прежнему скуп на откровенность, и тем не менее, войдя однажды к Алексису, не удержался от признания:
— В иные дни меня донимает жажда услышать живой голос.
В другой раз он сделал признание в том же духе:
— Я опять видел Сартра во «Франсуа Коппе». Он спросил, как дела, я ответил: «Рай — это другие»[9].
Уходя, он неизменно произносил:
— Предоставляю вам возможность поработать.
Однажды, после полудня, когда Бюнем был в гостях у Алексиса, раздался звонок. Женевьева пришла вместе со своей дочерью Кати, которая была в зеленом берете, с длинным шарфом на шее. Бюнем поспешил ретироваться, хотя Алексис представил его своим гостям.
— На улице дождь, — сказала Женевьева, — и нам захотелось в кино. Не желаете составить компанию?
— Мне сегодня хорошо работается. Странное дело: такое ощущение, будто с трудом взбираешься по горной тропинке, и вдруг чувствуешь, что за следующим поворотом наверняка увидишь цель, к которой стремишься.
— Ну, а ваш друг?
— Он мне не в тягость. Совершенно не мешает. Как сверчок на печи. Да и тот, наверное, причинял бы больше беспокойства.
— Мы вынудили его уйти…
— Кто он такой? — спросила Кати, которую явно заинтересовал этот маленький всклокоченный бородач с шишковатым черепом и монгольскими скулами.
— Кати, ты ведь знаешь, что детям задавать подобные вопросы не подобает.
Алексис обратил внимание, каким голосом, с какой светской интонацией — интонацией, присущей определенному общественному классу, — произнесла Женевьева эти слова, обращаясь к дочери. Такая манера казалась старомодной — так, очевидно, говорили в обществе, которое уже отжило свой век. В любых других устах это звучало бы неестественно-жеманно, только не в устах Женевьевы — ее он любил, со всеми ее причудами. И, отвечая Кати, Алексис пошутил:
— Это гном из «Белоснежки».
Шутка явно не понравилась девочке, и она капризно передернула плечиками.
— Пошли с нами, — сказала Женевьева. — Ну позвольте себя увести.
Женевьеве хотелось еще раз посмотреть «Лауру», которая повторно шла в кинотеатре на бульваре Сен-Мишель. Алексис в свое время пропустил этот фильм. Ему вспомнился грустный новогодний вечер, и песенка из этого фильма, которую проигрывали снова и снова. Это была ночь, когда Женевьева впервые потянулась к нему. Он был уже на пороге и уходил один, подчиняясь духу противоречия, и тут она поцеловала его.
— Можно было бы посмотреть «Даму из Шанхая», — предложил Алексис. — Я видел этот фильм дважды, но так ничего и не понял, однако мне никогда не надоедает смотреть на Риту Хейворт. Особенно хороша она в конце — когда она умирает, смертельно раненная, во Дворце миражей, а Орсон Уэллс уходит, даже не обернувшись…
— Какой вы жестокий! Вам нравится, когда женщину покидают в ее смертный час!
— Нет, не нравится. Но это очень сильная сцена. К этому времени Орсон Уэллс уже больше не любит Риту, он знает, что она лгунья и преступница, но мы не можем не принять эстафету — нам самим хочется любить ее и прийти к ней на помощь. Вот мы бы ее не покинули.
— Мне все же больше хочется посмотреть «Лауру». Вы не находите, что я похожа на Джин Терни? Мне это часто говорят.
Они пошли в кинотеатр на бульваре Сен-Мишель — в «студенческую киношку», как сказала Женевьева, и им показалось, что то далекое время, когда они бродили по Латинскому кварталу, ушло безвозвратно.
На дневном сеансе зал был почти пуст. Женевьева усадила художника по левую руку, а свою дочь — по правую. Пока шел фильм, она несколько раз с улыбкой поворачивалась к Алексису. О том, чтобы поцеловаться, не могло быть и речи — ведь рядом сидела девочка. Но нога Женевьевы прикасалась к его ноге. И как только Алексис положил руку на подлокотник, ее рука тут же легла сверху. Женевьева переплела свои пальцы с пальцами Алексиса. Ему вспомнился вечер, когда она держала за руку этого подонка Марино-Гритти. К своему удивлению, Алексис почувствовал, что ревнует ее.
Они вышли из кино. Все еще продолжал накрапывать дождик. Пока они спускались по бульвару в поисках такси, Кати, отказавшаяся спрятаться под зонтик матери, с независимым видом шагала впереди.
— Она дуется, — шепнула Женевьева.
— Никогда не забуду, как я пришел к вам в первый раз и Кати словно фурия накинулась на Батифоля, который дразнил ее, притворяясь, будто собирается подбросить вас. Она была еще совсем малышка. Сколько ей сейчас?
— Девять лет.
— Я дал бы больше, особенно если учесть эту ее манеру носить берет — она так лихо сдвинула его набок!
— Правда, теперь она уже не такая толстушка?
— Да, девочка растет и худеет. Она обещает стать прехорошенькой рыжеволосой женщиной.
Похоже, Кати рассердилась еще сильнее, увидев, что мать разговаривает с Алексисом. Должно быть, она заподозрила, что они смеются над ней. Наконец они пришли на остановку такси, и Алексис предложил:
— Хотите, я провожу вас?
— Нет, уходи! — закричала Кати.
Он усадил их в машину, испытывая чувство двойной вины, — и перед девочкой, и перед ее матерью.
Когда он вернулся, Нина, вопреки своему обыкновению, была уже дома. Она спросила, где он был. Алексис ответил, что ходил в кино с Женевьевой и Кати, хотя подумал, что об этом следовало бы умолчать. Однако вопрос жены застал его врасплох. Нина стала кричать:
— Ах, вот чем ты занимаешься, пока я работаю! Мне надоело видеть, как ты крутишься вокруг Женевьевы. Думаешь, она чем-нибудь отличается от других женщин, если не считать ее миллионов?
— Послушай, ведь мы были втроем, с Кати!
— Интересно, что вы делали в этом кино? Целовались?
— Говорю тебе, она была с дочерью.
Невзирая на такой веский аргумент, Алексису с трудом удалось рассеять сомнения жены и унять ее гнев. Решительно, то был день ревности.
Случалось, Нина и раньше проявляла к нему недоверие, но она никогда не ставила вопрос о том, чтобы прекратить общение с семейством Тремюла. Напротив, продолжала проводить с ними время, зачастую даже без Алексиса.
Однажды зимой Женевьева пришла к ним ужинать одна — Шарль Тремюла уехал из Парижа по делам, а Кати на каникулы друзья пригласили покататься на лыжах. Женевьева задержалась допоздна, а так как погода была очень холодная, Нина предложила подруге остаться у них ночевать.
На следующее утро Нина ушла на работу до того, как Женевьева проснулась. Она не высказала по этому поводу никаких соображений, и Алексис сказал себе: значит, ее подозрения рассеялись или по крайней мере она не придает им большого значения. Около десяти утра он приготовил кофе и постучал в дверь Женевьевы. Она закуталась в одеяло и пробуждалась ото сна с большим трудом, словно мучительно избавляясь от действия снотворного. Она лепетала детским голоском какие-то бессвязные слова. Невозможно было перехватить ее взгляд — она вертела головой так, что волосы разметались по подушке. Должно быть, она спала без ночной сорочки, и Алексис чувствовал, что готов изменить своему обычному благоразумию и скользнуть к ней под одеяло, в ее тепло. Он позвал:
— Женевьева…
Он погладил ее по щеке, потом рука его опустилась вдоль шеи к плечу. Но вопреки ожиданиям Алексиса Женевьева его оттолкнула.
— Оставьте меня! По утрам я никуда не гожусь. Вся скверна, которая гнездится во мне, в такие моменты пытается вырваться наружу. Не следует смотреть на меня, когда я просыпаюсь. Прошу вас…
Она резко отвернулась и укрылась почти с головой. Алексис вышел из комнаты, плотно закрыв за собою дверь.
Он ушел из дому и решил добраться пешком до Университетской улицы, где должен был встретиться с издателем, для которого делал эскизы. Вернулся он около полудня и Женевьеву уже не застал. Она оставила в мастерской письмо — нечто вроде стихотворения:
Лучшие доказательства моей любви те которых я тебе не даю
Нелепые жесты которые я делаю когда тебя нет
Слова которые я про себя повторяю тебе
И все то чего ты не узнаешь никогда
Она забыла в бокале ожерелье из крупных стеклянных бус. Алексис положил его на ладонь и вдохнул запах — ожерелье сохранило запах ее духов — редкостных и пряных духов, которыми душилась только она. Желание охватило его с новой силой.
Вечером Нина объявила мужу:
— Команда Франции встречается с командой Португалии в Лиссабоне. Кристиана опять включили в ее состав. Тремюла считает себя обязанным его сопровождать, но врач возражает, чтобы он летел самолетом. Из-за сердца.
Алексис слушал ее рассеянно и потому был более чем удивлен, когда Нина сказала:
— Тремюла попросил меня лететь в Лиссабон вместо него, и я не смогла ему отказать. Впрочем, почему бы мне не побывать в Лиссабоне? Я еще ни разу в жизни не летала самолетом. Матч состоится через две недели. Все это займет субботу и воскресенье, ну, самое большее три дня… Ты сумеешь приготовить себе поесть?
— Да, я уже привык.
— Знаю я тебя, будешь жевать ветчину, развернув ее прямо на уголке холодильника.
— Да нет, я смогу о себе позаботиться…
Существует немало примеров, когда мюзиклы, сделанные по образцу бродвейских, проваливались во Франции ввиду отсутствия достойных певцов, танцоров, подлинного умения и денег. Но ни один не знал такого шумного провала, как «Улица де ля Гэте», где главным исполнителем был незадачливый Батифоль. Для эстрадного певца и его друзей то было тяжелое испытание. Возможно, по чистому совпадению, но с этого момента в их тесной компании все стало по-другому.
Замысел этот витал в воздухе уже давно. Впервые Алексис услышал о нем от Фаншон, которая навестила его, когда он еще не совсем оправился от болезни. Она пояснила, что Батифоль, безусловно, пользуется известностью и даже приобрел заметную популярность, выступая в кабаре и по радио, но ему никак не удается достичь высшей ступени — стать звездой первой величины, комиком на уровне Бурвиля и Фернанделя. Почему, например, его никогда не приглашают сниматься в кино? И вот теперь ему, быть может, представляется великолепный случай. Правда, этот проект нелегко осуществить, как и все, что связано со сценой, так что лучше постучать по дереву. И она коснулась деревянного столика, вымазанного красками всех цветов, куда художник обычно клал старый поднос, заменявший ему палитру. Речь шла об одном американском мюзикле, свободном от контракта. Им заинтересовалась группа продюсеров. Денег пока еще не хватает, но, если бы Тремюла согласился их субсидировать, проект можно было бы не только воплотить в жизнь — Батифоль и его друзья стали бы хозяевами всего предприятия. И Батифоль получил бы главную роль, Анж смог бы адаптировать это произведение, которому дали новое название: «Улица де ля Гэте», и написать текст песенок. Фаншон опасалась, что он откажется, сочтя этот жанр слишком низменным, но поэт возразил: кто мог подумать, что он презирает искусство, пользующееся столь широкой популярностью? Конечно же, он готов писать для простых людей — своих бывших товарищей по маки́. Успокоившись на сей счет, Фаншон предложила пристроить в танцевальную группу эту длинную спаржу, жену Марино-Гритти, чтобы как-то вознаградить его за труды.
И тут она спросила Алексиса:
— А ты не возьмешься написать нам декорации?
Алексис отказался — это не по его части. Лицо Фаншон выразило разочарование, она стала обвинять Алексиса в том, что он плохой друг и боится риска. Ему пришлось оправдываться, объяснять, что живопись, какой занимается он, не имеет ничего общего с росписью театральных декораций.
— Я тебя очень люблю и счел бы за счастье помочь тебе, — в заключение сказал он.
— Правда?
Фаншон прильнула к нему и несколько раз чмокнула в щеку, вытянув губы, — словно клюнула. На ней был черный пуловер и черные кожаные брюки, отчего она казалась еще более худой и болезненной.
— Да, ты любишь меня… и очень, но по-настоящему ты влюблен в Женевьеву.
Алексис пожал плечами. Обняв ее, быть может желая как-то сгладить впечатление от своих слов, он спросил:
— Как ты сумела добиться денег от Тремюла? Так же, как и в тот раз, когда речь шла о работе на радио?
Фаншон не рассердилась на него за этот вопрос, потому что он задал его нежно, грустным голосом. Она спрятала лицо у него на груди, ничего не ответив. Потом разрыдалась и плакала долго, словно нашла наконец повод выплакать все слезы, которые сдерживала месяцами, а быть может, и годами. Алексис поцеловал ее в мокрое от слез лицо, затем в губы. Она вернула ему поцелуй. И улыбнулась. После ее ухода Алексис издевательски сказал самому себе: отныне бедняжка Фаншон будет приходить всякий раз, как ей захочется поплакать.
Тремюла настаивал, чтобы Алексис принял участие в этой авантюре и взялся за декорации. Художник продолжал отказываться.
— Он упрям как осел, — сказала Нина. — Вы от него ничего не добьетесь: как он решил, так и сделает.
— Я понимаю его, — сказал Тремюла с каким-то смирением в голосе. — Я-то рискую только своими деньгами — к тому же при этом сокращаются налоги, — он же ставит на карту свою репутацию.
— Какую еще репутацию? — возразила Нина. — Да у него ее попросту нет. Он ничего не проигрывает, а вот выиграть может все.
Алексис промолчал.
— Вот он весь в этом, стоит только посмотреть на его каменное лицо! Пусть его разразит на месте громом, он даже не шелохнется!
А Батифоль, вместо того чтобы радоваться, казалось, выискивал причины для беспокойства.
— В довершение ко всему этой заварухе в Корее не видно конца. Вам не кажется, что мы созрели для атомной войны? Я жду ее со дня на день.
Тремюла пытался его успокоить:
— Да нет же. Они уже зашли в тупик и приступают к переговорам. Разумеется, это длинная история, но главная опасность миновала.
— Вот видишь, — увещевала мужа Фаншон, — Шарль, который все знает и посвящен в государственные тайны, не боится ничего.
На лице Батифоля появилась вымученная улыбка, он попытался отшутиться:
— Ничего не могу с собой поделать. Когда я думаю о корейских делах, мне не до смеха! Ох-ох-ох! Что за время… Сами посудите…
Несмотря на название, «Улица де ля Гэте» должна была идти не на Монпарнасе, а на площади Клиши — в старом мюзик-холле «Эропеен». Шарля Тремюла и его друзей ожидала ложа — одна из тех просторных лож для официальных лиц, где чувствуешь себя так, будто сидишь чуть ли не на сцене. С ними не было только Фаншон, она стояла за кулисами, Анжа Марино-Гритти, который сидел в «Веплере» и пытался справиться с неврастенией с помощью виски, и, разумеется, Батифоля с Жоан, поскольку они участвовали в спектакле.
Сюжет музыкальной комедии был глуп не более и не менее, чем во всех других музыкальных комедиях. Батифоль исполнял в ней две роли: знаменитого актера мюзик-холла и клошара, поселившегося под мостом Сены. В оригинале пьесы это были актер с Бродвея и бродяга, нашедший себе пристанище в доках. Актера похищают хорошенькие женщины — все они несчастные жертвы этого ужасного донжуана, — похищают, желая отомстить. До очередной премьеры времени почти что не остается, но актера нигде не могут отыскать. К счастью, нашелся клошар, который оказался похожим как две капли воды на похищенную знаменитость. Его подгримировали и с грехом пополам втолковали, в чем заключается его роль. На генеральной репетиции клошар выступил с блеском. А настоящему актеру в конце концов удается ускользнуть от похитительниц, только уже после успеха своего двойника. Он оскорблен в лучших чувствах: его двойник не только превзошел его на сцене, но еще и воспользовался благосклонностью его последней возлюбленной. И он решает, что ему не остается ничего иного, как занять место клошара под мостом Сены. Однако клошар не пожелал меняться с ним местами и, преподав актеру урок, предпочел вернуться к своей прежней жизни.
Пока шли репетиции без костюмов и декораций, где исполнялись только отдельные фрагменты — песенка, какой-нибудь эпизод, танцевальный номер, неоднократно прерываемые и повторяемые, — было невозможно вынести суждение о спектакле в целом. Но на премьере стало ясно, что спектакль обречен на провал. К тому же музыка оказалась невыразительной — ни одной запоминающейся мелодии. Батифоль на этот раз был вынужден отказаться от своей присказки «Как он глуп, как глуп!», и публика, которая обычно приходила на его выступления посмеяться, лишившись этого, сидела молча. И все же его появление в живописной роли клошара вызвало аплодисменты. Зато во второй роли — звезды эстрады — он оказался смешным. Держа в руке стакан, Батифоль расхаживал в пестром атласном халате по сцене, изображавшей артистическую уборную, и все время натыкался на диваны и пуфики, расставленные всюду на его пути, точно ловушки. Вторжение преследовательниц, а затем их танцевальный номер оказались поистине жалким зрелищем. Девицы были некрасивы и к тому же не умели танцевать в ансамбле, а Батифоль выглядел среди них нелепой толстой марионеткой.
Алексис почувствовал, как у него сжимается горло. С этого момента зрители принимали спектакль весьма прохладно. Друзья Батифоля сидели в ложе и не решались ни заговорить, ни взглянуть друг на друга. В антракте вся компания отправилась к Батифолю за кулисы. Но этот визит выглядел так, словно они явились выразить актеру свое соболезнование.
— Зрителей сейчас трудно расшевелить, — сказала Фаншон. — Но он покорит их во втором действии, вот увидите.
Все с мрачным видом закивали. Марино-Гритти присоединился к остальным. Он основательно вымок — на улице шел дождь, нескончаемый осенний дождь.
— И все же, — твердил поэт, — мои песенки великолепны.
В тот вечер вся компания, если не считать этого тщеславного эгоиста, держалась очень сплоченно. Алексис впервые увидел, что эти столь разношерстные люди, объединившиеся вокруг Тремюла, стали как бы единой семьей.
Когда звонок возвестил конец антракта, выяснилось, что многие зрители сбежали. Казалось, над залом сгустились тучи. На сцене словно ничего не происходило — только суетились какие-то тени. Алексис наблюдал за Женевьевой. Она застыла неподвижно-невозмутимая, быть может, только немного напряженная. После того как клошар заменил актера на сцене, он еще соблазнил его красивую подружку. И тут Кристиан Марманд произнес из глубины ложи:
— Этому Батифолю наставили рога и на сцене, и в жизни.
Женевьева закрыла лицо руками. Зрители начали беспокойно покашливать — первый признак неудачи в театре. Оставалось еще прослушать бессвязную песенку «о Сене и сцене» на слова Марино-Гритти. Финальный танец девиц и клошаров в неописуемых отрепьях не стал апофеозом и не развеял скуки. Зрители спешили покинуть зал, и несколько жиденьких хлопков заглушил стук сидений, когда они вставали. Занавес снова поднялся, и пока актеры выходили кланяться и делали объявление, как принято во время премьеры, зал пустел на глазах. Вторично занавес не поднялся — зрители больше не вызывали актеров.
Алексис чувствовал себя скованным и опустошенным, он едва волочил ноги. С другими, должно быть, происходило то же самое. Они нехотя поднялись с места и отправились за кулисы к Батифолю. Он снимал грим, Фаншон находилась при нем.
— Я велел принести несколько ящиков шампанского, — объявил Тремюла. — Вы, конечно же, придете выпить со всей труппой?
— «Дай все ж ему глотнуть!» — сказал отец…[10] — шутовским тоном произнес Батифоль и повалился на пол, прижав одну руку к воображаемой ране, а другую протянув к своему благодетелю.
Алексис хотел посмотреть выставку-ретроспективу Кандинского в Музее современного искусства, который помещался тогда на авеню Президента Вильсона. В Севр-Бабилоне, на остановке автобуса номер 63, ему повстречался Бюнем, который направлялся куда-то, зажав под мышкой папку. Оказалось он тоже едет в сторону Трокадеро — на улицу Шеффера, везет в редакцию свою книгу о трех сыновьях. Судя по всему, он был очень доволен собой. Пока они ехали, он с жаром рассказывал:
— По-моему, я нашел интересный прием. Трое сыновей находятся далеко от дома — один на итальянском фронте, другой в море, третий в Освенциме. Им не суждено вернуться. А в родительском доме висят три барометра: один, круглый, из красного дерева, второй, тоже круглый, из лимонного дерева, третий, размером побольше, — медный. Это не выдумка. Я и в самом деле видел эти барометры в их доме. Так вот, я придумал, что, ожидая вестей о детях, мать стала воспринимать эти три барометра как образы-символы своих сыновей. Ежедневно она стирает с них пыль, начищает до блеска. Даже разговаривает с ними, как если бы это были ее Феликс, Шарль и Жорж. Когда пришли сообщения об их героической смерти — одно за другим, — каждый барометр становится не только символом, но как бы заменяет ей погибших. И каждый день мать, вытирая пыль, выполняет траурный ритуал собственного изобретения — дань культу мертвых.
Алексис приготовился выходить. Бюнем успел еще сказать:
— Я работал над этой рукописью год и четыре месяца. Пока что получил лишь небольшой аванс. Но как только мне выплатят гонорар, я буду счастлив пригласить вас отобедать. Я знаю очень хорошую эльзасскую пивную на улице Вожирар, если вы не имеете ничего против кислой капусты… Надеюсь, ваша жена не откажется составить нам компанию?
Когда Алексис покидал выставку Кандинского, а может быть, и чуточку раньше — когда он считал, что все еще размышляет над формой и цветом, над соотношением линии и пространства, над процессом эволюции художника — от робких и беспорядочных дебютов до того момента, когда он выстраивает собственную теорию, — тайный голос шепнул ему, что особняк Женевьевы находится совсем рядом. Он раздирался между двумя противоречивыми желаниями. Пойти увидеть ее или удержаться от этого шага? Вместо того чтобы спуститься к Альма, он стал подниматься к Трокадеро — лукавил сам с собой, решив, что всегда успеет повернуть назад. Шестнадцатый округ оставался в его воображении кварталом богачей, окутанным легендами, растравляющими душу, и с каждым шагом его все больше тянуло туда. У ворот он снова слукавил, сказав себе, что звонок — нечто вроде лотереи: сейчас решится, застанет он Женевьеву дома или нет. Он позвонил. Перед ним выросла массивная фигура Каплунцова. Алексис был убежден, что этот верный страж видит его насквозь. Собрав все силы, он спросил, дома ли мадам. Да. Она была у себя.
Женевьева распорядилась подать чай в гостиную. Потом передумала: встала, взяла поднос и отнесла его в свою спальню.
— Эта гостиная похожа на зал ожидания при вокзале, — сказала она. — Тут нам будет уютнее.
Они уселись в два низких кресла. Женевьева разлила чай и вышла из комнаты за сигаретами. Когда она вернулась, Алексис ждал ее и, встав ей навстречу, обнял Женевьеву. Они целовались, как после долгой разлуки. Алексис отбросил всякие колебания и сдержанность. Он пытался увлечь молодую женщину на кровать, но она сопротивлялась.
— Нет, нет. Кати может с минуты на минуту вернуться из школы.
Она прижалась спиной к стене. Алексис, продолжая сжимать Женевьеву в объятьях, целовал ее. Она позволяла ласкать себя, но в ее черных глазах было смятение, и он не мог понять, было ли это признаком наслаждения, которое она испытывает, или страхом, что их застигнут врасплох. Послышался какой-то шум. Женевьева вздрогнула. Алексис повернул голову и увидел в зеркале отражение — мужчина и женщина сплелись в объятье. Женевьева с задравшимся подолом, открывавшим полоску белой кожи над чулками, приподнялась на носки, словно желая помочь ему ласкать себя. Она выглядела сейчас довольно нелепо, да еще на фоне этой спальни, в дорогом помятом платье. В ее хрипловатом голосе смешивались девически-наивные интонации и великосветские нотки — выговор, характерный для Пасси.
— Я люблю тебя, — произнес Алексис.
Хлопнула дверь, послышались шаги. Любовники разомкнули объятья.
— Это Кати, — сказала Женевьева.
Она быстро одернула платье.
— Мы могли бы пойти к тебе, — предложила она.
— Боюсь, как бы Нина не пришла домой.
На лице Женевьевы промелькнуло скорбное выражение, и Алексис подумал, что она вот-вот расплачется.
— Не отчаивайся.
— Какой провал! Мне так хотелось свободы, а все кончилось компромиссом — тривиальной супружеской изменой. Я капитулировала.
В ее словах была неизбывная горечь. О чем она мечтала? Алексис вдруг подумал, что Женевьева — точная копия несчастных молодых женщин — героинь викторианских драм XIX века, которые были обречены на благородное ханжество. Те же, кто восставал и отказывался соблюдать правила игры, терпели крах.
— Пойдем гулять, — предложила Женевьева.
Она сумела вложить в эти слова всю покорность судьбе и все отчаяние мира. И продолжала усталым тоном, который никак не вязался с желанием и тоской, побудившими ее сделать это предложение:
— Мне всегда хотелось снова побывать в саду на улице Шерш-Миди.
Она сняла туфли, чтобы надеть другие, и вдруг оказалась очень маленькой, настолько, что Алексис подумал: как мог он полюбить эту женщину, фигура которой, конечно же, обладает всеми чудесными пропорциями, но в уменьшенной масштабе, можно сказать, почти в миниатюре, так что это уже вроде и не совсем женщина, но он тотчас прогнал эту абсурдную мысль. К тому же Женевьева уже снова была в туфлях на очень высоких каблуках.
Они прошли по авеню Анри-Мартен до остановки такси на углу улицы Помп. Над их головами шелестела молодая, свежая листва. Алексис впервые заметил это.
— Апрель на дворе, — сказал он. — Посмотри-ка на деревья.
— Мы знакомы уже четыре года. И скоро исполнится три года с того двенадцатого мая… Ну что ж, такая дата стоит паломничества.
— Это было двенадцатого мая?
— Да. А ты забыл?
Они сели в машину, которая тут же наполнилась ароматом духов Женевьевы. Такси проехало по Альма, миновало площадь Согласия. Бульвар Сен-Жермен запрудили полицейские автобусы, они стояли даже на тротуарах.
— Что происходит? — спросил Алексис.
— Демонстрация, — ответил шофер.
— По какому поводу?
— Понятия не имею.
Движение машин замерло. Вынужденные стоять, шоферы начали отчаянно сигналить. Пронзительные гудки смешивались с криками толпы, собравшейся на бульваре.
— Мне совсем не хочется, чтобы мой сундук помяли, — сказал шофер. — Я вас лучше тут высажу.
Им пришлось выйти из такси.
— Отсюда не так уж и далеко — можно дойти пешком, — сказал Алексис, — по улице Белльшас, а потом по Вано.
Но полицейский кордон не позволил им проникнуть на улицу Белльшас.
— Они охраняют квартал, где находятся министерства, — сказал Алексис. — Нам не остается ничего другого, как попытаться пройти по бульвару Распай.
Женевьева взяла его за руку. На шоссе движение городского транспорта тоже застопорилось. Тротуары были заполнены молодыми людьми, которые быстро шагали, очевидно догоняя демонстрантов, и, проходя мимо жандармов, бросали на них недоброжелательные взгляды. Алексис с Женевьевой дошли до перекрестка улицы Бак и бульвара Сен-Жермен и увидели, что полицейские перекрыли выход на бульвар Распай. Алексис попытался все же прорваться.
— Прохода нет! — рявкнул полицейский.
— Но я там живу.
— Прохода нет!
Получив тумака, художник едва не упал.
— Ах ты, негодяй! — закричала Женевьева.
Трое жандармов схватили ее и Алексиса и потащили к автобусу, стоявшему чуть выше, на бульваре Распай. Он был уже наполовину заполнен арестованными участниками демонстрации, которые встретили смехом новых пассажиров. Женевьева изящно взобралась по ступенькам и уселась на деревянную скамью, подвинувшись, чтобы Алексис мог сесть рядом. Автобус набили до отказа, и он провез их несколько сотен метров — до полицейского участка на улице Перроне. Арестованных загнали в помещение и закрыли за ними решетчатую дверь — они почувствовали себя будто в клетке. Здесь уже находились другие задержанные — участники демонстрации, а также два-три вора или еще каких-то мелких преступника. Было очень накурено и душно. Пахло мочой и рвотой, и Алексис вспомнил, что подобный запах стоял в трюме торгового судна, на котором он когда-то пересек Средиземное море. Он обратился к стоявшим позади решетки полицейским:
— Послушайте, мы не имеем никакого отношения к демонстрации. Мы даже не знаем, по какому поводу она началась.
Ответа не последовало. Тогда Алексис спросил:
— Можно позвонить по телефону? Мадам знакома кое с кем из сотрудников префекта полиции.
— Нет, звонить запрещено.
Оставалось одно — ждать. Женевьева была тут одной из немногих женщин, что давало ей право занять место на скамейке.
— Поверьте мне, я очень огорчен, — сказал Алексис.
— Вы ни в чем не повинны. Это я закричала на полицейского.
— Боюсь, как бы они не продержали нас тут всю ночь.
— Ничего страшного. Только здесь очень накурено, и от дыма у меня разболелась голова.
Час спустя началась проверка документов. Прошло еще несколько часов. Алексис не хотел признаться, что он очень устал и у него тоже болит голова. Их задержали часов в пять вечера. Теперь давно уже стемнело. Около десяти полицейский вызвал Женевьеву:
— Мадам Тремюла…
Женевьева встала. Перед ней открыли решетку. Она взяла Алексиса за руку.
— Этот господин со мной.
Полицейский заколебался, но пропустил и Алексиса. В кабинете полицейского комиссара они лицом к лицу встретились с Тремюла, которого сопровождал Каплунцов — в тесном кабинете он казался поистине великаном. Потом они узнали, что бизнесмена предупредил его друг — сотрудник префекта полиции: ему вручили список задержанных участников демонстрации, и он был очень удивлен, обнаружив в нем знакомую фамилию.
— Спасибо, что ты приехал за нами, — сказала молодая женщина.
Лицо Тремюла казалось белым как мел, возможно, причиной тому было тусклое освещение. Медленно, словно с трудом подбирая слова, он произнес:
— Какое странное место для…
И, не закончив фразу, он упал на бок и обмяк, словно лишившись скелета, который придавал форму его телу. Пока его укладывали на скамью, Женевьева стала пятиться назад, как будто хотела вернуться обратно — за решетку. Алексис двинулся к ней, но тут Каплунцов вдруг шагнул вперед и, отстранив художника, взял Женевьеву за руку.
— Я отвезу мадам домой, — сказал он полицейским. — Господин Валле останется здесь, он сообщит сведения, какие вам могут потребоваться.
Полицейские не возражали. Когда важная персона умирает в помещении участка, это поистине неприятная неожиданность.
Тремюла перевезли в больницу, и несколько дней он находился между жизнью и смертью. Члены его компании без конца звонили друг другу, однако узнать что-либо достоверное было трудно. Наконец им сообщили, что опасность миновала. А через неделю, когда Тремюла собирались уже перевести в отделение для выздоравливающих, новый сердечный приступ погубил его.
Женевьеву больше никто не видал. Должно быть, и на этот раз ее семья, пользуясь ситуацией, заставила ее уехать в Туке. Она даже ничего не написала Алексису. Она появилась снова лишь по случаю похорон, которые состоялись в Сент-Оноре д’Эйло. Алексис заметил ее издалека — лицо Женевьевы скрывала длинная траурная вуаль, какие носили в старину. Маленькая Кати шла рядом с матерью в черном пальто, ее рыжие волосы были спрятаны под большой косынкой, что придавало ей вид нищенки. Алексис подумал про себя, что теперь должен заботиться о них обеих. Однако родственники с Севера окружили их кольцом отчуждения. Седеющий мужчина был, очевидно, старшим братом Женевьевы. На похоронах присутствовала также сестра Женевьевы — бесцветная блондинка с ее тайной, а рядом с ней грузный мужчина — должно быть, муж.
Друзей оттеснили на задний план, и они, не сговариваясь, держались вместе. Рядом с Алексисом плакал навзрыд толстый дурень Батифоль.
— Не знаю, как вам всем удается держаться, — сказал он, — но это сильнее меня.
Ну просто реплика из его роли.
На черном покрове был герб с буквой «Т». Орган и хор заполнили церковь музыкой Цезаря Франка, и Алексису слышался в ней отзвук его собственных печальных мыслей.
Монах-доминиканец произнес надгробное слово, взмахивая широкими рукавами. Пока длилась скучная заупокойная молитва, два клошара, прятавшиеся в одном из боковых приделов, затеяли ссору, и пришлось их выдворить из церкви.
Было объявлено, что члены семьи усопшего просят не выражать им соболезнования. Женевьева, следуя за гробом, медленно вышла на центральную аллею кладбища, не поднимая глаз, — насколько об этом можно было судить при том что лицо ее закрывала густая вуаль. У нее был вид сомнамбулы — возможно, ее напичкали транквилизаторами. Алексису казалось, что его рот набит пеплом. Батифоль продолжал всхлипывать.
Катафалк сопровождали на кладбище в Пасси лишь несколько машин.
— Я подвезу вас, — предложил Марманд.
Футболист держался еще более развязно, чем обычно. Алексис подумал, что если Тремюла и в самом деле заставлял Марманда заниматься грязными делишками, то он должен испытывать сейчас облегчение. Отныне он избавлен от всего. В спорте у него было прочное положение. Правда, для вратаря он уже староват, но поговаривали, что он переходит на должность тренера.
Алексис, Нина, Батифоль и Фаншон уселись в машину Кристиана Марманда. Нина не скрывала, что не желает простить Алексису его прогулку с Женевьевой, трагикомически завершившуюся в полицейском участке. Она не пожелала сесть с ним рядом, вся напрягалась при его приближении и бросала на него испепеляющие взгляды. Алексису пришлось пережить несколько скверных минут, когда они наконец оказались дома.
На кладбище, дождавшись, пока Нина демонстративно ушла вперед, стараясь держаться от него на расстоянии, Алексис немного отстал чтобы показать Батифолям большую часовню справа.
— Должно быть, это и есть могила Марии Башкирцевой. Мне всегда хотелось как-нибудь взглянуть на нее.
— А кто она была, эта Башкирцева? — спросила Фаншон.
— Потом расскажу. В некотором роде моя коллега.
— Нина тобою явно недовольна.
— Все обойдется.
Во время погребения Алексис стоял позади всех. У него не хватило мужества приблизиться к тем, кто подходил к разверстой могиле — бросить на гроб горсть земли. Перед его глазами все еще был живой Тремюла, — такой, каким он видел его в полицейском участке, он не забыл его последний взгляд и его последние слова. Алексис думал, что он немало способствовал тому, чтобы привести усопшего к этой могиле, а потому незачем ему бросать землю на гроб.
На авеню Жоржа Манделя в густой листве деревьев щебетали птицы. Всего несколько дней назад, гуляя с Женевьевой, он обратил внимание на распустившиеся весенние почки.
Газеты откликнулись на смерть Тремюла лишь несколькими заметками в спортивной рубрике. О нем упоминали как о президенте футбольного клуба — вот и все, что представляло в этом человеке интерес для посторонних. Остальное же — его подлинная роль в жизни — так и осталось неясным для всех.
Шарль Тремюла унес с собой свой мир, тот, который был им создан, — мир бизнеса и мир его праздников. Особняк на авеню Анри-Мартен был вскоре продан. Попахивало распродажей имущества. Говорили, что финансовая сеть, которую сплел Тремюла — сложная и непрочная, точно паутина, — сразу же порвалась, что с трудом удалось избежать большого скандала. Но так ли это было на самом деле?
Женевьеву заточили в Туке — словно и она тоже ушла в таинственное небытие. Кати отослали в пансион в Лозанне. И хотя это была одна из самых дорогих школ в мире, при словах «сирота» и «пансион» невольно вспоминались грустные эпизоды из романов прошлого века. Как бы роскошен ни был пансион, сумеет ли девочка перенести эту разлуку с матерью, к которой всегда проявляла такую привязанность? И зачем понадобилось подвергать ребенка такому испытанию?
Женевьева опять стала писать Алексису письма своим правильным почерком, который способен был сбить с толку любого искусного графолога. Он прочел: «Мне вас не хватает». Несмотря на всю банальность этих слов, они потрясли Алексиса. Несколько месяцев спустя после смерти мужа Женевьева сообщила:
«Мне купили квартиру на авеню Рафаэля — это в конце Булонского леса, — чтобы я могла найти там пристанище, когда мое здоровье поправится и мне будет позволено вернуться в Париж».
Она и в самом деле стала наезжать ненадолго в Париж. Теперь ее встречи с Алексисом были в полном смысле любовными свиданиями. Они запирались на авеню Рафаэля, а когда сестра Женевьевы, приезжая в Париж, тоже использовала эту квартиру, то вынуждены были идти в гостиницу. В одну из этих гостиниц для иностранцев. Женевьева была нежной, приветливой и даже веселой. Если у них оставалось время, она просила сводить ее в кино. Потом она уезжала в Туке и вновь становилась далекой принцессой.
Когда Алексис оставался один, в памяти воскресали картины, которые ему посчастливилось увидеть. Вот Женевьева раздевается, а потом одевается в дорогое белье и костюмы, каких ему прежде не случалось видеть… Вот она стоит нагая перед задернутыми портьерами и благодаря тонкой фигуре кажется выше ростом, а каждая линия тела подтверждает то, о чем говорило ее лицо, — серьезные усталые глаза Женевьевы удивительно контрастировали со ртом, вот-вот готовым улыбнуться, и с прихотливыми завитками коротких темных волос. И точно так же ее тонкие руки, едва заметная грудь и узкие бедра — он любил класть на них руки, — все ее тело как бы говорило, что его гармония, его красота необычайно хрупки. Но эта хрупкость была возбуждающей, призывной… Вот Женевьева, встав коленями на край постели, устремляет на него в полумраке взгляд своих больших черных глаз…
Случалось, однако, что она подолгу не приезжала. И тогда Алексис задавался вопросом: как Женевьева, его хрупкая Женевьева, может жить без него? Эта любовь родилась и выросла из первоначальной потребности помогать жене Тремюла, потребности защитить ее — от грубого мужа, от других мужчин, от жизни. Она часто повторяла, что ей страшно. Алексису подумалось: вот так, вероятно, говорят все женщины — это просто уловка, чтобы удержать мужчину. И все-таки он старался поддерживать в себе то чувство преданности и благоговения, какое Женевьева всегда внушала ему. Но при этом был вынужден признаться себе, что теперь она, похоже, прекрасно обходится и без него. Как ни странно, хотя смерть Тремюла вернула Женевьеве свободу — ее держала под своей опекой семья, — она не торопила Алексиса порвать с Ниной окончательно, чтобы их любовь могла наконец получить идеальное воплощение. А он — то ли из чувства такта, то ли из трусости — не осмеливался коснуться этой темы. Он слушал, как Женевьева говорит об их любви теми же словами, что и прежде, но чувствовал, что отныне ее жизнь протекает где-то в другом месте. Как-то раз она приехала в Париж с ногой в гипсе и на костылях. Она объяснила, что ездила со своей сестрой Мари-Терезой (содружество, дававшее повод для самых разных предположений) в горы и упала, катаясь на лыжах. Алексис все-таки попытался ее раздеть, но она отстранилась:
— Право, ни к чему. В другой раз.
В отличие от Женевьевы Алексис чувствовал себя потерянным. Нина много разъезжала по служебным делам, ее часто не было дома, и он, оставшись один, работая, слушал пластинки или радио, недовольный самим собой и тем оборотом, какой принимал его роман с Женевьевой. В такие дни живопись была его спасением и утешением. Он всецело доверялся полотну и, поставив его перед собой, тщательно обрабатывал каждую деталь, не отрываясь до тех пор, пока ему не удавалось достичь гармонии цвета и формы и таким образом компенсировать то, что делало его жизнь серой и монотонной. В тот период любимыми его цветами были синий и красный.
Ему казалось, что. Бюнем стал теперь его единственным приятелем. Историограф трех героев был обескуражен и очень огорчен тем, что семья отвергла его рукопись, восприняв ее как тяжкую обиду, едва ли не подлость. Их сыновья вовсе не барометры. Рукопись вывела их из себя. («Есть люди, которые живут лишь тогда, когда выходят из себя» — прокомментировал Бюнем.) Они пришли в такую ярость, что не только ничего не заплатили ему, но еще и заставили вернуть аванс. Итак, помимо раны, которая была нанесена самолюбию автора (пусть анонимного, но все же автора), он потерпел еще и финансовый крах.
— Не знаю, как мне извиниться перед вами. Я не в состоянии сдержать свое обещание и пригласить вас пообедать.
Бюнем заходил к Алексису несколько дней подряд. Затем, словно терзаемый угрызениями совести, подолгу не являлся. Когда же пришел снова, то принес пакетик, перевязанный шелковой ленточкой, и попросил передать его Нине. В пакетике оказались три плитки горького шоколада, привезенного им из Бельгии. Каждый год в начале сентября Бюнем позволял себе неделю отдыха. Он уезжал всегда в одно и то же место и останавливался в маленьком отеле в долине реки Вар. По-прежнему один — как на отдыхе, так и все остальное время. Алексис удивлялся, что у него хватало мужества уезжать вот так, в одиночестве, удивлялся он и тому, что такой умный человек, намного лучше других, живет изгоем и не нашел своего места в обществе только из-за того, что не вышел ростом и лицом. Что ж тут удивляться — случается и такое! Несколько лишних сантиметров роста или полноватая талия, длинный нос, некрасивый подбородок или вялая грудь обрекают женщину на одиночество. Но одиночество Бюнема объяснялось не только внешними данными.
— Мне известна ваша фамилия, — однажды сказал ему Алексис, — но я не знаю, как вас зовут.
Кадык задрожал на шее Бюнема.
— Я и сам уже не знаю. Да имя мне больше и не требуется. В войну погибла вся моя семья, погибло много друзей, и не осталось никого, кто звал бы меня по имени. Где взять силы жить, когда ты сам едва дышишь от одного сознания, что все, кого ты любил — отец, мать, сестра, друг детства, — либо погибли в гетто, либо загнаны в газовую камеру и сожжены в печи, а если не хватило места в печи, брошены в пылающий ров с керосином. — И, словно желая утешить Алексиса или, по своему обыкновению, стремясь уточнить свою мысль, Бюнем добавил:
— Я в обиде не на людей. Я в обиде на жизнь.
Несмотря на все свои заверения о пристрастии к псевдонимам и нежелании заниматься литературным творчеством, человечек с бугристым черепом был просто помешан на литературе. Однажды он безапелляционно заявил:
— Во всей французской литературе нет фразы романтичнее, чем та, которая написана Пьером Мак-Орланом: «Одноногая красавица умирала от женской болезни в комнате над кабаре».
Однако его самыми любимыми писателями были русские — их имена ничего не говорили художнику: Андреев, Александр Грин, Василий Розанов, Соллогуб, Булгаков.
— У Розанова в его «Мрачном лике Христа» есть высказывание о религии, которое мне хотелось бы перечитать. Он говорит: «Оставаться дома просто для того, чтобы ковырять в носу и любоваться заходом солнца, поважнее всякой религии, потому что со временем всякая вера исчезнет, а это останется…»
И, следуя своей привычке уточнять одну фразу другой, которая ее опровергает, Бюнем добавил:
— Мне нравится мысль, что ковырять в носу поважнее религии. Но поскольку это говорю я, помните, что, если о своем неверии заявляет еврей, ему не следует верить.
Он помолчал и, похоже, хотел еще что-то добавить, но так ничего и не сказал.
— В детстве бог всегда помогал мне плакать.
Сколько могло быть Бюнему лет? Невозможно определить.
Хотя Алексису и казалось, что рисует он лишь для собственного удовольствия, тем не менее им заинтересовался владелец маленькой картинной галереи на улице Сены.
Арно Рюфер носил бороду, курил трубку и носил толстые шерстяные рубашки и бархатный костюм. Он куда больше походил на художника, нежели Алексис. Самой положительной его чертой была деликатность, с какой он давал советы. В первый момент даже невозможно было осознать всю важность и значительность того, что он говорит тихим голосом, как бы извиняясь. Бородатый коммерсант, казалось бы, ни во что не вмешиваясь, заставил Алексиса собрать определенное количество полотен, чтобы устроить небольшую персональную выставку.
Старая компания встретилась на вернисаже, впервые после долгого перерыва. Алексис пригласил также группу людей, с которыми познакомился у Тремюла, — тех, чей адрес он еще не потерял. Батифоль и Фаншон были милы, как всегда. Футболист, обойдя галерею, покровительственным тоном бросил: «Недурно, недурно». Нина исполняла роль жены художника, которую воспринимала как неприятную обязанность: разносила стаканы из толстого красного стекла и угощала подсоленным печеньем. Алексис никак не мог решить, грустит он по поводу отсутствия Женевьевы или доволен, что ее здесь нет и она не увидит этого чуточку жалкого праздника, на котором, ему казалось, он бывал уже десятки раз — когда их устраивали в честь таких же бедолаг-художников, как и он сам. Но в конце концов эта выставка служила доказательством его существования в искусстве, и отныне хотя бы станет известно, где можно увидеть его картины. Он начал принимать визитеров у себя дома, ему даже пришлось купить большой мольберт, чтобы ставить на обозрение одно полотно за другим — процедура, казавшаяся ему страшно утомительной для рук и испытанием для его чувств. Неужели я все еще молодой художник? — спрашивал он себя. И как когда-то в юности, продолжал чего-то ждать от будущего.
Когда Алексис очень уставал от работы, он, желая отвлечься, шел навестить Батифолей. Они жили на улице Шарля V, за церковью апостола Павла, в доме, построенном еще в XVII веке; его ни разу не реставрировали, так что выглядел он довольно мрачно. Район Марэ в ту пору еще не стал модным. Алексис подшучивал над супругами:
— Надо быть титулованными особами, как вы, маркиз и маркиза, чтобы плесневеть в этом старинном дворце — еще бы, ведь он достался вам по наследству и его передают из поколения в поколение, с пылью и паутиной на лестнице в виде бесплатного приложения.
Как правило, Батифоль и Фаншон бывали дома после полудня, к этому времени они только-только поднимались с постели. Комик, казалось, забыл о пережигом провале в театре и снова, как и прежде, выступал со своим коронным номером в мюзик-холлах и ночных кабаре на правом берегу. Но может быть, это было только внешнее впечатление? Теперь о нем говорили значительно меньше, в моду входили новые эстрадные актеры — начался его закат. Однажды он спросил Алексиса без всякого предварительного вступления:
— Ты не думаешь, что скоро придет тот день, когда я перестану смешить публику?
Художник, которого этот вопрос застал врасплох, не сумел найти ни утешительных слов, ни подходящих интонаций.
Когда Алексис приходил к своим друзьям, Фаншон с наигранным восторгом, как это принято в богемной среде, бросалась к нему на шею. Затем все трое пили вино, много курили и мало разговаривали. Иногда обменивались новостями о Женевьеве.
— Почему она все время в Туке? — спрашивал Батифоль.
Алексис отвечал, что не знает.
— Ведь ее здоровье как будто бы поправилось?
— Да, по ее словам, она чувствует себя уже хорошо. Она как-то призналась мне: «Ужасно произносить такие слова, но после смерти Шарля все мои страхи как рукой сняло».
О Тремюла они говорили с чувством стеснения, словно все то, о чем умалчивалось при его жизни — взаимные обманы и тайные унижения, — были единственными воспоминаниями, какие он оставил после себя. И тогда перед глазами Алексиса невольно вставала картина: мертвый Тремюла в большом гробу на кладбище в Пасси. Он отчетливо видел его: белое как мел лицо, поджатые губы и скрещенные руки — все тот же невозмутимо-учтивый и элегантный вид, какой часто бывал у него при жизни, а теперь казался немым укором им всем.
Квартира Батифолей выходила окнами на узкую улицу, и потому, несмотря на высокие потолки, здесь всегда ощущался недостаток дневного света, электричество у них горело даже днем. Чтобы в окна не заглядывали соседи из дома напротив, двойные шторы чаще всего не раздвигались, и, поскольку они очень выгорели, квартира имела какой-то заброшенный вид. Нина редко приходила сюда вместе с мужем: в течение всей недели работала, а в воскресенье, поскольку она продолжала увлекаться футболом, никогда не пропускала матчей, которые бывшая команда клуба Тремюла проводила на стадионе в Коломбо. Билеты ей доставал Марманд. Как и предполагали, он уже больше не выходил на поле и стал тренером — прославленным тренером, который умел обеспечить своей команде лидирующее место в первой группе. Нина была преисполнена радости и даже гордости, когда его команда одерживала победу. Однако она не впадала в уныние и в случае поражения.
Однажды, когда Алексис пришел на улицу Шарля V и приятно проводил время с друзьями, неторопливо попивая чай и дымя сигаретой, Батифоль, сидевший в низком кресле, вдруг выпрямился и в упор посмотрел на художника. Бесстрастно, словно врач, произносящий свой приговор после тщательного обследования больного, он объявил:
— В конечном счете ты неудачник.
Алексис растерялся. Но ответил спокойно:
— Не думаю. Я не задавался никакой целью, а следовательно, не могу согласиться, будто что-то упустил в жизни. Я никогда не стремился стать знаменитым художником или чем-либо в этом роде.
А про себя добавил, что упустил в своей жизни лишь одно — любовь Женевьевы (конечно, при условии, если веришь в любовь — сам он верил в нее лишь наполовину).
— Батифоль преувеличивает, — сказала Фаншон.
— Нет, почему же? — возразил Алексис.
Он задумался. О чем свидетельствует этот диагноз, поставленный Батифолем, — о его глупости или тонкости? На следующий день Алексис рассказал об этом разговоре Бюнему, и тот наставительно сказал:
— Каждый проигрывает в жизни по-своему — в зависимости от своих возможностей и убеждений.
В воскресенье Батифоль часто уходил из дому на дневное представление, и Алексис оставался с Фаншон наедине. Эти воскресные свидания вскоре приобрели особый характер. Оставшись вдвоем, они, полулежа на диване, вели нескончаемые дискуссии, неизменно завершавшиеся тем, что Фаншон сворачивалась калачиком в объятьях Алексиса, которого всегда влекли к себе ее чувственные губы. Художник был не в силах удержаться, чтобы не целовать ее. Однако, сколько бы они ни обнимались, Фаншон говорила, что не хотела бы стать любовницей Алексиса. Чаще всего она была одета в черный пуловер и джинсы, что подчеркивало ее худобу. Лаская Фаншон, Алексис ради забавы старался отыскать ее наиболее чувствительные точки.
Он быстро уяснил, что стоит ему только провести рукой по позвоночнику, как молодая женщина сильно вздрагивает и начинает умолять его перестать.
— Ой, не надо, не надо! — твердила она со своим парижским выговором. В такие минуты Алексису неизменно вспоминался голос Женевьевы, ее интонации, типичные для Пасси, — благовоспитанные и чуточку инфантильные. Как и в те дни, когда готовилась постановка мюзикла — он поцеловал тогда Фаншон впервые, — эти поцелуи и ласки обычно заканчивались тем, что она заливалась слезами.
— Не плачь, бедняжка Фаншон, — утешал ее Алексис, — я люблю тебя.
Фаншон отчаянно цеплялась за него. Она тоже шла ко дну.
Фаншон уходила встречать Батифоля после дневного выступления, и они отправлялись наспех перекусить в баре — в перерыве между дневным и вечерним представлениями. А художник возвращался домой. Нина, как правило, приезжала с футбола поздно вечером.
Пока Алексис причесывался, включив радио, каких только немыслимых передач он не наслушался. Так, он прослушал начальный курс истории античной литературы, передаваемый из Сорбонны, передачу по астрофизике, биографию Брилла-Саварена, лекцию по истории арабской письменности… Ему случалось довольно часто слышать по радио голос Анжа Марино-Гритти, который приобрел известность своими пересказами историй и легенд, родившихся в долине Арьежа и стране катаров[11]. Он вел эти передачи от первого лица и словно рассказывал о себе самом, своем детстве, о стариках, передавших ему семейные традиции. У Алексиса было такое впечатление — пожалуй, даже уверенность, — что в начале их знакомства Марино-Гритти называл своей родиной лимузенскую деревню где-то севернее Брив-ла-Гайяра: именно оттуда он и ушел в маки́. Очевидно, поэт счел, что «страна катаров» звучит заманчивее. Марино-Гритти одним из первых использовал моду на регионализм. Еще немного, и он начнет писать «окситанские» романы, нет, даже не романы, эпопеи. Станет готовить постановки для народных театров — сгустки истории, где будет намешано всего понемногу: Монсегюр и башня Констанс, 1792 год, Парижская коммуна и Кубинская революция.
Если Алексису надоедала болтовня по радио и не было лень менять пластинки, он слушал музыку — классическую или джазовую, в зависимости от настроения. Ему хотелось приобрести «Фолию» Корелли, но он никак не мог раздобыть запись. В конце концов он случайно встретил среди пьес для клавесина вариации на тему «Фолии ди Спанья» Алессандро Скарлатти. Он слушал эту музыку, с сожалением вспоминая и скрипку, и Женевьеву.
Бюнем появлялся редко. Алексис упрекнул его за это.
— Последнее время я чувствую себя неважно. У меня астма, — объяснил маленький человечек.
— Это что-то новое.
— Да. В некотором роде новое приобретение.
Однажды вечером, ожидая возвращения Нины, Алексис прилег на кушетку в мастерской и задремал. Его разбудил звук открывающейся двери и стук каблуков. Он открыл глаза. Нина холодно смотрела на него. Она стала раздеваться: сбросила туфли, расстегнув молнию, уронила юбку к ногам, потом стала снимать блузку — все это она проделала автоматически, словно была чем-то озабочена. Подобрав одежду с пола, она пошла за халатом и тут же вернулась. Алексис сидел на кушетке, и Нина, остановившаяся рядом, смотрела на него сверху вниз. Играя пояском от халата, она сказала:
— Послушай-ка, я давно уже задаюсь вопросом, во имя чего мы живем вместе. Оба мы материально не нуждаемся. Может, нам следует развестись?
— Не знаю, что и ответить, — сказал Алексис, с грустью сознавая, что свобода, о которой он мечтал, чтобы быть вместе с Женевьевой, ему больше не нужна. И добавил: — Я понимаю, ты раздражена тем, что застала меня спящим. Но, знаешь, я весь день работал.
— Я виню тебя не за это. В сущности, я тебя вообще ни в чем не виню. Ты никогда не перечишь, со всем соглашаешься. Но от тебя ничего нельзя добиться. Ты ведешь себя так, словно вообще не существуешь. Если бы ты знал, как это меня тяготит! Мы перестали даже ссориться. Да с тобой и невозможно поссориться — тебя просто нет.
— Даже если отношения не совсем ладятся, жить вдвоем все-таки легче, нежели одной.
— А кто тебе сказал, что я намерена жить одна?
— Ах, значит, есть кто-то, с кем ты собираешься жить?
— Не будем затрагивать эту тему, не то я напомню тебе о твоей несостоявшейся идиллии с мадам Тремюла — думаю, тебе это радости не доставит. Кстати, ты продолжаешь с ней встречаться?
В заключение Нина сказала:
— Словом, подумай. Спешить незачем.
С того вечера она больше не заводила речи о разводе. Алексис — тоже, но он часто вспоминал этот разговор. Он понял, что жена бросила пробный шар и ни на чем не будет настаивать. Но решение она приняла и выжидала лишь подходящего момента.
Однажды, в зимнее воскресенье, оставшись одни в квартире на улице Шарля V, Фаншон и Алексис вспоминали то время, когда все они собирались у четы Тремюла.
— Мы были у них за шутов, — сказала она. — А кончилось все тем, что мы стали им не нужны. И не только из-за того, что Шарль умер. Останься он жив — вполне возможно, мы бы ему скоро надоели.
— Ты, несомненно, права, но можно думать и иначе: именно мы и способствовали разрушению этой семьи.
Как обычно, она с нетерпением ждала его объятий.
— А Женевьева! Чем стала она дня тебя сегодня? По-прежнему занимает в твоей жизни главное место?
— Нет… Впрочем возможно…
На этот раз Фаншон сделала первый шаг. Расстегнув пуговицу на его рубашке, она скользнула под нее рукой. Он мгновенно сбросил одежду, и вскоре тела их слились. Фаншон стонала грудным голосом, казалось, она стонет от боли, сама удивляясь тому, насколько сильны эти страдания. Потом ее захлестнула волна нежности. Она ласково смотрела на Алексиса. Губы у нее припухли. Она выглядела помолодевшей.
— Хотелось бы мне знать, какой ты была в восемнадцать лет, — сказал Алексис.
— Я была полна доброжелательности. Делала все, чего от меня ждали, мне хотелось, чтобы меня постоянно хвалили и одобряли.
— А мальчики за тобой еще не увивались?
— Я была робкой девчонкой, заливалась краской от любого взгляда. В консерватории кое-кто за мной пытался ухаживать. Затем появился Батифоль. Могла нарваться на кого-нибудь и похуже.
Внезапно она опять стала такой, какой он знал ее сейчас, — потасканной, циничной. Фаншон принялась рассказывать сплетни из жизни театрального мира, смакуя мерзкие подробности. Алексис подумал, что она испорчена до мозга костей и вернуть ту чистоту и непосредственность, какая была ей свойственна когда-то, по-видимому, так же невозможно, как очистить реку, превратившуюся в сходную канаву. Он был уверен, что она росла очаровательной девочкой, мечтавшей о светлых идеалах, и злился на тех, кто способствовал ее чудовищному превращению: на Тремюла, на толстяка Батифоля. Как странно: Фаншон становилась прежней лишь тогда, когда плакала или когда они сливались в объятьях.
Так началось у Алексиса с женой Батифоля то, что можно было бы назвать новой связью или — как знать? — новой любовью. Однако Женевьева продолжала пребывать на пьедестале, она была богиней того маленького алтаря, который он себе создал для поклонения в ее отсутствие. Она была так далеко… И приезжала все реже и реже… Может быть, Женевьева тоже менялась в худшую сторону? Она похудела, две лукавые и нежные складочки в уголках губ все больше становились похожими на морщинки. Черные глаза казались еще огромнее. Она курила сигарету за сигаретой, и, когда Алексис целовал ее, он чувствовал запах табака.
Приехав в Париж в один из майских дней, она назначила Алексису свидание на террасе кафе, расположенном на площади Виктора Гюго. Как всегда, она засыпала его вопросами — о жизни, о работе, расспрашивала, что он делал, что видел. А потом как бы вскользь бросила:
— Похоже, ты частенько встречаешься с Фаншон…
— Да. Она тоже неприкаянная…
— Понятно… Понятно…
И поскольку Алексис опустил глаза, Женевьева заключила:
— Это ничего.
Она снова натянула перчатки, которые сняла, войдя в кафе.
— Мне пора… Знаешь, Алексис, мне бы не хотелось, чтобы ты узнал об этом из чужих уст… дело в том, что я опять собираюсь выйти замуж… Не по любви.
Она произнесла «Алексис» все тем же приглушенным голосом, который всегда наводил его на мысль, что до нее никто не умел так произносить его имя, и эта особенность устанавливала между ними неповторимые отношения, глубокую связь.
— Не по любви… — произнес он. — Тогда почему?
— Мне он очень нравится. Сюда примешиваются также материальные соображения. И мои родственники настаивают на этом браке.
— А у меня все наоборот, — зачем-то сказал он. — Нина заговорила о разводе.
— Вы не созданы друг для друга.
Вот и все, что она смогла сказать в ответ. Он прекрасно понимал, что не следовало говорить ей об этом, — слишком поздно, но не мог удержаться, быть может, ради горького удовольствия услышать именно такой ответ.
— Если бы ты знала, как я тебя любил! Случалось, я не спал целые ночи напролет, лежал до утра в темноте с открытыми глазами, чувствуя, как бешено колотится сердце. Разлука с тобой была для меня нестерпимой.
Алексис отметил, что почему-то говорит в прошедшем времени — это получилось вовсе не специально, он сам был поражен, но Женевьева изобразила улыбку, словно желая сказать, что польщена. Неужели же он и в самом деле так ее любил? Алексис понял, что сейчас их любовь жестоко отбрасывалась в прошлое, а может быть, даже вообще подвергалась сомнению. Он спросил:
— Чем ты занимаешься? Как проводишь время?
— Три раза в неделю играю вместе с другими дамами в бридж. Мы собираемся то у одной, то у другой. А предварительно готовим столы, холодную закуску… Ты, конечно, умеешь играть в бридж?
— Нет… — Он пробормотал: — Женевьева…
— Что такое?
— Ничего…
Он спросил, как поживает Кати, приезжает ли девочка на каникулы повидаться с мамой.
— Девочка… Ей скоро исполнится шестнадцать. Она стала красивой, знаешь. Еще немного, и мама будет ей уже не нужна. Вот еще одна причина, побудившая меня на новое замужество.
Алексис опять подумал, что скоро для Женевьевы, для него самого и для всех его друзей останется позади то время, когда в жизни происходит что-то интересное, и тогда придет время жить для Кати. Быть может, к ней перейдет роковое обаяние и опасная хрупкость ее матери, потому что надо, непременно надо, чтобы во все времена на земле существовали женщины, подобные ей, и зажигали сердца таких мужчин, как он, — рождая и возрождая нежность, печаль и мечту.
После того дня, как Женевьева сказала о своем предполагаемом браке, они перестали встречаться. Больше она не приглашала Алексиса к себе, и, уж конечно, не было речи о том, чтобы идти в отель. Однажды он спросил Женевьеву, как обстоят дела с ее замужеством.
— Похоже, все произойдет очень скоро, — последовал ответ.
Однажды в ноябре, ожидая Женевьеву после полудня в баре неподалеку от церкви Мадлен, он увидел, что она направляется к нему через весь зал, пробираясь между столиками, как обычно, легкая, со своей неизменной улыбкой, которую он заметил еще издали. Она до такой степени приковала его взгляд, что он не пошевельнулся даже тогда, когда Женевьева опустилась на диванчик рядом с ним. Она спросила:
— Ты меня не целуешь?
Он сжал ее в объятьях и стал целовать ее лицо, ее рот. Когда он наконец разжал объятья, она с удивлением посмотрела на него.
— Я не это имела в виду.
Ему хотелось спросить: «Где то, что мы обещали друг другу?» Но разве они что-нибудь обещали друг другу? Возможно, что и нет, но было такое время, когда они обходились без слов. Тогда Женевьеве было достаточно только произнести своим обычным тихим голосом: «Алексис…»
Фаншон зачастила к нему в мастерскую. Она двигалась бесшумно и осторожно, точно зверек, изучающий незнакомые места. Кончалось тем, что она устраивалась у него за спиной и, если Алексис не настроен был разговаривать, внимательно и молча следила за его работой. Словом, она вела себя почти так же, как Бюнем; можно было подумать, что, являясь к Алексису по очереди, они передавали его друг другу как эстафету. Случалось, они сталкивались у него лицом к лицу. Бюнем вел себя корректно, но чувствовалось, что он проявляет живой интерес к женщинам, которых встречал у Алексиса, даже если и немедленно спасался бегством, застав у художника гостью. Должно быть, он догадывался, какую роль играли в жизни его соседа сначала Женевьева, потом Фаншон. И он неизменно приносил свои пакетики с плитками горького шоколада для Нины.
— Какой странный тип, — говорила Фаншон. — Похож на философа.
— Нет, он не философ. Просто отчаявшийся человек.
Сталкиваясь в мастерской с женой Батифоля, Бюнем, прежде чем удалиться, тянулся, при своем маленьком росте, поцеловать у нее руку.
— Раз он все еще прикладывается к ручке, — говорила Фаншон, — не иначе как это выходец из Польши.
Однажды Бюнем подал Алексису мысль:
— Вам бы нарисовать сирень.
— Сирень! Что за странная идея?
— И не просто нарисовать, а так, чтобы эта сирень заполонила всю картину: при ее поразительных оттенках это должно производить ошеломляющее впечатление.
В тот же раз он спросил:
— Вы случайно не читали светскую хронику во вчерашней «Монд»? Я имею в виду не сообщения о рождениях и браках, а сообщения о смерти.
— Читал. Но я не увидел там знакомых имен.
— А я увидел. Там было сообщение о смерти камбоджийской принцессы. В действительности она француженка, но вышла замуж в Камбодже. Так вот, речь идет о женщине, с которой одно время, еще до войны, мы были вместе.
Его кадык снова задрожал.
— В тридцать девятом я завербовался в армию в качестве волонтера-иностранца. Десятого июня сорокового года меня взяли в плен в Экеннах, на Сомме, неподалеку от Пуа-де-Пикарди. Я попал в концлагерь Рошостервиц — это в Австрии, под Клагенфуртом. Три раза пытался бежать. Дважды меня хватали и возвращали назад, но в третий раз попытка удалась. Бежать меня побуждали ненависть к Гитлеру и желание продолжать борьбу, пока не будет окончательно истреблена эта нечисть, но сильнее всего было желание снова отыскать эту женщину. К сожалению, она меня не дождалась.
Хорошо бы он рассказал об этом подробнее…
— Терпеть не могу предаваться воспоминаниям. А между тем у меня безупречная память, — продолжал Бюнем. — Я помню все. Я мог бы повторить каждое слово, когда-либо слышанное мною.
После этого утверждения, прозвучавшего прелюдией, Алексис ожидал, что Бюнем приступит к рассказу о своих любовных похождениях с камбоджийской принцессой.
— Да, я помню все. Единственное, что я начисто забыл, — это подробности несчастного случая, который произошел со мною пятого сентября тысяча девятьсот сорок пятого года. В этот день на меня наехал автобус. Это произошло на бульваре Бомарше.
Он провел рукой по лбу.
— У меня был перелом костей черепа, и четыре дня я находился между жизнью и смертью.
Алексис посмотрел на его шишковатую голову. Интересно, эти бугры — результат несчастного случая или же просто причуды природы?
— Я не помню ровным счетом ничего. Я даже не видел этого автобуса. Четыре дня полного провала в памяти. Очнулся в больнице Ларибуазьер. Им пришлось рассказать мне, что со мной произошло. — Он добавил: — Голова… Я очень боялся за свою голову. Это все, что у меня есть, чтобы работать, чтобы устоять перед другими, теми, кто…
Он умолк. Что он хотел сказать? Кто эти «другие»? Те, кого природа одарила силой, красотой, богатством, успехом у женщин?
На этом откровения Бюнема оборвались, больше он не сказал о камбоджийской принцессе ни слова.
Алексис вовсе не испытывал желания рисовать сирень. Он задумал серию натюрмортов, но в несколько необычной манере: он не стал грунтовать холст, и изображение предметов — или, скорее, смутные их контуры — как бы проступало сквозь ткань, готовое вот-вот исчезнуть. Он назвал эту новую серию «Вещи покидают нас».
Воспользовавшись тем, что муж вернулся домой не слишком поздно, Мари-Жо Марманд закатила ему бурную сцену, не заботясь о том, что дети — Тьерри, Шанталь и Жози — могут слышать скандал из своей комнаты, она принялась упрекать его, что он забросил семью и без конца унижает ее. Мари-Жо плакала. Нос у нее заострился и побелел. Она была вне себя от ярости. Футболист смотрел на ее покрасневшие глаза с коротенькими ресницами, на ее прямые, редкие волосы и спрашивал себя, в самом ли деле ему жаль эту женщину. Во всяком случае, Мари-Жо никогда его не понять. «Меня терзают два тирана, — думал он, — Мари-Жо и моя чувственность». Однако не одна только чувственность заставляла его домогаться женщин — молодых и не слишком молодых, красивых и совсем невзрачных. Он получал удовольствие, одерживая очередную победу, добиваясь капитуляции и видя, что его жертва сама желает этого поражения. Ему никогда не надоест наслаждаться, убеждаясь, что незнакомка — а он видел ее в каждой женщине — приходит туда, куда он пожелает, чтобы сложить оружие и доспехи и сдаться на милость победителя; ему доставляло особую радость вырвать у нее стон в минуту наслаждения — свидетельство своего окончательного триумфа. Эта потребность в постоянных завоеваниях возникла у него после того, как в восемнадцать лет он сделал восхитительное открытие — оказывается, совсем легко доставить женщине радость, и он с изумлением наблюдал, как они без всякого сопротивления падают в его объятья, хотя и знают, что за близостью последует неминуемая разлука. Он познал счастье делать счастливыми других. И все-таки, несмотря на свой богатый опыт, он всегда боялся быть отвергнутым, обнаружить, что из двоих только он один стремится к наслаждению, и потому тем более восхитительным был момент, когда он убеждался, что и его возлюбленная получает от любовной игры не меньшее удовольствие.
Он прекрасно знал, даже если никогда и никому в этом не признавался, что его подлинной жизнью была жизнь чувственная. Он нуждался в женском теле. Огорчительно только то, что, как правило, женщины хотели навязать ему еще и свою душу. А в этом он нужды не испытывал — от этого не жди ничего, кроме неприятностей. Да, его подлинной жизнью была жизнь чувственная, даже если его влекло к женщине еще и стремление понравиться или найти успокоение, обрести теплое гнездышко у нее на груди. Однако все эти относительно сложные чувства он сводил к простой формуле и о себе говорил так: «Люблю обольщать женщин». Он осознавал, что в нем странным образом уживаются Джекиль и Хайд[12], — он был постоянно занят либо футболом, славой, успехом, либо поисками чувственного наслаждения, — и один вытеснял другого. Это вынуждало Марманда скрывать от всех свои любовные похождения точно так же, как раньше он стремился сохранить в тайне поручения неблаговидного характера, которые давал ему Тремюла.
Связь с Ниной не мешала ему искать встреч с другими женщинами. К тому же его влечение к Нине стало остывать. И если он еще продолжал поддерживать эту связь, то у него были на это особые причины: он хотел подняться по общественной лестнице, приобщиться к культуре, а для этого ему нужна была возлюбленная — заложница из того мира, куда он надеялся проникнуть. Он считал Нину умной, тонкой. Правда, она не обладала природным изяществом Женевьевы, но Женевьева казалась Марманду слишком неуравновешенной. Таким образом, если принять теорию антиподов, воплотившихся в Марманде, Нина, сама того не зная, перестав быть любовницей второго — сластолюбивого альфонса, стала возлюбленной первого — знаменитого и тщеславного футболиста.
Эти мысли, бродившие в голове Марманда, помогали ему сносить крики жены, которые временами достигали такой силы, что он с удивлением думал, как могло издавать их это тщедушное существо в халатике из цветастого мольтона.
— Если ты сейчас же не замолчишь, — неожиданно сказал он, — я уйду из дому. Завтра утром у меня тренировка, и мне рано вставать.
Тишина мгновенно воцарилась в спальне, которую Марманд называл про себя с тем грубоватым юмором, каким он отличался иногда, «местом искупления грехов».
Футболист уснул, ощущая рядом с собой враждебное присутствие Мари-Жо, неподвижно лежавшей в темноте с открытыми глазами, приготовившись к мукам бессонницы. Наутро, когда он проснулся, ее рядом не было. Он услышал привычную возню в кухне, где обычно завтракали дети. Потом Тьерри, Шанталь и Жозиана отправились в школу.
Мари-Жо вошла в спальню и зажгла верхний свет. Она была все в том же мольтоновом халатике.
— Вставай же, — сказала она, — раз тебе нужно на тренировку.
Кристиан Марманд откинул простыни и встал с постели нагой. Мари-Жо завопила:
— И не стыдно тебе демонстрировать свои прелести, раз ты давно уже во мне не нуждаешься! Убирайся-ка лучше к своим девкам! — Потом уточнила: — К своей девке!
И снова начался скандал. Накинув халат, Марманд пошел на кухню. Мари-Жо отправилась следом за ним. Она молча смотрела, как он наливает себе кофе, намазывает маслом гренки. А когда заговорила снова, то уже не повышала голоса. Только спросила еле слышно:
— Почему ты меня так обижаешь? Ведь я не злая.
— Злые не ведают того, что они злые, — ответил Марманд.
Мари-Жо промолчала. Он подумал, что она успокоилась и, быть может, даже в состоянии его выслушать.
— Послушай, — начал он, — давай поговорим спокойно… по-дружески… Я много думал. В том, что с нами происходит, нет ни твоей вины, ни моей. Так к чему же ссориться? Я хотел бы тебе объяснить…
Мари-Жо слушала его, казалось, с некоторым удивлением. Она застыла на месте и, похоже, не собиралась его прерывать. Он представил себе, что перед ним футбольное поле, где расставлено множество ловушек, и ему предстоит провести через все это поле мяч.
— Когда мы с тобой познакомились, мы были совсем юные, почти дети. В то время мы были в равном положении и влюблены друг в друга. Затем появился футбол.
Мари-Жо, забыв о сдержанности, стала на чем свет стоит поносить спорт.
— Перестань. Благодаря футболу я занял положение в обществе, стал зарабатывать больше, намного больше, чем прежде. А ты бы хотела, чтоб я всю жизнь корпел в мастерской? За это время я пообтесался, стал лучше разбираться в жизни, многое узнал. Возможно, мой природный ум только и ждал, чтобы его пробудили. А может, мне просто здорово повезло. Не знаю…
Он продолжал вести мяч, меняя тактику в зависимости от того, что читал в глазах жены: недоверие или вспышку гнева. Совсем как в футболе, когда приходится делать обманный маневр, чтобы провести мяч, — отпасовать, чтобы потом снова ринуться к воротам.
— Вся беда в том, что ты за мной не поспевала. Ты осталась такой, какой была. Не сердись, пожалуйста. Ни ты, ни я тут ни в чем не виноваты. Я думаю, ответственность за все ложится только на общество. Веками женщин отодвигали на второй план, держали их в кабале, а когда представлялся случай подняться по общественной лестнице, изменить свою жизнь, им было гораздо труднее, нежели мужчинам, освободиться от условностей. Смотри, что случалось нередко после революции. Женщины, которые, как правило, выходили замуж совсем юными, с годами отставали от своих мужей, не понимали их идей, и тем ничего другого не оставалось, как покидать их и искать других спутниц жизни, которые разделяли бы их убеждения.
— Что ты мелешь?! — вдруг прервала его Мари-Жо, с ужасом глядя на него.
Он сказал себе: «Вот они, ворота, — совсем близко. Сейчас самое время забить гол. Удар трудный, но промахнуться нельзя». Он почему-то подумал о хронических недостатках французского футбола: его игроки отлично владеют маневром, но часто обнаруживают слабость в завершающий момент игры.
— Ты мать моих детей, но мы перестали понимать друг друга. Что бы я ни сказал, что бы ни подумал — все причиняет тебе боль. Дальнейшая совместная жизнь для нас чистое безумие. Очевидно, я должен уйти и считаю, что в твоих же интересах согласиться на развод.
Итак, слово сказано. Казалось, оно повисло в тишине. Кристиан Марманд встал. Мари-Жо пошатнулась, ухватилась за край мойки, чтобы не упасть.
— Я тебя никогда не отпущу! — закричала она.
Кристиан повернулся к жене спиной и направился к двери. Мари-Жо выхватила из мойки, куда она поставила грязную посуду, фруктовый нож с заостренным концом, намереваясь бросить его в мужа. Но Марманд вовремя обернулся и, схватив жену за запястье, вывернул ей руку. Мари-Жо, вскрикнув, выронила нож. Кристиан Марманд замахнулся, чтобы ударить жену, но та попятилась и упала навзничь. Продолжая лежать на линолеуме, Мари-Жо громко выла, а потом заплакала навзрыд. Истерика продолжалась почти четверть часа. Наконец Мари-Жо услышала шум мотора — Марманд уехал.
Она встала и пошла за ножом, отлетевшим в другой угол кухни. Мари-Жо недоверчиво рассматривала это ненадежное оружие. Как же она не подумала о пистолете: ведь это была одна из любимых историй Кристиана. Она знала эту историю наизусть, принадлежа к числу жен, перед которыми мужья не стесняются повторять номера своего репертуара.
Вначале пистолет этот принадлежал певцу Игорю Чуковскому, русскому по происхождению, большому любителю выпить, что в конце концов и погубило его. Еще в тридцатые годы певец подвизался в разных кафе на Монпарнасе; вечно пьяный, вечно без денег, он был вдобавок ко всему еще и азартным игроком. Не раз, потрясая пистолетом, он грозился покончить с собой. Однако доконала его скоротечная чахотка. Пистолет был частью жалкого имущества, доставшегося его вдове, ибо в нескончаемом водовороте связей, страстей и драм он все-таки сумел обзавестись законной супругой по имени Вики. Это была высокая, тощая англичанка, танцовщица из «Парижского казино». Несколько лет спустя Вики объявилась снова — теперь она стала солидной дамой и вторично вышла замуж за своего соотечественника Джона Ландскейпа, владельца каретной мастерской, поселившегося в Леваллуа. У Ландскейпа работал подмастерье по имени Кристиан. Мало-помалу супруги прониклись к парнишке дружескими чувствами («Этот негодяй всегда умел влезть в душу», — подумала Мари-Жо, про себя комментируя историю, неоднократно пересказываемую мужем). Ландскейп и подал ему мысль заняться спортом — начать играть в футбол. Думал ли англичанин, что это обернется для Кристиана началом большой карьеры, окажется истинным его призванием? («И несчастьем для всех нас», — мысленно добавила Мари-Жо.) Кристиан иногда приходил к своим хозяевам с Мари-Жо, но их английский выговор внушал ей робость, и она рвалась поскорее уйти. И это несмотря на то, что мадам Вики часто говорила ей: «Какая вы милашка!» — ведь обычно люди не очень-то щедры на комплименты.
История с пистолетом имела свое продолжение. В годы войны, поражения и оккупации Джон Ландскейп и его жена постоянно дрожали от страха. Они давно получили французское подданство, но все продолжали называть их «англичанами», и они постоянно боялись, что их арестуют и интернируют, а потому жили, что называется, «тише воды ниже травы». Но несмотря на страх, а может быть, именно из-за страха, они все не могли решить, как избавиться от пистолета, который достался Вики после смерти первого мужа, и спрятали его, предварительно тщательно смазав и завернув в тряпки, в кухне за газовой плитой.
Когда вспыхнуло парижское восстание, Кристиан заявился в мастерскую в нарукавной повязке FFJ[13] и с большущим револьвером. («Ему всегда во что бы то ни стало надо было производить впечатление на окружающих».) Каретник прижал своего бывшего ученика к груди. Мадам пролила слезу и обняла его в свою очередь. После чего Кристиан возвратился да баррикады.
Но вскоре его постиг тяжкий удар. У него украли револьвер. Оружия на всех не хватало, и далеко не каждый повстанец был вооружен. Кристиан находился в доме неподалеку от Порт-Шампере, который служил участникам восстания штаб-квартирой и был похож на муравейник. Положив револьвер на подоконник, Кристиан отошел в глубь комнаты, когда же он вернулся, револьвера и след простыл. Искать вора при том, что люди непрерывно приходили и уходили, было совершенно бесполезно. Так Кристиан стал бойцом без оружия, иначе говоря — посмешищем.
В полной растерянности, считая, что его сражение уже проиграно, он отправился к Ландскейпам. Его вел сюда инстинкт — это были настоящие друзья, покровители, почти родные, и он любил бывать в их доме. («Просто-напросто он всегда был гадиной, которая так и норовила кому-нибудь напакостить».) Супруги Ландскейп, встретив Кристиана, молча переглянулись. А потом Джон пошел на кухню и извлек из тайника старый браунинг, который так славно послужил своему первому владельцу во время скандалов в кафе «Куполь» и «Дом» и который его жена столько лет прятала за плитой, — то ли как последнее средство защиты, то ли как талисман. Кристиану и в голову не приходило, что они могла хранить дома оружие. Вот так заканчивалась чудесная история о пистолете, которую любил рассказывать Кристиан Марманд. Ее продолжение он считал неинтересным, но в памяти Мари-Жо оно запечатлелось навсегда.
Спустя два-три дня после Освобождения Кристиан отправился на вечеринку к своим новым друзьям — соратникам по битве за Париж. Пистолет все еще был при нем. Он извлек браунинг из кармана и стал демонстрировать всем, передавая по кругу. Когда очередь дошла до Мари-Жо, ей захотелось получше рассмотреть пистолет. Она впервые держала в руках огнестрельное оружие и размахивала пистолетом, весело смеясь. По-видимому, она задела курок. Выстрел, раздавшийся в закрытом помещении, оглушил присутствующих. Пуля попала в потолок. Мари-Жо продолжала смеяться — теперь уже истерически. Кристиан с видом смельчака, который еще и не такое видел на своем веку, небрежно сунул пистолет обратно в карман.
Молодой человек и не подумал вернуть оружие по принадлежности. По мере того как росла его спортивная слава, все реже и реже удостаивал он бывших хозяев своим появлением. Впрочем, окончание войны принесло супругам Ландскейп новые испытания — мадам Вики заболела, и, похоже, очень тяжело. Она сильно похудела, лицо ее было уже отнюдь не розовым, как прежде. Увидев Кристиана и Мари-Жо и понимая, что видит их, возможно, в последний раз, она не могла сдержать слезы.
После того как молодые люди поженились, пистолет долгое время валялся у них в ящике буфета. Но когда отношения осложнились и пошли скандалы, Кристиан, зная, что в таких случаях Мари-Жо не контролирует свои поступки, спрятал его. По крайней мере так считала супруга футболиста. Она заметила, что пистолета уже нет на прежнем месте, в тот день, когда ей понадобился карманный фонарик, чтобы спуститься в погреб. Она порылась в ящике, где можно было найти все что угодно: свечи и веревку, отвертку и счета за газ… Накануне Мари-Жо обрушилась на мужа с упреками, угрожая убить его, детей и себя. Она поняла, что Кристиан испугался, восприняв ее угрозы всерьез, и спрятал пистолет. Мари-Жо была убеждена, что муж спрятал его, а не выбросил, отдал или продал кому-нибудь. До сегодняшнего дня ей и в голову не приходило разыскивать пистолет. Но сегодня она решила обшарить весь дом, комнату за комнатой; она рылась в стенных шкафах, проверила все коробки, сумки и чемоданы, осмотрела все уголки в погребе. Наконец, ей пришло в голову, взобравшись на табуретку, приподнять крышку чердачного люка на втором этаже, над лестничной клеткой. Рука нащупала бумажный пакет, перевязанный веревочкой. Вернувшись в кухню, она развернула его и стала рассматривать злосчастный пистолет. Ей вспомнился день, когда она впервые взяла его в руки и раздался выстрел, повергший ее в ужас. Но сегодня она проявит осторожность. Это, должно быть, нетрудно… Она взяла пистолет, захватив указательным пальцем курок, выставила руку далеко вперед и нажала курок. Послышался щелчок — пистолет оказался не заряжен. Она вспомнила, что в тумбочке возле кровати мужа валялась металлическая коробка из-под сигарет, в которой она видела четыре пули. Маловато, но все равно должно хватить. Ей не сразу удалось вложить их в магазин пистолета. У дверей кто-то позвонил. Сунув пистолет в кухонный шкаф, она пошла открывать. Оказалось, это соседка привела Жозиану из школы, — Мари-Жо совершенно забыла про время.
— Что-нибудь случилось? — спросила соседка. — Почему ты в халате? Ты заболела?
— Мне нездоровится. Но ничего страшного.
— Хочешь, я покормлю девочку обедом? Какая ты бледная…
— Нет, спасибо. Я отведу ее обратно в школу сама.
Дома обедала одна Жозиана, старшие дети учились в лицее и питались там в столовой. Жозиана, посещавшая начальную школу, была слабенькая девочка, и Мари-Жо ежедневно приводила ее из школы, чтобы покормить дома. Она подала дочери обед, но сама не села за стол, — она стала одеваться, не желая терять времени на то, чтобы умыться и накраситься. На ней, что называется, лица не было. Она положила пистолет в сумочку, но он занял столько места, что сумка не закрылась, и тогда Мари-Жо зажала ее под мышкой, стараясь, чтобы она не торчала из-под накидки.
— Что у тебя в сумке? — спросила Жозиана.
— Ничего. Пакет.
За столом они почти не разговаривали, но это уже вошло у них в привычку, девочка росла молчаливой, в мать.
Они пошли в школу. Подойдя к воротам, Мари-Жо направила девочку ко входу, положив ей руку на плечо, но та обернулась, чтобы поцеловать мать. Мари-Жо провожала дочку взглядом, пока та шла через двор. Когда Жозиана вошла в класс, Мари-Жо увидела ее еще раз в окно. Зажав покрепче сумочку, она прошла пешком до конечной остановки автобуса номер 134 — как раз напротив франко-мусульманской больницы. Она опоздала на очередной рейс всего на какую-нибудь минуту и еще издали увидела, как машина отъезжает. Решив не дожидаться следующего автобуса, который придет не раньше, чем через полчаса, она двинулась к остановке возле типографии «Иллюстрасьон», откуда начинается автобусная линия, ведущая в соседний квартал. Десять минут она шла и еще около десяти минут ждала на остановке. В автобусе ей пришлось открыть сумочку, доставая деньги, но кондуктор даже не заметил пистолета, самой же ей было безразлично — пусть видят. Она прошла в глубину автобуса и сидела там, не шевелясь, застыв в одной позе, не реагируя на толчки. У Порт де ля Виллет она спустилась в метро. Париж все еще оставался для нее чужим и враждебным городом. Она никак не могла найти на схеме улочку, где жила «эта девка». У нее болела голова, болели глаза. На платформе она присела и расплакалась. Но слезы быстро иссякли. Смахнув их рукой, Мари-Жо снова подошла к схеме. Наконец она отыскала нужную улицу, прикинула, как туда добираться, и вошла в вагон метро. Послышался звонок, опоздавшие пассажиры поспешили к поезду, автоматические двери закрылись, поезд тронулся и помчался по подземному туннелю, отсчитывая станции: Корантен-Кариу, Криме, Рике, Сталинград, Луи-Блан, Шато-Ландон, Гао де л’Эст, Пуассоньер, Каде, Шоссе-д’Антен, Опера, Пирамид, Пале-Рояль, Пон-Неф, Шатле. Выйдя из вагона, Мари-Жо снова подошла посмотреть план-схему. Затем пересела на линию Порт д’Орлеан и вышла на станции Сен-Пласид.
Оказавшись на улице, она никак не могла сориентироваться. Наконец она узнала вокзал Монпарнас в конце улицы Ренн, которую пересекла, и, полагая, что вышла на улицу Вожирар, зашагала по улице Аббе-Грегуар. Она долго кружила, путая переулки — Берит, Режи и Жербийон. И все продолжала прижимать к себе незакрывающуюся сумочку. Прошло два с половиной часа с того момента, как Мари-Жо оставила дочь в школе. Она вышла на улицу Шерш-Миди, повернула налево, почти наугад, и наконец попала на улицу Жан-Ферранди. Номер квартиры и этаж она установила, взглянув на почтовый ящик при входе. Консьержки на месте не оказалось. Мари-Жо поднялась на этаж, где снова прочла нужную ей фамилию, написанную красным фломастером на картонке.
Начиная свою новую картину, Алексис взял за отправную точку изображение дракона с китайской вазы, ярко расписанной желтым, зеленым и красным; эта ваза с трещиной возле горлышка досталась ему в наследство. Он увеличивал дракона до тех пор, пока, лишившись хвоста, головы и лап, он не стал неузнаваем и не превратился в абстрактную композицию с черными и красными завитками, напоминавшими языки пламени и клубы дыма. Всякий раз, когда он замышлял картину, Алексиса раздирали два противоречивых чувства: стремление к мелодической пластике, с одной стороны, и необходимость сохранять четкую композицию — с другой. Когда-нибудь, возможно, он достигнет идеала и его произведения будут и музыкальными, как песня, и явят собою победу живописи над конкретной реальностью.
Фаншон пришла к нему в мастерскую, рассчитывая поболтать, но на этот раз она не остановилась, как обычно, за спиной у Алексиса, разглядывая через его плечо картину, а уселась перед мольбертом на табурет лицом к художнику. На ней были черные брюки и черная блуза, распахнутая очень глубоко на ее плоской груди.
Фаншон рассказывала о своем отце, которого она не слишком хорошо помнила, но очень почитала. Актер театра и режиссер, он чуть-чуть опережал свое время, однако работал мало, был человеком требовательным в искусстве и в то же время ленивым, а может, не столько ленивым, сколько поверхностным. Он увлекался женщинами, и те платили ему взаимностью. Вполне возможно, что она, Фаншон, его дочь, была последней, посмертной жертвой этого Казановы. Как бы там ни было, сегодня никто не мог запретить ей мечтать и верить, что, если бы Макс Фишгольд остался в живых и возвратился на родину, он достиг бы в конце концов высот Барро и Вилара. Но в тот момент, когда разразилась война, он пребывал на гастролях за границей — на Балканах, куда они повезли «Федру», «Тартюфа» и «Полиэкта», делая вид, будто верят, что несут в мир свет французского гения. На самом же деле в этих гастролях не было ничего выдающегося — просто очередная культурная миссия. Труппа застряла в Румынии, пока ее наконец не забрал английский пароход, возвращавшийся в Лондон. Они совершили довольно длительное плаванье по Черному морю, потом через Босфор и Дарданеллы с заходом в Каир и Гибралтар. Макс Фишгольд нашел себе на этом пароходе подружку — молодую англичанку, влюбился в нее, решил не возвращаться в Париж и действительно остался в Англии, благо он не был военнообязанным. Он существовал на деньги, которые давали ему уроки французского или участие в передачах Би-би-си. Когда идиллия кончилась и он уже подумывал о том, чтобы вернуться к семье, произошло сражение при Дюнкерке. Макс Фишгольд прожил в Англии времена блицкрига и всего, что последовало за этим, — он даже выступал по Лондонскому радио, и его голос нередко звучал в знаменитой передаче «Для родных и близких». Кроме того, он был одним из дикторов информационного бюллетеня.
— Знаешь, у меня есть запись, сделанная во Франции. Из-за помех в эфире голос искажен, но это голос отца. Я дам тебе ее прослушать.
— А где в это время находились вы?
— Мы оставались дома. Прятались как могли.
— Из-за отца ты и решила стать актрисой?
— Да. Впрочем, мама тоже актриса. Но мы с ней никогда особенно не ладили. Я не ставлю ей в вину того, что она не смогла удержать отца. Думаю, это было невозможно. Но как она не могла понять, что он человек незаурядный?
Что произошло после окончания войны, Фаншон точно не знала. Когда наступила пора возвращаться во Францию, Макс Фишгольд покончил с собой. Наверняка не из-за женщины. Многие женщины пытались покончить жизнь самоубийством из-за него, но обратное трудно было себе представить. Да и у Макса Фишгольда была в тот момент связь с очаровательной женщиной из Шотландии. Может быть, он боялся встречи с Парижем? Но ведь он вернулся бы туда с большими козырями, нежели те, с какими уехал, — ореол участника передач Лондонского радио распахнул бы перед ним все двери.
— Фаншон, Фаншон… — произнес Алексис.
Ему было ясно, что Макс Фишгольд вовсе не был великим человеком, и у него сжималось сердце, когда он видел, как, ослепленная своей дочерней любовью, Фаншон строила карточный домик. Чем же была ее жизнь — детство, отрочество, брак с толстяком Батифолем, — если единственным светлым пятном оставался для нее отец-призрак, покончивший жизнь самоубийством, даже не подумав о том, что оставляет дочь сиротой?
— Если бы он вернулся, все было бы иначе… — прошептала Фаншон.
— Он тебя любил?
— Да. Если существует на свете нечто, во что я еще верю, так это его любовь ко мне. Знаешь, он снимался у Ренуара в «Преступлении господина Ланже». Я случайно посмотрела этот фильм и узнала его среди наборщиков в типографии — он буквально на секунду мелькнул на экране. А еще он снимался в «Летнем свете» Жана Гремийона. Там он стоит на строительных лесах. Была у него роль и посерьезнее — в фильме «Метрополитэн» с участием Жинетт Леклерк, но эту картину давно уже не показывают. Он не любил кино и лишь изредка снимался в эпизодах — только ради заработка. В большинстве случаев его фамилии нет в титрах. Я даже не знаю, в каких картинах могла бы увидеть своего отца — увидеть живым. После того как я узнала его в «Преступлении господина Ланже», я стала регулярно посещать просмотры в «Синематеке». Я пересмотрела все довоенные картины. Вглядывалась в каждую сцену до боли в глазах. Но узнать отца на экране почти невозможно. Во-первых, у него слишком короткие роли, а во-вторых, используя его характерную внешность, его часто гримировали под какой-нибудь экзотический персонаж. Например, я знаю, что он снимался в фильме «На дне» вместе с Жуве и Габеном, но в облике мужика с окладистой бородой даже мне не удалось распознать его среди прочих актеров.
— Уж не снимался ли он в «Тарасе Бульбе» вместе с Каплунцовым?
— А разве Каплунцов снимался в «Тарасе Бульбе»?
— Ты сама мне об этом рассказывала.
— Кроме того, отец принимал участие в дубляже всех американских гангстерских фильмов, где режиссерами были Марсель Дюамель и Макс Мориз. Я думаю, что он был в приятельских отношениях с кем-то из них, вот они и давали ему подработать. Всякий раз, как на экране появляется пузатый гангстер, который готов предать своих сообщников, и глава банды орет на него, в то время как он клянется и божится в честности, — звучит голос моего отца. Я слушаю его, закрыв глаза, чтобы не видеть пузатого гангстера. Бедный папа!
— Я хотел бы пойти с тобой посмотреть «Летний свет» и увидеть твоего отца.
— А между тем иногда я думаю…
Послышался звонок в дверь. Занятый своей картиной, Алексис попросил Фаншон пойти открыть. Она поднялась с табурета и направилась к двери. На площадке стояла невысокая худенькая женщина с тонким лицом, поразившим Фаншон своей бледностью, словно женщина забыла накраситься или же, наоборот, наложила слишком густой грим, как у клоуна.
— Вам кого? — спросила ее Фаншон.
— Тебя, грязная шлюха! — последовал ответ.
Дрожащими руками женщина стала рыться в сумочке, пока в конце концов не выронила ее. Сумка шлепнулась на пол, и из нее высыпалось все содержимое. В руке у незнакомки оказался пистолет, и, когда Фаншон стала пятиться назад, в мастерскую, незнакомка выстрелила в нее, но промахнулась и выстрелила вторично. Фаншон почувствовала жгучую боль в левом бедре и повалилась на пол.
Даже не успев еще понять, что, собственно, произошло, Алексис подбежал к Фаншон. Но в тот же миг какой-то человек, оказавшийся за спиной обезумевшей женщины, попытался вывернуть ей руки за спину, однако при том, что Мари-Жо была маленькая и худенькая, ему это никак не удавалось сделать. Два тела покатились по полу. Только тут Алексис узнал Бюнема. Должно быть, сосед направлялся к нему со своим очередным визитом и очутился позади Мари-Жо в тот самый момент, когда та выстрелила в Фаншон. Мари-Жо отбивалась, но Бюнем не разжимал рук. Они катались по полу живым клубком, натыкаясь на стулья. Послышался новый выстрел. Тела распались. Бюнем поднялся с полу, по лицу у него текла кровь.
— Смотрите, что со мной сделали! — вскричал он. — Опять голова. Моя голова! — Он сник и упал на пол, испуская стоны.
Мари-Жо наконец бросила пистолет. Она поднялась на ноги, дрожа всем телом.
— Не знаю, как это могло произойти, — бормотала она. — Этот выстрел получился сам собой. Я не хотела…
Алексис позвонил в полицию. Похоже, пуля только задела бедро Фаншон. Она прикладывала к ране вату. Но Бюнем продолжал стонать, обливаясь кровью, лицо его побледнело и стало страшным. Алексис не решался его трогать. Мари-Жо застыла, оцепенев, на стуле.
— Держу пари, что это жена Марманда, — сказала Фаншон. — Та самая, которая пыталась облить кислотой Женевьеву. Она приняла меня за Нину. — Лицо Фаншон исказила боль. — Мерзавка! Горит так, будто прижгли каленым железом. — Она вскрикнула и тут же с отчаянием в голосе спросила: — А Батифоль? Что скажет мой Батифоль?
Алексис ощутил во рту привкус горечи, подступившей то ли от вида крови, то ли от сознания, что теперь он остался один-одинешенек, — покинут всеми, даже Фаншон. Он постарался взять себя в руки и подошел к Мари-Жо. Схватив за плечо, он стал трясти ее, словно желая разбудить.
— Послушайте, — сказал он. — Сейчас придут из полиции и займутся ранеными. Вы натворили слишком много бед, и никто вам не поверит, будто все это произошло в результате несчастного случая. Они арестуют вас.
Похоже, что к Мари-Жо возвращался рассудок.
— Вы думаете, говорить им, что это несчастный случай, бесполезно? А знаете, так было однажды… Когда освободили Париж, Кристиан решил показать мне свой пистолет, и не успела я взять его в руки, как раздался выстрел. Я чуть было не убила его. Я такая невезучая.
И она спросила:
— А вы не знаете, где Кристиан? Он меня бросил. Вы не можете его найти, вернуть его мне?
Но тут уж никто не мог бы ей помочь.
Алексис ежедневно навещал Бюнема, которого поместили в больницу Бусико. Пострадавший находился между жизнью и смертью. Состояние его было до такой степени критическим, что ему предоставили отдельную палату. Он лежал на кровати, точно в клетке — края ее были забраны сетками из опасения, как бы он случайно не упал. Забинтованная голова, руки, исколотые иглами капельницы, такие худые, словно они состояли из одних сухожилий и вен, и лицо, на котором торчали монгольские скулы… На шее, жалкой, как у ощипанного цыпленка, по-прежнему дрожал кадык. Он почти не открывал глаз. Как только еще держалась душа в этом теле? Ему предстояла сложная операция, так как пуля задела мозговые центры. В иные дни Бюнем терял сознание. В тех редких случаях, когда он приоткрывал глаза и вроде бы узнавал Алексиса, Бюнем, казалось, пытался что-то сказать ему. Но голос его был таким слабым, что художник ничего не мог понять и наугад кивал головой: «Да… да…» А между тем Алексис испытывал жгучее желание поговорить с этим мудрым человеком. Ему необходимо было узнать, что тот думает о смерти, как он относится к мысли, что ее легкое, такое легкое прикосновение вот-вот сотрет его с лица земли, и тогда он присоединится к сонму забытых ныне людей, тех, что называли его по имени и были так жестоко уничтожены. Но поздно, Бюнем уже не мог говорить или по крайней мере говорить членораздельно. Да и слышал он тоже плохо.
В первые дни он проклинал жизнь и твердил: «Надеюсь, на этот раз я подохну». Но потом — насколько можно было разобрать его невнятную речь — он хотя и восставал против своих страданий, однако больше не выражал желания умереть. Алексис вспоминал слова, как-то сказанные Бюнемом: «В жизни есть великое утешение, помогающее переносить все ее тяготы, — оно заключается в возможности покончить с нею в любую минуту». Он называл это «выходом из положения». Казалось, в этих словах звучала вся обездоленность одинокого человека, этого изгоя, отвергнутого обществом. Но Алексис не мог бы поручиться, что сам Бюнем считает себя таковым, хотя и внушает подобное впечатление и ему, и вообще всем, с кем он общался. Нередко в разговоре он весьма незаметно и тактично давал понять, что отдает себе отчет в своем интеллектуальном и моральном превосходстве над современниками, которые в большинстве случаев заботятся лишь о внешнем преуспеянии. «Стоит разыграть маленькую комедию, — говорил он, — и ты окажешься наравне с круглыми дураками».
Алексис даже не смог объяснить пострадавшему, кто такая Мари-Жо и почему она явилась к нему с пистолетом.
Ему хотелось спросить у Бюнема, почему, едва встав на ноги и обливаясь кровью, он крикнул: «Смотрите, что со мной сделали!» Не эту ли фразу бросил один известный политический деятель после того, как в него стреляли? Имел ли Бюнем в виду именно его? С его привычкой постоянно кого-нибудь цитировать это было вполне возможно. Но когда Алексис попытался что-то втолковать Бюнему, бедняга сосредоточил все свое внимание на том, как бы просунуть пальцы в сетку своей кровати. Сгибая пальцы, Бюнем натягивал проволоку. Можно было подумать, что это упражнение высшей сложности, иногда он даже поддерживал правой рукой левую, чтобы она не дрожала, и таким образом ему удавалось просунуть в сетку сначала один палец, потом второй и так далее. Целиком поглощенный этим занятием, он тихонько стонал, не отдавая себе в этом отчета.
Каждый раз, приходя в больницу, Алексис спрашивал сиделку: «Как он сегодня?», на что та неизменно отвечала: «Как всегда». Иногда он пытался вытянуть из нее более подробные сведения: «Сегодня у него вид как будто чуточку лучше, вы не находите?» Но ответ был неизменным: «Как всегда». Иной раз, пораженный состоянием больного, Алексис говорил: «Сегодня, мне кажется, он плоховат». На это сиделка отвечала: «Да, бывают плохие моменты».
Плохие моменты. Возможно, такая формулировка понравилась бы Бюнему.
Однажды Алексис увидел в палате Бюнема цветы. Выходит, это человек вовсе не был таким одиноким, как он сам это представлял. Однако художник ни разу не заставал у него посетителей. Однажды больной подал знак, что хочет пить. Алексис поднес ему воду в стакане с пластмассовой соломинкой. Через некоторое время Бюнем снова попросил воды. Когда Алексис, приподняв больного, подносил стакан к его губам, он вдруг открыл для себя, что жизнь — это деятельность и активность, это мысли и желания, но постепенно они ослабевают и уходят, пока не настанет момент, когда ты уже не в состоянии поднести к губам даже стакан с водой и тоненькая струйка живительной влаги, которую ты всасываешь через соломинку, воспринимается как немыслимое счастье, подаренное судьбой, — при условии, если тебя обслужит сиделка или посетитель, спешащий выполнить неприятную обязанность и уйти. Вот так и этот безнадежно больной человек, который еще недавно справлялся со сложнейшими задачами, изъяснялся на нескольких языках, без труда ориентировался в лабиринтах Национальной библиотеки, а когда-то нашел в себе силы бежать из концлагеря в Австрии, чтобы вновь найти — а вернее, никогда не найти — камбоджийскую принцессу, — теперь же выпить несколько глотков воды для него равносильно подвигу.
Алексис покидал больницу подавленный. Безысходная грусть в глазах умирающего, горькая складка у рта — видеть все это было невероятно тяжело. Но он заставлял себя посещать Бюнема, даже не зная, как воспринимает тот его визиты, — просто чтобы наказать самого себя. Хотя бы за то, что он так глупо прожил свою жизнь.
Выстрелы Мари-Жо словно послужили сигналом к окончательному разобщению членов того маленького кружка, который собрал вокруг себя Шарль Тремюла. Нина довела свой брак с Алексисом до полного разрыва, покинув семейный очаг и переселившись в большую однокомнатную квартиру, которую она сняла на Монмартре. Но ей не довелось жить там с Кристианом Мармандом, как она рассчитывала. Футболисту пришлось возвратиться домой, в Бобиньи, и заняться своими детьми, поскольку Мари-Жо сначала находилась под арестом, а затем ее направили в психиатрическую больницу парижского округа. Нине нисколько не улыбалась перспектива взвалить себе на плечи заботы о чужих детях, и таким образом проблема взаимоотношений с Мармандом была решена.
Вопреки опасениям всех, кто был прямо или косвенно замешан в этой драме, делу не дали широкой огласки. Пресса далеко не всегда так немилосердна, как это принято думать. Достаточно было спортивным журналистам — друзьям Марманда — позвонить в пресс-агентство и попросить, чтобы выстрелы Мари-Жо обошли молчанием, и историю решено было не раздувать. Что может быть интересного в том, что жена симпатичного футболиста оказалась психически больной? В его положении мог оказаться каждый, такая беда может постичь любого. И потом надо подумать о детях. В конце-то концов, цинично заявили друзья Марманда, никакого ущерба Мари-Жо не нанесла: один человек легко ранен, только и всего. Газеты вняли просьбам, тем более что как раз в эти дни в Алжире развернулись бурные события, которые практически не оставили в газетах места для хроники происшествий. Тем не менее еженедельник, специализировавшийся на материалах из частной жизни известных людей, опубликовал заметку под заголовком, который имел отношение главным образом к Батифолю. По-видимому, читателей этого журнала футбол интересовал меньше, нежели театр, и потому заметка выглядела так:
«Трагедия Батифоля!
В жену популярного эстрадного комика стреляла супруга футболиста, это произошло в доме одного художника, живущего на Монмартре».
В качестве иллюстрации еженедельник поместил снимок — Батифоль с лицом, искаженным отчаянием, а рядом — старая фотография Фаншон, сделанная на каком-то приеме, на которой ее совершенно невозможно было узнать.
Открыв для себя (или считая, что теперь он уже не может не открыть), что Фаншон поддерживала с Алексисом нежные отношения, Батифоль послал художнику письмо и объявил ему о полком разрыве отношений. Оно гласило:
«Мсье!
Я почитал вас своим другом, но вы обманули мое доверие. Какая низость с вашей стороны — полагать, что со мной можно обращаться как с шутом. В другие времена я потребовал бы сатисфакции и никто не помешал бы мне вас убить. Ваше появление на улице Шарля V будет принято как нежелательное. Впредь ни моя жена, ни я не хотим больше видеть вас у себя».
И подпись: «Маркиз Леонар де Сен-Мамо».
На следующий день Алексис получил второе письмо: «Извините меня за идиотское послание. Но если я потеряю Фаншон, я погиб. Батифоль».
Однако независимо от тона обоих посланий результат был один — никогда больше Фаншон не появится в мастерской Алексиса, не будет, остановившись за его спиной, молча наблюдать, как он работает. Никогда больше не ласкать ему это смуглое тело, худое и страстное, с готовностью отдающееся его ласкам. Никогда больше не случится ему утолять жажду нежности, прильнув к ее губам, заглядывая в ее глаза, полные слез. Он не услышит больше этого картавого голоса с парижским выговором, который так воспламенял его. И не услышит больше наивных историй из времен детства вместе с придуманной Фаншон золотой легендой о любящем отце, наивной и трогательной. Никогда больше не почувствует он под своими пальцами шрам на ее бедре, оставленный пулей Мари-Жо.
Письма актера-комика навели Алексиса на мысль, что все супружеские пары, собравшиеся вокруг четы Тремюла, разыгрывали водевиль. Но только водевиль с печальным концом.
А Женевьева? Она предоставила им выпутываться из этой ужасной истории без нее, не подавая никаких признаков жизни, даже не написав ни строчки. Но, возможно, она просто ничего не знает о том, что здесь произошло? Вот уже несколько месяцев, как Алексис не встречался с нею.
Однажды, когда художник явился в больницу около трех часов пополудни, ему сообщили, что Бюнем только что скончался. Он успел только увидеть, как два санитара кладут тело на каталку, чтобы отвезти в морг. Никогда еще не казался таким невесомым этот человек, имевший столь малый вес на бренной земле. И чтобы окончательно исчезнуть, ему теперь уже ничего не требуется, кроме крошечного клочка земли где-нибудь в Пантене, Тиэ или Баньо, да и то при условии, если Алексис или кто-либо из его друзей, приносивших ему в больничную палату цветы, позаботятся о похоронах. Но даже и это пристанище будет лишь временным — пройдет еще несколько лет, и ему придется уступить место тем бедолагам, кого похоронят вслед за ним.
Алексис искал встреч с некоторыми людьми в надежде, что узнает какие-нибудь новости о Женевьеве. Однако чаще всего и они не могли сообщить ему ничего нового. А ведь только ради этого он принимал приглашение на обед или воскресную загородную прогулку, где мучительно томился от скуки. Он напоминал сам себе охотничью собаку, которая с нескончаемым терпением ищет свою дичь повсюду — в болотах, на равнинах. Обычно он возвращался домой ни с чем, злясь на себя за эти безрезультатные поиски. Почему он влюблен в свои воспоминания?
Наконец до него дошла весть, что Женевьева вторично вышла замуж, как и намеревалась. А еще несколько месяцев спустя донеслись слухи о том, что она якобы уже собирается разводиться. Затем, по прошествии еще некоторого времени, ему рассказали, что родственники купили ей модный магазинчик на улице Турнон, несомненно, чтобы найти для нее какое-нибудь занятие. Но как называется этот магазинчик, в каком доме он находится, никто не знал. Алексис не удержался и отправился на поиски. На улице Турнон, по левой стороне, совсем недалеко от Сената, он наткнулся на небольшой магазин с пустой витриной, на вывеске он прочел: «Фолия». Алексис расспросил соседей и выяснил, что торговля шла не очень успешно, так что в конце концов пришлось закрыть магазин. Владелица появлялась здесь очень редко, и что с ней потом сталось, неизвестно.
В канун рождества, около шести часов вечера, выходя из вагона метро на станции Гавр-Гомартен, Алексис заметил на перроне Женевьеву. С большим абажуром в руке она бежала, как всегда легко и изящно, — ее походку он уже успел забыть, лавируя в толпе, чтобы никого не задеть. И те же вьющиеся волосы. Это была та Женевьева, какую он любил. В одно мгновение все, что искажало ее образ, куда-то исчезло: их отдаление, их свидания в кафе, где они становились раз от разу все более чужими, поездки Женевьевы в Туке, партии в бридж, второй брак — словом, все то, что превращало Женевьеву в женщину, ничем не отличающуюся от других, очень обычную, иной раз даже смешную. Куда это она так спешит в сочельник со своим абажуром? На чье торжество? Чей дом она решила украсить? Алексис потерял Женевьеву из виду. Должно быть, она свернула в туннель, ведущий на пересадку. Ему и в голову не пришло прибавить шагу и догнать ее.
И все же настало время, когда Алексису пришлось покинуть улицу Жан-Ферранди и мастерскую, которую он снял временно — пока дом не начнут сносить, но это «временно» затянулось на двенадцать лет. Он подыскал себе другую мастерскую, чуть поменьше, на улице Плант, в Четырнадцатом округе. Ведь теперь он жил один. Иногда на его пути встречались женщины, стремившиеся навязать ему свое общество, но наталкивались на такое равнодушие, что все тут же и кончалось. Он уже не верил в возможность совместной жизни с кем бы то ни было, и женщины это хорошо чувствовали. Впоследствии, перебирая в памяти эпизоды своей биографии, он пришел к выводу, что то ли по случайности, то ли потому, что он обладал странной притягательной силой, но к нему тянулись лишь женщины, предрасположенные к неврозам, и Женевьева — самый яркий тому пример. Впрочем, он начинал подозревать, что, возможно, в чем-то патологичен и сам — если принять во внимание пристрастие к сложным женским натурам, что изначально обрекало их связь на провал. Его постоянная потребность в одиночестве и в то же время неспособность долго выносить затворничество, равно как и бесконечные блуждания, — все это приметы душевной неуравновешенности. А может быть, это шло от увлечения живописью, которая с каждым годом становилась для него все важнее и предъявляла на него свои права?
Алексис по-прежнему выставлялся у Арно Рюфера, бородатого торговца картинами с улицы Сены. Они были верны друг другу. Волосы у того и у другого поседели. Однажды художник зашел в галерею к Арно Рюферу, и тот рассказал:
— Сегодня меня заинтриговала одна посетительница — такая девица в стиле «хиппи». Она интересовалась, не я ли занимаюсь продажей твоих картин, поскольку увидела в соседнем магазине объявление о твоей последней выставке. По ее словам, у нее сохранилась одна картина — твоя давняя работа, и она хотела узнать, не пожелаю ли я ее приобрести. Я пытался добиться, чтобы она подробнее описала мне эту картину, но она не сумела. Говорит, на полотне только красное и черное — черного очень много. Я попросил ее наведаться ко мне завтра и принести картину с собой. Она пообещала. Может, тебе будет интересно ее увидеть?
— Картину или девушку?
— Ну хотя бы картину.
— Должно быть, это какая-то старая мазня, за которую мне придется краснеть.
— В таком случае следовало бы ее выкупить.
— Чтобы сжечь. Можно предположить и другое: это произведение, которое похитили из музея. Тогда ты рискуешь оказаться скупщиком краденого.
— Ты прекрасно знаешь, что ни одной твоей картины ни в одном музее нет. Пока еще нет…
— Я пошутил.
— Не нравится мне твоя манера шутить.
— Ну, а что если это подделка?
— Ты заставляешь меня сказать тебе, что твои картины еще не настолько высоко котируются, чтобы их пытались подделывать.
— Что верно, то верно.
— Послушай, какая муха тебя укусила? Я не помню тебя таким язвительным.
— Я пошутил. Ты же понимаешь, что я знаю себе истинную цену.
— Что бы такое ты мог рисовать черным и красным? Тебе не свойствен такой колорит.
— Понятия не имею. Картина большого формата?
— Нет, маленькая.
На следующий день у дверей галереи Рюфера появилась женщина лет тридцати. И поскольку в одной руке у нее была завернутая в газету картина, а за другую цеплялся мальчонка лет пяти, Рюферу пришлось распахнуть перед нею дверь.
— Здравствуйте, — сказала она. — Я принесла картину…
У нее были несколько резкие движения и глуховатый голос, которые свидетельствовали не то о нервозности, не то о тщательно скрываемой робости. На ней были сильно поношенные джинсы и индийская кофта; вязаный шерстяной шарф зеленого цвета, обвивавший шею, спускался до самых колен.
Молодая женщина была довольно высокого роста, хорошо сложена, с небольшой грудью. Светло-рыжие волосы, собранные сзади в пучок, выбивались из-под зеленого берета. Она повернулась к художнику.
— Вы Алексис Валле…
Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение.
— Вы не узнаете меня? Я Кати… Кати Тремюла.
Мальчик оказался ее сыном, его звали Себастьян.
Алексис спросил Кати, как поживает ее мама. Он узнал, что Женевьева живет в Хьюстоне, штат Техас. Снова, в третий раз, вышла замуж. За нефтяного короля? Нет, но за довольно крупного бизнесмена — короля искусственных цветов и растений. Его фабрика выпускает целые сады из пластмассы. Пока Кати говорила, Алексис пытался отыскать в ней черты сходства с матерью. Но они не были похожи. Абсолютно. Если Женевьева была маленького роста, то Кати очень высокая, даже выше его самого, подобно всем нынешним девицам. Пожалуй, единственное, что их роднило, — это складочки в углах рта. Но и они выглядели у них по-разному. На лице матери эти складочки были лукавыми и нежными, тогда как на лицо дочери они, казалось, попали случайно.
— Значит, у вас туговато с деньгами, — сказал Алексис, — если вы пытаетесь продать картину, которая, впрочем, не очень много и стоит…
— Да. Я порвала отношения с родственниками.
— Когда вы были девочкой, вы так любили свою маму! Эта любовь переходила все границы. Вы, наверное, уже забыли, как вы ее ко всем ревновали?
— Все это так. Но после смерти отца мама заболела и меня отправили в пансион. Тогда мне казалось, что все меня бросили.
— Вам случалось встречаться с ней еще?
— Мы как-то вдруг сразу стали чужими. Мне показалось, что она перестала мною интересоваться. Она даже не появилась не моей свадьбе. А между тем, что ей стоило купить билет на самолет.
Внезапно глаза Кати наполнились слезами. Она залилась краской и стала кусать губы. Эта манера прямо, не таясь, отвечать на все вопросы, эта абсолютная искренность делали Кати легко уязвимой или, пожалуй, тут более уместно определение, которое характеризует многих молодых особ ее поколения, — незащищенной.
— Мы поговорим обо всем этом в другой раз, если хотите, — сказал Алексис. — А сейчас давайте посмотрим картину.
Он попытался было развязать веревку, но узел оказался туго затянутым, и он никак не мог с ним справиться. Арно Рюфер пошел за ножницами.
— Дай мне веревочку поиграть, — попросил Себастьян.
Когда сняли газетную обертку, Алексис увидел ту самую картину, которую в начале пятидесятых годов нарисовал для Женевьевы и назвал «Фолия».
— Поразительно, как же я сразу не подумал, что это именно она, — произнес художник. — Это моя единственная картина, которая была у ваших родителей. Вам ее подарила мама?
— Подарила или подбросила — не знаю, как будет правильнее сказать. После окончания школы-пансиона в Лозанне я захотела вернуться в Париж и учиться дальше.
— Чему?
— Всему понемножку. Языкам, изящным искусствам. Но это было несерьезно. Я ни черта не делала. Родственники купили мне небольшую квартиру, а мама подарила немного мебели и вот эту картину в придачу.
Арно взял картину и стал рассматривать на расстоянии.
— Не так уж и плохо. Красное вполне сочетается с черным. А это что такое?
Она показала на то, что можно было бы принять за странного ангела, и за сломанную скрипку.
— Позабыл. Так, какой-то наив.
Алексис прекрасно помнил, но ему не хотелось об этом говорить. Он повернулся к Кати.
— Я с удовольствием выкуплю у вас свою картину. Но я задаюсь вопросом, хватит ли у меня мужества смотреть на нее.
— Почему? Она вам не нравится? — обеспокоенно спросила Кати.
— Нравится. Просто мне тяжело при мысли, что существуют такие вещи, которых уже не помнит ни один человек на всем белом свете, кроме меня.
Когда Алексис отдал Кати деньги — Рюферу пришлось ссудить его наличными, поскольку у Кати не было счета в банке, — она невесело пошутила:
— Себастьяну на молоко.
Она попрощалась как-то неловко и смущенно. Алексис, тоже скованный робостью, чуть было уже не дал ей уйти, но вовремя спохватился и сказал:
— Мне бы хотелось продолжить наш разговор. Не согласитесь ли поужинать со мной сегодня или в любой другой вечер?
— Сегодня не могу. Я в Париже буквально от поезда до поезда. Ведь я живу в Арьеже.
Кати рассказала еще кое-какие подробности своей жизни. Выяснилось, что живет она на ферме, расположенной высоко в горах над Сен-Жироном. Но не с мужем, так как между ними давным-давно порваны все отношения. А тот человек, с кем они живут сейчас, поработав некоторое время в Париже, решил возвратиться в свои родные Пиренеи. Он занимается откормом гусей — для печеночных паштетов. Хватает ли им на жизнь? Более или менее. Теперь понятно, почему она решила продать картину? Кстати, ее приятель проявляет большой интерес к региональным проблемам, в частности к окситанскому движению.
— Он подружился с неким Марино-Гритти — замечательным человеком, таким чистым, таким цельным.
— А вы тоже с ним знакомы?
— Да. Он побывал на нашей ферме, когда путешествовал в горах страны катаров. Мы все ходили на митинг, после чего он провел вечер у нас дома. Он способен часами рассказывать о своей жизни — о своем детстве, о борьбе. Какой он рассказчик! Какой темперамент! Я часто слушаю его выступления по радио. Да и как можно его не слушать!
К чему сообщать Кати то, что он знал об этом человеке, что он сам думал о нем? Похоже, она и понятия не имеет, что в свое время этот Марино-Гритти входил в компанию, объединившуюся вокруг ее родителей. Тем не менее Алексис не удержался и негромко произнес:
— Когда-то я написал его портрет.
— Не может быть!
— Это было очень давно…
И чтобы перевести разговор на другую тему, он спросил:
— Вы привезли мою картину с Пиренеев? Значит, она была на вашей ферме с гусями?
Кати рассмеялась — впервые за все время. И тут складочки в уголках рта, такие же, как у матери, наконец обрели свой смысл. Она объяснила, что сохранила за собой парижскую двухкомнатную квартирку и сдает ее знакомым. Это приносит ей хоть и небольшой, но постоянный доход. «Фолия» оставалась там. Когда же она увидела объявление о персональной выставке Алексиса Валле, ей пришла в голову мысль попытаться предложить эту вещь владельцу картинной галереи. В Париж она приезжала, чтобы поискать такую работу, которую смогла бы выполнять у себя на ферме. Например, могла бы делать переводы — ведь она знает английский и немецкий. Однако эти поиски ничего ей не дали.
— Навестите меня, когда еще раз приедете в Париж, — попросил ее художник.
— Хорошо. Интересно, что вы оказались совершенно не таким, каким рисовались мне по детским воспоминаниям.
— И вы… Вы тоже стали, как бы это лучше выразить мою мысль… совсем другим человеком.
— Вы хотите сказать, что девочкой я была ужасно полная, этакая толстушка? Какой кошмар!
— Нет, я вовсе не это хотел сказать.
Алексис сомневался, что Кати когда-нибудь появится у него, и был не слишком уверен, что сам того желает. Ему не хотелось, чтобы женщина другого поколения, которая для него, сегодняшнего, была далекой, точно марсианка, вконец разрушила образы его воспоминаний. После ухода Кати и Себастьяна Алексис хранил молчание, а Арно Рюфер пустился в абстрактные рассуждения.
— Почему современная молодежь совершенно не умеет пользоваться жизнью?
— Мне не хотелось бы выглядеть пессимистом, но ведь уже и у нас было в этом смысле неблагополучно. У меня такое впечатление, что с ними происходит аналогичное явление.
— Есть все-таки некоторая разница. Мы были немножко мудрее.
— Думаешь? Лично я никогда не отличался особенной мудростью. Я вел себя как последний дурак.
Кати появилась снова четыре месяца спустя. Она предупредила Алексиса о своем приезде по телефону, а через четверть часа позвонила в дверь его мастерской.
Она показалась Алексису еще более незащищенной, чем в день своего появления в галерее у Рюфера. Она обошла мастерскую, рассматривая картины, висевшие на стене, и ту, над которой художник работал. Алексис со своей стороны украдкой поднимал глаза от мольберта, чтобы получше рассмотреть Кати. Нет, у нее решительно ничего не было от Женевьевы, и если стоило заинтересоваться этой женщиной, то лишь ради нее самой.
— Вы не вывесили ту картину, которую купили у меня, — строгим голосом отметила она.
— Я предпочитаю, чтобы она не была все время у меня перед глазами.
— Вот видите, значит, вы не любите ее. А вот я ее любила. Вернее, я к ней привыкла.
— Не стойте, присядьте, пожалуйста.
Она села.
— Куда вы дели Себастьяна?
— Он в детском саду. Я сейчас пойду за ним. Знаете, я опять живу в Париже. У меня не клеются отношения с моим приятелем. Я подыскиваю себе работу.
— По-видимому, дела ваши идут неважно?
Она отрицательно покачала головой и покраснела. И Алексис увидел, что она, как и в первый раз, готова расплакаться.
— А разве ваши родные не могут помочь вам? Ведь у вас есть богатые родственники и со стороны отца, и со стороны матери.
— Похоже, положение моего отца было очень непрочным — все держалось на его плечах, а когда он умер, все тут же развалилось. Мой муж был типичный сутенер. Он очень быстро промотал то небольшое наследство, которое мне досталось от папы. Вы дружили с отцом? Вы его любили?
— Меня в нем многое привлекало. Это был человек сложный, иногда, казалось, даже робкий, а в целом — загадочный. Полный тайничков. Одно было для меня очевидно: он очень любил вас обеих — вас и вашу маму. И страдал оттого, что вы не любили его или по крайней мере он так считал.
— Мое отношение к отцу со временем изменилось. Я и сама очень переменилась. Любопытно, что мы продолжаем пересматривать свое отношение к людям даже после их смерти. Сердимся, пытаемся что-то исправить…
Алексис спросил молодую женщину, не желает ли она чего-нибудь выпить.
— Пожалуй, кофе.
— Мне случалось угощать кофе вашу маму. Но то было очень давно и не здесь. Я жил тогда неподалеку от улицы Шерш-Миди.
— А я туда приходила?
— Разумеется. Вы не припоминаете?
— Нет. Решительно ничего не помню…
— Однажды вы застали у меня в гостях мужчину. Вас поразил его внешний вид. Он был маленького роста, с длинными волосами и бородой, а на черепе — бугры и вмятины.
— Эти приметы мне ничего не говорят.
Бедный Бюнем! У Алексиса мелькнула мысль, что он присутствует при научном эксперименте — «Сейчас вы убедитесь собственными глазами, как стирается память о человеке».
Кати продолжала расспрашивать Алексиса:
— И что же с ним произошло потом?
— Он умер.
— Значит, моя мама приходила вас повидать точно так же, как я сегодня, и вы угощали ее кофе?
— Да.
— Мне кажется, что в юности мною руководило одно-единственное желание — не походить на родителей. Прежде всего потому, что они были несчастные люди. Я же изо всех сил стараюсь быть счастливой.
Кати стала часто наведываться к Алексису. Придя в мастерскую, она робко протягивала ему руку, словно стеснялась. Желая ее поддразнить, Алексис напомнил:
— Когда я увидел вас впервые — вы были тогда чуть постарше Себастьяна, — вы сделали мне реверанс.
Кати двигалась по комнате бесшумно. Она просила Алексиса, чтобы он продолжал заниматься своим делом, не обращая на нее внимания.
— Так легче разговаривать.
Однако то, что она говорила, было зачастую для него невыносимо.
— В последние годы моего пребывания в пансионе Лозанны я металась между танцами, экзаменом и попыткой к самоубийству. А потом начались мужчины и аборты…
— Наверное, май шестьдесят восьмого был серьезным моментом в вашей жизни?
— Чтобы верить во все это, я была уже слишком старой — в тот год мне исполнилось двадцать шесть! Знаете, чем я была занята в мае шестьдесят восьмого? А вы прикиньте… Я рожала Себастьяна!
Во время одного из ее визитов Алексис спросил:
— Не знаете ли вы случайно, что могла делать Женевьева в метро в канун рождества лет десять назад? Я заметил ее в толпе пассажиров на станции Гавр-Гомартен, она бежала по платформе с абажуром в руке.
— Понятия не имею.
— Напрягите-ка свою память.
— Право же, не знаю.
— Очень жаль. Это было тем более удивительно, что в мое время, если позволительно так выразиться, она никогда не ездила в метро. У ваших родителей был «кадиллак» — шикарная машина, и личный шофер. А иной раз они брали такси!
— До чего же вы иногда смешной! Вы были влюблены в мою маму, это ясно как божий день. А в меня вы могли бы влюбиться?
Ее вопрос застал Алексиса врасплох, но тем не менее он попытался ответить на него подобающим образом:
— Несомненно. Но я слишком стар, и было бы стыдно…
— Дело совсем не в этом. Вас влечет ко мне лишь потому, что вы храните память о том чувстве, какое питали к моей матери. Вы не можете полюбить дочь женщины, которая была вашей большой любовью.
— А наша Кати еще и психолог! — попытался иронизировать Алексис.
Однако не следовало рассчитывать на то, что Кати будет его поощрять, если он станет упиваться воспоминаниями. Однажды она сказала:
— А знаете, в чем состоит последнее безумие моей мамы? Насколько мне известно, она выращивает борзых щенков там, в своем Хьюстоне, а потом они участвуют в собачьих выставках. Она ничем не интересуется, кроме своих борзых, и разъезжает по всей стране, собирая медали.
В другой раз Кати пожелала снова взглянуть на картину, которую художник назвал «Фолия». Алексис пошел достать ее, поскольку она была заставлена другими полотнами.
— Знаете, коль скоро вы так любите «Фолию», — сказал он, я хочу подарить ее вам.
— Это было бы нечестно с моей стороны. Я продала вам картину и получила за нее деньги.
Алексис настаивал до тех пор, пока она не согласилась принять его подарок.
— Вы никогда не объясняли мне, какой смысл вложили в эту картину…
— В ней нет никакого смысла. «Фолия» — это танец наподобие чаконы, который был очень распространен в XVII веке. Когда-то эту музыку очень любила ваша мама. У нее была такая пластинка. В своей картине я попытался, насколько возможно, передать впечатление от этой музыки.
Он объяснил ей, что на картине просматриваются статуя то ли амура, то ли странного ангела и сломанная скрипка.
— Как видите, связь с музыкой довольно условная. Здесь можно усмотреть и нечто совсем иное, придать картине любой смысл.
— Да, но ведь этот вихрь красок, этот огонь и чернота — и в самом деле настоящее безумие.
Порою Кати слишком тонко все понимала.
Как бывало некогда с ее матерью, она вдруг исчезала на долгое время и оставляла Алексиса в полном неведении. А то вдруг решала покинуть Париж навсегда. К счастью, это «навсегда» длилось не так уж долго. Оно зависело от переживаемых ею романов, от работы и от Себастьяна. И подобно своей матери, Кати возвращалась как ни в чем не бывало, словно они виделись накануне. А между тем с каждым разом она возвращалась еще более незащищенной и беспомощной — во всяком случае, так казалось. Когда она уходила, обещая, что скоро придет опять, Алексис приникал ухом к двери, чтобы услышать, как ее шаги затихают на лестнице. Затем он пытался следить из окна, как она удаляется по улице. В такие минуты перед его мысленным взором снова возникала Женевьева, которая с абажуром в руке бежала по перрону метро в сочельник. Потому что и сегодня, в эту минуту, все тоже могло быть в последний раз.
1
Нет никакого ладу в танцах этих, коль их заставишь танцевать: один начнет фолию, другой — алеману, а третий — менуэт. (Из оперы Моцарта «Дон Жуан»).
2
Рауль Дюфи (1877–1953) — известный французский художник, близкий фовистам по колористическому решению своих произведений. — Здесь и далее примечания переводчиков.
3
Жан Люрса (1892–1966) — французский художник, способствовавший возрождению искусства гобелена.
4
Перевод И. Кузнецовой.
5
Название испанского танца «фолия» созвучно французскому слову folie — «безумие».
6
Первая строка из стихотворения «Разбитая ваза» Сюлли-Прюдома (1839–1907), поэта, необычайно популярного в свое время.
7
Имя, созвучное французскому слову l’ange — «ангел».
8
Антонен Арто (1896–1948) — французский писатель, поэт и актер.
9
Перефразированная знаменитая формула Ж. П. Сартра: «Ад — это другие».
10
Строка из стихотворения В. Гюго «После боя». (Перевод А. Энгельке.).
11
Катары — члены религиозно-философской секты, возникшей в эпоху средневековья; они жили на юго-западе Франции.
12
Герой повести Р. Стивенсона «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» в результате раздвоения личности превращался то в духа добра, то в духа зла.
13
Французские силы Сопротивления.