Книга: Боже, храни мое дитя
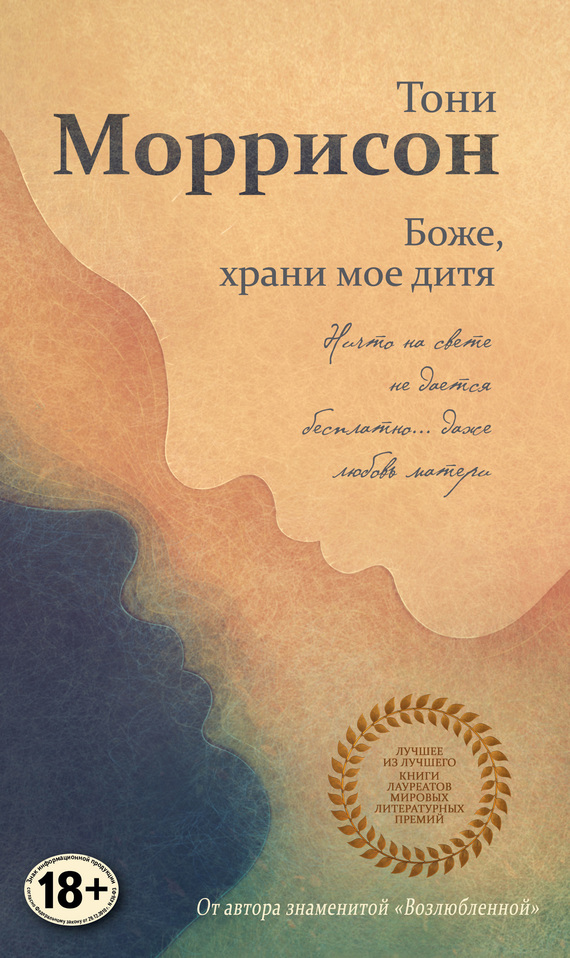
Боже, храни мое дитя
© Тогоева И., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Тебе
«Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им…»
Дело тут не во мне. И винить меня не за что. Ничего такого я не делала и понятия не имею, как это вообще могло произойти. Когда ее наконец из меня вытащили, я довольно быстро, не потребовалось и часа, поняла, что с ней что-то не так. Причем по-настоящему. Она была настолько черная, что я даже испугалась. Это была какая-то полночная, прямо-таки суданская чернота, как у обитателей Африки южнее Сахары. Сама-то я светлокожая, и волосы у меня красивые, можно сказать, каштановые; да и отец Лулы Энн тоже светлый. В моей семье никогда ни у кого даже близко не было такого цвета кожи, как у нее, – цвета дегтя, это, пожалуй, самое точное сравнение. А вот волосы у нее такой черной коже совсем не соответствуют. Они у нее густые, жесткие и почти прямые, точнее, слегка волнистые, как у этих австралийских аборигенов, которые голышом ходят. Можно, конечно, предположить, что это необъяснимая «отрыжка» далекого прошлого, но насколько далекого? Вы бы на мою бабушку посмотрели: ее вообще всегда за белую принимали, и она ни с кем из своих детей сроду не общалась. Получит письмо, скажем, от моей матери или от моих теток и сразу же, прямо нераспечатанным, назад отправляет. В конце концов все они поняли, что переписке меж ними не бывать, и оставили ее в покое. Собственно, так в те времена поступали почти все светлые мулатки и квартеронки – особенно если у них волосы были «правильные» и не могли их выдать. А теперь попытайтесь представить, скольким белым в жилы тайком пробралась частица негритянской крови? Ну что, догадались? Насколько мне известно, таких двадцать процентов. Например, моя мать, Лула Мей, запросто могла бы за белую сойти, да только не захотела. Она мне рассказывала, какую цену ей пришлось заплатить за такое решение. Когда они с моим отцом пришли в ратушу, чтобы зарегистрировать брак, то оказалось, что там две Библии! Им велели класть руку на ту, что была только для негров. А на вторую могли класть руки только белые. Две Библии! Можете себе такое вообразить? Моя мать служила домоправительницей у одной богатой белой пары. Эти люди с удовольствием ели то, что она готовила; принимая ванну, просили ее потереть им спинку; да бог знает, сколько еще интимных вещей они ее делать заставляли; но прикасаться к их Библии ей было нельзя!
Кто-то, возможно, сочтет, что нехорошо, когда люди разбиваются на группы в соответствии с оттенком кожи – чем светлее, тем лучше, – и это касается всего: и отношений с соседями, и посещения клубов, и поведения в церквях и сестринских общинах, и даже обучения в школах для цветных. Но разве есть иной способ сохранить хотя бы чуточку достоинства? Как, например, избежать плевка в твою сторону в аптеке, или удара локтем на автобусной остановке, или требования сойти с тротуара в грязь и уступить его белым? Как не платить в магазине лишних пять центов за бумажный пакет, хотя всем белым покупателям пакеты выдаются бесплатно? А обо всяких мерзких прозвищах и говорить не стоит. Уж я-то их наслушалась с избытком. Моя мать, например, только благодаря светлому цвету кожи могла спокойно примерять в универмаге шляпки или пользоваться той же дамской комнатой, что и белые. И отец мой всегда примерял обувь прямо в зале, а не в крошечной задней комнатке для цветных. И оба они, и мать, и отец, лучше умерли бы от жажды, но ни за что не позволили бы себе напиться из фонтанчика, где написано: «Только для цветных».
Мне очень неприятно об этом говорить, но моя дочь, Лула Энн, действительно еще в родильной палате привела меня в полное замешательство. Дело в том, что сразу после появления на свет она показалась мне довольно светлой – впрочем, даже у африканских младенцев цвет кожи сперва бледноват, – но потом очень быстро стала темнеть и буквально у меня на глазах превратилась в иссиня-черную негритянку. Я чуть с ума не сошла! Да нет, на какое-то время я точно разум утратила, потому что накрыла ей личико одеялом – пусть и всего на несколько секунд – и слегка прижала… Но нет! Этого я сделать не смогла, как бы сильно ни страдала при виде ее черной кожи. У меня даже мелькнула мысль отдать ее в какой-нибудь сиротский приют. А вот поступить, как некоторые другие, и подбросить ребенка на церковное крыльцо, я просто боялась. Недавно я слышала о паре из Германии, оба белые как снег, а ребенок у них темнокожий, и откуда он такой взялся, никто объяснить не может. Вроде бы у них и не один ребенок, а двое, близнецы, – один белый, второй цветной. Вот только не знаю, правда ли это. Одно я знаю точно: кормить свою дочь грудью было для меня все равно, что давать сиську какому-то жалкому негритенку. И я, как только выписалась из больницы и оказалась дома, сразу же перешла на искусственное вскармливание.
Мой муж, Луис, работал проводником на железной дороге, и когда он вернулся домой после рейса и увидел нас, то посмотрел на меня так, словно я действительно спятила, раз показываю ему «это отродье». А на девочку он и вовсе глянул с отвращением – словно это существо с планеты Юпитер. Вообще-то привычки сквернословить у него не было, и когда он заорал: «Что это, черт побери, такое?!», я сразу поняла: дело плохо. И точно. Мы с ним начали ссориться, и в итоге наш брак развалился. Мы очень хорошо прожили первых три года, но когда родилась Лула Энн, муж обвинил меня в измене, а к девочке он и вовсе относился как к чужой или даже хуже – как к врагу.
Он никогда к ней не прикасался. И я так и не сумела убедить его, что мне никогда, никогда даже в голову не приходило его обманывать, изменять ему. Он был абсолютно уверен, что я вру. Мы ссорились и спорили, и однажды я не выдержала и сказала, что свою черную кожу наша дочь наверняка унаследовала от его, а не от моих предков. Вот тут-то наш брак и рухнул окончательно; Луис просто встал, молча собрался и ушел, а мне пришлось искать другое жилье, подешевле. Я, правда, сообразила, что на переговоры с хозяевами девочку брать не стоит, и оставляла ее на попечение одной своей молоденькой родственницы. Я и потом старалась как можно реже ее показывать; даже гуляла с ней нечасто, потому что, стоило мне выйти на улицу с детской коляской, и многие люди, как знакомые, так совсем незнакомые, тут же к нам подходили и с улыбкой наклонялись над коляской, чтобы посюсюкать над младенцем, но тут же, вздрогнув от неожиданности, выпрямлялись, хмурились, а то и вовсе в сторону отскакивали. Очень все это было неприятно. Вот если б было наоборот – у нее светлая кожа, а у меня темная, – было бы значительно легче: меня запросто могли бы счесть ее нянькой. А в нашем случае все складывалось очень нехорошо. Ведь цветной женщине – даже такой светлокожей, как я, – снять квартиру в приличном районе города очень сложно. Хотя в девяностые, когда родилась Лула Энн, закон специальный создали, согласно которому запрещалось подвергать дискриминации цветных квартиросъемщиков. Только мало кто на этот закон внимание обращал. Хозяин квартиры мог найти сколько угодно причин, лишь бы тебя в свой дом не впустить. И только с мистером Ли мне повезло, хоть я и знала, что с меня он берет на семь долларов больше, чем было написано в объявлении; и потом, он каждый раз страшно сердился, если я хоть на минуту опаздывала с оплатой квартиры.
Я велела девочке называть меня Свитнес[1], а не «мама» и не «мать». Так было безопасней. У нее такая черная кожа и такие ужасно толстые губы, что это только людей бы с толку сбивало, если б она меня мамой стала звать. Да и глаза у нее какие-то совсем уж невероятные – черные-пречерные, как у вороны, да еще и с голубоватым отливом; прямо как у ведьмы.
Довольно долго мы с ней жили только вдвоем. По-моему, и рассказывать не стоит, как тяжело быть брошенной женой. Но, похоже, у Луиса кошки на душе скребли из-за того, что он нас тогда бросил, и через какое-то время он выяснил, куда я переехала, и стал раз в месяц присылать мне деньги, хотя я его об этом никогда не просила и в суд за алиментами не обращалась. Его пятьдесят долларов и мои ночные дежурства в больнице позволяли нам с Лулой Энн вполне прилично существовать, но социальное пособие мне платить перестали. Что, в общем, было даже полезно. И вообще, хорошо бы это наконец перестали называть «пособием» и вернулись к тому слову, которым пользовались, когда моя мать была еще девочкой. Тогда это называлось «помощью». Звучит куда лучше, словно тебе просто дают кратковременную передышку, помогая собраться с силами. И потом, чиновники, назначающие пособие, всегда такие злобные! Каждый раз от них словно плевок получаешь. Когда я нашла работу и перестала нуждаться в их чертовом пособии, то, между прочим, зарабатывала побольше любого из них. Наверное, выписывая нам это худосочное пособие, они были настолько переполнены злобой и завистью, что невольно обращались с нами, как с попрошайками. Особенно если рядом со мной была Лула Энн. Они так подозрительно смотрели то на нее, то на меня, словно я их обманываю или еще что. Но, в общем, жизнь у нас стала постепенно налаживаться. Хотя мне по-прежнему приходилось вести себя довольно осторожно. Особенно в том, что касалось воспитания Лулы Энн. Я вынуждена была обращаться с ней очень строго. Очень. Ее ведь нужно было научить умению вести себя должным образом, всегда быть неприметной, стараться ни в ком не вызывать раздражения. Да мне плевать, сколько раз она свое имя меняла! Ее черная кожа – вот тот крест, который ей до конца жизни нести. Только моей вины тут нет. Нет, и все.
Мне страшно. Что-то со мной неладное творится. Такое ощущение, словно я вот-вот растаю, исчезну без следа. В общем, не могу этого толком объяснить, но точно знаю, когда все началось. После того как он заявил: «Ты не та женщина, которая мне нужна».
«Ну и мне не такой мужчина нужен!» – ответила я. И до сих пор не понимаю, зачем я это сказала. Просто выскочило изо рта, и все. А он, услыхав злобный ответ, с ненавистью на меня глянул, натянул джинсы, схватил в охапку ботинки и футболку и был таков. И лишь когда за ним с грохотом захлопнулась дверь, у меня на мгновение мелькнула мысль: а что, если он своим уходом не просто поставил точку в дурацком споре, а завершил этим наши отношения? Да нет, такого просто быть не могло! И я была уверена, что вот-вот, буквально в любую минуту, услышу, как поворачивается ключ в замке, как со щелчком открывается, а потом закрывается входная дверь. Я прождала всю ночь, но так ничего и не услышала. Ни звука. Каков, а? Я что, недостаточно сексуальна? Или не слишком красива? Или, может, не имею права на собственные мысли? Или как-то не так, с его точки зрения, себя веду? В общем, я с утра пораньше, едва успев проснуться, пришла в ярость и заявила себе: ну и прекрасно, пусть катится! Ведь он меня, ясное дело, просто использовал. Еще бы, у меня и деньги водились, и в смысле секса я его полностью устраивала. Господи, до чего же я была на него зла! Видели бы вы меня в то утро – можно было подумать, что мы с ним полгода в одной тюремной камере провели, не имея адвоката и не зная, в чем нас обвиняют; а потом судья вдруг решил наше дело закрыть – то ли отложил, то ли вообще отказался в нем разбираться. Но я в любом случае не намерена была ни выть, ни скулить, ни кого бы то ни было обвинять. Он высказался; я с ним согласилась. Ну и хрен с ним! Честно говоря, в наших отношениях ничего особенно захватывающего и не было – даже того опасного секса, которым я раньше иной раз позволяла себе развлечься. И уж точно наши отношения не имели ничего общего с теми фотографиями в полный разворот, какие публикуют в модных журналах; на них влюбленные с прекрасными полуобнаженными телами стоят в волнах прибоя, и вид у них одновременно и развратный, и смущенный, а воздух вокруг парочки буквально пропитан сексуальностью, и в нем словно потрескивают искры, точно вспышки молний на грозно потемневшем небосклоне, который, кстати, служит отличным фоном для соблазнительно сияющей кожи влюбленных. Я обожаю подобные рекламные снимки. Но наша любовная история не дотягивала даже до какой-нибудь старомодной песенки R&B – примитивной мелодии, которая держится в основном на лихорадочном ритме ударных. Да что там, она даже на сладкую лирику блюзов 30-х годов не тянула: «Baby, baby, why you treat me so? I do anything you say, go anywhere you want me to go»[2]. Сама не знаю, зачем я все время сравниваю нас с фотографиями в модных журналах или с героями песенок. На самом деле мне почему-то постоянно хочется слушать «I Want to Dance with Somebody»[3].
На следующий день шел дождь. Капли, как пули, стучали по оконному стеклу, оставляя следы в виде прозрачных водяных нитей. Я очень старалась не поддаваться искушению и не смотреть в окно на дорожку, ведущую к дверям нашего кондоминиума. Да и что туда смотреть – я и так прекрасно знала, что там, за окном: жалкие пальмы вдоль дороги, несколько скамеек в убогом крошечном парке и, скорее всего, никого из прохожих, а вдали еще кусочек моря. Я также старалась подавить любую мысль о прошлом и ни в коем случае не поддаваться желанию все вернуть. Как только на поверхности моего сознания возникала легкая рябь тоски, я немедленно ее гасила, а где-то в полдень откупорила бутылку «Pinot Grigio» и рухнула на диван, в объятья замшевой обивки и шелковых подушек, почти таких же уютных, как его руки. Почти. Потому что его объятья были лучше. Потому что, и я должна это признать, он – действительно очень красивый мужчина; его внешность практически безупречна, если не считать крошечного шрама на верхней губе и уродской красно-оранжевой блямбы на плече, похожей на кляксу с хвостом. А во всем остальном с головы до ног он просто великолепен. Я и сама, надо сказать, очень даже недурна, так что можете себе представить, как мы смотрелись вместе. Выпив пару бокалов белого вина, я чуточку захмелела и решила позвонить моей подруге Бруклин и все ей рассказать. Пожаловаться, какой удар – куда сильнее, чем кулаком! – он нанес мне всего семью словами: «Ты не та женщина, которая мне нужна», и меня это настолько потрясло, что я невольно с ним согласилась. Ну полная глупость! Впрочем, потом я передумала ей звонить. Да и что говорить. Сами знаете, с кем такого не бывало. Ничего особенного. Просто он взял и ушел, а я так и не знаю почему. Я понимала, что в офисе у нас полно дел, и решила, что не стоит отвлекать Бруклин, мою лучшую подругу и коллегу, пустыми разговорами о ссоре с бойфрендом. Особенно сейчас, когда я стала региональным менеджером, а это все равно что стать капитаном команды, который обязан поддерживать внутри нее правильные взаимоотношения. Наша компания «Сильвия Инкорпорейтед» пока что не имеет особого веса в мире косметики, но уже начинает расцветать и наконец-то становиться известной, сбросив свое прежнее старомодное обличье. В сороковые годы это была небольшая фирмочка, которая называлась «Грациозные корсеты для женщин с тонким вкусом», потом она превратилась в компанию по производству одежды «Сильвия»; а теперь это настоящая махина «Сильвия Инкорпорейтед», которая занимается исключительно косметикой; в ней целых шесть новомодных косметических линий, и одна из них принадлежит мне. Я назвала ее «YOU, GIRL!». Наш слоган: «Эй, девушка! Вот косметика для твоего личного тысячелетия!» Мы предлагаем косметику для девушек и женщин с любым цветом кожи от эбенового до лимонадного и молочно-белого. И «YOU, GIRL!» – это целиком мое детище: моя идея, мой бренд, моя рекламная кампания.
Сунув ноги под шелковую подушку и шевеля пальцами, я вдруг улыбнулась, заметив, что отпечаток моих накрашенных губ на винном бокале напоминает улыбку, и подумала: «Ну что, Лула Энн? Разве тебе когда-нибудь в голову приходило, что ты можешь стать успешной, удачливой, сексапильной женщиной?» А что, если именно такая, как Лула Энн, ему и нужна? Увы, Лула Энн Брайдуэлл ныне уже недоступна; ее попросту больше не существует; да она, эта Лула Энн, собственно, и женщиной-то не была. Она – это бывшая я. В шестнадцать лет, едва закончив среднюю школу, я от этого дурацкого деревенского имени отказалась. И года два называла себя Энн Брайд, а позже, после собеседования в «Сильвия Инкорпорейтед», уже получив работу в отделе продаж, я – по наитию, наверно, – совсем укоротила имя и стала просто Брайд[4]; к такому односложному, легко запоминающемуся имени никому ничего не требовалось прибавлять ни до, ни после. Клиентам и сотрудникам новое имя нравилось, а вот он его игнорировал и чаще всего называл меня просто «беби». «Привет, беби»; «Идем, беби». А еще иногда говорил: «Ты моя девочка», подчеркивая это «моя». Один только раз он назвал меня «женщиной» – когда ушел и бросил.
Я выпила еще немного белого вина и окончательно пришла к выводу: ну и тем лучше! Хватит заниматься ерундой, играя в любовь с человеком-загадкой, у которого к тому же явно нет никаких видимых средств к существованию. А может, он и вовсе бывший уголовник. Впрочем, вряд ли. Во всяком случае, он всегда смеялся, когда я поддразнивала его, спрашивая, как он проводит время, пока я на работе. Просто бездельничает? Или где-то бродит? А может, с кем-то встречается? С кем? А еще он, словно в шутку оправдываясь, говорил, что, когда с утра по субботам ездит в деловую часть города, это не связано ни с необходимостью отмечаться в полиции как освобожденному условно-досрочно, ни с визитами к адвокату, который занимается восстановлением в правах бывших наркоторговцев. В общем, шутки шутками, но он так и не рассказал, зачем туда ездит. А ведь я ему все о себе выложила, абсолютно все! И поскольку он о своей жизни ничего не говорил, я в итоге стала придумывать всякую ерунду в стиле телесериалов: что он, например, тайный осведомитель, которого в соответствующей организации снабдили фальшивыми документами; или бывший адвокат, лишившийся практики; или еще что-нибудь в этом духе. Но, если честно, мне было абсолютно все равно, кто он такой.
На самом деле он ушел в самый что ни на есть подходящий момент. Теперь, когда его больше не было ни в моей жизни, ни в моей квартире, я могла полностью сосредоточиться на дальнейшем развитии линии «YOU, GIRL!», а также, что было не менее важно, выполнить то обещание, которое дала себе задолго до знакомства с ним – кстати, именно об этом мы так яростно спорили в ту ночь, когда он заявил: «Ты не та женщина…» И теперь как раз было самое время выполнить это обещание; во всяком случае, если верить информации, выложенной по ссылке prisoninfo.org/paroleboard/calendar. Собственно, я целый год планировала эту поездку, тщательно обдумывая то, что может понадобиться человеку, освободившемуся по УДО: мне удалось скопить пять тысяч долларов наличными, а еще я за три тысячи купила подарочный сертификат фирмы «Континентал Эйрлайнз». Ко всему этому я решила прибавить подарочный набор от «YOU, GIRL!» и сложить подарки в самую модную сумку-шоппер от Louis Vuitton. Имея все это, она могла бы полететь куда угодно. По крайней мере, надеялась я, это хоть немного ее утешит, поможет забыть о бедах, выпавших на ее долю, и хотя бы на время избавиться от чувства безнадежности и тоски. Ну, может, и не тоски, все-таки тюрьма – это не монастырь. А он никак не желал понять, почему я непременно должна к ней поехать, хоть и знал, что я давным-давно дала себе такое обещание. И в ту ночь мы снова здорово повздорили из-за этого, а потом он сбежал. Наверное, он чувствовал угрозу собственному эго; его раздражало, что мой поступок «доброй самаритянки» будет связан не с ним, а с кем-то другим. Эгоистичный ублюдок! Между прочим, за квартиру, где мы жили вместе, платила я, а не он; и за прислугу тоже. А в клубы и на концерты мы ездили на моем роскошном «Ягуаре» или на такси, которое вызывала и оплачивала тоже я. Я покупала ему красивые рубашки – которые он, правда, никогда не носил, – я бегала по магазинам, я набивала холодильник, я делала все по дому. Но самое главное – если уж дала обещание, так надо его выполнить; особенно когда даешь его себе самой.
Первую странность я заметила, когда одевалась. У меня отчего-то исчезли волосы на лобке. Все до единого. Причем вовсе не так, как если бы я их сбрила или сделала эпиляцию воском; нет, такое ощущение, будто их удалили вместе с луковицами, словно их там никогда и не было. Я настолько испугалась, что тут же принялась ощупывать голову – вдруг и там волосы начнут выпадать прямо прядями? Но волосы на голове были по-прежнему густыми, тяжелыми и даже немного скользкими на ощупь. Может, это какая-то аллергия? Или кожное заболевание? В общем, я довольно сильно встревожилась, но времени, чтобы сразу что-то предпринять, у меня не было, и я, подавив тревогу, решила, что в ближайшую неделю обязательно схожу к дерматологу. А сейчас пора было выезжать, чтобы успеть вовремя.
Вполне возможно, кому-то даже нравятся виды, открывающиеся с хайвея, но меня лично здорово раздражало бесконечное множество разнообразных съездов, переездов, ответвлений, параллельных дорог и предостерегающих и указующих знаков. Казалось, будто тебя за рулем газету читать заставляют. Впереди то и дело вспыхивали янтарные или красные сигнальные огни, а навстречу тянулся поток серебристых и золотистых огней. Я, собственно, с самого начала заняла крайний правый ряд, а потом еще сбросила скорость, поскольку по предыдущим поездкам знала, что поворот на Норристаун можно запросто пропустить, а сама тюрьма никаких особых отличительных признаков не имеет, так что за милю до поворота на эстакаду ее и не разглядишь. По-моему, здешним властям просто не хочется, чтобы туристы знали, что один из мелиорированных районов калифорнийской пустыни знаменит своими тюрьмами для женщин-преступниц. Например, женским коррекционным центром «Декагон», расположенным рядом с Норристауном, которым владеет частная компания. Кстати, на эту тюрьму местные жители просто молятся, так много рабочих мест она предлагает: обслуживание посетителей, охрана, работа в церкви, в кафе, в больнице и – самое главное – постоянное строительство и ремонт. Здесь без конца ремонтируются, например, дороги и тюремные ограды, а к основному зданию пристраиваются одно новое крыло за другим, поскольку для возрастающего потока грешниц, в том числе и совершивших кровавые преступления, требуется все больше места. К счастью, нашему государству даже самые тяжкие преступления в итоге приносят доход, и немалый.
Я и раньше пару раз ездила в «Декагон», но внутрь, разумеется, никогда и ни под каким предлогом не пыталась проникнуть. Мне просто хотелось посмотреть, где именно содержится «та женщина-монстр», как ее называли, получившая «от двадцати-пяти-до-пожизненного». Но на этот раз все было иначе. Отсидев пятнадцать лет, София Хаксли получила условно-досрочное освобождение, а значит – если можно верить сайту, где публикуются криминальные новости, – должна была вот-вот выйти на свободу и с высоко поднятой головой прошествовать за ворота тюрьмы, в которой оказалась благодаря мне.
Можно было бы, наверное, предположить, что раз «Декагон» содержится на деньги богатой корпорации, то на тамошней стоянке мой «Ягуар» выделяться не будет. Однако рядом со старыми бокастыми автобусами, не менее старыми «Тойотами» и обшарпанными грузовиками мой гладкий, буквально блестящий автомобиль элегантного мышиного цвета с пижонским номерным знаком выглядел, точно заряженное ружье. Он, впрочем, производил все же не столь зловещее впечатление, как белые лимузины, которые я видела в предыдущий приезд сюда; припаркованные чуть в сторонке, они похрапывали включенными двигателями, а их наглые водители, прислонившись к сверкающему капоту или крылу, беззастенчиво пялили на меня глаза. Вот объясните мне, кому может понадобиться такой лимузин и такой шофер, готовый в любую минуту распахнуть перед тобой дверцу и умчать в неведомую даль? Может, великосветской даме, только и мечтающей поскорее вернуться в постель с нежнейшим дизайнерским бельем и в безупречный особняк, более всего похожий на крутой бордель? Или, может, малолетней шлюшке, которой не терпится вновь оказаться в патио роскошного частного клуба из числа вырождающихся и, наконец, отпраздновать свой выход на волю в кругу друзей, в знак чего она с удовольствием сорвет с себя и превратит в клочья проклятое белье с тюремной меткой? Такой особе продукция фирмы «Сильвия Инкорпорейтед», разумеется, не нужна. Наша косметика хоть и достаточно сексуальна, но недостаточно дорога. Как и все пустоголовые девицы, вращающиеся в мире сексуальных услуг, наша маленькая шлюшка наверняка считает, что чем выше цена, тем лучше качество. Знала бы она правду! А впрочем, и она может иной раз купить что-то от «YOU, GIRL!»; скажем, искрящиеся тени для век или блеск для губ с золотистыми блестками.
Сегодня, правда, никаких белых лимузинов на стоянке не было, только один городской «Линкольн». В основном там торчали потрепанные «Тойоты» и допотопные «Шевроле», а вокруг них группками стояли молчаливые взрослые и мельтешили нервные, какие-то издерганные дети. На автобусной остановке сидел старик и потрошил коробку из-под овсяного печенья, надеясь обнаружить там последние сладкие крошки. На нем были старые остроносые туфли и абсолютно новые, прямо-таки хрустящие, джинсы; а бейсболка, коричневая куртка и белая рубашка под нею почти кричали, что он раздобыл их на складе Армии Спасения. Впрочем, держался старец достойно, даже величественно. В нем, пожалуй, чувствовалось нечто божественное. Положив ногу на ногу, он с таким видом изучал горсть сухих крошек, словно это был отборный виноград, только что сорванный прислужниками и с поклонами принесенный прямо к его царскому трону.
Часы показывали четыре – ждать оставалось недолго. Хаксли София, то есть № 0071140, никак не могла, разумеется, быть выпущена на свободу в часы посещений. Ровно в четыре тридцать со стоянки отъехал городской «Линкольн», хозяином которого оказался, по всей видимости, адвокат с дорогим кейсом из крокодиловой кожи, явно полным документов, денег и сигарет. Сигареты для клиента, деньги для подкупа свидетелей, а документы, чтобы создавать видимость работы.
«Ты хорошо себя чувствуешь, Лула Энн? – Голос женщины-прокурора звучал мягко, ободряюще, но я с трудом ее расслышала. – Тебе совершенно нечего бояться. Ничего плохого она сделать не сможет».
Это уж точно. Черт побери, а вот, кажется, и она сама. София Хаксли. То есть № 0071140. Даже теперь, по прошествии пятнадцати лет, я ее сразу же узнала благодаря необычайно высокому росту, футов шесть по крайней мере. Ни годы, ни тюрьма не заставили эту великаншу, которую я так хорошо помнила, хоть немного съежиться; она и тогда, в суде, была выше ростом и судебного пристава, и судьи, и всех адвокатов; даже охранявший ее могучий полицейский оказался лишь чуточку выше. По росту ей подходил только муж – такой же монстр, как и она сама. Никто тогда не сомневался, что именно она и есть та «мерзкая извращенка» – так, трясясь от гнева, называли ее родители учеников. «Вы только посмотрите, какие у нее глаза, – перешептывались они, и этот шепот слышался и в зале суда, и в дамской комнате, и на длинных скамьях, поставленных в коридоре. – Холодные, как у змеи!» «А ведь ей всего двадцать! Неужели двадцатилетняя женщина способна творить такое с детьми?» «А что вы удивляетесь? Вы лучше в глаза ей посмотрите. Да у нее душа грязнее грязи!» «Моему мальчику вовек от этого не оправиться!» «Дьяволица!» «Сука!»
Теперь, правда, глаза Софии Хаксли скорее напоминали глаза кролика, чем змеи, а вот рост остался прежним. Зато во всех прочих отношениях она совершенно переменилась. Жутко худая, просто кожа да кости. Штаны на ней пришлись бы впору самому тощему мальчишке; размер бюстгальтера – нулевой, если он ей вообще был нужен. И ей, безусловно, очень пригодился бы наш замечательный крем «GlamGlo» для разглаживания морщин, а также крем-пудра «сочная бронза»; она придала бы более приятный оттенок этой мертвенно-бледной, какой-то синеватой коже.
Вылезая из «Ягуара», я даже не надеялась, что она меня узнает – да мне, в общем-то, было все равно. А потому я просто подошла к ней и спросила:
– Подвезти?
Она бросила на меня мимолетный, абсолютно равнодушный взгляд и быстро отвернулась, по-прежнему глядя на дорогу, но все же ответила:
– Нет. Не нужно.
Я заметила, что губы у нее слегка дрожат. А ведь когда-то они казались такими твердыми и были даже чем-то похожи на опасную бритву, способную в один миг разрезать ребенка на куски. Немножко ботокса, капелька матового «Танго» (но только не блеск для губ!) – вот что могло бы несколько смягчить очертания этих губ и, возможно, оказать положительное воздействие на судей. Вот только в те времена у меня еще не было собственной косметической линии «YOU, GIRL!».
– Значит, вас кто-то другой подвезет? – улыбнулась я.
– Да, такси, – сказала она.
Смешно, что она так старательно отвечала мне, незнакомке. Словно обязана была. Словно привыкла к тому, что нужно непременно отвечать на любой заданный вопрос. И никаких «А тебе какое дело?», «Да кто ты, черт побери, такая?». Мало того, она еще и пояснила:
– Я заранее такси заказала. То есть, конечно, не я, а тюремное начальство.
Я все же решила предпринять еще одну попытку и уже протянула руку, собираясь коснуться ее плеча, но тут как раз подкатило такси; она так и ринулась к нему. Распахнула дверцу, швырнула на сиденье сумку с барахлом, нырнула внутрь и захлопнула за собой. Я успела лишь крикнуть: «Погодите!» – и в окно постучала, но было поздно. Таксист рванул с места и со скоростью космической ракеты исчез за поворотом.
Я бросилась к «Ягуару». Нагнать их оказалось нетрудно. Я даже немного вырвалась вперед, чтобы София Хаксли не подумала, что я ее преследую и поэтому вишу у них на хвосте. Увы, это был неверный ход. Когда я, свернув, уже выезжала на хайвей, такси стрелой пролетело мимо меня и понеслось в сторону Норристауна. Я так тормознула, что из-под колес со свистом полетел гравий, потом дала задний ход и помчалась за ними. Вдоль неширокого шоссе, ведущего в Норристаун, аккуратными рядами стояли совершенно одинаковые небольшие домики, построенные еще в пятидесятые годы и с тех пор непрерывно надстраивавшиеся – то понадобится закрытая веранда у боковой стены; то гараж побольше, на две машины; то патио за домом. Пейзаж напоминал рисунок детсадовского малыша – одинаковые зеленые лужайки, а в центре каждой самодовольного вида домик. Постройки были светло-голубые, белые или желтые с зелеными, как сосновая хвоя, или красными, как свекла, дверями. На «рисунке» не хватало только желтого, как румяная оладья, солнышка с лучами-палочками. За домиками возле молла, бледного и унылого, как безалкогольное пиво, я увидела указатель, сообщавший, что именно отсюда и начинается город. Рядом с указателем виднелся большой рекламный щит, оповещавший проезжих, что здесь имеются мотель и ресторан «Эва Дин». Именно туда и свернуло такси, остановившись у входа в мотель. София Хаксли вышла и расплатилась с водителем. А я, стараясь, чтобы она меня не заметила, проехала чуть дальше, к ресторану. На парковке стояла только одна машина – черный внедорожник. Я была уверена, что у Софии с кем-то назначена встреча, однако она, проведя всего несколько минут у стойки регистратора, направилась прямиком в ресторан и села у окна. Я отлично ее видела; она внимательно изучала меню, шевеля губами и водя пальцем по строчкам с названиями кушаний, точно студент, изучающий английский язык в качестве второго иностранного. Господи, как же она переменилась! Неужели это та самая учительница, которая весело уговаривала детишек в детском саду делить яблоко на кружочки, чтобы получилась буква «о», и раздавала каждому по хрустящему соленому крендельку, похожему на букву «b», а потом разрезала арбуз такими остроконечными ломтиками, чтобы, когда съешь мякоть, получилась буква «y». И все только для того, чтобы мы сложили слово «boy» – самое свое любимое, если верить тому, о чем шептались женщины у раковин в дамской комнате. Фрукты и лакомства, якобы используемые в качестве наживки, в итоге превратились в неопровержимые доказательства ее вины и фигурировали на судебном процессе.
А как она ела! Официантка просто не успевала подносить самые разнообразные кушанья. Ну, это-то как раз можно было понять – все-таки первая настоящая трапеза после выхода из тюрьмы. Она заглатывала пищу, как изголодавшийся беженец, как человек, которого много недель носило в шлюпке по морю без еды и воды и который уже подумывал, что неплохо было бы попробовать, каково на вкус мясо его умирающего товарища, пока там еще хоть что-то на костях осталось. Она даже глаз ни разу не подняла; смотрела только в тарелку с едой, кромсала пищу ножом, пронзала ее вилкой, подбирала кусочками хлеба соус и бдительно следила за тем, чтобы на многочисленных блюдах и тарелках не осталось ни капли. Воды София не пила, хлеб маслом не мазала, словно боялась, что эти действия могут как-то замедлить скоростное поглощение пищи. Минут через десять-двенадцать, покончив с невероятным обедом, она расплатилась, вышла из ресторана и вдруг куда-то устремилась по боковой дорожке. Я просто не знала, что теперь делать. Я, правда, заметила, что в руке она держит ключ от номера, а на плече у нее по-прежнему висит дорожная сумка. Ушла она, впрочем, недалеко и неожиданно нырнула в какой-то узкий проход между двумя оштукатуренными стенами. Я тут же выскочила из машины и почти бегом бросилась за ней, но, услышав звуки рвоты, поспешно отступила и пряталась за черным внедорожником, пока София из той щели не вышла.
На двери, которую она отперла ключом, было краской написано 3-А. Я собралась с духом, подошла и постучалась, стараясь, чтобы стук звучал уверенно и достаточно громко, но не угрожающе.
– Да? – откликнулась она слегка дрожащим, смиренным голосом человека, приученного автоматически подчиняться.
– Миссис Хаксли, откройте, пожалуйста.
Последовало непродолжительное молчание, затем она робко пролепетала:
– Я… э-э-э… знаете, мне что-то нехорошо…
– Я знаю, – сказала я, специально добавив легкую нотку осуждения: пусть думает, что ей сделают выговор из-за лужи блевотины, которую она оставила на тротуаре. – Откройте дверь.
Дверь София открыла. И стояла передо мной босиком, с полотенцем в руках. Затем вытерла им рот и спросила:
– Да? Что вы хотели?
– Нам нужно поговорить.
– Поговорить? – Она удивленно захлопала глазами, но самого главного вопроса – «Кто вы такая?» – так и не задала.
Выставив перед собой в качестве тарана сумку от Louis Vuitton, я протолкнулась мимо нее в комнату.
– Вы ведь София Хаксли, верно?
Она кивнула, и я заметила в ее глазах почти неуловимый страх. Я, черная как ночь, была одета во все белое, и она, наверное, решила, что это здешняя форма, а я – представитель начальства. Мне захотелось ее успокоить, и я, указав на сумку, сказала:
– Не волнуйтесь. Давайте лучше присядем. Я тут кое-что вам принесла. – Но София даже не посмотрела ни на сумку, ни на меня; она глаз не сводила с моих туфель на высоченных, прямо-таки смертоносного вида шпильках с опасно заостренными носками.
– Что вам от меня нужно? – спросила она. – Я что-то должна сделать?
Такой покорный тон на все согласного человека, твердо знающего – еще бы, после пятнадцати-то лет, проведенных за решеткой! – что ничто на свете не дается бесплатно. Никто никогда ничего тебе просто так не отдаст. Что бы это ни было – сигареты, журнал, прокладки, марки, батончики «Марс» или банка арахисового масла, – за все непременно потребуют плату, которая свяжет тебя незаметной, но прочной, как леска, паутиной долга.
– Мне ничего не нужно. И я вовсе не хочу, чтобы вы что-то для меня делали.
Она наконец оторвала взгляд от моих хищных туфель и посмотрела мне прямо в лицо, но в ее темных глазах не промелькнуло ни единой искорки любопытства. Так что я сама поспешила ответить на так и не заданный ею вопрос, который у любого нормального человека давно уже сорвался бы с языка:
– Просто я видела, как вы вышли из «Декагона». Но вас никто не встречал, вот я и предложила подвезти…
– Так это были вы? – Она нахмурилась.
– Да, я.
– Я вас знаю?
– Меня зовут Брайд.
Она прищурилась.
– И что? Вы полагаете, мне это о чем-то говорит?
– Боюсь, что нет, – улыбнулась я. – Посмотрите лучше, что я вам привезла. – Мне хотелось поскорее вручить принесенные подарки, и я просто не могла больше противиться этому желанию. Я поставила сумку на кровать и вытащила из нее упаковку косметики «YOU, GIRL!», а сверху положила два конверта – сперва тонкий с подарочным сертификатом на самолет, а потом толстый с пятью тысячами долларов. Примерно по двести долларов за каждый год назначенного ей срока, если бы она его полностью отсидела.
София Хаксли смотрела на выложенные на кровать подарки так, словно эти предметы таили в себе смертоносную заразу.
– К чему все это?
«Может, она еще и умом в тюрьме тронулась?» – с некоторым раздражением подумала я и сказала:
– Да вы не волнуйтесь. Я просто хотела немного помочь.
– Помочь мне? Но в чем?
– В том, чтобы у вас был неплохой старт. Ну, в вашей новой жизни, понимаете?
– В моей новой жизни? – Что-то явно пошло не так. Казалось, ей требуется пояснение к слову «жизнь».
– Ну да. – Я все еще улыбалась. – В вашей новой жизни.
– Но почему вы?.. Кто вас послал? – Теперь она выглядела скорее заинтересованной, чем испуганной.
– Вы меня, наверно, не помните. – Я пожала плечами. – Да и с чего бы вам меня помнить? Я Лула Энн. Лула Энн Брайдуэлл. Помните в суде? Я была среди тех детей, которые…
Захлебываясь собственной кровью, я осторожно ощупала языком зубы. Вроде бы все на месте. А вот встать я, похоже, была не в состоянии. Я чувствовала, что левое веко совершенно распухло, а правая рука омертвела. Затем дверь над головой на мгновение распахнулась, и все мои подарки по очереди полетели мне в лицо; последней была сумка от Louis Vuitton. Дверь с грохотом захлопнулась, тут же снова распахнулась, и черная туфля с высоченной острой шпилькой, больно ударив меня в спину, упала рядом со мной на землю. Я невольно потянулась за ней левой рукой и с облегчением поняла, что хотя бы эта рука нормально функционирует в отличие от бесчувственной правой. Я попыталась крикнуть: «Помогите!», но губы и язык слушаться не желали; казалось, они вообще принадлежат не мне, а кому-то другому. Я отползла от двери на пару шагов и попыталась встать. Оказалось, что ноги тоже более-менее работают; собрав подарки, я запихнула их в сумку и в одной туфле, так и оставив вторую на земле, захромала к машине. Я ничего не чувствовала. И в голове у меня не было ни одной мысли, пока я не увидела свою физиономию в боковом зеркале автомобиля. Рот выглядел так, словно его набили кусками сырой печенки и они оттуда вываливаются; с одной щеки практически целиком содрана кожа; правый глаз скрыт опухолью, более всего похожей на гриб. Мне хотелось одного: поскорее отсюда убраться. И, разумеется, никаких звонков по 911; во-первых, это заняло бы слишком много времени, а во-вторых, сюда непременно явился бы какой-нибудь невежественный служитель мотеля и начал пялить на меня глаза. Нет уж, я лучше поеду в полицию. Ведь должна же быть в этом городишке полиция. Левой рукой мне, хотя и с некоторым трудом, удалось все же вставить ключ в замок зажигания; я завела машину и осторожно тронулась с места, удерживая руль все той же левой рукой, поскольку правая лежала рядом со мной на сиденье, как мертвая. Любое, даже мельчайшее действие требовало от меня предельной концентрации. Так что я, лишь добравшись до центра Норристауна и увидев знак и стрелку, указывающую на полицейский участок, сообразила: а ведь копы-то станут писать отчет, начнут задавать вопросы мне и той, которую, естественно, обвинят в нанесении тяжких телесных повреждений, а потом еще начнут фотографировать мое изуродованное лицо… А что, если моя фотография и вся эта история появятся в местной газете? То, что мне самой будет неловко, – это сущие пустяки по сравнению с теми шутками и издевательствами, которые обрушатся на «YOU, GIRL!», которую, разумеется, тут же превратят в неодобрительное «BOO, GIRL!»[5].
Теперь мучительная боль не стихала во всем теле, и мне с огромным трудом удалось вытащить мобильник и набрать номер Бруклин, единственного человека на свете, которому я могла доверять. Полностью доверять.
Да врет она все. Мы черт знает сколько просидели в вонючей больничке Норристауна, а перед этим я еще часа два гоняла на автомобиле по всей округе, пока не отыскала в этом убогом городишке ее «Ягуар», припаркованный на задах наглухо запертого полицейского участка. Естественно, он был закрыт; в воскресенье открыты только церкви да торговые променады. Брайд, когда я ее, наконец, нашла, была в истерике, вся окровавленная, зареванная – причем слезы у нее лились только из одного глаза, второй слишком сильно распух и влагу не пропускал. Вот ведь бедолага. Кто же это ей так глаз расквасил? У нее просто потрясающие глаза, хотя их необычность даже пугает – огромные, чуть раскосые, с тяжелыми веками и непроницаемо черные, что несколько странно, если учесть, какая темная у нее кожа. Я всегда говорила, что у нее глаза инопланетянки, но парни-то, разумеется, находят их классными.
В общем, когда я отыскала эту крошечную дежурную больничку – она фасадом выходила прямо на паркинг тамошнего молла, – Брайд самостоятельно идти не могла, и мне пришлось изо всех сил ее поддерживать и подталкивать. К тому же она ощутимо прихрамывала, поскольку была почему-то только в одной туфле. В конце концов нам все-таки удалось привлечь к себе внимание медсестры, и она прямо-таки глаза выпучила, увидев нашу парочку: еще бы, белая девица с белокурыми дредами и черная, как ночь, окровавленная особа с роскошными шелковистыми волосами. Потом мы целую вечность заполняли всякие бумажки, что-то там подписывали и предъявляли страховые свидетельства. Затем оказалось, что нужно ждать дежурного врача, который живет черт знает где, в каком-то другом вшивом городишке. Пока мы сюда ехали, Брайд ни слова не сказала, но потом, пока мы сидели и ждали врача, вдруг заговорила и сразу же начала врать.
– Мне конец, – прошептала она.
– Ничего подобного, – сказала я. – Это все заживет, хотя, естественно, потребуется какое-то время. Помнишь, как выглядела Грейс после круговой подтяжки?
– Так ей лицо хирург делал, – возразила она, – а меня маньяк изуродовал!
Я решила немного ее подтолкнуть:
– Давай-ка, расскажи все, Брайд. Все, что с тобой случилось. Кто он такой?
– «Он»? – И она, дыша ртом, осторожно коснулась сломанного носа.
– Ну да, тот тип, который тебя до полусмерти избил.
Она закашлялась, и я сунула ей бумажный носовой платок.
– Разве я говорила, что это был мужчина? Что-то не помню.
– А что, женщина? Неужели ты хочешь сказать, что это женщина сделала?
– Нет. – Она тут же пошла на попятный. – Нет. Мужчина.
– Он что, тебя изнасиловать пытался?
– Наверное. По-моему, его просто кто-то спугнул. Он меня избил, а потом вдруг сбежал.
Понимаете теперь, почему я заявила, что она врет? Впрочем, Брайд и соврать-то как следует не сумела. И я решила еще чуточку на нее надавить:
– Он у тебя ничего не отнял? Кошелек, сумочку?
Она не ответила. Потом с трудом пробормотала:
– Мне кажется, это был какой-то бойскаут. – Она даже попыталась улыбнуться собственной глупой шутке, хотя губы у нее жутко распухли, да и язык с трудом во рту поворачивался.
– Почему же тот, кто его спугнул – кто бы он ни был, – тебе не помог?
– Ну откуда мне знать! Не знаю я! Не знаю! – сердито выкрикнула она и сорвалась в притворные рыдания, так что я решила временно прекратить допрос.
Ее единственный зрячий глаз открывался с трудом, и каждое слово причиняло боль распухшим губам и языку. Минут пять я молчала, перелистывая страницы «Ридерз дайджест», затем предприняла новую попытку что-то выяснить, стараясь говорить как можно уверенней и спокойней. Я решила даже не спрашивать у нее, почему она позвонила мне, а не своему любовнику.
– Слушай, а что ты, собственно, тут делала?
– Я приехала повидаться с одним человеком. – И она вдруг так согнулась, словно у нее живот заболел.
– В Норристаун? Твой приятель живет в этом городе?
– Нет. Рядом.
– И ты его нашла?
– Ее. Нет. Я ее так и не нашла.
– Кто она?
– Некто из далекого прошлого. Ее просто там не оказалось. Возможно, она уже давно умерла.
Брайд прекрасно понимала: я догадалась, что она лжет. Почему, собственно, этот якобы насильник не забрал ее деньги? Нет, у нее явно мозги набекрень, иначе она и пытаться бы не стала впарить мне такое беспардонное вранье. Впрочем, ей, похоже, было абсолютно наплевать, что именно я об этом подумаю. Когда я запихивала ее перепачканную кровью одежонку, белую юбку и топик, в сумку-шоппер, то обнаружила там целую пачку денег – пятьдесят стодолларовых купюр, перетянутых резинкой, – а также подарочный сертификат на самолет и коробку с новейшими образцами косметики от «YOU, GIRL!», которые еще даже в продажу не поступили. Неплохо, да? Вряд ли кто-то из потенциальных насильников заинтересовался бы кремом «Nude Skin Glo», а вот от такой суммы наличными никто бы точно не умер. Ладно, решила я, пока оставим эту тему; пусть Брайд сперва врач осмотрит.
А когда уже после всего она вытребовала у меня пудреницу и посмотрелась в зеркальце, мне сразу стало ясно: она в полном ужасе. Еще бы! Более-менее сносно выглядела у нее примерно четверть лица, а все остальное покрывали какие-то ямы, края которых были стянуты безобразными черными стежками; на месте поврежденного глаза отвратительная опухоль; голова вся в бинтах; губы распухли, как у африканки с берегов Убанги; язык во рту не ворочался – она даже звук «р» в слове «рана» произнести не могла, хотя все ее лицо именно так и выглядело: точно сплошная рана, сочащаяся чем-то розовым и окруженная сине-черными кровоподтеками. Хуже всего обстояло дело с носом – ноздри расширены, как у орангутанга под газом, и каждая размером с половинку ролла. А ее неповрежденный глаз, некогда поистине прекрасный, был налит кровью и словно застыл от ужаса, отчего казался каким-то мертвым.
Мне, конечно, не следовало бы так думать, но карьеру Брайд в «Сильвия Инкорпорейтед», скорее всего, ожидает полный крах. Разве можно убедить покупательниц в благотворном воздействии на внешность продукции «YOU, GIRL!», если той, кто эту косметику предлагает, она помочь не сумела? Да нигде в мире не нашлось бы таких косметических средств, с помощью которых удалось бы скрыть и сломанный нос, и жуткие шрамы вокруг глаз и на щеках, где кожа была содрана чуть ли не до кости! И пусть со временем эти уродства станут менее заметными, Брайд все равно не обойтись без вмешательства пластического хирурга, а это означает долгие месяцы бездействия и необходимости постоянно прятать лицо под темными очками и широкополыми шляпами. Возможно, в таком случае принять у нее дела попросят именно меня. Временно, конечно.
– Я не могу есть! Не могу говорить! Не могу думать!
В голосе Брайд звенели слезы; она вся дрожала.
Я обняла ее и шепнула:
– Эй, подруга, кончай себя жалеть! Давай-ка лучше уберемся поскорей из этой дыры. Здесь даже туалета нормального нет, а у дежурной медсестры со вчерашнего дня в зубах латук застрял, и я сильно сомневаюсь, что она хоть раз мыла руки, завершив свое образование на заочных курсах медицинских работников.
Брайд перестала трястись, поправила перевязь, в которую была уложена ее правая, сломанная, рука, и спросила:
– Как ты думаешь, врач нормально руку вправил?
– Кто его знает? – пожала плечами я. – Разве можно быть в чем-то уверенной в этой больничке для дальнобойщиков? Ничего, сейчас я отвезу тебя в нормальную больницу – в отдельную палату с туалетом и умывальником.
– И ты думаешь, они меня отпустят? – Господи, ну как будто ей лет десять!
– Ох, перестань, пожалуйста! Сейчас мы встаем, выходим отсюда и уезжаем. Немедленно. Кстати взгляни, что я купила, пока тебя латали. Целую кучу всяких вкусностей, да еще гавайские шлёпки. Здесь хоть и нет приличной больницы, зато магазины Wal-Mart[6] очень даже ничего. Ну, давай. Вставай. Обопрись о мое плечо. Куда, интересно, эта Флоренс Найтингейл[7] твои вещи засунула? Ничего, по дороге купим мороженое на палочке или молочный коктейль – такое лекарство, по-моему, гораздо больше поможет. Еще можно томатный сок или куриный бульон взять.
Я суетилась, собирая ее шмотки и лекарства, а она сидела, застыв и вцепившись в полы безобразного больничного халата в цветочек.
– Ох, Брайд! – Я посмотрела на нее, и голос мой неожиданно дрогнул. – Ну что ты так скукожилась? Все будет хорошо.
Мне пришлось ехать очень медленно, потому что каждая кочка или даже остановка перед светофором отдавались в теле Брайд такой болью, что она не могла сдержать стон. Я, всячески стараясь отвлечь ее от этой боли, продолжала болтать:
– А я и не знала, что тебе уже двадцать три. Уверена была, что мы с тобой ровесницы и нам обеим по двадцати одному году. Я случайно узнала, заглянув в твои водительские права. Пришлось, знаешь ли, в вещах покопаться, пока я твое страховое свидетельство нашла. – Брайд молчала, но я не оставляла попыток хоть немного ее приободрить, заставить улыбнуться. – Между прочим, здоровый глаз по-прежнему выглядит максимум на двадцать!
Но и это никакой реакции не вызвало. Вот черт! Я с тем же успехом могла и с самой собой разговаривать. Ну ладно, решила я, отвезу ее домой, все там устрою, а потом и на работе обо всем позабочусь. На больничном Брайд наверняка проторчит достаточно долго, так что в любом случае кто-то должен будет взять на себя ее обязанности. И как знать, чем все это может обернуться.
Она действительно оказалась извращенкой, эта София Хаксли. А ведь выглядела такой покорной, даже кроткой, и вдруг, буквально в один миг, превратилась из бывшей осужденной в разъяренного аллигатора. Из унылой мямли в клыкастого монстра. Из прокисшего киселя в молот. И ни малейших признаков надвигавшейся перемены я заметить не успела – ни прищуренных глаз, ни вздувшихся жил на шее, ни напрягшихся плеч, ни вставшей на загривке шерсти, ни злобного оскала, демонстрирующего обнаженные клыки. Короче, ничто ее нападения не предвещало. Но мне этот кошмар никогда не забыть; да если б даже я и попыталась, так мои шрамы, не говоря уж о стыде, мне не позволят.
От воспоминаний излечиться труднее всего. Тем более никаких срочных дел у меня не было, и я целыми днями валялась то на кровати, то на диване. Все объяснения Бруклин взяла на себя; в офисе она рассказала, что меня пытались изнасиловать, нанесли тяжкие телесные повреждения, ну и так далее – бла-бла-бла. Бруклин – настоящий друг; вот кто совершенно не раздражает в отличие от прочих так называемых друзей и подружек, которые навещают меня только для того, чтобы посмотреть, во что я превратилась, и притворно пожалеть. Телевизор я смотреть не могу – осточертело: сплошная кровь, реклама помады и шлюхи, демонстрирующие ляжки по самое не могу. А новостные программы? Это либо набор сплетен, либо лживые нравоучения. А криминальные шоу? Как можно воспринимать их всерьез, если там убийц выслеживают женщины-детективы в страшно неудобных туфлях «Lauboutin» на высоченных шпильках? Я даже читать не могу – от любого печатного текста начинает рябить в глазах и кружится голова. И слушать музыку мне по какой-то неведомой причине больше не нравится. Вокалисты – причем любые, как прекрасные, так и посредственные, – вгоняют меня в депрессию, а от инструментальных произведений и вовсе тоска начинается. И во рту что-то нехорошее происходит: такое ощущение, словно на языке напрочь исчезли все вкусовые рецепторы. Теперь у любой еды вкус лимона, зато у самих лимонов вкус соли! А вино пить вообще не имеет смысла – вкуса я все равно не чувствую, а от транквилизаторов, которые я принимаю, туман в голове гораздо приятней и уютней.
И ведь эта сука даже выслушать меня не захотела! Хотя в суде я была отнюдь не единственной свидетельницей, показания которой и превратили Софию Хаксли в заключенную № 0071140. Тогда многие выступили с рассказами о ее домогательствах. Я точно знаю, что показания давали, по крайней мере, четверо. Сама я, разумеется, их выступлений не слышала, но все дети дрожали и плакали, выходя из зала суда. К нам тогда даже специально приставили социального работника и психолога; они обнимали плачущих детей и шепотом уверяли их: «Все будет хорошо. Ты отлично выступил». Меня, правда, никто не обнимал, но и соцработник, и психолог ласково мне улыбались. Похоже, никаких родственников у Софии Хаксли не имеется. Впрочем, муж-то у нее точно был, только он по-прежнему сидит, причем в другой тюрьме, и условно-досрочное ему дать отказались, хоть он и предпринял целых семь попыток. Во всяком случае, тогда возле тюрьмы ее никто не встречал. Никто. Так почему же она мою-то помощь принять не захотела? Неужели лучше пойти работать за гроши какой-нибудь кассиршей или уборщицей? Хорошо еще, если ей и такую работу предложат. А когда у тебя есть деньги, то даже после УДО вовсе ни к чему мыть туалеты в универмаге «Венди».
Мне тогда было всего восемь лет, и меня еще называли Лула Энн. И в зале суда я, подняв ручонку, указала пальцем прямо на Софию Хаксли.
– Находится ли в данном помещении та особа, которую ты видела? – спросила женщина-адвокат. От нее прямо-таки несло табаком.
Я кивнула.
– Скажи это вслух, Лула. Отвечай: «да» или «нет».
– Да.
– Ты можешь показать нам, где она сидит?
Но я молчала. Я очень боялась перевернуть бумажный стаканчик с водой, который дала мне женщина-адвокат.
– Не волнуйся, – успокоила женщина-обвинитель, – и не торопись.
И я торопиться не стала. Так и стояла с судорожно стиснутыми кулаками, пока не успокоилась. И тогда мои кулаки разжались сами собой, пальцы выпрямились, и я ткнула указательным пальцем прямо в нее. Раз! Точно из пистолета выстрелила. Миссис Хаксли так и уставилась на меня. Она открыла рот, словно собираясь что-то сказать, да так и не сказала; вид у нее был потрясенный, словно она никак не может в это поверить. Но я все продолжала указывать на нее пальцем, так что женщина-обвинитель даже тронула меня за плечо и произнесла: «Спасибо, Лула. Достаточно», и только тогда я все-таки опустила руку. А потом я мельком глянула в сторону Свитнес и увидела, что она улыбается. Я такой улыбки у нее никогда прежде не видела – она улыбалась мне и губами, и глазами! Мало того, когда я вышла из зала суда, мне улыбались все матери, а две по-настоящему меня обняли и поцеловали! И все отцы показывали мне большой палец. Но дороже всего для меня была улыбка Свитнес. А когда мы с ней спускались с крыльца, она даже за руку меня взяла. За руку! Она никогда раньше этого не делала, так что я удивилась не меньше, чем обрадовалась, я ведь всегда знала, что ей неприятно ко мне прикасаться. Да, это я знала точно. Я это чувствовала еще совсем маленькой, когда ей приходилось меня купать; и каждый раз отвращение было написано у нее на лице. Потрет меня вполсилы намыленной махровой салфеткой и спешит сполоснуть чистой водой, чтобы поскорее со всем этим покончить. И я часто молилась про себя: пусть она даже пощечину мне даст или отшлепает, лишь бы снова почувствовать ее прикосновение. Я нарочно совершала разные промахи и ошибки, но у Свитнес хватало способов, чтобы наказать меня, не прикасаясь к моей черной коже, которую она ненавидела. Она могла, например, уложить меня спать без ужина или надолго запереть в комнате; но хуже всего было, когда она на меня кричала. Когда правит страх, чтобы выжить, остается только подчиниться. Быть послушной. А это я умела очень хорошо. Я всегда вела себя очень, очень хорошо, просто прекрасно. И хотя я боялась идти в суд, я все-таки сделала то, чего учителя, эти великие психологи, от меня ожидали. И я точно знаю, что сделала все на отлично, потому что после процесса Свитнес стала невероятно доброй, почти как настоящая мать.
Не знаю. Возможно, я куда больше злилась на себя, чем на миссис Хаксли. Но я словно вновь превратилась в маленькую Лулу Энн, которая никогда и никому не давала сдачи. Никогда и никому. Именно поэтому, рухнув после первого же ее удара на пол, я просто лежала и не оказывала ни малейшего сопротивления, пока она душу из меня выколачивала. Я бы, наверное, так молча и умерла на полу того жалкого номера, если бы лицо Софии Хаксли не побагровело от усталости. Я не издала ни звука, я даже рукой не пыталась заслониться от ударов, а она, моя мучительница, лупила меня по лицу чем попало, била ногами по ребрам и буквально вдребезги разнесла мне челюсть своим тяжелым кулаком, а потом стала бодать собственным лбом. Я слышала ее тяжелое дыхание, когда она с трудом волокла меня по полу, а потом вышвырнула за дверь. Стоит мне сейчас об этом вспомнить, и я вновь чувствую, как больно ее жесткие пальцы вцепляются мне в волосы на затылке; как она носком туфли поддает мне по копчику; как страшно хрустят мои кости – локоть, челюсть, – когда она бросает меня на бетонную дорожку; как скользят в крови мои руки, когда я тщетно пытаюсь приподняться; как мой распухший язык шарит в окровавленном рту, пытаясь определить, все ли зубы на месте. Вышвырнув меня, она сперва с грохотом захлопнула дверь, но потом снова ее отворила и запустила в меня моей туфлей, а я, точно набедокуривший и выпоротый щенок, все старалась отползти подальше и боялась даже захныкать.
Возможно, он прав. Я – не та женщина. Когда он ушел, я просто стряхнула с себя все эти воспоминания и притворилась, будто мне все равно.
Почему-то пена из аэрозольного баллончика всегда заставляла его смеяться, так что во время бритья он предпочитал пользоваться самым обыкновенным мылом, а мыльную пену наносил на щеки специальной кисточкой из шерсти кабана, очень симпатичной, с ручкой из слоновой кости. Теперь все это, наверное, в мусорном ведре вместе с его зубной щеткой, ремнем для правки опасной бритвы и самой бритвой. Все эти брошенные им вещи казались мне какими-то слишком живыми, и я решила, что пора их выбросить. Он оставил и свои туалетные принадлежности, и одежду, и матерчатую сумку с двумя книгами – сборником стихов и еще какой-то на иностранном языке. Я свалила все это в кучу, но потом снова в ней порылась и вытащила кисточку для бритья и опасную бритву, тоже с ручкой из слоновой кости. Эти вещи я положила в аптечку и, закрыв дверцу, уставилась на собственное отражение в зеркале.
– Ты всегда должна носить только белое, Брайд. Белое, и только белое. Причем постоянно, – настойчиво требовал дизайнер Джерри, сам себя называвший «total person»[8]. Я решила у него проконсультироваться, пытаясь в лучшую сторону изменить свой облик в преддверии второго собеседования в «Сильвия Инкорпорейтед».
– Тебе нужно ходить в белом не только из-за твоего имени, – говорил Джерри. – Дело в том, что белый цвет в сочетании с кожей цвета лакрицы – это нечто невероятное. И твоя чернота будет выглядеть по-новому. Понимаешь, что я хочу сказать? Ну, смотри: в белом ты сразу становишься более похожей на шоколадный сироп «Херши», чем на лакрицу. И когда люди тебя видят, им сразу представляются взбитые сливки и шоколадное суфле.
Я не выдержала и засмеялась:
– А может, молочные шоколадки «Ореос»?
– Никогда! При виде тебя у всех должны возникать мысли только о чем-то дорогом, классическом. В крайнем случае, о шоколадных конфетах, сделанных вручную.
Сперва мне это показалось довольно скучным – выискивать в магазинах одежду исключительно белого цвета; но потом я поняла, как много на свете различных оттенков белого: цвет слоновой кости и цвет устрицы, цвет алебастра и бумаги, цвет снега и сливок, цвет топленого молока и светлого шампанского, призрачно-белый цвет и чуть желтоватый… Еще интересней стало, когда я начала подбирать в магазинах аксессуары самых разнообразных цветов и оттенков.
Джерри, наставляя меня, говорил:
– Послушай, Брайд, детка. Если тебе нужно добавить капельку цвета, ограничься туфлями и сумочкой, хотя я бы на твоем месте то и другое выбирал черного цвета, если в данном случае белый не подходит. И не забывай: никакого макияжа! Даже помады, даже карандаша для глаз. Вообще ничего.
Я спросила насчет украшений. Может быть, золото? Или бриллианты? Или, например, брошь с изумрудом?
– Нет, нет и нет. – Он нервно вскинул руки. – Никаких украшений! Ну, может, крошечные жемчужные сережки-гвоздики. Хотя, пожалуй, даже этого не нужно. Только ты сама, девочка. Только полночное небо и лед. Пантера в снегу. Да еще с твоим роскошным телом! С твоими глазами росомахи! Прошу тебя, послушайся моего совета!
И я действительно взяла его совет на вооружение, и это прекрасно сработало. Куда бы я ни пришла, всюду на меня оборачивались, причем не единожды, и в этих взглядах сквозило отнюдь не то легкое отвращение, с каким многие смотрели на меня в детстве. Теперь меня сопровождали взгляды восхищенные, обожающие, ошеломленные и голодные. Кроме того, Джерри, окликая меня «эй, девушка!», невольно подарил мне отличное название для новой линии косметики: «YOU, GIRL!».
Я смотрела в зеркало, и мое лицо казалось мне каким-то чужим, незнакомым. Хотя губы вроде бы обрели прежнюю форму, да и нос, и поврежденный глаз выглядели вполне нормально. Немного побаливали сломанные ребра, а вот содранная кожа на лице прижилась, к моему удивлению, быстрее всего. Я опять стала красивой, так почему же душа моя по-прежнему была охвачена глубокой печалью? Повинуясь внезапному порыву, я открыла дверцу аптечки, вынула оттуда кисточку для бритья и осторожно погладила пальцем шелковистые волоски и коснулась ими щеки. Они слегка покалывали, но их прикосновение было каким-то удивительно ласковым, успокоительным. Я провела кисточкой по подбородку, как это делал он, потом под нижней челюстью, круговыми движениями по щекам. И у меня почему-то сразу закружилась голова. Ах, да! Мыло! Ведь нужна же еще мыльная пена! Я нетерпеливо разорвала картонную упаковку и вытащила тюбик с гелем для душа – «для нежной кожи той, кого он обожает». Я выдавила немного геля в мыльницу, смочила кисточку и взбила пену. Размазывая пену по лицу, я даже дыхание затаила. Теперь ей были покрыты и мои щеки, и нос, и даже верхняя губа. Это, конечно, полное безумие, но я не могла оторваться от собственного отражения. Мне казалось, что глаза у меня стали еще больше и сияют, как звезды. А нос не только совсем зажил, но и выглядит идеально. Губы, почти скрытые хлопьями мыльной пены, прямо-таки «звали к поцелуям»; они были настолько соблазнительными, что я даже потрогала их кончиком мизинца. Мне не хотелось на этом останавливаться, однако пришлось. Я сжимала в руках его бритву. Как же он ее держал? Как-то по-особенному, только я не помню, как именно он располагал пальцы. Надо будет потренироваться. А пока я тупой стороной лезвия стала «сбривать» с лица пышные белые завитки мыльной пены, прорисовывая в них широкие темно-шоколадные линии. Потом я хорошенько вымыла лицо и сполоснула его холодной водой, испытывая невероятное наслаждение.
Кстати, работать, не выходя из дома, оказалось совсем не так уж плохо, хотя сперва я этого очень боялась. Я по-прежнему пользовалась должным авторитетом, а Бруклин зачастую не только предугадывала мои намерения, но и несколько раз даже опередила меня в плане принятия решений. Впрочем, я не возражала. Это хорошо, что она пользуется моей поддержкой. А если на меня вдруг нападала хандра, я легко находила спасение от нее: это лекарство в виде заветных бритвенных принадлежностей хранилось у меня в ванной в маленьком шкафчике. И я, взбивая мыльную пену в теплой воде, едва могла дождаться того мгновения, когда к моему лицу прикоснется кисточка для бритья, а затем и бритва. Эта процедура одновременно и возбуждала, и успокаивала. И я могла без горечи вспоминать те времена, когда надо мной смеялись, когда меня обижали.
«А ведь под этой черной кожей, пожалуй, хорошенькая девчонка пряталась» – с таким выводом в итоге согласились и наши соседи, и их дочери. Но Свитнес этого не слышала: она никогда не ходила ни на родительские собрания, ни на школьные состязания по волейболу. Зато, по сути дела, заставила меня поступить в муниципальный колледж и изучать бизнес, а не идти по проторенной дорожке в государственный университет, где нужно было учиться еще целых четыре года. Нет, в университете я так и не побывала. И невесть сколько отказов получила, прежде чем все-таки смогла устроиться на работу, правда, мне разрешили заниматься только поставками товара, но ни в коем случае не продажами: еще бы, ведь меня могли увидеть клиенты! А мне так хотелось самой продавать косметику! Однако я даже попросить об этом не осмеливалась. Но в результате моя мечта все же сбылась – правда только потому, что белые девицы, кстати довольно-таки тупые, не умевшие и двух слов связать, либо получили повышение, либо настолько прокололись, что начальство вынуждено было искать человека, который действительно разбирается и в поставках, и в продаже товара. Меня пригласили на собеседование к руководству «Сильвия Инкорпорейтед», но все прошло крайне неудачно: сомнения вызвала не только моя одежда, но и мой стиль, и мне сказали, чтобы я зашла в другой раз. Вот тогда-то я и решила обратиться за советом к Джерри. И в следующий раз, когда я, воспользовавшись его рекомендациями, еще только шла по коридору к тому залу, где проходило собеседование, я сразу поняла, что теперь произвожу совсем иное впечатление: я заметила удивленно раскрытые глаза, в которых сквозили и восхищение, и зависть; отметила одобрительные улыбки и шепот: «Ого!», «Ничего себе!», «Вот это да, беби!». В общем, очень скоро я взлетела до уровня регионального менеджера. «Вот видишь! – сказал Джерри. – Черный-то, оказывается, нарасхват. Он в цивилизованном мире пользуется повышенным спросом. А вот белые девушки и даже мулатки вынуждены чуть ли не догола раздеваться, чтобы привлечь к себе такое внимание».
Правда это или нет, не знаю, но белый цвет одежды действительно заново меня создал и полностью изменил внутренне. Я стала иначе себя вести, иначе двигаться – не горбилась, не скукоживалась, не мчалась сломя голову невесть куда, точно спасаясь от погони, не отставляла зад, а ходила спокойным широким шагом, неторопливо, но в то же время вполне целенаправленно. Мужчины буквально липли ко мне, и я позволяла себе наслаждаться их ухаживаниями, пока моя сексуальная жизнь не стала походить на диетическую кока-колу – обманчиво сладкую, но лишенную каких бы то ни было калорий. Больше всего она напоминала игру для «PlayStation», обеспечивающую тот же восхитительный уровень безопасного виртуального насилия и столь же непродолжительную. Мои тогдашние бойфренды были примерно одного типа: будущие актеры, всякие сомнительные полукриминальные личности, профессиональные спортсмены, музыканты и тому подобное; каждый из них только и ждал, когда я раздвину ноги или выпишу ему чек в качестве безвозмездного вспомоществования; ну а те, кто уже получил от меня все, что было нужно, начинали обращаться со мной, точно с завоеванной медалью, этаким блестящим и безмолвным свидетельством их мужской доблести. Ни один из них никогда и ничего мне не давал, никогда и ничем мне не помогал, и никого из них не интересовало, о чем я думаю, – их волновало только то, как замечательно я выгляжу. В разговорах со мной они отделывались шутками или сюсюкали, словно я была ребенком, а я-то воображала, что мы беседуем серьезно; впрочем, вскоре они подыскивали для себя более выгодные жизненные подпорки, с помощью которых продолжали лелеять собственное эго. Особенно мне запомнился один ухажер, студент-медик, который уговорил меня вместе с ним поехать на север, в гости к родителям. И как только он представил меня им, довольно милой пожилой белой паре, мне стало ясно: меня притащили сюда в качестве особого средства устрашения или даже угрозы.
– Разве она не прекрасна? – все повторял он. – Вы только посмотрите на нее! Ну, что скажете, мам, пап? – И в его глазах сверкала затаенная злоба.
Однако его затея не удалась. Они были так обаятельны и милы со мной – даже если их теплое отношение и было притворным, – что он не сумел скрыть разочарования, и ему лишь с трудом удалось подавить гнев, бушевавший в душе. Его родители сами проводили меня – отвезли на машине на вокзал и посадили в поезд, – возможно, им хотелось избавить меня от необходимости выяснять отношения с их сыном и обсуждать его провалившуюся расистскую выходку, которая, кстати, направлена была скорее против них. Уехав оттуда, я испытала большое облегчение, хоть и прекрасно понимала, что его мать сделала с той чашкой, из которой я пила у них в доме чай.
Такой вот «мужской пейзаж» меня тогда окружал.
А потом появился он. Букер. Букер Старберн.
Думать о нем сейчас совсем не хотелось. Как и о том, каким пустым, незначительным и безжизненным стало теперь все вокруг. И вспоминать его тело – прекрасное, практически безупречное, если не считать безобразного пятна у него на плече, похожего на шрам от ожога, – мне тоже не хотелось. Мне так нравилась его золотистая кожа! Я лелеяла и разглаживала буквально каждый ее дюйм; а еще я любила брать в рот мочки его ушей. Мне было известно, какие тонкие волосы у него под мышками, какая симпатичная маленькая ямочка у него над верхней губой – я так любила нежно поглаживать ее кончиком пальца. А иногда я наливала ему в пупок красное вино и высасывала его оттуда. И на моем теле не было ни одного крошечного сантиметрика, который его жаркие губы не воспламеняли бы, превращая в яркие вспышки молний. Боже мой! Нет, я должна немедленно это прекратить! И ни в коем случае не думать, не вспоминать о том, как мы занимались любовью. Я должна позабыть о том, что каждый раз испытывала с ним совершенно новые и одновременно древние как мир ощущения. Вообще-то мне, как говорится, медведь на ухо наступил, но когда мы с Букером занимались сексом, я невольно начинала петь, а потом, потом… как гром среди ясного неба прозвучало «Ты не та женщина…», и он, точно призрак, исчез в ночи.
Я изгнана из его жизни.
Стерта из его памяти.
Даже София Хаксли стерла меня из своей памяти. Не кто-нибудь, а осужденная за растление малолетних. Осужденная! Она могла бы просто сказать: «Нет уж, спасибо!» или «Пошла вон!». Но ей захотелось поставить на моей физиономии свой почтовый штемпель. Возможно, кулачный бой – это особая форма тюремного разговора, когда вместо слов используются сломанные кости и кровопускание. Наверное, сокамерники именно так и общаются друг с другом. Хотя я, в общем-то, не уверена, что тут хуже: когда тебя, будто мусор, выбрасывают за ненадобностью или когда безжалостно избивают, точно провинившуюся рабыню.
А ведь всего за день до того, как Букер меня бросил, мы с ним встречались в обеденный перерыв в офисе – салат из лобстеров, «Smartwater» и ломтики персиков в бренди. «Нет, немедленно прекрати! – велела я себе. – Нельзя же все время думать об одном и том же! Ты и так почти свихнулась от бесконечного сидения в пустой квартире, где слишком много света, слишком много свободного пространства и слишком одиноко». И я решила, что надо, пожалуй, одеться и куда-нибудь выбраться. Совершить над собой некоторое усилие. Бруклин все время меня на это подбивает. Надо забыть про темные очки и широкополые шляпы и опять показать себя во всей красе, начать жить полной жизнью, словно это действительно так и есть. Уж Бруклин-то хорошо это умеет; сейчас она как раз мое место в «Сильвия Инкорпорейтед» к рукам прибирает.
Одежду я выбирала тщательно: белые, как кость, шорты, открытый топ с петлей на шее, сандалии из соломки на высоченной веревочной танкетке и бежевая холщовая сумка, куда я на всякий случай бросила кисточку для бритья. Затем журнал «Elle» и обыкновенные темные очки. Бруклин бы все это вполне одобрила, хотя я собиралась всего лишь в парк за два квартала от моего дома; там в это время дня гуляют исключительно собачники и почтенные пожилые люди. Правда, чуть позже в парке непременно появятся еще и любители бега трусцой, а также скейтбордисты, но, поскольку сегодня суббота, никаких матерей с детьми, по крайней мере, не будет. По выходным ребятишки развлекаются сами: назначают свидания, устраивают веселые спортивные состязания и пирушки – но все под присмотром ласковых нянюшек, говорящих по-английски с самыми разнообразными, но очаровательными акцентами.
Я выбрала скамейку возле искусственного пруда, где плавали настоящие утки. И хотя мне удалось довольно быстро заблокировать тут же возникшие воспоминания о том, как Букер описывал мне разницу между дикими селезнями и дворовыми птицами, мое тело отказалось подчиниться, и мне показалось, что его прохладные пальцы ласково разминают мышцы у меня на спине. Перелистывая страницы «Elle» и лениво рассматривая изображения молодых и красивых людей, а также рекламу всевозможных продуктов, я услышала, как по гравиевой дорожке шуршат чьи-то неторопливые шаги, и подняла голову. Оказалось, что это пожилая пара. Оба седые, молчаливые, они шли, держась за руки и слегка выпятив полноватые животики. Хотя у него, пожалуй, живот был побольше. Оба были в бесцветных слаксах и свободных футболках, у которых на груди и на спине виднелись порядком вылинявшие принты – что-то насчет мира во всем мире. Подростки, гулявшие с собаками, при виде почтенной парочки прыскали от смеха и ни с того ни с сего дергали своих псов за поводок; то ли удивлялись, то ли просто завидовали столь долгой супружеской жизни и любви. А эти пожилые люди шли себе неторопливо и осторожно, словно во сне, но шагали, между прочим, в ногу и смотрели прямо перед собой. Мне даже стало казаться, что там, впереди, их ждет межпланетный корабль, и вот-вот в боку у него откроется дверца, отъедет в сторону, и оттуда выкатится язык красного ковра, а старики, по-прежнему держась за руки, спокойно пройдут по этому ковру и поднимутся на корабль, где их и примет в свои объятья благожелательная Сущность под звуки райской музыки, столь вдохновенной и прекрасной, что она у любого способна вызвать слезы…
В общем, это и послужило спусковым крючком. Вид пожилой пары, державшейся за руки, и ощущение безмолвной музыки, их сопровождавшей. И теперь я оказалась не в силах остановить нахлынувшие воспоминания – я словно опять оказалась на том переполненном стадионе, где даже оглушительные вопли зрителей не могли заглушить ту дикую и невероятно сексуальную музыку, что заставляла людей танцевать в проходах и вставать на скамьи, бешено хлопая в такт грохоту барабанов. Я тоже встала и, подняв руки, раскачивалась в такт музыке. Мои бедра, плечи и голова двигались сами собой. Я еще не успела увидеть его лицо, когда почувствовала, что руки его обнимают меня за талию, и прислонилась спиной к груди незнакомца. Он уткнулся подбородком мне в волосы, а его руки соскользнули мне на живот, и я прижала их к себе, но к нему так и не повернулась. Мы так и продолжали раскачиваться в такт безумной мелодии, прильнув друг к другу; потом музыка смолкла, и я обернулась, чтобы посмотреть на него. Он с улыбкой смотрел на меня. А я была настолько возбуждена, что тело буквально трясло…
Уже собираясь уходить из парка, я еще на минутку задержалась и, сунув руку в сумку, ласково погладила кончиками пальцев кисточку для бритья, такую мягкую и теплую.
Ох, да! Мне порой даже не по себе становится, когда я вспоминаю, как обращалась с Лулой Энн, когда она еще совсем маленькой была. Но вы поймите: я ведь обязана была как-то ее защитить! Она же понятия не имела, каков наш мир на самом деле. Не знала, что в этом мире нам нельзя быть ни упрямыми, ни дерзкими, даже если мы чувствуем себя правыми. Не знала, что можно запросто угодить в тюрьму для малолетних, если, скажем, возразишь учителю или с кем-то подерешься в школе. Не знала, что таких, как она, на работу берут в последнюю очередь, а увольняют – в первую. Да и откуда ей было знать об этом? Откуда ей было знать, что ее иссиня-черная кожа может вызвать у белых людей страх? Что из-за цвета кожи над ней станут смеяться, будут дразнить? Я однажды видела, как девчушку лет десяти – причем далеко не такую темнокожую, как Лула Энн, – поймали белые мальчишки, и один сделал ей подножку, так что она упала. Она, правда, сразу попыталась отползти в сторонку и встать, но второй мальчишка с такой силой пнул ее ногой в зад, что она шлепнулась ничком, а он поставил ногу ей на спину, не давая приподняться. Остальные, разумеется, стояли вокруг и ржали, схватившись за живот и прямо-таки пополам сгибаясь от смеха. Потом девочке все же удалось вырваться и сбежать, а они все продолжали ржать, страшно гордые собой. Я-то, к сожалению, в автобусе сидела и все это из окна видела, иначе бы, конечно, вмешалась, помогла девчонке, оттащила бы ее подальше от белых подонков. Понимаете теперь, как мне важно было Лулу Энн всему научить? Если бы не мои уроки, она бы и не знала, что, если на улице тебе белые мальчишки навстречу попались, нужно немедленно перейти на другую сторону и убраться от них подальше. И ведь ученье ей в конце концов на пользу пошло, и она даже заставила меня ею гордиться. И я, признаюсь, была горда, как павлин. Особенно во время суда над бандой учителей-извращенцев – их трое было, мужчина и две женщины, – которых моя дочь на чистую воду вывела. Она, хоть и была совсем еще малышкой, но, выступая свидетельницей в суде, держалась как взрослая – такая спокойная, такая уверенная в себе. С ее буйными волосами всегда была настоящая морока, но перед выступлением в суде я тщательно ее причесала, туго заплела ей косы и купила синее с белым платье-матроску. Очень я в тот день нервничала, боялась, что она споткнется, поднимаясь на трибуну, или начнет заикаться, или забудет, что ей говорили психологи, и опозорит меня. Но нет, слава богу, все обошлось, и с ее помощью удалось накинуть, если можно так выразиться, петлю на шею каждому из этих грешников. Вас бы, наверно, стошнило, если б вы услышали, в чем их обвиняли. А какие гнусности они заставляли делать совсем маленьких ребятишек! Впрочем, все это и в газетах было, и по телевизору. Несколько недель под стенами суда собирались толпы орущих людей – учились их дети в той школе или не учились. Некоторые даже с самодельными плакатами приходили: «Смерть проклятым извращенцам!» и «Никакого снисхождения дьяволам!».
Большую часть слушаний я просидела в зале суда; ну, не каждый день, конечно, а в те дни, когда, согласно предварительному расписанию, предстояло выступать Луле Энн. Выступления свидетелей все время переносились или даже отменялись, потому что многие в суд вообще не явились – кто-то заболел, а кто-то и вовсе передумал. Лула Энн выглядела испуганной, но держалась хорошо и вела себя тихо в отличие от других детей-свидетелей; многие из них места себе не находили от волнения и даже поскуливали, а то и вовсе навзрыд плакали. После выступления Лулы Энн я чуть не лопалась от гордости. Мы с ней рука об руку вышли из зала суда. Не больно-то часто видишь, как маленькая чернокожая девочка сбивает спесь с белых злодеев! Мне очень хотелось, чтобы Лула Энн поняла, как я ею довольна, как горжусь ею, и я решила купить ей пару сережек – такие маленькие золотые колечки. А потом мы пошли и прокололи ей уши. Даже наш квартирный хозяин улыбнулся, когда нас увидел. В газетах, правда, никаких фотографий не было – это запрещено законом о личной неприкосновенности детей, – но слухи о выступлении Лулы Энн в суде разошлись мгновенно. И владелец аптеки, который всегда рожу кривил, стоило ему нас вместе увидеть, подарил моей дочке шоколадный батончик «Кларк», узнав, как мужественно она себя вела.
А знаете, я была вовсе не такой уж плохой матерью, хотя, наверное, не раз обижала свою единственную дочь и даже больно ей делала. Но все это только потому, что мне необходимо было ее защитить от тех оскорблений, которые с цветом кожи связаны. Я обязана была это сделать! Хотя, признаюсь, сперва даже мне ее невероятная чернота в глаза бросалась. И это помешало понять, что Лула Энн – моя дочь, что мне нужно просто ее любить. Но я ведь все-таки ее люблю. Правда, люблю. Надеюсь, что теперь и она это понимает. Да, я очень надеюсь, что это так.
В последние два раза, когда мы с ней виделись, она меня, можно сказать, поразила. Такая смелая, даже дерзкая. Такая уверенная в себе. И с каждым ее приездом домой я все чаще забывала, какая же она все-таки черная, потому что моя девочка здорово научилась эту свою черноту себе на пользу обращать. И носила всегда только белую и очень красивую одежду.
В общем, оказалось, что дочь сама мне урок преподала, хотя все это мне давным-давно следовало бы понять. Видите ли, очень важно, как ты с самого начала ведешь себя по отношению к своему ребенку. Ведь некоторых твоих поступков дитя, возможно, никогда тебе не забудет и не простит. У Лулы Энн отличная работа в Калифорнии, но мне она больше не звонит и в гости не приезжает. Хотя постоянно присылает и деньги, и разные вещички. Но ее я очень давно не видела, просто и сказать не могу, как давно.
Ресторан выбрала Бруклин. Называется «Пират». Такой полушикарный. Он когда-то был невероятно популярным, но теперь дышит на ладан – отличное место для туристов и тупых ортодоксов. Вечер, пожалуй, был слишком прохладным для белой блузки без рукавов, но мне хотелось произвести на Бруклин впечатление, показать, какого невероятного прогресса я достигла, какими незаметными стали теперь мои шрамы. Бруклин изо всех сил старалась вытащить меня из того состояния, которое она называет «классической депрессией после пережитого изнасилования». Потому-то она и притащила меня в это заведение с чрезмерно сложным, с дизайнерской точки зрения, антуражем, где главную роль, по всей видимости, должны были сыграть официанты в красных подтяжках на мускулистых обнаженных торсах. Бруклин – настоящий друг. Она тихо сказала: я на тебя давить не собираюсь, просто спокойно поужинаем в ресторане, где обычно нет посетителей, зато отлично готовят мясо, а вокруг полно красавцев с роскошными мускулами, еще и совершенно безвредных. Я знаю, почему Бруклин нравится это место: она любит пустить пыль в глаза, особенно когда вокруг много мужчин. Давным-давно, еще до того, как мы познакомились, она закрутила свои светлые волосы в дреды и благодаря этому, хотя она и без того хорошенькая, производит прямо-таки сногсшибательное впечатление. Во всяком случае, именно так утверждают чернокожие парни, с которыми она встречается.
За аперитивом она, хихикая, пересказывала офисные сплетни, но наш смех мгновенно смолк, стоило появиться рыбе mahimahi, приготовленной по старинному и чрезвычайно сложному рецепту; филе аппетитно плавало в кокосовом молоке и было приправлено имбирем, семечками кунжута, чесноком и мелко нарезанным зеленым луком. У меня попытка шеф-повара превратить нежнейшую рыбу в нечто невероятно гламурное ничего, кроме раздражения, не вызвала; я быстренько соскребла в сторонку всю эту «красоту», а само филе с удовольствием съела. А потом решительно заявила:
– Хочу в отпуск! Куда-нибудь поехать! Например, отправиться в круиз на большом корабле!
Бруклин усмехнулась.
– Ну-ну. И куда же хочешь? Похоже, ты и впрямь начала выздоравливать.
– Только никаких мальчиков и травы! – быстро сказала я.
– Это запросто. Ну что, может, Фиджи?
– И никаких вечеринок! Я хочу побыть в обществе солидных людей с брюшком. Хочу играть с ними на палубе в «шаффлборд»[9]. Или в «бинго»[10].
– Брайд, ты сильно пугаешь своими требованиями. – Бруклин промокнула губы салфеткой и с нарочитым удивлением на меня воззрилась.
Я положила вилку.
– Ничего я тебя не пугаю. Просто хочется покоя. И тишины – чтобы слышен был только плеск волн о борт корабля и звон подтаявшего льда в хрустальных бокалах.
Бруклин локтем одной руки оперлась о стол, а другой рукой накрыла мою руку и сказала:
– Ты, девушка, еще просто от шока не оправилась. А раз так, то я и не позволю тебе строить какие бы то ни было планы, пока у тебя все воспоминания о насилии из головы не выветрятся. Пойми: пока ты от них не освободишься, толком и понять не сможешь, чего именно тебе хочется. Ты лучше пока просто доверься мне, и все, ладно?
Господи, как же я от всего этого устала! А потом она еще потребует, чтобы я непременно посетила врача, специализирующегося на проблемах жертв насилия, или начала ходить на собрания этих жертв. Если честно, меня просто тошнит от ее забот, хотя она, конечно, моя самая близкая подруга; и больше всего мне хочется откровенно поговорить с ней и все рассказать. Я машинально сунула в рот кусочек спаржи и медленно скрестила на тарелке вилку и нож.
– Послушай, я тебе соврала. – Сказав это, я с такой силой оттолкнула от себя тарелку, что нечаянно опрокинула стакан с остатками мартини, и принялась старательно промокать лужицу салфеткой, пытаясь тем временем взять себя в руки и сделать так, чтобы в дальнейшем мой голос звучал нормально. – Да, подруга, я соврала. Я все выдумала. Никто меня насиловать даже не пытался. Я вообще с женщиной встречалась; и это она чуть душу из меня не вынула. А ведь я, черт побери, помочь ей хотела! Я действительно хотела ей помочь, а она… она, наверное, убила бы меня, если б у нее сил хватило.
Бруклин смотрела на мое лицо, разинув рот, и молчала. Потом прищурилась и спросила:
– Женщина? Какая еще женщина? Кто она?
– Ты ее не знаешь.
– Ну, похоже, и ты ее не очень-то хорошо знаешь.
– Когда-то знала очень хорошо.
– Брайд, кончай выдавать информацию в час по чайной ложке! Вываливай все сразу, ладно? – И Бруклин, засунув дреды за уши, в упор уставилась на меня.
В общем, чтобы все рассказать, мне потребовалось, наверное, минуты три. Это была история о том, как я, учась во втором классе, видела, что воспитательница детского сада, здание которого примыкало к зданию нашей школы, занимается со своими маленькими воспитанниками кое-какими грязными делишками…
– Я не могу это слушать! – прервала меня Бруклин и даже закрыла глаза, точно монахиня, которой подсунули порнографический снимок.
– Ты же хотела, чтобы я все вывалила, – расстроилась я.
– Ладно, давай, вываливай.
– В общем, эту женщину арестовали и посадили в тюрьму.
– И что? В чем проблема-то?
– Я свидетельствовала против нее.
– Замечательно! Ну и?
– Я указала на нее пальцем! Меня усадили напротив нескольких женщин, и я указала прямо на нее. И сказала, что видела, как она это делала.
– И что?
– Ей дали двадцать пять лет. Пятнадцать она отсидела…
– Ну и прекрасно. Это конец истории или еще нет?
– Нет, не совсем. – Я занервничала и принялась поправлять то вырез блузки, то волосы, то макияж. – Дело в том, что я все время о ней думала. Понимаешь?
– Угу. Ну, рассказывай дальше.
– Ей ведь тогда всего двадцать лет было!
– Как и тем девушкам, которых Мэнсон[11] убил.
– Через пару лет ей стукнет сорок, и у нее, по-моему, даже друзей нет.
– Бедненькая. И теперь ведь ни в один притон не сунешься, чтобы детишек насиловать. Вот ведь дрянь какая!
– Ты что, совсем меня не слушаешь?
– Да нет, черт побери, слушаю, и очень даже внимательно! – Бруклин даже ладонью по столу пристукнула. – Ты что, совсем спятила? Кто она тебе, эта мерзкая крокодилица? Она что, твоя родственница? Какое она к тебе-то отношение имеет?
– Никакого.
– Ну и?
– Мне просто показалось, что ей будет очень тоскливо и одиноко после стольких лет в тюрьме.
– Ее оставили в живых. Разве этого мало?
Нет, она явно не желала меня понять. Да и как я могла надеяться, что она поймет? Я поманила официанта.
– Повторите, – сказала я и кивнула в сторону пустого бокала.
Официант, выжидательно подняв бровь, посмотрел на Бруклин.
– Нет, ничего не нужно, мой сладкий. Мне необходимы полная трезвость и ясный холодный ум.
Он одарил ее убийственной улыбкой – сплошные сверкающие белоснежные зубы.
– Послушай, Бруклин, я и сама не знаю, зачем я туда поехала. Но я все это время о ней думала. Постоянно. Все пятнадцать лет, которые она провела в «Декагоне».
– Ты ей писала? Навещала ее?
– Нет. Я вообще ее только два раза в жизни видела. Один раз в зале суда, а потом… когда все это случилось. – И я указала на собственное лицо.
– Ну ты и сука! – Теперь Бруклин, похоже, испытывала ко мне самое настоящее отвращение. – Значит, ты просто так ее за решетку засадила? Вполне естественно, что она захотела твою распрекрасную физиономию в лепешку превратить!
– Она раньше такой не была. Она казалась мягкой, смешной, очень спокойной и доброй.
– Раньше? Это когда? Ты же сказала, что видела ее только дважды – тогда в суде и потом, когда она тебя избила. Так ты видела или нет, как она детишек заманивала? Ты говорила…
Подошел официант и, поклонившись, поставил передо мной мартини.
– Ну, хорошо. – Ее вопросы меня разозлили, и это было заметно. – Три раза я ее видела.
Бруклин коснулась языком уголка губ и осторожно спросила:
– Скажи, Брайд, она, что, и к тебе приставала? Мне ты все можешь сказать.
Господи Иисусе, что это ей в голову пришло? Так она, пожалуй, еще решит, что я тайная лесбиянка! Самое оно в компании, где всякой твари по паре: и бисексуалы, и гетеросексуалы, и транссексуалы, и геи, и вообще все, кто к своей внешности серьезно относится. Да и вообще, какой смысл в раздельных клозетах при теперешних-то нравах?
– Послушай, девушка, ты чушь-то не пори. – Я метнула в нее тот испепеляющий взгляд, которым пользовалась Свитнес, если я что-нибудь проливала или спотыкалась, зацепившись за край ковра.
– О’кей. – Бруклин помахала официанту. – Я передумала, голубчик. Мне, пожалуйста, «Бельведер». Со льдом. И двойной.
Официант подмигнул.
– Уже несу! – Он произнес это с таким выражением лица, что наверняка получил бы первый приз за мужское обаяние где-нибудь в Южной Дакоте.
– Посмотри на меня, подруга. Подумай хорошенько. Что могло заставить тебя так ей сочувствовать? Жалеть ее? То есть по-настоящему жалеть?
– Не знаю… – Я покачала головой. – Наверное, хотелось почувствовать себя хорошей. Не ощущать такую зависимость… София Хаксли – это ее так зовут – показалась мне единственным человеком, который оценил бы мои… дружеские чувства и не заподозрил бы в этом обмана или подвоха.
– Теперь я, кажется, поняла. – Бруклин улыбнулась с явным облегчением.
– Да? Правда?
– Абсолютно. В общем, твой пижон отчалил, ты почувствовала себя не лучше коровьей лепешки, и тебе захотелось вернуть своего наркомана обратно, но у тебя вышел полный облом, так?
– Да. Примерно так. Наверное, так.
– Так мы это исправим!
– Как? – Если уж кто знает, как поступить, так это Бруклин. Она часто говорит: если упадешь и треснешься об пол лбом, у тебя всегда есть два варианта: продолжать лежать или сразу вскочить. – Как мы это исправим?
– Ну, во всяком случае, никакого «бинго». – Она отчего-то сразу пришла в возбуждение.
– А что тогда?
– Блинго![12] – заорала Бруклин.
– Вы меня звали? – спросил официант.
* * *
Через две недели, как и обещала, Бруклин организовала именно такую вечеринку – и на этом шумном празднестве главным аттракционом была я – и как создатель линии «YOU, GIRL!», и как главный пропагандист этого, уже ставшего известным, бренда. Для проведения вечеринки она выбрала модный отель. Нет, это была не просто вечеринка, а настоящая выставка самоуверенности и бахвальства. Гости собрались и ждали меня. Ждал меня и лимузин. Мои прическа и платье были безупречны; белое кружево наряда «в пол» было усыпано мелкими, сверкающими, как бриллианты, кристаллами, а само платье, плотно облегавшее фигуру, примерно от колен расширялось, и этот широкий раструб колыхался при ходьбе, точно русалочий хвост. В некоторых интересных местах сквозь кружево заманчиво просвечивало обнаженное тело, но самые опасные кусочки – вокруг сосков и пониже пупка – были элегантно замаскированы.
Я была совершенно готова, оставалось только выбрать серьги. Поскольку любимые жемчужные «гвоздики» я потеряла, то решила заменить их маленькими, в один карат, бриллиантами. Скромно и достойно. Ничего сверкающего, способного отвлечь зрителей от «моей палитры» – «черный-кофе-со-взбитыми-сливками» или «пантера в снегу», как называет это Джерри.
Господи! Это еще что за новости? Сережки почему-то не вдевались! Платиновый стерженек все время соскальзывал с мочки. Я осмотрела сережки – все в порядке. Зато дырочки в мочках исчезли, словно их там никогда и не было. Странно. Уши мне проткнули в восемь лет после удачного выступления в суде, где я свидетельствовала против «женщины-монстра». Свитнес тогда подарила мне маленькие колечки из фальшивого золота. И с тех пор я всегда носила только серьги, а клипсы вообще ни разу не надевала. Ни разу в жизни. Чаще всего я вдевала в уши жемчужные «гвоздики», но иногда, игнорируя требования Джерри, носила и бриллианты. Нет, погодите… Этого же просто не может быть! Каким образом после непрерывного ношения серег мои мочки оказалась гладкими, как пальчики младенца? Казалось, их никогда и не касалась игла косметолога. А что, если это как-то связано с перенесенными пластическими операциями? Или, может, оказали побочное действие антибиотики, которые я принимала? Но ведь все это было много недель назад. Меня прямо-таки затрясло, и я почувствовала, что мне решительно необходимо потрогать кисточку для бритья. И тут, как назло, зазвонил телефон. Но сперва я все же вытащила кисточку и слегка поводила ею под подбородком. От наслаждения даже голова закружилась. Но телефон продолжал звонить, и я решила: ладно, никаких украшений, никаких сережек. Я взяла трубку и услышала: «Мисс Брайд, ваш водитель прибыл».
* * *
Если я притворюсь спящей, думала я, то, может быть, этот тип попросту уберется ко всем чертям? Кто бы он ни был. Я просто не в состоянии была повернуться к нему лицом и начать весело болтать ни о чем или изображать, что после бурного секса жажду ласковых объятий. Хотя бы потому, что практически ничего не помнила. Он наклонился, легко коснулся губами моего плеча, ласково погладил по голове. Но я продолжала притворяться спящей и что-то пробормотала, якобы во сне, и даже улыбнулась, но глаз так и не открыла. В итоге он откинул край одеяла, встал и направился в ванную. А я украдкой коснулась мочек. Они по-прежнему были абсолютно гладкими. Без дырочек. Во время вчерашней вечеринки меня со всех сторон осыпали комплиментами – какая красивая, какая милая, какая соблазнительная, какая очаровательная… И никто почему-то не поинтересовался, почему у меня в ушах нет сережек. Мне это показалось странным, ведь сама я только и думала о своих девственно гладких мочках – и в течение всех выступлений, и во время вручения награды, и за обедом, и во время танцев. Я лишь под конец сумела как-то сосредоточиться и произнести благодарственную речь, довольно, впрочем, бессвязную. А потом я совсем утратила контроль над собой: чересчур много и чересчур громко смеялась дурацким сальными шуткам, с трудом, то и дело запинаясь, поддерживала нескончаемые беседы с сослуживцами и слишком много пила – наверное, раза в три или даже в четыре больше, чем могу себе позволить, чтобы оставаться в рамках приличий. Да еще и ширнулась разок, и уж после этого принялась флиртовать напропалую, точно старшеклассница, изображающая из себя королеву разврата, и в результате этот тип – понятия не имею, кто он такой, – оказался в моей постели. Я ощупала языком зубы, надеясь, что противный вкус во рту связан только со мной. Слава богу. Хорошо, хоть со спинки кровати наручники не свисают!
А этот тип тем временем успел принять душ, вновь вошел в спальню и окликнул меня, но ответа не получил и стал одеваться, напяливая тот же смокинг, в котором был вчера вечером. Я даже головы не повернула и накрылась подушкой. Наверное, это выглядело смешно, потому что я услышала, как он засмеялся и прошел на кухню. Решил сварить кофе? Нет. Кофе я бы почуяла. Он что-то налил в стакан. В холодильнике имелись только соки – апельсиновый и томатный «V8», – а также выдохшееся шампанское. На какое-то время воцарилась тишина; затем снова послышались шаги. «Пожалуйста, пожалуйста, просто уйди и все!» – про себя умоляла я. Что-то с легким стуком упало на прикроватный столик. Затем я услышала, как открылась и закрылась входная дверь, и осторожно выглянула из-под подушки. На столике рядом с будильником лежал свернутый квадратик бумаги. Номер телефона и его имя. Невероятно повезло! Он оказался не из числа сотрудников нашей компании. Мне сразу стало легче, и я даже немного расслабилась.
Потом вскочила, бросилась в ванную и заглянула в мусорную корзину. Слава тебе, Господи! Использованный презерватив! Следы пара еще виднелись на стекле душевой кабины, но зеркало в дверце аптечки уже очистилось, и я увидела в нем то же самое, что и вчера: абсолютно невредимые мочки ушей, такие же нетронутые, как и в тот день, когда я появилась на свет. Значит, вот с чего начинается безумие. И проявляется оно вовсе не в каких-то там поведенческих странностях, а в том, что ты обнаруживаешь внезапные перемены в том мире, который всегда хорошо знала. Ну что ж, придется прибегнуть к мыльной пене и кисточке для бритья. Под мышками у меня не осталось ни единого волоска, но я все равно намылила их и старательно побрила. Эти действия несколько успокоили меня, и я уже подумывала, не доставить ли такое же маленькое удовольствие и другим частям тела. Например, побрить волосы на лобке. Впрочем, он и так совершенно лишен растительности. Может, не стоит использовать в столь деликатном месте опасную бритву? Пожалуй, и впрямь не стоит.
Почувствовав себя увереннее, я вернулась в постель и скользнула под простыню. Но уже через несколько минут голова буквально взорвалась от адской боли. Я встала и приняла две таблетки. Пришлось ждать, пока лекарство подействует, а пока мои мысли неслись по накатанной колее, задевая и кусая друг друга.
Господи, что со мной происходит?
Жизнь катится под откос. Я сплю с мужчинами, чьих имен не знаю, а потом не могу вспомнить, как все произошло. Что же это такое? Я молода, успешна, хороша собой. Да, я действительно хороша собой, ну и что? Да я просто лапочка! Но почему же я чувствую себя такой несчастной? Только из-за того, что Букер ушел? У меня интересная работа; я положила немало сил, добилась того, чего хотела, и очень неплохо справляюсь со своими обязанностями. Я горжусь собой и имею на это полное право. Наверное, это таблетки и утреннее похмелье виноваты; это они заставляют меня постоянно вспоминать всякий не слишком достойный гордости хлам из прошлого. Но ведь я давно все преодолела и двинулась дальше, не правда ли? Даже Букер так считал. Я же перед ним душу раскрыла, все ему рассказала, обо всех своих страхах, обидах, просчетах и свершениях, даже самых малых, поведала. И во время наших с ним разговоров некоторые вещи, которые я, казалось бы, давно похоронила, заново представали передо мной, и я смотрела на них, словно впервые – например, спальня Свитнес. Она всегда казалась мне плохо освещенной, и я настежь распахивала окошко рядом с ее туалетным столиком. На нем было полно разных женских штучек, свидетельствовавших о тщеславии их хозяйки: щипчики, ватные шарики, круглая коробочка с пудрой «Lucky Lady», синий флакон одеколона «Полночь в Париже», шпильки для волос в маленьком блюдечке, салфетка, карандаши для бровей, тушь «Мейбеллин» и, наконец, помада, трогать которую категорически запрещалось, но я, естественно, трогала. Помада была темно-красная, и я, подкрашивая себе губы, смотрела, идет мне или нет. В общем, ничего удивительного, что сейчас я косметикой занимаюсь. Должно быть, именно потому, что я так подробно описывала Букеру туалетный столик Свитнес, мне и захотелось рассказать ему еще кое о чем. К косметике это, правда, никакого отношения не имело. Дело в том, что однажды, сидя у открытого окна, я услышала где-то внизу кошачье мяуканье, звучавшее на редкость испуганно, даже как-то болезненно. Я выглянула в окно и в огороженном глухой стеной проходе, ведущем к двери в подвал нашего дома, увидела вовсе не кошку, а мужчину. Он стоял, наклонившись и зажав между своими белыми волосатыми ляжками коротенькие толстенькие ножки маленького мальчика; ручонки малыша беспомощно торчали в разные стороны, а кулачки то сжимались, то разжимались, и в его тихом, жалобном, каком-то писклявом плаче отчетливо слышалась боль. Штаны у мужчины были спущены и болтались где-то ниже колен. Я совсем перегнулась через подоконник и продолжала смотреть. Волосы у мужчины были рыжие, в точности как у нашего хозяина, мистера Ли, но я понимала, что это никак не может оказаться мистер Ли, потому что мистер Ли хоть и очень строгий, но всегда ведет себя прилично. Он требовал, чтобы жильцы вносили квартплату, и всегда наличными, в самый первый день месяца и строго до полудня, а если постучаться к нему хотя бы в пять минут первого, сразу же назначал штраф. Свитнес так его боялась, что первым делом с утра отправляла меня к мистеру Ли с деньгами. Теперь-то я понимаю, почему она так себя вела: вызвать недовольство мистера Ли означало бы, что нам пришлось бы искать другую квартиру, а найти недорогое жилье в приличном смешанном, то есть достаточно безопасном, районе было невероятно трудно. Именно поэтому, когда я рассказала Свитнес о том, что видела, она просто в ярость пришла. Нет, не из-за маленького мальчика, плакавшего от боли, а из-за того, что эта история могла, как она выразилась, «стать достоянием гласности». Свитнес совершенно не тронул мой взволнованный рассказ о крошечных кулачках и здоровенных волосатых ляжках; ее интересовало одно: как нам сохранить эту чертову квартиру. И она строго наказала: «Даже не вздумай кому-нибудь хоть слово об этом сказать! Никому ничего не рассказывай, слышишь, Лула? Забудь о том, что ты видела! И никому ни единого словечка!» Так что я побоялась выложить все до конца. Самого главного я ей так и не открыла. А самое главное заключалось в том, что, когда я молча висела на подоконнике, тот мужчина вдруг поднял голову и посмотрел прямо на меня. Не знаю уж, что его заставило. И оказалось, что это действительно он, мистер Ли. Натягивая штаны и застегивая молнию, он все смотрел и смотрел на меня, а мальчишка, жалобно хныча, лежал на земле, между его ботинками. Мистер Ли смотрел на меня с таким выражением лица, что я буквально застыла от страха, даже пошевелиться не могла, и в чувство меня привел лишь его злобный окрик: «Эй ты, маленькая черная тварь! А ну живо закрой окно и убирайся к чертовой матери!»
Рассказывая об этом Букеру, я даже попробовала засмеяться, желая показать, что все это просто детские глупости. А потом вдруг слезы обожгли мне глаза, но не успели они хлынуть ручьем, как Букер, ласково обхватив мою голову рукой, притянул к себе и прижался подбородком к моим волосам.
– И ты никогда никому об этом не рассказывала? – спросил он.
– Никогда, – ответила я. – Только тебе.
– Ну что ж, теперь об этом знают пятеро: тот мальчик, сам извращенец, твоя мать, ты и еще я. Пятеро – это, конечно, лучше, чем двое, но знать следовало бы пяти тысячам. Он повернул меня к себе лицом, поцеловал и спросил: – Ты когда-нибудь еще видела этого мальчика?
Я сказала, что я вряд ли даже узнала бы его: он ведь лежал на земле ничком, и я его лицо разглядеть не сумела.
– Но я хорошо помню: это был белый мальчик, а волосы у него были каштановые. – И я вдруг горько разрыдалась, вспомнив, как мучительно сжимались и разжимались его маленькие кулачки.
– Ну, перестань, детка, – утешал Букер, – ты же не можешь отвечать за злодеяния других людей. Ты ни в чем не виновата.
– Я понимаю, но…
– Никаких «но». Исправь то, что можешь исправить, и прими как урок то, чего исправить не можешь.
– Но я не всегда понимаю, что именно следует исправить.
– Да нет, все ты понимаешь. Ну, подумай хорошенько. Как бы сильно мы ни старались делать вид, что не замечаем чего-то, наш разум всегда знает, где правда, и хочет ясности.
Это был один из самых лучших наших разговоров за все то время, что мы прожили вместе, и он принес мне огромное облегчение. Нет, не просто облегчение. Это было нечто большее. Осталось ощущение, словно меня дочиста вымыли и умастили благовонными маслами. Я чувствовала себя в полной безопасности; понимала, что принадлежу кому-то и нахожусь в надежных руках.
И совсем не так я чувствовала себя сейчас, вертясь с боку на бок в своей великолепной спальне на сбившихся дорогущих простынях из тонковолокнистого хлопка, страдая от боли и ожидая, когда, наконец, подействует очередная таблетка успокоительного, способного хоть немного приглушить терзавшее меня беспокойство и отогнать жуткие, пугающие мысли. Правда. Ясность. А что, если тогда, в зале суда, мой палец указывал не на Софию Хаксли, а на хозяина нашей квартиры? Ведь это мистер Ли совершил злодеяние, в котором обвиняли тех учителей. Так, может, я просто пыталась ткнуть пальцем в идею зла? Того зла, которое для меня было связано с мистером Ли? С его злобной физиономией? С теми грязными ругательствами, которыми он меня осыпал? Мне было всего шесть лет, и я еще ни разу не слышала ни слова «тварь», ни даже слова «ниггер», но ненависть и отвращение, сквозившие в голосе мистера Ли, не требовали уточнений. Как и потом, уже в школе, когда мои одноклассники злобно шипели мне вслед или выкрикивали нечто, не совсем понятное, но смысл имевшее достаточно ясный – «негритоска», «макака», «черномазый ублюдок», «жалкая полукровка», – и при этом орали и чесались, как обезьяны в зоопарке. А однажды четверо ребят из нашего класса – девочка и трое мальчиков – притащили и плюхнули мне на парту здоровенную гроздь бананов, а потом, кривляясь, исполнили какой-то «обезьяний» танец. В классе вообще обращались со мной так, словно я была странным, уродливым и грязным существом или чем-то вроде чернильной кляксы, некстати плюхнувшейся на чистый белый лист бумаги. Классной руководительнице я не жаловалась – по той же причине, по какой Свитнес запретила мне хоть слово произносить о мистере Ли; и потом, если бы я пожаловалась на кого-то из белых детей, меня могли запросто не допустить до занятий или даже исключить из школы. Так что я решила: пусть лучше обзывают и всячески терроризируют. И привычка к этому проникла в мои вены подобно смертоносному вирусу, против которого у меня тогда не было никакого антибиотика. Но теперь я понимаю: в итоге все эти трудности оказались даже полезны, ибо я сумела выработать такой прочный иммунитет, что теперь мне хотелось одного: ни в коем случае не чувствовать себя «жалкой негритянкой». И я этого добилась! Я стала темнокожей красавицей, которой не требуется ни ботокс, чтобы ее губы выглядели действительно «зовущими к поцелуям», ни специальные спа-процедуры, чтобы искусственным загаром замаскировать смертельную бледность кожи. И закачивать силикон в ягодицы мне тоже не требовалось. Я продавала элегантную красоту своего чернокожего тела всем тем призракам, что преследовали меня в детстве, и заставляла теперь уже их за все со мной расплачиваться. И они расплатились со мной сполна! Смотреть, как мои бывшие мучители – и реально существовавшие в моей жизни, и другие, им подобные, – при виде меня пускают слюни от зависти или от вожделения – это была не просто расплата. Это было торжество.
«Интересно, – вдруг подумала я, очнувшись от мыслей о прошлом, – а сегодня понедельник или вторник?» В любом случае я по крайней мере два дня провалялась в постели. Насчет мочек я тревожиться перестала; в конце концов, уши всегда можно проколоть снова. Бруклин звонила часто и рассказывала обо всех важных делах у нас в офисе. Я попросила у начальства разрешения продлить отпуск без сохранения содержания и это разрешение получила. Теперь «исполняющей обязанности» регионального менеджера назначили Бруклин. Ну и хорошо. Она вполне это заслужила. Ведь именно она вытащила меня из кошмарной истории с «Декагоном» и потом еще столько времени обо мне заботилась: проследила, чтобы пригнали обратно мой «Ягуар», наняла целую команду уборщиков, нашла хорошего пластического хирурга и даже взяла на себя труд уволить, наконец, Розу, мою служанку – у меня самой на это никак не хватало духа, но и видеть эту лентяйку с грудями-дынями и ягодицами-арбузами больше сил не было. Без Бруклин я бы, наверно, не выкарабкалась. Однако теперь она стала звонить все реже и реже.
А я-то считала его хищником! Мне, вообще-то, наплевать, как беснуется вокруг толпа танцующих – в любом случае нельзя так хамски лапать девушку, с которой ты даже не знаком, и прижиматься к ней сзади. Хотя Брайд, похоже, была совсем не против. Она позволяла этому типу ее тискать, тереться о тело, хотя ровным счетом ничего о нем не знала, да и теперь, по-моему, толком не знает. А вот я знаю! Как-то раз я засекла его у входа в подземку с группой каких-то лузеров, самых настоящих оборванцев. И они там натуральным образом попрошайничали! Боже мой! А однажды я видела его на крыльце библиотеки: сидит себе, развалившись, и делает вид, будто книгу читает, чтобы полицейские не погнали. В другой раз я заметила, как он, сидя за столиком в кофейне, с самым серьезным видом пишет что-то в блокноте, словно чем-то важным занят. Потом мы с ним случайно столкнулись довольно далеко от квартиры Брайд; казалось, он бредет незнамо куда, безо всякой цели. Я-то его сразу узнала; это совершенно точно был он, и мне очень хотелось бы знать, что он там делал? Может, с другой женщиной встречался? Брайд никогда не упоминала о том, чем он занимается и где работает – если у него вообще была хоть какая-то работа. Она говорила, что ей эта таинственность нравится. Лгунья. Сексом ей с ним нравится заниматься! Прямо-таки помешалась на своем Букере. Как наркоманка, ей-богу. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Стоило нам оказаться втроем, и она сразу другой становилась. Уверенной в себе; ни в чьей поддержке и ни в чьей похвале не нуждающейся. А наедине с ним она будто каждый раз его похвалу выпрашивает. И уже не сверкает, а так, потихоньку мерцает. Не знаю, в чем тут дело. Да, он, конечно, мужчина весьма привлекательный. Ну и что? Что еще он ей предложил, кроме кувырканья в постели? У него же гроша ломаного за душой нет!
Я могла бы предупредить ее. И меня ничуть не удивляет, что он ее бросил, оставив целый шлейф неприятностей – точно поганый скунс, после которого гнусная вонь еще долго не выветривается. Да если бы ей было известно о нем то, что известно мне, она бы давно сама его вышвырнула! Как-то раз я просто смеха ради решила с ним пофлиртовать и даже попыталась его соблазнить. Между прочим, прямо в спальне Брайд. Я ей что-то там принесла, какие-то варианты новой упаковки, по-моему. Ключ от квартиры Брайд у меня имелся, так что я просто открыла дверь, вошла и окликнула ее. Но в ответ услышала голос Букера: «А ее нет». Вхожу я в спальню – а он лежит на кровати и читает. Совершенно голый, лишь простыней до пояса прикрылся. Повинуясь какому-то совершенно непонятному порыву, я бросила принесенный пакет на пол, скинула туфли и медленно, как в порнофильме, стала снимать с себя одежду. Букер внимательно смотрел, как я раздеваюсь, и не говорил ни слова, из чего я заключила, что он хочет, чтобы я осталась. Нижнего белья я не ношу, так что, расстегнув молнию на джинсах и отшвырнув их прочь, я предстала перед ним абсолютно нагая, точно новорожденная. А он все продолжал молча смотреть на меня, причем глядел не куда-нибудь, а прямо мне в лицо, да так пристально, что я не выдержала и моргнула. Затем, чтобы успокоиться, я слегка поправила волосы, нырнула к нему под простыню и принялась покрывать его грудь легкими поцелуями. Только тогда он, наконец, отложил книгу, а я мягко шепнула между поцелуями:
– Не хочешь завести в своем саду еще один цветок?
– А тебе известно, благодаря чему сад цветет и благоухает? – спросил он.
– Конечно, – сказала я. – Благодаря любви и заботе.
– И навозу, – подсказал он.
Я перестала его целовать, приподнялась на локте и внимательно на него посмотрела. Вот ублюдок! Он не улыбался, но и не отталкивал меня. Я мгновенно выпрыгнула из постели, подхватила шмотки и побыстрее оделась. Но он, чертова задница, и смотреть не стал, как я одеваюсь. Снова взял книжку и углубился в чтение. Да стоило мне захотеть, и я запросто могла бы заставить его со мной любовью заняться! Ей-богу, смогла бы! Хотя, возможно, мне все же не следовало вот так, сразу, на него налетать. Надо было, наверное, чуточку притормозить, вести себя не так напористо и разговаривать с ним спокойно, легко и весело.
В общем, ничегошеньки Брайд о своем бывшем любовнике не знает. А я знаю!
Я что-то не понимаю. Да кто он, черт побери, такой? В его второй спортивной сумке, которую я точно так же, как и первую, собиралась выкинуть в мусорный ящик, было полно книг; одна на немецком, два сборника поэзии, толстая книга какого-то Гасса[13] и еще несколько книжек в бумажной обложке – об этих авторах я и вовсе никогда не слышала.
Господи. А ведь мне казалось, что я его знаю. Нет, мне, конечно, известно, что он какой-то университет закончил и диплом получил. У него даже есть майки, на которых это написано. Только я об этой стороне его жизни никогда не задумывалась; для меня в наших отношениях важнее всего была та радость, которую нам дарило общение друг с другом, – ну, и еще, конечно, то, как мы занимались любовью и как хорошо он меня понимал. Когда мы с Букером танцевали в каком-нибудь клубе, на нас все поглядывали с откровенной завистью. А еще мы катались с друзьями на лодках и вместе проводили время на пляже. Но когда я нашла эти его книги, до меня вдруг дошло, как же на самом деле мало я о нем знаю! Оказывается, он был совсем другим человеком, чем мне казалось; он много думал о разных таких вещах, которые никогда со мной не обсуждал. Правда, говорили-то мы в основном обо мне, но он всегда относился к моим рассказам очень серьезно, без каких-то там шуточек или даже язвительности, которые были столь свойственны другим мужчинам. Тем мужчинам я была интересна, только когда с ними кокетничала; а еще, естественно, их собственные «гениальные» высказывания. И любая попытка хоть чуточку отойти от этого в ту или иную сторону непременно приводила к разногласиям, спорам и разрыву отношений. Тем мужчинам я бы никогда не сумела описать свое детство так, как описала его Букеру. Впрочем, иногда и он все же кое-что мне выдавал, но, увы, никогда ничего личного, сокровенного – его рассказы скорей напоминали довольно длинные и скучноватые лекции. Как-то раз, например, мы с ним валялись в шезлонгах на пляже, и он вдруг стал рассказывать мне об истории снабжения водой засушливой Калифорнии. Звучало немного занудно, но, вообще-то, я даже заинтересовалась. А потом все-таки не выдержала и невольно уснула.
Я понятия не имела, чем он занимается, пока я на работе, и никогда его об этом не спрашивала. Мне казалось, что я особенно нравлюсь ему тем, что никогда не сую нос в его дела, не расспрашиваю о прошлом, не ворчу и не придираюсь по мелочам. Но я действительно считала, что надо оставить ему его личную жизнь; это и послужит доказательством моего к нему доверия и любви; ведь мне дорог он сам, а не то, чем он занимается. Все мои приятельницы, представляя своего бойфренда, обязательно сообщают, что он юрист, или художник, или владелец клуба, или брокер, или кто-то еще. Вот и получается, что их гораздо больше волнует, кем он работает, а не какой он. «Вот, Брайд, познакомься. Это Стив. Он адвокат в…» «Знаешь, я сейчас встречаюсь с тем самым, очень известным кинопродюсером…» «Знакомься: это Джой. Он сейчас исполняет обязанности руководителя фирмы…» «Представляешь, мой бойфренд получил роль в знаменитом телешоу…»
Хотя мне, конечно, все равно не следовало так развешивать уши. То есть до такой степени доверять ему. Я ведь буквально все про себя выболтала, а он так ничего толком о себе и не рассказал. В основном говорила я, а он внимательно слушал. А потом взял и бросил меня; ушел, не сказав ни слова. Посмеялся надо мной, втоптал в грязь – прямо как София Хаксли! О браке ни он, ни я даже не заговаривали, но я и в самом деле считала, что наконец-то нашла того, кто мне нужен. И вдруг – «Ты не та женщина…». Уж таких-то слов я от него никак не ожидала.
Почта, которую я не разбирала много дней, даже недель, и просто сваливала в корзину на столике у двери, уже начинала оттуда вываливаться. И я решила, что сперва попробую найти в холодильнике хоть что-нибудь съедобное, а потом просмотрю эту кучу корреспонденции. Содержимое корзины я вытряхнула на пол – это были мольбы о денежных пожертвованиях чуть ли не от каждого благотворительного учреждения в мире, бесчисленные обещания подарков и выгодных процентов от банков, рекламные предложения от различных магазинов и умирающих бизнесов. Среди всего этого спама нашлось только два действительно стоящих внимания письма. Одно от Свитнес: «Привет, милая…», а дальше знакомая чушь насчет того, что говорят ее доктора, и прозрачный намек на потребность в деньгах. Второе письмо было адресовано Букеру Старберну; его прислал некий Сальваторе Понти с Семнадцатой улицы. Я вскрыла конверт и обнаружила в нем просроченный счет за работу и напоминание о том, что его необходимо немедленно оплатить. Шестьдесят восемь долларов. Некоторое время я раздумывала, как поступить: то ли выбросить послание в мусорную корзину, то ли все же съездить к мистеру Понти с Семнадцатой улицы и выяснить, за какую именно работу он хочет получить шестьдесят восемь долларов. Но решиться на что-то конкретное я не успела: снова зазвонил телефон.
– Привет! Ну, и как все было? – затарахтела Бруклин. – Как это «когда»? Да вчера вечером! Небось, сказочно? Ты, надо сказать, была просто сногсшибательна. Как всегда, впрочем. – По-моему, разговаривая со мной, Бруклин то ли что-то жевала, то ли прихлебывала. Скорее всего, нечто бескалорийное, но «богатое энергетически»; в общем, какую-нибудь изысканную диетическую дрянь без вкусовых добавок и красителей. – По-моему, на этой вечеринке ты классно взбодрилась. Или нет?
– Да, конечно. Все было отлично, – промямлила я.
– Звучит несколько неуверенно. Так кем оказался тот классный парень, с которым ты ушла? Мистером Роджерсом[14] или Суперменом? Как его, кстати сказать, зовут?
Я подошла к прикроватному столику и заглянула в оставленную записку.
– Его зовут Фил… – Я назвала и фамилию, но она мне ровным счетом ничего не говорила.
– Ну и как он? Мы с Билли потом к Рокко поехали, и там…
– Бруклин, мне непременно нужно куда-нибудь выбраться. Куда угодно, только подальше отсюда.
– Что? Прямо сейчас, что ли?
– Мы ведь с тобой говорили об этом. Помнишь, я предлагала какой-нибудь круиз? – Господи, до чего жалобно звучал мой голос!
– Говорили, точно. Но только после того, как «YOU, GIRL!» отправит первую партию товара. Кстати, привезли образцы подарочных пакетов, а у ребят из отдела рекламы есть несколько классных идей насчет…
Бруклин еще долго продолжала бы трещать, но я прервала ее:
– Слушай, извини, но я попозже перезвоню, хорошо? У меня голова с похмелья трещит.
– Ничего удивительного! – захихикала Бруклин.
Повесив трубку, я точно знала, что съезжу к этому мистеру Понти и выясню, в чем там дело.
К детям мне теперь даже приближаться не разрешено. «Домашний уход за больными» – вот максимум того, что было позволено после УДО. Меня, впрочем, это вполне устраивало. Та первая женщина, за которой мне поручили ухаживать, оказалась очень милой и все время благодарила за помощь. А я была даже рада находиться вдали от шума и большого количества людей. В «Декагоне» было слишком шумно; там сидело много женщин, обиженных жизнью и людьми, да и сволочных охранников хватало. Еще в самую первую неделю моего заключения, в Брукхевене, до того как меня перевели в «Декагон», у меня на глазах одной из моих сокамерниц охранник пряжкой ремня со всей силы врезал по затылку только за то, что она столкнула на пол тарелку с едой. А потом он еще заставил эту женщину опуститься на четвереньки и есть прямо с пола. Она попыталась было, но ее тут же стало выворачивать наизнанку, и охранник поволок беднягу в лазарет. Между прочим, еда была не такой уж и плохой – кукурузный пудинг с тушенкой. По-моему, она просто больна была; может, грипп подхватила или еще что. «Декагон» был, безусловно, лучше Брукхевена; в Брукхевене охранники очень любили догола раздевать женщин-заключенных и обыскивать чуть ли не на каждом входе-выходе, а то и просто так. Но и в «Декагоне» все же случались всякие драматические истории между заключенными и надзирателями. Впрочем, даже когда выпадали относительно спокойные дни и каждый работал на своем месте, вокруг все равно царил неумолчный шум – смех, ссоры, потасовки, чьи-то истерические выкрики и так далее до бесконечности. Даже когда в камерах гасили свет, уровень шума лишь немного снижался – с оглушительного рева до средней громкости лая. Во всяком случае, мне так представлялось. Тишина и покой – вот что более всего привлекало меня в работе домашней сиделки. Однако всего через месяц мне пришлось с моей подопечной расстаться: оказалось, что у нее есть внуки, которые навещают ее по уик-эндам. И тот офицер полиции, к которому я была прикреплена, подыскал мне нечто аналогичное, но уже никак не связанное с детьми – это была работа в частной лечебнице для тяжелобольных, которая хоть и не называлась хосписом, но именно хосписом, по сути дела, и являлась. Сперва мне не нравилось, что вокруг столько людей, да еще занимающих более высокую должность, перед которыми я должна отчитываться. Но постепенно я к этому привыкла, тем более мое начальство и не думало мной командовать или угрожать мне. Я привыкла даже к тому, что все вокруг облачены в медицинскую форму – а всякая форма вызывала у меня отвратительное ощущение пребывания в тюрьме.
И все-таки я ухитрилась выжить, хоть и провела в «Декагоне» целых пятнадцать лет. Впрочем, я вряд ли все это выдержала бы, если бы не возможность играть в баскетбол по уик-эндам и не поддержка Джулии, моей сокамерницы и единственной подруги. Первые два года нас с ней – а мы обе были осуждены за преступления над малолетними – все обходили стороной даже в столовой. В нас плевали, нас обзывали и проклинали, а охранники то и дело переворачивали все вверх дном в нашей камере. К счастью, через какое-то время о нас практически забыли. Мы находились в самом низу местной иерархической лестницы – убийц, поджигателей, наркоторговцев, революционеров-бомбометателей и душевнобольных. Все они считали растление детей самым наигнуснейшим преступлением – разумеется, полная чушь и притворство, потому что наркоторговцам, например, вообще наплевать, кого они там травят и сколько лет тем людям, которые покупают их чертово зелье; а поджигатели и вовсе не отделяют детей от прочих членов семьи, так что малыши сгорают вместе с родителями в подожженных домах и квартирах; да и бомбометатели не очень-то точно знают, в кого именно попадут. Но если бы кто-то усомнился в том, действительно ли они так сильно меня и Джулию ненавидят, ему достаточно было бы посмотреть по сторонам: эти женщины старательно демонстрировали свою любовь к детям; каждый свободный кусочек на стенах камеры был украшен изображениями младенцев и детишек чуть постарше. Как родных, так и чужих. Чтобы лишний раз уязвить нас, годился любой ребенок.
Джулия отбывала срок за то, что удушила дочь-калеку. Фотографию девочки она прикрепила над своей кроватью. Ее дочку звали Молли. Большая голова, безвольный рот и самые прелестные на свете голубые глаза. Джулия частенько шепотом разговаривала с нею – и по ночам, и вообще при любой возможности. Нет, она не просила у дочери прощения; она просто рассказывала мертвой девочке всякие истории – в основном волшебные сказки, практически всегда про принцесс. Я никогда ей не признавалась, но мне тоже нравились эти истории – они помогали уснуть. Мы с ней работали в швейной мастерской, шили форму для одной медицинской компании, которая платила нам двенадцать центов в час. Когда у меня от усталости начало сводить пальцы и я уже не могла как следует строчить на машинке, меня перебросили на кухню, но там я ухитрялась уронить любую еду, если та еще не успела пригореть, так что вскоре я вновь вернулась в швейную мастерскую. Но Джулии там не оказалось. Она угодила в лазарет после попытки суицида. Подруга толком не знала, как повеситься, чтобы вышло наверняка, и некоторые из самых жестоких наших сокамерниц предложили показать ей, как это делается. В камеру Джулия вернулась совсем другим человеком – стала тихая, печальная и ни с кем не желала общаться. По-моему, причиной столь ужасного решения стало групповое изнасилование, которому подвергли ее четыре наши сокамерницы. А потом она попала в любовное рабство к одной из тамошних заправил – эту особу все звали Любовником, и шутки с ней были плохи. Я же никому – ни охране, ни сокамерницам – особенно не нравилась и, с их точки зрения, годилась разве что для мимолетного перепихона. И потом, я ведь могла и сдачи дать, я сильно выделялась и ростом, и силой, так что многим казалась почти великаншей. «Ну и прекрасно, – думала я, – чем меньше будут лизаться, тем лучше».
От Джека, моего мужа, я за все эти годы получила ровно два письма. Первое начиналось со слов «моя родная», и далее следовали бесконечные невнятные жалобы: «Меня здесь…» (слово вымарано). Бьют? Имеют? Мучают? Какое именно слово могло настолько не понравиться тюремному цензору? А второе письмо носило совсем иной характер; оно начиналось с вопроса: «И о чем ты только думала, сука?» Зато в этом письме цензор не вымарал ни одного слова. Я Джеку так и не ответила. Мои родители присылали посылки – на день рождения и на Рождество: питательные сладкие батончики, гигиенические тампоны, религиозные брошюры и носки. Но ни одного письма они мне так и не написали, никогда не звонили и ни разу не приехали навестить. Впрочем, меня это ничуть не удивляло. Угодить им всегда было трудно. Старая фамильная Библия постоянно лежала у нас на этажерке рядом с пианино, на котором мать после ужина играла церковные гимны. Родители никогда этого не говорили, но я подозреваю, что они были рады от меня избавиться. В их мире Бога и Дьявола к длительному тюремному заключению невинных людей не приговаривали.
Я старалась делать то, что мне велели, и очень много читала. Самое лучшее в «Декагоне» – это тамошняя библиотека. Поскольку в настоящих публичных библиотеках книги спросом больше не пользуются, да и сами библиотеки их приобретать не хотят, то излишки книг отсылают в тюрьмы или в дома престарелых. А в доме моих родителей под запретом находилось все, кроме религиозных трактатов и Библии. Мне, впрочем, казалось, что в колледже, готовясь стать учительницей, я стала довольно-таки начитанной, хотя моя специальность и не требовала особенно хорошего знания литературы. А потому я, пока не угодила в тюрьму, не читала ни «Одиссею», ни Джейн Остин[15]. Ни то, ни другое меня ничему особенно не научило, но погрузиться в описание бесконечных бегств, спасений и обманов, а также разобраться в том, кто на ком в итоге женится, было весьма занятно и хорошо отвлекало.
В тот день, когда я, получив условно-досрочное и выйдя из тюрьмы, села в такси, я вдруг снова почувствовала себя маленьким ребенком; казалось, я впервые вижу окружающий мир – дома, лужайки с такой ярко-зеленой травой, что больно смотреть, большие пестрые цветы, настолько красивые, что кажутся нарисованными. Я совершенно забыла, что бывают розы с оттенком лаванды или подсолнухи ослепительной желтизны. Все вокруг казалось мне не просто иным, а каким-то совершенно новым. Я опустила боковое стекло, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и ветер подхватил мои волосы, разметал их и отбросил назад. И в это мгновение я поняла, что свободна. Ветер, ветер сказал мне об этом, ласково перебирая, гладя и целуя мои волосы.
И в тот же день случилось нечто совершенно непредвиденное: в дверь моего номера в мотеле постучалась одна из учениц начальной школы, некогда свидетельствовавшая против меня в суде, но теперь ставшая взрослой женщиной. Я остановилась в этом жалком тонкостенном номере только потому, что мне отчаянно хотелось в кои-то веки как следует поесть и как следует выспаться. И не слышать ни дурацких никчемных споров, ни любовных стонов и сопения, ни омерзительного храпа. Не думаю, что многим свойственно по-настоящему ценить тишину или понимать, насколько она родственна музыке. Наоборот, многие в тишине начинают нервничать или страдать от одиночества. Но я после пятнадцати лет непрерывного шума прямо-таки изголодалась по тишине. Во всяком случае, гораздо больше, чем по нормальной еде. В ресторане я с жадностью проглотила невероятное количество самых разнообразных яств и тут же все это выблевала, едва успев забежать за угол. Потом я прямиком направилась в свой номер и как раз собиралась насладиться тишиной и полным одиночеством, когда в дверь настойчиво постучались.
Я не поняла, кто она такая, хотя ее несколько необычные глаза и показались мне знакомыми. В ином мире ее иссиня-черная кожа могла бы показаться весьма примечательной, но только не здесь и не после стольких лет, проведенных в «Декагоне». В тюрьме мне целых пятнадцать лет пришлось носить жуткие грубые башмаки на плоской подошве, так что меня куда больше заинтересовали модные остроносые туфельки девицы; они были из кожи аллигатора или змеи и с такими высоченными каблуками, что напоминали ходули циркового клоуна. Она заговорила со мной так, словно мы давно знакомы, но я все равно не понимала, о чем это она и что ей от меня нужно, пока девушка не швырнула мне эти деньги. Вот тогда-то я все и осознала. Она была одной из учеников школы, свидетельствовавших против меня в суде. Одной из тех, кто помог меня уничтожить, отнять у меня жизнь. И как только ей в голову могло прийти, что с помощью денег можно стереть из памяти пятнадцать лет жизни, больше похожей на смерть? Я отреагировала мгновенно и сразу же вывела ее из игры. Кулаки словно сами собой наносили удар за ударом; казалось, я сражаюсь с дьяволом. С тем самым дьяволом, о котором вечно твердила моя мать, – великим соблазнителем и злодеем. Вышвырнув ее вон и отправив вслед за нею ее дьявольские дары, я, наконец, смогла прилечь. И, свернувшись на кровати клубком, стала ждать полицию. Ждала, ждала, но никто так и не приехал. Но если б они все же приехали, то, вломившись в мой номер, увидели бы совершенно сломленную женщину – а ведь я все пятнадцать лет заключения оставалась сильной и ни разу не сломалась. И когда я поняла, что они, наверное, уже не приедут, я впервые за все эти годы заплакала. И плакала очень долго, пока не уснула. А когда проснулась, то напомнила себе, что свобода никогда не дается даром. За нее нужно бороться. Нужно много трудиться, чтобы ее обрести, а потом набраться сил и уверенности в себе, иначе не сможешь ее удержать, не сможешь с нею справиться.
Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что та чернокожая девушка, пожалуй, даже услугу мне оказала. Но отнюдь не дурацким предложением, какое она собиралась мне сделать, суя в руки деньги. Нет, это было нечто совершенно иное – неожиданный дар, на который ни она, ни я не рассчитывали: возможность просто заплакать, освободиться от слез, что скопились за пятнадцать лет. Впервые мне не нужно было себя сдерживать. Не нужно слушать грязную брань, быть свидетельницей разврата. Я чувствовала, что очистилась, что вновь обретаю силы.
Брайд решила вызвать такси, потому что ехать на «Ягуаре» в эту часть города было неразумно и даже рискованно. Странно, что Букер так часто здесь бывал. Она никак не могла понять, зачем, почему он это делал. Музыкальные магазины есть и в куда менее опасных районах, а тут на каждом углу толпятся или сидят на бордюрном камне покрытые татуировкой мужчины и молодые девицы, одетые, как вампиры. Шофер такси остановился возле того дома, номер которого ему назвала Брайд, и сказал: «Извините, но здесь я вас ждать не могу». Брайд и сама постаралась как можно скорее скрыться за дверью, над которой красовалась вывеска «ДВОРЕЦ САЛЬВАТОРЕ ПОНТИ. Продаем, берем в залог и ремонтируем». Оказавшись внутри, она поняла, что слово «дворец» – это не столько преувеличение, ошибка, сколько свидетельство реального безумия. Под пыльными стеклами витрин бесчисленными рядами лежали ювелирные украшения и наручные часы. Мужчина весьма приятной наружности – пожилые мужчины иногда обладают особой привлекательностью – неторопливо двинулся вдоль прилавка навстречу Брайд. Его зоркий глаз ювелира при виде новой клиентки мгновенно уловил все, что ему было нужно о ней узнать.
– Мистер Понти?
– Называйте меня Сэлли, дорогая. Чем я могу быть вам полезен?
Брайд помахала просроченным счетом и объяснила, что приехала, чтобы оплатить починенную вещь и забрать ее. Сэлли внимательно изучил бумагу и сказал:
– Ах, да, кольцо для большого пальца… и мундштук. Инструменты у нас там, в задней комнате. Идемте.
И они прошли в заднюю комнату. Стены там были сплошь увешаны гитарами и разнообразными духовыми инструментами, а на покрытом скатертью столе лежало множество металлических деталей. За столом работал какой-то мужчина. Когда они вошли, он поднял голову, оторвавшись от непонятной штуковины, которую изучал в лупу, и внимательно посмотрел сперва на Брайд, а потом на квитанцию. Затем встал, подошел к шкафу и вытащил оттуда трубу, завернутую в пурпурную ткань.
– Он, правда, не сказал, что кольцо должно быть из розового дерева, – заявил мастер, – но я ему все-таки поставил именно такое. – Он – парень привередливый и по-настоящему в инструментах разбирается.
Брайд взяла трубу, думая только о том, что понятия не имела об этом инструменте. Ей даже в голову не приходило, что у Букера есть труба и он на ней играет! Она ни разу не поинтересовалась, откуда у него над верхней губой эта странная темная ямка! Девушка вручила Сэлли требуемую сумму.
– А вообще он очень приятный и умный для провинциального парнишки, – прибавил между тем мастер.
– Почему вы называете его «провинциальным парнишкой»? – Брайд нахмурилась. – Он вовсе не из провинции. Он живет здесь.
– Да? А мне говорил, что родом из какого-то заштатного северного городишки, – сказал Сэлли.
– Виски, – заметил мастер.
– Вы это о чем? – удивилась Брайд.
– Забавное название, правда? Разве можно забыть город, носящий название Виски? Никогда!
И оба, всхрапывая от смеха, принялись вспоминать другие примечательные названия: Интеркорс[16] в Пенсильвании; Ноунейм[17] в Колорадо; Хелл[18] в Мичигане; Элефант Бютт[19] в Нью-Мехико; Пиг[20] в Кентукки; Тайтуод[21] в Миссури. Наконец они выдохлись и, устав веселиться, вновь обратили внимание на клиентку.
– Вот смотрите, – сказал Сэлли, листая свой «Ролодекс», – раньше он давал нам совсем другой адрес… Ага! Вот: некто Олив. К. Виски, Калифорния.
– А что, названия улицы нет?
– Ну-ну, детка! Неужели вы думаете, что в городишке, который называется Виски, могут быть улицы? – Сэлли явно наслаждался возможностью развлечься и подольше задержать у себя эту хорошенькую темнокожую девушку. – В лучшем случае – оленьи тропы.
Брайд быстро вышла из магазина и столь же быстро поняла, что свободных такси нет и быть не может. Пришлось вернуться назад и попросить Сэлли вызвать ей машину по телефону.
Наверное, я должна была бы предаваться скорби. Инспектору, который за мной присматривает, позвонил мой отец и сообщил, что мама умерла. Заранее предположив, что уж на похороны-то инспектор меня отпустит, я сразу же попросила на работе аванс, чтобы купить билет на самолет, иначе я бы домой не успела. Я помнила каждый дюйм той церкви, где должно было происходить отпевание. Деревянные подставки для Библии на спинках молельных скамей; зеленоватый свет из окна над головой преподобного отца Уокера. И запахи – духи, табак, еще что-то. Возможно, аромат благочестия. И себя там я помнила – такую чистенькую, с прямой спиной, как после длительного стояния в углу нашей столовой, куда меня в наказание ставила мама. Рисунок на тех синих с белым обоях я в итоге знала куда лучше, чем собственное лицо. Там были нарисованы розы, сирень, клематис – всё разнообразных оттенков синего на снежно-белом фоне. В этом углу я иной раз проводила по два часа подряд, и все это время мама тихо упрекала меня за что-то – я уж теперь и не помню за что, да и тогда толком не понимала, чем так провинилась. Возможно, я по малости лет просто случайно описалась, а может, затеяла «неприличную» возню с сыном соседа, пытаясь выяснить, кто сильнее? Вообще-то я просто дождаться не могла, когда, наконец, смогу вырваться из маминого дома, а потому и выскочила замуж за первого, кто сделал мне предложение. Но два года брака с этим человеком оказались точно такими же: подчинение, покорность, молчание; в общем, тот же сине-белый угол, только чуть большего размера. Преподавание, занятия с детьми – вот моя единственная отдушина в то время. И единственное удовольствие.
Впрочем, надо признать: именно мамины правила, ее строгая дисциплина и помогли мне выжить в «Декагоне». Мне удавалось держать себя в руках вплоть до того самого дня, когда я впервые вышла на свободу. Именно тогда я, совершенно потеряв самообладание, до полусмерти избила чернокожую девчонку, которая свидетельствовала против меня в суде. Я била ее и ногами, и кулаками, и, как ни странно, это подарило мне куда более ощутимое чувство свободы, чем получение УДО. Я избивала ее, и мне казалось, что я с наслаждением рву в клочки те проклятые бело-синие обои, возвращаю полученные мною пощечины и затрещины, изгоняю из своей жизни того дьявола, которого так хорошо знала моя мать.
Интересно, что все-таки с той девушкой случилось? И почему она не вызвала полицию? Ведь тогда я прямо-таки радость испытывала, видя перед собой ее застывшие от ужаса глаза. А на следующее утро, чувствуя, как опухла моя физиономия после нескольких часов непрерывных рыданий, я открыла дверь и увидела на тротуаре струйки запекшейся крови и маленькую жемчужную сережку. Возможно, это была ее сережка, а может, и нет. Так или иначе, я ее сохранила. Она и сейчас у меня в сумочке. Зачем? Наверное, в качестве напоминания. Когда я ухаживаю за пациентами – помогаю им вставить искусственные зубы, обмываю им губкой спину, задницу и ляжки, чтобы предотвратить раздражения и пролежни, протираю тампоном кружево морщин на лице, а потом смазываю лосьоном или кремом, – я каждый раз мысленно возвращаюсь в тот день, как бы поворачивая время вспять, и привожу в порядок, восстанавливаю ту избитую мною чернокожую девушку; я лечу ее раны, я благодарю ее за это невольно подаренное мне освобождение.
Прости меня, мама.
* * *
На небе были видны одновременно и солнце, и луна, будто находясь в противофазе и деля небосклон в знак неблизкой дружбы. Но Брайд не замечала этого странного света, придававшего небу яркий карнавальный оттенок. Кисточку для бритья и опасную бритву она положила в футляр для трубы и сунула в багажник «Ягуара», но все время думала об этих предметах, пока ее не отвлекла музыка, доносившаяся из радиоприемника. Однако Нина Симон[22] показалась Брайд слишком агрессивной; она заставляла думать не только о себе, но и о других вещах. Брайд отыскала более спокойный джаз, оптимально соответствовавший роскошному кожаному пространству автомобиля, и это отчасти помогло подавить снедавшую ее тревогу. Она никогда еще не совершала столь безрассудных поступков. И отлично понимала, что бросилась в погоню за Букером отнюдь не из желания вернуть его любовь; и не гнев, а скорее боль и уязвленное самолюбие заставили ее сесть за руль и мчаться бог знает в какую даль на поиски единственного человека, которому она когда-то полностью доверяла, который давал ей ощущение реальной безопасности и приятной зависимости от более сильного покровителя. Без Букера ее мир словно утратил порядок, стал каким-то пугающим – пустым, холодным, сознательно враждебным. Такая же пугающая атмосфера окружала ее и в материном доме; там она никогда толком не знала, как ей следует поступить и что сказать; не могла даже вспомнить, каковы в данном случае установленные матерью правила. Нужно ли оставить ложку в миске с кашей или следует положить ее рядом на салфетку? Как завязать шнурки – в бантик или двойным узлом? Должна ли она спустить носки и аккуратно их подвернуть, или лучше натянуть их почти до колен? Брайд никак не могла запомнить все эти правила и уловить тот момент, когда они успевали измениться. Когда она испачкала простыни первой менструальной кровью, Свитнес дала ей пощечину, а потом затолкала в ванну с холодной водой. Испытанный ею шок несколько смягчило лишь то, что Свитнес наконец-то не только к ней прикоснулась, но и сама принялась приводить ее в порядок, хотя обычно при любой возможности старалась избежать физического контакта с собственной дочерью.
Как он мог? Почему вот так ее бросил? Лишил поддержки, защиты, ощущения безопасности? Да, конечно, она вела себя глупо, выпалив ему в ответ, что он ей тоже не очень-то и нужен. Поступок совершенно нелепый – как у девчонки-третьеклассницы, которая еще и понятия о жизни не имеет.
Теперь он стал частью ее непроходящей боли, а вовсе не спасителем – однако без него ее жизнь сперва практически замерла, а потом и вовсе начала разваливаться на куски. И как бы она ни пыталась сметать эти куски на живую нитку и выставить на первый план свои достоинства, собранные вместе – личное обаяние, умение держать себя в руках, немалые завоевания в любимой творческой профессии и даже сексуальную свободу, – больше всего ей хотелось теперь вернуть, воссоздать те свои «доспехи», которые прежде могли защитить ее от любого чрезмерно сильного чувства, будь то гнев, смущение или любовь. Ее реакция на физическое насилие оказалась не менее трусливой, чем на неожиданный, необъяснимый уход Букера. Первое вызвало слезы; второе – сорвавшиеся с языка резкие слова. Безжалостные удары, нанесенные Софией Хаксли, оживили почти то же ощущение, что и незаслуженные пощечины, некогда полученные от Свитнес (конечно, за минусом той радости, которую Брайд испытывала от любого материнского прикосновения). Впрочем, и то и другое лишь подтверждало ее, Брайд, беспомощность перед жестокостью, неизменно ставившей в тупик.
Она была слишком слаба, слишком боялась бросить кому бы то ни было вызов – Свитнес, мистеру Ли, Софии Хаксли, – но теперь у нее остался один-единственный выход, и ей придется наконец-то постоять за себя и все-таки бросить вызов тому, единственному в мире человеку, перед которым она впервые в жизни полностью обнажила душу, даже не подозревая, что на самом деле он над ней насмехается. Она понимала, что это наверняка потребует и мужества, и кое-чего еще, но ей казалось, что у нее, сделавшей столь успешную карьеру, все это имеется в достатке. Плюс, разумеется, ее экзотическая красота.
По словам Сэлли и его помощника из музыкального магазина-мастерской, Букер был родом из маленького городка Виски, который находится где-то на севере. Возможно, туда он и вернулся. А может, и нет. Он вполне в силах жить с мисс К. Олив, еще одной из «не таких женщин», которая ему когда-то не понадобилась. Или мог переехать куда-то совсем в другое место. «Ничего, – решила Брайд, – как бы то ни было, а я его разыщу! И заставлю объяснить, почему он, во-первых, так плохо со мной поступил, неужели я не заслужила лучшего к себе отношения, а во-вторых, что он имел в виду, говоря, что я «не такая женщина»?» Какая же ему нужна? Неужели для него плоха вот эта красавица, сидящая за рулем «Ягуара» в светлом, оттенка белых устриц, платье из кашемира и в изящных, лунного цвета, сапожках, подбитых стриженым мехом кролика? Да, она красавица – так считает любой, у кого есть два глаза! Да, она творческая личность и успешный менеджер! Она возглавляет один из основных отделов миллиардной компании и готова хоть сейчас предложить несколько новых линий продукции – например, тушь для ресниц. Ведь любой женщине («такая» она, как Букеру нужно, или «не такая») хочется, чтобы у нее была не только красивая грудь, но и длинные густые ресницы. Женщина может быть тонкой, как кобра, и выглядеть вечно голодной, но если у нее упругие сиськи размером с грейпфрут, а большие глаза светятся, как у енота, она будет до самозабвения счастлива. Вот-вот, решила Брайд, именно новой тушью я сразу же и займусь по возвращении из поездки!
Чем дальше к северо-востоку, тем менее загруженным становился хайвей. Брайд казалось, что еще немного, и шоссе со всех сторон обступят непроходимые леса, и деревья, как всегда настороженно, будут следить за нею. Через два-три часа она окажется в стране северных равнин, где ей могут встретиться разве что лагеря лесозаготовителей да маленькие поселки, примерно ее ровесники, соединенные разбитыми грунтовыми дорогами, такими же древними, как местные индейские племена. «Нет, пока я еще не съехала с хайвея, – решила Брайд, – надо где-то остановиться, нормально поесть и немного передохнуть, а уж потом углубляться в местность, где людей и населенных пунктов слишком мало, чтобы путник чувствовал себя спокойно и в безопасности». На одном из придорожных щитов Брайд обнаружила целую коллекцию разнообразных указателей и рекламных объявлений – например, рекламу определенного сорта газа, четырех различных видов еды и двух вариантов съемного жилья. Проехав еще мили три, она свернула к небольшому зеленому оазису чуть в стороне от хайвея. В ресторанчике, который она выбрала, было безупречно чисто и ни одного посетителя, зато стоял застарелый запах пива и табака. Флаг Конфедерации в рамке, уютно пристроившийся в тени государственного американского флага, выглядел несколько староватым.
– Да-а? Что вы хотели? – Официантка за стойкой, выпучив глаза, беззастенчиво рассматривала Брайд. Впрочем, девушке к подобным взглядам было не привыкать, как и к открытым от удивления ртам. И каждый раз при этом она вспоминала, какой прием с первого же дня оказали ей в школе. Как на нее смотрели – словно у нее три глаза!
– Могу я заказать белый омлет? Без сыра?
– Белый? Вы хотите сказать, без яиц?
– Нет. Без желтков.
Брайд постаралась впихнуть в себя как можно больше омлета, весьма малосъедобного и явно приготовленного со злобой, а потом спросила, где дамская комната. На всякий случай она оставила на стойке пятидолларовую банкноту – вдруг противная официантка решит, что она хочет удрать, не заплатив. В туалете Брайд в очередной раз убедилась, что у нее по-прежнему есть все основания для беспокойства. Лобок так и остался абсолютно безволосым. А еще, моя над раковиной руки и взглянув в зеркало, она заметила, что вырез дорогого кашемирового платья как-то странно перекосился, практически обнажив ее левое плечо. Брайд поправила платье и поняла, что оно стало ужасно широко в проймах, так что буквально сползает с плеч, и дело тут не в том, что она неудачно сидела или не таким был крой платья. Вся его верхняя часть теперь оказалась ей настолько велика, словно она вместо второго размера купила четвертый и только сейчас заметила разницу. Но ведь перед тем, как выехать из дома, она смотрелась в зеркало, и тогда платье сидело на ней идеально. Возможно, это просто какой-то скрытый дефект ткани или кроя? Иначе остается предположить одно: она стремительно худеет, причем не по дням, а по часам. Ну, в общем-то, ничего страшного. В ее бизнесе такой проблемы, как чрезмерная худоба, просто не существует. Ей всего лишь придется более тщательно подбирать себе одежду. Брайд на мгновение вспомнила внезапно заросшие мочки и вздрогнула, но потом смело прогнала мысль об этом, не решившись связать ее с другими постигшими ее пугающими переменами.
Забирая сдачу и соображая, стоит ли оставлять противной официантке чаевые, она решила спросить, как проехать в Виски.
– Ну, это не больно-то далеко, – ответила девица, ухмыляясь и все так же пуча глаза. – Миль сто или, может, сто пятьдесят. В общем, до наступления темноты вполне доберетесь.
Ничего себе, подумала Брайд. Значит, для жителей этого лесного края расстояние в сто пятьдесят миль – «не больно-то далеко»? На заправке она попросила налить ей полный бак и проверить колеса, а потом по объездной петле снова выбралась на хайвей. Вопреки заверениям противной официантки, почти совсем стемнело, когда Брайд, наконец, увидела съезд и указатель «на Виски», причем там не только была изображена стрелка, но и показано количество километров.
Хорошо хоть, дорога оказалась асфальтированной. Она, правда, была узкая, извилистая, но покрытие выглядело вполне приличным, так что Брайд включила дальний свет и прибавила скорость. Девушка даже понять не успела, что произошло, когда ее «Ягуар», не вписавшись в крутой поворот, врезался в нечто огромное – потом выяснилось, что это было, наверное, самое большое и самое древнее дерево в мире, и основание его могучего ствола почти полностью скрывал густой кустарник. Охваченная паникой, Брайд сражалась с подушкой безопасности и не заметила, что ее левая ступня, неловко вывернувшись, застряла между педалью тормоза и ремнем безопасности, пристегнутым к запертой двери. Первая же попытка высвободить ногу отозвалась такой болью, что Брайд охнула и распласталась между рулем и спинкой водительского сиденья. Ей, правда, удалось отстегнуть ремень безопасности, но больше ничем облегчить боль в зажатой ноге она не сумела. Лежа в весьма неудобной позе, она попыталась вытащить левую ногу из элегантного, подбитого стриженым кроличьим мехом сапожка. Увы, все попытки оказались тщетными и весьма болезненными. Извиваясь изо всех сил, Брайд ухитрилась дотянуться до сумки и достать мобильник, но на экране высветилась равнодушная надпись: «Обслуживания нет». В такой темноте надежды на то, что мимо проедет еще кто-нибудь, было крайне мало, но, с другой стороны, чем черт не шутит, и Брайд нажала на кнопку звуковой сигнализации, отчаянно вслушиваясь в ночную тишину, но в глубине души понимая, что гудок ей вряд ли поможет, разве что местных сов перепугает. Оказалось, впрочем, что и совам пугаться нечего: гудка так и не последовало. Теперь Брайд оставалось только лежать, ждать, когда кончится ночь, и страдать от приступов боли, страха, гнева и плаксивого отчаяния. Месяц в небе казался ей похожим на злобно усмехающийся беззубый рот; ее пугали даже звезды, просвечивавшие сквозь большую ветку дерева, от удара рухнувшую на ветровое стекло и вцепившуюся в него подобно удушающей длани. А тот кусочек неба, который был ей еще виден, походил на темный ковер, проткнутый множеством сверкающих ножей, острия которых были направлены прямо на нее и изо всех сил стремились до своей цели добраться. Ей казалось, будто против нее ополчился весь мир и она со всех сторон окружена злыми силами, которые превратили ее из храброй путешественницы и авантюристки в жалкую беглянку.
Наконец солнце намекнуло, что восход близок: на горизонте возник тоненький абрикосовый ломтик, дразнивший обещанием скорого появления всего светила. Брайд, истерзанная ожиданием, мучительно неудобной позой и судорогами в зажатой ноге, при виде разгоравшейся зари почувствовала, что в душе у нее пробуждается слабый лучик надежды. «Тут вполне может проехать какой-нибудь мальчишка, без шлема гоняющий на мотоцикле по местным дорогам, или грузовик, везущий на работу лесозаготовителей, или случайный велосипедист, или серийный насильник, или охотник на медведей. Господи, – думала Брайд, – неужели не найдется хоть кого-нибудь, способного протянуть мне руку помощи?» Она как раз представляла себе возможный облик потенциального спасителя, когда за окном со стороны пассажирского сиденья возникло чье-то маленькое, белое, как кость, личико. Оказалось, что это маленькая девочка с черным котенком на руках. Девчушка, не мигая, уставилась на Брайд огромными зелеными глазищами – таких невероятно ярких зеленых глаз Брайд никогда в жизни не видела.
– Помоги мне. Пожалуйста! Помоги… – Брайд и хотелось бы громко крикнуть, но на это не было сил.
Девочка довольно долго смотрела на нее в упор, потом молча повернулась и пошла прочь, а вскоре совсем исчезла из виду.
– О боже! – прошептала Брайд. Неужели у нее уже начались галлюцинации? Если нет, то эта зеленоглазая девочка наверняка пошла за помощью. Никто, даже умственно отсталый ребенок или генетический злодей, не оставил бы ее без помощи. А может, оставил бы? Внезапно деревья вокруг нее повели себя так, как не вели раньше даже в темноте: при свете зари они словно ожили и стали наступать на искалеченную машину, внушая Брайд самый настоящий ужас. Да и лесная тишина ее пугала. И Брайд решила попытаться включить двигатель и, дав заднюю скорость, рывком выскочить на дорогу – а уж с ногой будь что будет. И как раз в то мгновение, когда она, повернув ключ в замке зажигания, услышала неровный стук, сигнализировавший о том, что аккумулятор окончательно «сдох», рядом с «Ягуаром» появился мужчина. Бородатый, с длинными светлыми волосами и узкими черными глазами. Насильник? Убийца? Брайд тряслась от страха, пока он, прищурившись, разглядывал ее в окошко, а потом куда-то ушел. Брайд показалось, что его не было несколько часов, хотя на самом деле он вернулся минут через десять. С пилой и ломом. Нервно сглатывая слюну, охваченная ужасом, она смотрела, как мужчина сперва спилил большую ветку, что рухнула на капот автомобиля, затем, вытащив из заднего кармана зажимной патрон и используя лом как рычаг, сумел открыть дверцу со стороны Брайд, и она так громко вскрикнула от боли, что испугала зеленоглазую девочку, которая, оказывается, стояла рядом и, открыв рот, наблюдала за действиями мужчины. А он осторожно высвободил ногу Брайд, застрявшую между педалью тормоза и покореженной дверцей. Светлые волосы упали ему на лицо, когда он, подсунув под Брайд руки, бережно ее приподнял и вытащил из машины. Затем, так и не задав ей ни одного вопроса и даже не пытаясь утешить, он перехватил ее поудобнее и куда-то понес. Девочка с изумрудными глазами двинулась за ними следом. Незнакомец, наверное, с полмили нес Брайд по песчаной тропинке, которая в итоге привела их к какому-то странному зданию, более всего напоминавшему склад или мастерскую. Впрочем, оно вполне могло служить и убежищем, например, какому-нибудь убийце. Мужчина крепко прижимал Брайд к груди, и она, совершенно беспомощная, истерзанная непрерывной болью, могла лишь без конца повторять: «Только не делайте мне больно, пожалуйста! Не делайте мне больно…», а потом все-таки не выдержала и потеряла сознание.
* * *
– А почему у нее кожа такая черная?
– По той же причине, по какой у тебя она такая белая.
– А-а-а. Значит, как у моих котят?
– Правильно. Родилась такой.
Брайд ощупала языком зубы. Господи, как легко и спокойно разговаривают эти мать с дочерью! И Брайд, притворяясь спящей, продолжала подслушивать, пряча лицо под индейским одеялом. Ее больная нога была приподнята и лежала на подушке, по-прежнему обутая в изящный меховой сапожок, и в этой ноге застыла все та же мучительная боль. Значит, тот мужчина, ее спаситель, принес ее к себе домой – если, конечно, это странное здание можно назвать домом – и не только не стал ее насиловать и мучить, но и попросил жену за ней присмотреть, пока он сгоняет на своем грузовичке за врачом. Он, правда, не был уверен, что сумеет этого врача, единственного во всей округе, отыскать, но полагал, что все же есть шанс застать его дома. Брайд бородач сразу заявил, что вряд ли у нее просто связки порваны. Скорее всего, это перелом, сказал он, а поскольку телефона у них нет, то остается одно: сесть в машину и ехать в деревню за доктором.
– Меня зовут Ивлин, – сказала жена бородача, – моего мужа – Стив, а вас?
– Брайд. Просто Брайд. – И ей впервые показалось, что это придуманное имя не прозвучало как «говорящее». Скорее уж выглядело оно «по-голливудски», как прозвище, какие любят подростки. Впрочем, Брайд недолго размышляла на эту тему, потому что Ивлин, указав на девочку с изумрудными глазами, заявила:
– А это наша Рейзн. Вообще-то, мы назвали ее Рейн[23], потому что нашли под проливным дождем, но сама она предпочитает называть себя Рейзн.
– Спасибо тебе, Рейзн. Ты мне жизнь спасла! Правда, спасла. – Брайд почему-то очень обрадовало то, что она слышит еще одно выдуманное имя, и девушка даже позволила жгучей слезинке скатиться по щеке к подбородку. Ивлин помогла ей раздеться и дала чистую рубаху мужа – в крупную клетку, как у американских лесорубов.
– Может, мне что-нибудь на завтрак приготовить? Хочешь овсяную кашу? – спросила она, переходя на «ты». – Или теплый хлеб с маслом. Ты ведь, небось, в этой ловушке всю ночь просидела?
Но Брайд предложение позавтракать отвергла – самым милым образом, как она надеялась, – и сказала, что ей просто хочется немного поспать.
Ивлин заботливо подоткнула ей одеяло, не забывая о приподнятой больной ноге, и отошла к раковине, занимаясь своими делами. Но понижать голос и разговаривать шепотом она не стала, а потому Брайд в итоге и услышала тот разговор о черных и белых котятах. Ивлин была довольно высокая, с немодными широкими бедрами; вдоль спины у нее болталась длинная каштановая коса. Она напомнила Брайд героиню какого-то фильма, но не из числа недавних, а старого, снятого в сороковых или пятидесятых годах, когда звезды кино обладали вполне узнаваемыми лицами – в отличие от нынешних «звездочек», которые отличаются друг от друга разве что прической. Но она никак не могла вспомнить, что это за актриса и в каком фильме она ее видела. А вот маленькая Рейзн обладала очень необычной внешностью и абсолютно не походила ни на кого из виденных Брайд людей. У нее была молочно-белая кожа, практически черные, цвета эбенового дерева, волосы и невероятно яркие зеленые глаза, точно светившиеся неоновым светом. Ее возраст Брайд определить затруднилась. Как там сказала Ивлин? «Мы ее нашли под проливным дождем»?
Жилище Стива и Ивлин выглядело так, словно его переделали из студии художника или из автомастерской, и представляло собой общее, хотя и довольное большое, пространство, где разместились стол, стулья, раковина, дровяная плита и скрипучий, обитый грубой тканью диван, на котором и устроили Брайд. У стены стоял ткацкий станок и рядом несколько корзинок с пряжей. Прямо над станком в крыше было окошко, грязное и покрытое паутиной, которому явно не помешал бы пылесос. Дневной свет, лишенный помощи электричества, переливался по этому просторному помещению, будто вода – только что возникшая тень исчезала буквально в мгновение ока, а солнечный луч, вспыхнувший на боку медного чайника, тут же и гаснул. В задней стене за открытой дверью виднелась еще одна комнатка с двумя кроватями – веревочной и железной. В духовке явно готовилось что-то мясное, возможно, цыпленок; Ивлин с девочкой, устроившись за грубым самодельным столом, мелко резали грибы и зеленый перец, а потом вдруг запели давно забытую песенку, когда-то популярную у хиппи:
«This land is your land, this land is my land…»[24]
Брайд быстренько постаралась отогнать от себя яркое воспоминание о том, как Свитнес, напевая себе под нос какой-нибудь блюз, стирает в раковине колготки, а маленькая Лула Энн прячется за дверью, слушая голос матери. Как было бы чудесно, если б она и Свитнес тоже могли петь вместе! Лелея эту несбывшуюся мечту, Брайд неожиданно крепко уснула, и лишь около полудня ее разбудили гулкие мужские голоса. Это в дом, тяжело ступая, ввалился Стив вместе с очень старым и каким-то взъерошенным доктором.
– Это Уолт, – представил его Стив, подходя к дивану, и на лице его появилось нечто, очень похожее на улыбку.
– Доктор Маски, – поклонился врач. – Уолтер Маски, MD, PhD, LLD, DDT, OMB[25].
Стив засмеялся:
– Он шутит.
– Здравствуйте, – прошептала Брайд, глядя то на свою ногу, то на врача. – Надеюсь, дело не очень плохо?
– Там увидим, – ответил доктор Маски.
Брайд шипела от боли, всасывая воздух сквозь стиснутые зубы, пока доктор разрезал элегантный белый сапожок, чтобы осмотреть лодыжку. Он сделал это весьма умело, без излишних эмоций, а после осмотра заявил, что там, по меньшей мере, трещина, зафиксировать которую здесь, в доме Стива, невозможно, а значит, Брайд необходимо поехать в больницу, где ей сделают рентген и наложат гипс. Единственное, что он, доктор Маски, в силах сделать прямо сейчас, – это очистить пострадавшую конечность и перевязать ее, чтобы отек не увеличивался, а поврежденная кость пребывала в стабильном состоянии.
В больницу Брайд ехать отказалась. Она вдруг почувствовала такой зверский голод, что даже рассердилась. Нет уж, сперва она быстренько примет ванну и поест, а потом пусть ее везут в очередную захудалую провинциальную больницу! А пока доктор Маски даст ей какое-нибудь обезболивающее…
– Ни в коем случае, – заявил Стив. – Сперва нужно разобраться с самым главным. И потом, у нас в распоряжении далеко не весь день.
Он подхватил Брайд на руки, отнес в грузовичок, втиснул на переднее сиденье между собой и доктором, и они поехали в больницу. Через два часа, когда они вдвоем со Стивом возвращались назад, Брайд была вынуждена признать, что благодаря умело наложенной повязке боль чувствуется не так сильно; разумеется, подействовали и таблетки, которые ей дали в больнице. Больница в городе Виски находилась напротив почты, через дорогу, а сама почта размещалась на первом этаже очаровательного голубого, как море, домика, обитого досками; там же, где и парикмахерская. Окна второго этажа были наглухо закрыты рекламой секонд-хенда. Как тут все странно устроено, думала Брайд, ожидая, что сейчас ее переправят в такую же странную, допотопную смотровую. И страшно удивилась, увидев первоклассное оборудование, не хуже, чем у того пластического хирурга, который ее оперировал.
Доктор Маски улыбнулся, заметив выражение ее лица, и сказал:
– Видите ли, у лесорубов, как и у солдат, бывают страшные ранения, прямо-таки ужасные, и тогда помощь необходимо оказать как можно быстрее. Так что оборудование в больнице должно быть самым лучшим.
После рентгена, внимательно рассмотрев снимок, доктор Маски сказал, что жить Брайд, безусловно, будет, однако понадобится, по крайней мере, месяц, чтобы ее нога окончательно зажила; может быть, даже месяца полтора.
– Тут еще и синдесмоз, – сообщил он своей абсолютно не сведущей в хирургии пациентке. – Ткани повреждены между большой и малой берцовыми костями. Возможно, потребуется хирургическое вмешательство… Впрочем, может, и обойдется, если вы будете меня слушаться.
Он зафиксировал ей голеностоп с помощью шин и пояснил, что гипс наложит, когда уменьшится опухоль. Для этого придется еще раз к нему приехать.
Итак, через час Брайд снова сидела в грузовике рядом с молчаливым Стивом, вытянув левую ногу под приборный щиток, насколько позволяли наложенные шины. Но когда Стив снова перенес ее в дом, она поняла, что от того утреннего приступа голода не осталось и следа, зато ее прямо-таки ошеломило отвратительное ощущение собственного немытого, пропахшего потом тела.
– Мне бы очень хотелось ванну принять. Если можно, конечно, – сказала она.
– А у нас и ванной-то нет, – улыбнулась Ивлин. – Пока что я тебя только губкой могу обтереть. А уж когда твоя нога поправится, тогда я и воды нагрею, и в корыте тебя вымою.
Умывальник на стене, под ним помойное ведро, уборная на улице, мытье в корыте, диван-развалюха с колючей обивкой – и все это на целый месяц? Брайд заплакала. Но утешать ее никто и не думал; Рейн и Ивлин продолжали спокойно накрывать на стол.
И лишь когда вся семья поела, Брайд согласилась, превозмогая смятение, принять тазик с холодной водой и хорошенько вымыла себе лицо и под мышками. После этого она настолько повеселела, что даже заулыбалась и с благодарностью приняла тарелку с едой, которую принесла Ивлин. Оказалось, что в духовке готовился не цыпленок, а перепелка, очень вкусная, с густой грибной подливкой. Брайд ела, и ей все больше становилось стыдно за то, что она так себя вела – все время то плакала, то ни с того ни с сего раздражалась и капризничала, как ребенок, не желая не только самой себе помочь, но и с должной благодарностью принять помощь других людей. Волей случая она попала в дом к этим людям, живущим самой простой, почти скудной жизнью, однако они ради нее готовы были буквально из кожи вон вылезти, причем без малейшего колебания и ничего не прося взамен. Однако, как это часто бывает, благодарность и смущение Брайд оказались недолговечны. «Все-таки при всем их благородстве они обращаются со мной, как с приблудной кошкой или собакой, которую пожалели, потому что у нее сломана лапка!» – думала Брайд. Насупившись, она некоторое время изучала собственные ногти, а потом спросила, нет ли у Ивлин маникюрного набора или хотя бы пилочки, а также какого-нибудь лака. Ивлин усмехнулась и молча показала ей свои руки. Ну еще бы! С такими руками, естественно, куда сподручней рубить щепу для растопки или сворачивать голову цыпленку, а не поднимать за тонкую ножку бокал с изысканным вином. «Да кто они такие, эти люди, – думала Брайд, – и откуда сюда пришли?» И ведь даже не спросили, как она оказалась в лесу и куда направлялась. Просто подобрали и стали о ней заботиться: показали врачу, накормили, устроили эвакуацию и ремонт машины. Она чувствовала себя как-то странно; не понимала, почему ее окружили такой заботой, не требуя платы, не выказывая ни капли осуждения, не проявляя даже мимолетного интереса по поводу того, кто она и куда ехала на своем «Ягуаре». Иногда у нее, правда, возникали нехорошие мысли: а что, если они что-то дурное задумали? Но день проходил за днем, а в доме царили все то же спокойствие и все та же несокрушимая скука. Иногда после ужина Стив и Ивлин усаживались снаружи перед домом и начинали петь песни «Биттлз» или Саймона и Гарфункеля. Запевал всегда Стив, перебирая струны гитары, а Ивлин подпевала ему слабеньким, глуховатым сопрано. Когда кто-то забывал слова или начинал фальшивить, пение прерывалось, и оба звонко смеялись.
Так прошло несколько недель. Стив регулярно возил Брайд в больницу, и теперь она уже делала специальные упражнения для больной ноги и с нетерпением ждала, когда, наконец, починят «Ягуар». За это время она успела узнать, что ее хозяевам за пятьдесят, что Стив в свое время закончил Рид-колледж в Портленде, штат Орегон, а Ивлин – государственный университет в Коламбусе, штат Огайо. Они рассказали Брайд о том, как познакомились, то и дело прерывая свой рассказ взрывами смеха. Собственно, впервые они встретились в Индии (Брайд заметила, как блеснули у обоих глаза, когда они быстро переглянулись: наверняка эти воспоминания были им очень приятны); затем последовала новая встреча в Лондоне, затем – в Берлине; а когда – уже в Мехико – они встретились в очередной раз, то решили, что подобным редким встречам «пора положить конец» (Стив, сказав это, ласково провел согнутым пальцем по щеке Ивлин), и в итоге они поженились в Тихуане, а вскоре перебрались в Калифорнию, «чтобы зажить настоящей жизнью».
Брайд понимала, что зависть, которую она испытывала, глядя на них, какая-то совершенно инфантильная, но ничего не могла с собой поделать.
– «Настоящей» – то есть бедной? – спросила она, улыбкой скрывая легкое злорадство.
– Что значит «бедной»? Без телевизора? – поднял брови Стив.
– То есть без денег, – ответила Брайд.
– Это одно и то же, – заметил он. – Нет денег – нет и телевизора.
– Нет денег – значит нет и стиральной машины, холодильника, ванной комнаты!
– А что, разве деньги помогли тебе выбраться из разбитого «Ягуара»? Разве деньги твою задницу спасли?
Брайд прищурилась, но у нее все же хватило ума не отвечать Стиву. И потом, что она, собственно, понимает в бескорыстной доброте? Или в любви, которой не нужны даже самые необходимые вещи?
Она провела у них в доме шесть трудных недель, ожидая, когда врач разрешит ей ходить, да и «Ягуар» еще не доставили из ремонтной мастерской. Здесь, собственно, имелась одна-единственная автомастерская, и там нужных деталей, конечно же, не нашлось, так что пришлось выписывать не только петли для дверцы ее «Ягуара», но и новую дверцу. Сон в этом лишенном электричества доме, который с наступлением ночи окутывала непроницаемая тьма, казался Брайд похожим на пребывание в гробу. Зато здесь на небе было столько звезд, сколько она никогда в жизни не видела. Правда, стоило ей вернуться с улицы в дом и улечься на диван под грязным потолочным окошком, как всякое желание спать пропадало. Засыпала Брайд всегда с трудом.
Наконец доктор Маски снял с ее ноги гипс, но велел пока что носить съемный лангет. Он даже понемногу ходить ей разрешил. Кожа на ноге после снятия гипса выглядела просто отвратительно, и Брайд не сумела скрыть нервной дрожи. И все-таки освободиться от этого каменного мешка было очень приятно, однако еще приятней было наконец помыться. Ивлин, верная своему слову, налила в цинковое корыто несколько ведер горячей воды и вручила Брайд губку, полотенце и брусок плохо мылящегося коричневого мыла. После долгих недель «птичьего» плескания в тазике Брайд испытала невероятное наслаждение и благодарность, погрузившись в горячую воду; она мокла в корыте до тех пор, пока вода совсем не остыла. Только тогда она вылезла, начала вытираться и с ужасом увидела, что грудь у нее стала совсем плоской. То есть попросту исчезла. Только соски еще свидетельствовали о том, что это не спина, а грудина. Потрясение оказалось столь велико, что Брайд снова плюхнулась в остывшую грязную воду, прикрывая плоскую грудь полотенцем, как щитом, и думая: «Я, должно быть, больна и умираю».
Потом она замотала полотенцем то место, где когда-то были ее груди, такие заметные, такие аппетитные, сами, казалось, вздымавшиеся к губам стонущих от страсти любовников, и, борясь с охватившей ее паникой, окликнула Ивлин.
– Не найдется ли у тебя чего-нибудь, что можно было бы надеть после купанья? Пожалуйста!
– Конечно, найдется, – спокойно сказала Ивлин и через несколько минут принесла Брайд чистую футболку и свои джинсы. Она словно и не заметила ни ее отсутствующих грудей, ни мокрого насквозь полотенца. Подала Брайд одежду и вышла, давая ей возможность спокойно одеться. Но вскоре Брайд снова ее окликнула: джинсы Ивлин были настолько велики, что даже на бедрах не держались. Тогда женщина предложила ей джинсы Рейн, и они идеально подошли. «Когда это я успела так усохнуть?» – недоумевала Брайд.
Охваченная ужасом, она решила на минутку прилечь, чтобы как-то успокоиться, собраться с мыслями и попытаться понять, что же все-таки происходит с ее телом. Спать ей вовсе не хотелось, но неожиданно она крепко уснула, и откуда-то из темной бездны ей явился абсолютно живой, яркий, физически ощутимый сон. Рука Букера неторопливо двигалась, лаская ее бедра и между ними, а потом, когда ее руки взлетели и сомкнулись у него на спине, он убрал свои пальцы, и она почувствовала в себе то, что они в шутку называли «гордостью и достоянием нации». Брайд попыталась что-то прошептать или застонать, но не сумела, так крепко его губы прижимались к ее губам, и она обвила ногами его раскачивающиеся ягодицы – то ли для того, чтобы замедлить их движение, то ли помогая Букеру, то ли просто желая удержать его в этом положении. Когда она проснулась, то почувствовала, что чрезвычайно возбуждена и даже мурлычет от удовольствия. Однако стоило ей коснуться того места, где раньше были груди, и сладострастное мурлыканье сменилось рыданиями. Именно тогда она окончательно осознала, что перемены в ее теле начались не после того, как Букер ушел, а из-за его ухода.
«Лежи спокойно», – велела себе она; в голове у нее царил полный кавардак, но она была уверена, что сумеет все привести в порядок и вести себя будет так, словно ничего не случилось. Никто ничего не должен знать, никто ничего не должен заметить. Она обязана держаться совершенно нормально и спокойно со всеми разговаривать, словно всего лишь приняла ванну, а потом вымыла голову. Брайд, сильно прихрамывая, подошла к раковине, налила в тазик теплой воды из стоявшего рядом ведра, быстренько намылила волосы и старательно их прополоскала. Как раз когда она озиралась в поисках сухого полотенца, вошла Ивлин и с улыбкой сказала:
– Ух ты! Сколько же у тебя волос, Брайд! Пожалуй, слишком много для посудного полотенца. Пойдем-ка, посидим снаружи, пусть твои роскошные волосы сами на солнышке да на свежем ветерке просохнут.
– Хорошо, пойдем, – согласилась Брайд. «Главное, – думала она, – вести себя как обычно. Возможно, благодаря подобному поведению мое тело сумеет восстановиться… или, по крайней мере, эти неприятные перемены как-то приостановятся». Они с Ивлин вышли во двор и уселись на ржавой железной скамье; весь двор был залит солнечным светом, таким ярким, что казался платиновым. Рядом со скамьей на столике стояла жестянка с травой и бутылка неизвестного пойла. Вытирая полотенцем волосы Брайд, Ивлин болтала о чем-то несущественном, словно завзятая парикмахерша. Потом она стала рассказывать, как счастлива, что живет здесь, под звездами, с поистине идеальным мужчиной; как много она узнала во время странствий; каким полезным оказалось для нее ведение домашнего хозяйства без каких бы то ни было современных удобств и кухонных приспособлений, которые она называла «потенциальным мусором для помойки», поскольку все они, с ее точки зрения, слишком быстро ломаются; как их со Стивом совместная жизнь стала еще лучше, когда в ней появилась Рейн…
Когда Брайд спросила, когда и откуда она у них появилась, Ивлин помолчала, потом налила себе в чашку немного загадочного напитка из бутылки и сказала:
– Видишь ли, это довольно долгая история… – Она снова умолкла, а Брайд, притихнув, приготовилась слушать. Пусть будет любая длинная история. Пусть будет все, что угодно, лишь бы самой перестать думать! Перестать психовать из-за странных перемен в ее теле; перестать волноваться, что кто-нибудь, не дай бог, это заметит. Когда она вылезла из корыта и взяла протянутую футболку, Ивлин то ли ничего особенного не приметила, то ли просто ничего не стала ей говорить. А ведь Брайд всегда отличалась пышным бюстом, и этот бюст все еще был при ней, когда Стив вытаскивал ее из «Ягуара». И когда они ездили в больницу, ее груди тоже были на месте. А теперь вдруг исчезли! Причем выглядело это так, словно ей сделали мастэктомию, но соски случайно оставили нетронутыми. Ничего у нее не болело; все органы вроде бы работали нормально, вот только странным образом прекратились менструации. Господи, что же это за болезнь такая? Никаких недомоганий она не чувствует, зато видит их последствия. «Это я им больна, – вдруг поняла она. – Это его проклятье».
– Хочешь? – Ивлин указала на жестянку.
– Да, хорошо бы. – Она смотрела, как Ивлин умело свертывает «косячок», потом с благодарностью приняла сигарку, затянулась, закашлялась, но потом больше уже не кашляла.
Некоторое время они молча сидели рядом и курили, потом Брайд все же спросила:
– А что ты имела в виду, когда сказала, что вы нашли ее под проливным дождем?
– Но именно так все и было. Мы со Стивом возвращались домой после одной протестной акции, я и не помню какой, и увидели на ступеньках кирпичного крыльца маленькую девочку, промокшую насквозь. У нас тогда был старый «Фольксваген». Стив сперва притормозил, а потом и вовсе остановил машину и вышел посмотреть, в чем дело. Мы оба решили, что девочка либо заблудилась, либо ключ от дома потеряла. Стив наклонился к ней и спросил, как ее зовут.
– И что она ответила?
– Ничего. Ни слова не сказала. Она была мокрая, продрогшая, но все равно отвернулась, как только Стив присел перед ней на корточки и попытался заговорить. А когда он коснулся ее плеча, она мгновенно скрючилась да как бросится прочь прямо по лужам в своих теннисных туфлях. Ну что ж, Стив вернулся в машину, и мы поехали дальше. Но тут дождь полил прямо как из ведра, заливая ветровое стекло настолько, что видно ничего не стало, и мы решили, что проще переждать, и припарковались возле какого-то кафе. «Бруно», так, кажется, оно называлось. Ждать в машине мы не стали и зашли внутрь – скорее, правда, в поисках убежища, чем того кофе, который нам подали.
– А девочку вы потеряли из виду?
– Тогда да. – Ивлин, докурив «косячок», подлила себе в чашку еще пойла из бутылки и сделала пару глотков.
– А на то крыльцо она вернулась?
– Нет. Как только дождь стал потише, мы вышли из кафе, и тут я ее заметила. Она скорчилась рядом с мусорным баком на задворках кафе.
– Господи! – прошептала Брайд, дрожа так, словно это она, промокшая насквозь, пряталась в том переулке под проливным дождем.
– Стив сразу решил, что оставлять ее там нельзя. Я-то как раз сомневалась, говорила, что это не наше дело, а он просто подошел к ней, схватил в охапку и забросил на плечо. Она, естественно, завопила: «Киднеппинг! Киднеппинг!», хотя и не слишком громко. Мне, во всяком случае, показалось, что ей вовсе не хочется привлекать к себе внимание – тем более внимание свиней, то есть копов. Мы общими усилиями засунули ее на заднее сиденье, сели сами и заперли дверцы.
– А она успокоилась?
– Ох, нет! Продолжала безумствовать, орала: «Выпустите меня!», колотила ногами по спинкам наших сидений. Я осторожно попыталась поговорить с ней. Тихо и как можно мягче, чтобы она не испугалась, сказала: «Детка, ты же насквозь промокла», а она в ответ: «Сука! Ты что, не видишь, что дождь льет!» Но я все-таки продолжала ее расспрашивать; спросила, знает ли ее мама, что она под дождем на крыльце сидела, а она в ответ: «Да, знает она, знает, ну и что?» Вот как было на это реагировать? Потом она вдруг начала ругаться – самыми грязными словами! Ты просто представить себе не можешь, какие гнусности у нее изо рта вылетали.
– Господи…
– В общем, мы со Стивом посмотрели друг на друга и, не говоря ни слова, поняли, что нам с ней делать: для начала вымыть, высушить и накормить, а уж потом выяснять, откуда она и чья.
– Ты говорила, ей было лет шесть, когда вы ее нашли? – уточнила Брайд.
– Да, примерно. Точно-то я не уверена. Она так нам и не сказала, сколько ей лет, да, по-моему, толком и не знала этого. Правда, молочные зубы у девочки к тому времени уже выпали. Но пока что у нее и месячных нет, и грудь плоская, как доска.
Брайд вздрогнула. При упоминании о чьей-то плоской груди она тут же вспомнила о собственных бедах и подумала, что, если б не поврежденная лодыжка, она бы давно отсюда убежала, и тогда ей, может быть, удалось бы заодно избавиться от пугающих подозрений, что она снова превращается в маленькую чернокожую девочку.
Но уже через сутки Брайд успокоилась. Никто, похоже, так ничего и не заметил, никто ей ничего не сказал насчет ее странным образом изменившейся внешности – хотя грудь под футболкой выглядела совершенно плоской, а дырочки в ушах по-прежнему отсутствовали. Впрочем, только она одна знала, что волосы у нее на лобке и под мышками вовсе не выбриты, а куда-то исчезли. Так, может, все это просто галлюцинация? Нечто вроде «живых» снов, которые посещали ее, когда ей все-таки удавалось уснуть? Да и были ли они снами? Дважды она просыпалась ночью и обнаруживала, что Рейн стоит рядом, наклонившись над нею, или сидит на корточках возле ее постели и неотрывно, хотя и без малейшей угрозы, на нее смотрит. Но стоило Брайд попытаться заговорить с девочкой, та мгновенно исчезала, словно растворяясь в воздухе.
Чувствуя себя беспомощной, бесполезной, ничем не занятой, Брайд, наконец, поняла, почему люди всегда так боролись со скукой. Без отвлекающих занятий, без физической активности разум начинал топтаться на месте или бесцельно ходить по кругу, без конца собирая и перебирая рассыпавшиеся воспоминания. Возможно, даже беспокойство, сфокусированное на чем-то конкретном, принесло бы ей определенное облегчение, стало бы, пусть сомнительной, но победой над этим комком повторяющихся разрозненных обрывков мыслей. Если не считать коротких и до некоторой степени связных «живых» снов, все остальное время мысли Брайд бродили как попало – от того, в каком ужасном состоянии ее ногти, к детским воспоминаниям о том, как однажды она налетела на фонарный столб. Брайд то вспоминала, какое потрясающее платье видела на одной знаменитой особе, то вдруг переключалась на необходимость провериться у стоматолога. Она слишком надолго застряла здесь, в этом примитивном жилище, где даже радио нельзя было послушать; можно только сидеть и смотреть, как пара живущих в доме людей занимается привычными повседневными делами – работает в саду, убирает в комнате, готовит еду, ткет на станке, косит траву, рубит дрова, консервирует овощи. Ей даже поговорить было не с кем – во всяком случае, на интересующие ее темы. А ее решительные попытки ни в коем случае не думать о Букере каждый раз терпели крах. Что, если ей так и не удастся его найти? Что, если он вовсе не у этих мистера или миссис Олив? Все в ее жизни будет вечно идти наперекосяк, если поиски Букера ни к чему не приведут. А если она все же сумеет его отыскать, как ей быть тогда, что ему сказать? Брайд казалось, что до того, как она начала работать в «Сильвия Инкорпорейтед», и до знакомства с Бруклин все вокруг только и делали, что презирали и отвергали ее. Букер оказался первым человеком в ее жизни, которому она стала в состоянии противостоять – и это было почти то же самое, что противостоять самой себе, спорить с собой, защищая свои права. Разве она и теперь совсем ничего не стоит? Неужели совсем ничего?
Ей очень не хватало Бруклин. Веселой, щедрой, верной. Только ее она считала своим настоящим другом. Кто еще, кроме Бруклин, поехал бы в такую даль искать ее после ужасной кровавой расправы в дешевом мотеле? Кто еще стал бы столько возиться с ней, заботиться? «Господи, – думала Брайд, – как нехорошо, как несправедливо я поступила с Бруклин, ни слова не сказав о своей поездке на север и даже не сообщив, где нахожусь». Она, конечно, понимала, что вряд ли смогла бы признаться Бруклин в том, что именно заставило ее поехать в такую глушь. Та наверняка попыталась бы ее переубедить или, что еще хуже, стала бы над ней издеваться и насмехаться, доказывая, сколь беспечна и неблагоразумна подобная затея. И все-таки, решила Брайд, надо как-то с ней связаться, сообщить о себе. Это будет правильно.
Поскольку позвонить Бруклин она не могла, то решила написать ей письмишко и попросила у Ивлин бумагу и конверт. Та сказала, что почтовой бумаги у нее, к сожалению, нет, и предложила Брайд листок из блокнота, в котором Рейн училась писать. А также пообещала, что попросит Стива непременно отправить письмо.
Брайд отлично умела составлять деловые документы для своей компании, а вот личные письма у нее никогда не получались. Итак, что же ей все-таки написать Бруклин?
«У меня пока что все в порядке…»?
«Извини, что уехала, не предупредив…»?
«Я должна была принять это решение, потому что…»?
Брайд положила карандаш и принялась изучать собственные ногти.
Обычно звук ткацкого станка, за которым работала Ивлин, ее успокаивал, но сегодня постукивание челнока и педали страшно раздражало. Каким бы извилистым путем ни странствовали ее мысли, в итоге они всегда приходили к одному и тому же: к возможному позору. Что, если Букер вовсе и не живет в городе с дурацким названием Виски? А если все-таки живет, то что из этого? Что, если он теперь счастлив с другой женщиной? Да и что, собственно, ей так уж нужно ему сказать? Разве что: «Я тебя ненавижу за то, что ты сделал!» или «Пожалуйста, вернись ко мне!». Возможно, ей удалось бы найти способ по-настоящему его уязвить, сделать ему больно. И мысли ее, какими бы спутанными они ни были, сходились в одной точке: ей абсолютно необходимо увидеть Букера, встретиться с ним лицом к лицу, что бы из этого ни вышло. Раздраженная и измученная бесконечными «что, если» и клацаньем ткацкого станка, Брайд решила выбраться на улицу. Она вышла на крыльцо и окликнула Рейн.
Та лежала на траве, наблюдая за вереницей муравьев, занятых своими делами.
– Что? – Рейн нехотя подняла голову.
– Не хочешь немного прогуляться?
– Зачем? – Судя по тону, муравьи были ей куда интересней прогулки в обществе Брайд.
– Не знаю, – проговорила Брайд. – Просто так.
Этот ответ девочке, похоже, понравился. Она улыбнулась, вскочила, быстренько отряхнула шорты и сказала:
– Ладно, пойдем, если ты хочешь.
Сперва обе молчали, и это давалось им очень легко, поскольку та и другая были заняты собственными мыслями. Брайд, прихрамывая, шла по тропинке, а Рейн то исчезала в зарослях кустарника и травы, то вновь появлялась. Они прошли уже, наверное, с полмили, когда Рейн вдруг нарушила взаимное молчание и хрипловатым голосом заявила:
– Они меня украли!
– Кто? Ты хочешь сказать, тебя Стив и Ивлин украли? – Брайд была потрясена и даже остановилась, глядя на Рейн, которая преспокойно чесала у себя под коленкой. – Мне они говорили, что нашли тебя, когда ты сидела под проливным дождем одна-одинешенька.
– Угу.
– Так почему же тогда «украли»?
– Потому что я их не просила меня забирать! Они даже не спросили, хочу я с ними поехать или нет!
– Так зачем же ты с ними поехала?
– Я вся промокла и очень замерзла. А Ивлин сразу мне одеяло дала и еще коробку с изюмом, чтобы подкрепиться.
– Значит, ты теперь жалеешь, что у них оказалась? – По-моему, она и не думает об этом жалеть, размышляла Брайд, иначе давно бы уже сбежала.
– Ой, что ты! Нет, конечно. И никогда не жалела. Это самое лучшее место. А потом, мне ведь и идти-то некуда. – Рейн зевнула и потерла нос.
– У тебя что, и дома нет?
– Раньше был. Только там мать живет.
– А ты, значит, от нее убежала?
– Нет. Никуда я не убегала. Она сама меня на улицу вышвырнула. Сказала: «Убирайся отсюда к чертовой матери». Ну, я и убралась.
– Но почему? Почему она тебя вышвырнула? – «Господи, как можно было так поступить с маленькой девочкой? – думала Брайд. – Даже Свитнес, которая много лет на меня смотреть не могла и старалась ко мне не прикасаться, никогда бы ребенка из дома не вышвырнула».
– Потому что я его укусила.
– Кого укусила?
– Одного типа. Из постоянных клиентов. Одного из тех, кому мать разрешала этим со мной заниматься. – Ой, смотри! Черника! – И Рейн, снова нырнув в придорожные кусты, принялась что-то собирать.
– Погоди-ка минутку, – заволновалась Брайд. – Чем именно она разрешала им с тобой заниматься?
– В общем, когда этот гад сунул мне в рот свою пипиську, я ее здорово зубами прикусила. Так что ей пришлось перед ним извиняться и возвращать уплаченную двадцатку. А меня она выгнала и велела стоять там, снаружи. – Ягоды черники оказались кислыми, а вовсе не сладкими, как ожидала Брайд. – А потом она не захотела пустить меня обратно. Я все стучала в дверь, стучала, а она только один раз ее приоткрыла и кинула мне свитер. – Рейн сунула в рот последние несколько ягод и тут же их выплюнула.
Когда Брайд представила себе эту сцену, у нее под ложечкой засосало. Как может женщина, мать, так поступить с ребенком, со своей собственной дочерью?
– А если бы ты снова с мамой встретилась, что бы ей сказала?
Рейн усмехнулась.
– Ничего. Я бы ей голову отрезала.
– Ох, Рейн. Ты же так не думаешь!
– Да нет, именно так я и думаю. Я вообще очень много об этом думала. Представлю себе, как это будет выглядеть – выпученные глаза, разинутый рот и фонтан крови из разрубленной шеи, – и мне сразу легче становится.
На обочине дороги виднелась гладкая поверхность какого-то валуна, а может, просто наружу вышла верхняя часть скалистой породы. Брайд взяла Рейн за руку и направилась прямо к выступавшему из земли камню, ласково ее подтолкнула, и обе уселись, устроившись поудобнее. Ни та, ни другая не замечали на той стороне дороги олениху с олененком, неподвижно застывших среди столь же неподвижных деревьев. А вот олениха очень внимательно следила за парой двуногих. Олененок жался к ее теплому боку.
– Расскажи мне, – сказала Брайд. – Расскажи мне все.
При первых же звуках ее голоса олениха и олененок умчались прочь.
И Рейн стала рассказывать. Ее изумрудные глаза то широко раскрывались и гневно сверкали, то щурились и темнели, превращаясь в оливковые щелочки, когда она описывала свою жизнь на улице и объясняла Брайд, какая памятливость, сообразительность и храбрость необходимы для такой жизни. Нужно уметь найти и запомнить такие общественные туалеты, куда пускают всех; научиться ловко избегать представителей органов опеки, полицейских, пьяных и наркоманов. Но самое главное – уметь найти для себя такое местечко, где можно ночевать в безопасности. На все это Рейн потребовалось немало времени. Она также постепенно научилась на глаз определять тех, кто может дать ребенку денег, и вовремя успевала догадаться, что некоторые из этих «добрых самаритян» могут от ребенка потребовать; она запоминала те кафе, рестораны и буфеты, где у черного входа можно встретить добрых и щедрых официантов или поваров. Кстати, одной из главных проблем было не только то, где найти еду, но и как сохранить ее на потом. Рейн сознательно ни с кем дружбы не водила – ни с молодыми, ни со старыми, ни с оседлыми, ни с бродягами. Ведь сдать ребенка властям может кто угодно. И кто угодно может сделать с ним что-то плохое. Лучше всех были проститутки, вечно торчавшие на перекрестке; они не только относились к Рейн по-доброму, но и предупреждали об опасностях своей профессии – о клиентах, которые уходят, не заплатив; о полицейских, которые занимаются с ними этим, а потом их же и арестовывают; о садистах, которые мучают их ради собственного удовольствия. Только Рейн-то напоминать об этом было вовсе не нужно; она и так прекрасно знала, какие гады встречаются среди мужчин. Однажды материн клиент, совсем жуткий старик, сделал ей так больно, что она громко вскрикнула, у нее сильно потекла кровь, и тогда ее мать влепила этому старикашке пощечину и заорала: «Убирайся вон!», а Рейн потом долго мыли с каким-то противным желтым порошком. Вообще, призналась Рейн, мужчины всегда ее пугали, от одного их вида девочку тошнило. А тогда, в дождь, она ждала, пристроившись на крыльце рядом со стоянкой грузовиков Армии Спасения, и очень наделась, что одна знакомая женщина, которая часто ездит на этих грузовиках, заметит ее и, может быть, подарит ей какое-нибудь пальто или ботинки. Эта женщина не раз совала Рейн какую-нибудь еду. И надо же было такому случиться, что мимо как раз проезжали Ивлин и Стив. Они ее заметили и остановились. Но стоило Стиву до нее дотронуться, как она сразу вспомнила тех мужчин, которые приходили к матери, и поняла, что надо поскорее бежать, прятаться. И убежала. А потому и пропустила тогда ту добрую женщину, которая ей еду давала.
Описывая бездомную жизнь, Рейн время от времени даже хихикать начинала, но с особым удовольствием рассказывала она о своих хитроумных выходках и удачных бегствах от опасности. Зато Брайд с трудом сдерживала слезы; она чувствовала, что уж если начнет их лить, то не остановится, только на этот раз будет оплакивать не свою горькую судьбу, а чужую. Слушая историю этой храброй малышки, которая и не думала зря тратить время на жалость к самой себе, Брайд испытывала к девочке какое-то невероятно родственное чувство, абсолютно свободное от зависти. Так иной раз дружат девочки в школе.
Она ушла, моя черная красавица. Когда я впервые увидела ее, зажатую в автомобиле, то даже испугалась, такие у нее были глаза. Почти как у моей кошки Силки[26]. Но потом она мне понравилась.
И очень даже скоро. Ой, она такая хорошенькая! Иногда, когда она спала, я подходила и просто смотрела на нее. А сегодня пригнали ее машину – к ней приделали новую дверцу, только совсем другого цвета. Перед отъездом моя красавица подарила мне кисточку для бритья. У Стива борода, ему эта кисточка не нужна, так что я оставила ее себе, чтобы кошке шерсть причесывать. Я теперь часто грущу, потому что она уехала, и я не знаю, с кем еще я могла бы поговорить. Правда, Ивлин очень хорошо ко мне относится. Да и Стив тоже. Только они оба сразу хмурятся или глаза отводят, когда я начинаю рассказывать, каково мне было в доме у матери, или похваляться тем, какой я оказалась умной и ловкой, когда мать меня на улицу вышвырнула. Но теперь я совсем не хочу их убивать, хотя сперва, когда я еще только сюда попала, мне очень этого хотелось. Впрочем, я тогда всех готова была убить… А потом они принесли мне котенка, и это желание прошло. Теперь Силки – уже взрослая кошка, и я все ей сказать могу. Моя черная красавица тоже всегда очень внимательно меня слушала, когда я ей о своей прежней жизни рассказывала. А вот Стив не позволяет мне говорить об этом. Да и Ивлин тоже. Они оба считают, что я умею читать, а на самом деле читать я совсем не умею, ну, может, чуть-чуть – буквы там всякие различаю и некоторые слова. Ивлин пытается меня учить. Она называет это «домашним обучением». А я называю это «домашним занудством» и «домашним придуриванием». Все-таки мы – не настоящая семья; хорошая, но не настоящая. Ивлин, правда, вполне ничего, годится в качестве приемной матери, только лучше бы у меня была сестра вроде моей черной красавицы. Отца у меня нет, вернее, я не знаю, кто он, потому что он у моей матери в доме никогда не жил. А вот Стив все время дома, если, конечно, у него днем нет какой-нибудь работы. Моя черная красавица была очень милая, но с характером; такой же крепкий орешек, как я. Когда мы с ней возвращались домой – это после того, как я все ей рассказала о той жизни, что была у меня до Ивлин и Стива, – мимо нас проехал грузовик с большими мальчишками, и один из них заорал: «Эй, Рейн! А мать-то твоя кто?» Моя черная красавица даже не обернулась, а я высунула язык и еще кулак им показала. Одного из тех парней, Риджиса, я хорошо знала; он иногда с отцом к нам приходил; они то дрова приносили, то корзины с кукурузой. А за рулем сидел парень постарше, так он специально грузовик развернул и за нами следом поехал. И вдруг Риджис вытащил винтовку, такую же, как у Стива, и прямо в нас прицелился. Увидев это, моя черная красавица сразу же меня обняла и закрыла мне лицо своей рукой. А Риджис выстрелил и всю руку ей разнес мелкой дробью – с такой на птиц охотятся. Мы обе упали, и она закрыла меня своим телом. Но я еще успела увидеть, как Риджис испуганно присел в кузове, а грузовик взревел и умчался прочь. Только я ничего не могла для моей черной красавицы сделать, разве что помогла ей подняться и все время поддерживала ее израненную окровавленную руку, пока мы к дому шли. Она старалась идти как можно быстрее – насколько, конечно, ей больная нога позволяла. А потом Стив по одной вытаскивал крошечные дробинки у нее из кисти и предплечья и сердито приговаривал, что так этого не оставит и непременно как следует поговорит с папашей Риджиса. Когда он всю дробь вытащил, Ивлин тщательно промыла раны водой и залила йодом. Моя черная красавица морщилась от боли, но не ойкала и не плакала. А я смотрела на нее, и сердце стучало быстро-быстро, потому что никто для меня ничего подобного ни разу в жизни не сделал. Ну, то есть Ивлин и Стив, конечно, взяли меня к себе и все такое, но никто никогда не заслонял меня от опасности собственным телом. Никто меня от смерти не спасал. А вот моя черная красавица сделала это, ни секунды не раздумывая.
И вот теперь она уехала. Но кто знает, вдруг я когда-нибудь еще с ней увижусь?
Я очень по ней скучаю, по моей черной красавице.
Он до крови разбил себе косточки пальцев, и они уже начинали опухать. Незнакомый тип, которого он бил, больше не шевелился, и не стонал, так что, ясное дело, надо было поскорей оттуда убраться, пока кто-нибудь из студентов или охраны университетского кампуса не решит, что это он, Букер, преступник, а вовсе не тот гад, что валялся теперь в траве в расстегнутых джинсах и с торчавшим наружу пенисом – Букер нарочно оставил подонка в том самом виде, в каком и увидел его возле детской площадки. Там резвилось несколько детишек из преподавательских семей, а один мальчик качался на качелях. Того типа никто из них, похоже, заметить еще не успел, а он, облизываясь, смотрел на ребятишек и призывно махал своим маленьким белым «червячком». Самое противное – что он сладострастно облизывался. Именно это Букера и достало. Помусолит языком верхнюю губу, судорожно сглотнет и снова облизывается. Похоже, одно лишь созерцание ребятишек доставляло этому гаду почти столько же удовольствия, сколько и возможность их потрогать. В его уродливом воображении дети сами звали его, манили своими пухленькими ляжками и крепенькими ягодицами, зазывно обтянутыми штанишками или шортами, особенно когда они взбирались на горку или приседали, раскачиваясь на качелях.
Когда Букер его заметил, он сразу, не задумываясь, врезал ему кулаком прямо в мокрые губы, и по его спортивной фуфайке тут же мелкими точками рассыпались капельки крови. А когда этот поганец потерял сознание, Букер подхватил с земли свою сумку с книгами и пошел прочь – не особенно торопясь, но все же достаточно быстро, поскольку ему еще нужно было перейти через дорогу, вывернуть наизнанку фуфайку и успеть в аудиторию до начала лекции. На занятия он, правда, все-таки опоздал, но оказался не единственным: вместе с ним в аудиторию торопливо проскользнули еще несколько опоздавших, пристраиваясь в задних рядах и поспешно выкладывая на столы свои рюкзаки, кейсы и лэптопы. Лишь один из них достал блокнот и ручку. Букер тоже предпочитал все записывать от руки, но сейчас пальцы так распухли, что писать было бы трудно, и он решил просто послушать, но делал это невнимательно, время от времени почти задремывая, отчаянно зевая и прикрывая себе рот ладошкой.
А профессор все продолжал вещать что-то насчет Адама Смита[27] и его заблуждений; он, собственно, говорил об этом почти на каждой лекции, словно в истории экономики имелся только один ученый, труды которого были достойны отправки на помойку. А как насчет Милтона Фридмена[28] или этого хамелеона Карла Маркса? Букер увлекся деньгами и теорией обогащения совсем недавно. Четыре года назад, будучи студентом последнего курса, он стал понемногу посещать лекции по самым различным направлениям – от психологии, политологии и классической философии до всевозможных афроамериканских исследований; все эти курсы читали лучшие преподаватели университета, и лекции их отличались блистательными описаниями и критикой различных теоретических и практических работ, но никто из них так и не смог достаточно удовлетворительно, с точки зрения Букера, ответить ни на один его вопрос, начинавшийся со слов «почему» или «зачем». Он не без оснований подозревал, что большая часть его вопросов, касавшихся рабства, линчевания, насильственного труда, издольщины, расизма, реконструкции Юга после Гражданской войны, джимкроуизма[29], принудительных работ для заключенных, миграции, гражданских прав и революционных движений чернокожих, так или иначе связана с деньгами.
Деньги утаенные, деньги украденные, деньги как власть и как война. А где, например, лекция о том, что одно лишь рабство дало экономике огромной страны мощный толчок, позволив всего за двадцать лет превратиться из страны аграрной в страну высокоиндустриальную? Ненависть белых людей, их насилие послужили топливом для двигателей выгоды и экономического развития. Так что Букер, получив диплом и поступив в аспирантуру, решил заняться экономикой – ее историей, ее теориями, – желая понять, как влияли деньги на формирование каждой из разновидностей экономического, политического и морального гнета, как благодаря деньгам были созданы все империи, все государства, все колонии, а также Бог и Его враги, успешно используемые для того, чтобы, пожиная плоды чужого труда, благополучно скрывать собственное богатство. Букер прекрасно понимал, сколь сильно избитый, полуголый, неимущий Царь Израилев, распятый на кресте и выкрикивавший проклятья предателям, противопоставлен служителям церкви и даже папам римским, облаченным в великолепные одежды, расшитые драгоценными самоцветами. Тем многочисленным папам римским, что бормочут свои проповеди под сводами Ватикана. Да, именно так: «Крест и церковные своды!» Именно так он, Букер Старберн, назовет ту книгу, которую непременно напишет!
Вот и сегодня, крайне мало впечатленный услышанной лекцией, Букер позволил себе мысленно вернуться к тому типу, что лежал теперь у всех на виду возле игровой площадки. С виду вроде бы совершенно нормальный человек. Лысый. Возможно, в иных своих проявлениях даже положительный – про таких часто говорят: «Какой милый, приятный человек!» А соседи и вовсе уверены: «Что вы, он и мухи не обидит!» Интересно, откуда взялось это клише? При чем здесь муха и почему ее нельзя обидеть? Неужели тот, «кто мухи не обидит», обладает настолько нежной душой, что не в силах прихлопнуть даже гнусное насекомое, разносящее заразу, зато легко может лишить жизни ребенка?
Букер вырос в большой бедной семье, где о покупке телевизора и не помышляли. Только поступив в колледж, он попал в мир телевизоров и Интернета, и ему показалось, что оба эти средства массовой коммуникации перегружены развлекательными программами и практически лишены способности побуждать к размышлениям или к увеличению количества знаний. Единственными по-настоящему информативными источниками он считал непопулярные каналы, что передают сводки погоды, но и они по большей части были склонны к истерике. А разнообразные игры, в последнее время столь многих очаровавшие, Букер находил абсолютно бесцельными и бессмысленными. У него в семье много читали, источниками повседневной информации служили радио и газеты, а для развлечения ставили на проигрыватель виниловые пластинки. Букеру приходилось притворяться, разделяя восторги однокурсников, которые все как один увлекались электронными играми, так что странные звуки и стрельба доносились из каждой спальни, слышались и в комнате отдыха, и в студенческом кафе. Букер чувствовал себя далеко в стороне от этой всепоглощающей петли – этакий луддит, неспособный восторгаться новым, чудесным миром техники, – и вначале его это сильно смущало. Его мировоззрение формировалось благодаря живой беседе и печатному слову. Каждую субботу по утрам, еще до завтрака, его родители первым делом собирали детей и задавали каждому два традиционных вопроса: 1) Какие новые истины ты узнал (и откуда ты знаешь, что это истины)? 2) Есть ли у тебя проблемы? По мере взросления детей ответы на первый вопрос варьировались от «червяки не умеют летать», «лед горит» и «в нашей стране только три графства» до «пешка могущественней королевы». А ответы на второй вопрос становились, например, такими: «девушка дала мне пощечину», «у меня снова прыщи», «алгебра!!!», «спряжение латинских глаголов». Личные проблемы обсуждались за столом, и любой член семьи мог предложить для них решение. Только после того, как проблемы были либо решены, либо оставлены в подвешенном состоянии, детей отправляли умываться и одеваться – и старшие помогали младшим. Букер любил эти утренние семейные советы, ибо за ними всегда следовало самое значимое событие уик-энда – обильный завтрак, приготовленный матерью. Настоящий пир. Еще теплые рассыпчатые печеньица из слоеного теста; овсяная каша из крупы крупного помола, белоснежная, обжигающе горячая и удивительно вкусная; омлет, взбитый в бледно-шафрановую пену; шипящие жареные колбаски в тесте; аппетитные ломтики помидоров; земляничный джем; свежий апельсиновый сок; холодное молоко в стеклянном кувшине с притертой пробкой. Кое-что мать специально приберегала для этих субботних пиршеств, потому что в остальные дни недели они ели весьма скромную еду, даже, пожалуй, скудную: овсянку, обычные фрукты, рис, сушеные бобы и разные свежие овощи в зависимости от сезона – цветную капусту, шпинат, кабачки, всевозможные разновидности капусты, салатную горчицу, листья турнепса. Меню субботних завтраков делалось сознательно роскошным, потому что всю неделю подобного разнообразия не было и в помине.
Семейных советов и обильных субботних завтраков не происходило лишь в те несколько месяцев, показавшихся им всем страшно долгими, когда никто не знал, куда пропал Адам. В течение всех этих месяцев тишина тикала в доме, словно бомба с часовым механизмом; и нередко эта «бомба» взрывалась, превращаясь в мелкие ссоры, глупые и беспричинно злобные.
– Ма, он на меня смотрит!
– Не смотри на нее.
– А он снова оглядывается и смотрит!
– Перестань оглядываться.
– Ма!
Когда в полиции, наконец, откликнулись на мольбу о помощи и организовали поиски Адама, то для начала обыскали дом самих Старбернов – словно измученные тревогой родители мальчика могли быть как-то причастны к его исчезновению – и проверили, не стоит ли старший Старберн на учете в полиции. Оказалось, что нет. «Мы к вам еще вернемся», – пообещали полицейские и на этом свою деятельность закончили. Подумаешь, пропал еще один маленький черный мальчик, что тут такого?
Отец Букера больше не ставил любимые пластинки и не слушал старый джаз; он даже обожаемый им регтайм ни разу не поставил, и Букер, в общем, готов был без этого обойтись, но страшно тосковал по «Satchmo»[30]. Одно дело потерять брата – для Букера это было страшной трагедией, он чувствовал, что сердце его разбито, – но совсем другое лишиться возможности слушать трубу Луи Армстронга; подобное Букера окончательно сокрушило.
А затем в начале весны, когда деревья вокруг лужаек стали прихорашиваться, обвешиваясь листвой, Адама нашли. В канализационной трубе.
* * *
Букер с отцом ходили на опознание. От Адама мало что осталось – тело почти полностью обглодали крысы, но в черепе странным образом уцелел один глаз, и он был открыт. Черви тоже попировали всласть, а потом, ликуя, расползлись по своим норам, оставив под разорванной в клочья, покрытой засохшей глиной желтой футболкой лишь голые кости. Ни штанов, ни ботинок на трупе не было. Мать Букера пойти на опознание сына оказалась не в силах. Она не желала изгонять из памяти светлый образ своего первенца, такого юного, такого красивого.
Адама хоронили в закрытом гробу. Похороны вызвали у Букера ощущение дешевизны и одиночества, несмотря на громогласное красноречие священника, целую толпу соседей и пышные поминки, когда к ним на кухню люди без конца несли и несли различные кушанья. Уже сама эта избыточность заставляла Букера чувствовать себя самым одиноким существом в мире. Ему казалось, что его любимого старшего брата, с которым они были невероятно близки, прямо как близнецы, хоронят снова и снова, и Адам задыхается под грузом этих бесконечных клятв, песнопений, проповедей, слез, гомона людской толпы и вороха цветов. Букеру хотелось переделать традиционное оплакивание покойного – чтобы оно стало особым, личным и, самое главное, только его собственным. Адама он боготворил; тот был на два года старше и всегда обращался с ним с удивительной нежностью. «Сладкий, как сахарный тростник» – так говорили о нем все. Поистине безупречное замещение того брата-близнеца, вместе с которым Букер находился во чреве матери. Этот ребенок так и не сумел сделать в своей жизни ни единого вздоха, как рассказали Букеру, когда ему исполнилось три года. Именно тогда взрослые решили: пора мальчику узнать, что на самом деле их было двое, но второй умер при рождении. Вот только Букер каким-то образом всегда знал, что у него был брат-близнец, и всегда чувствовал рядом с собой знакомое невидимое нечто, от которого исходило тепло. Оно шло рядом с ним по улице, поджидало на ступеньках крыльца, пока он играл во дворе, устраивалось рядом с ним под уютным пледом, которым его укрывали на ночь. Когда Букер немного подрос, эта невидимая сущность как-то потускнела, стала менее ощутимой, преобразовавшись в особый внутренний голос, в компаньона, чьим реакциям и инстинктам Букер всегда полностью доверял. А когда он поступил в первый класс и стал каждый день ходить в школу вместе с Адамом, произошло окончательное замещение: живой брат занял место мертвого. Но после того как Адама убили, близких друзей у Букера больше не осталось; оба его друга и брата были мертвы.
В последний раз Букер видел Адама, когда тот катался на скейтборде по тротуару. Его желтая футболка так и светилась в сумерках под темными ветвями северных ясеней. Было самое начало сентября, и листва на деревьях еще и не думала желтеть; она вела себя так, словно отныне стала бессмертной. И сильные, покрытые густой листвой ветви ясеней по-летнему продолжали тянуться к безоблачному небу. И закаты были по-прежнему агрессивно-яркими. Букер смотрел на Адама, и ему казалось, что тот плывет на своей доске в полутемном туннеле, образованном зелеными изгородями и мощными стволами деревьев, похожий на золотистое пятно света, стремящееся к выходу из этого туннеля навстречу жаркому солнцу.
Адам был для Букера больше чем брат; он и для своих родителей, дававших имена детям в алфавитном порядке, был больше, чем первенец на букву «А». Только Адам всегда знал, о чем Букер думает, что он чувствует, а его шутки – хоть они и бывали порой грубоватыми или излишне поучительными – никогда не были жестокими, и вообще Адам был из них самым умным и любил всех своих братьев и сестер. Но больше всех он любил Букера.
Букер оказался не в силах забыть то желтое пятно света, летевшее навстречу по окутанному вечерними сумерками тротуару, точно по темно-зеленому туннелю, и в память об этом положил на крышку гроба одну-единственную желтую розу, а потом и еще одну, уже на могилу брата. На похороны из разных уголков страны съехались многочисленные родственники, и все они пытались как-то утешить Старбернов. Приехал и мистер Дрю, дед Букера с материнской стороны. Букер знал, что этот его дедушка из числа людей удачливых. Мистер Дрю с нескрываемой враждебностью относился к любому, кто был не столь богат, как он сам. Даже родная дочь называла его не «отец» и не «папа», а исключительно «мистер Дрю». Этот жестокий старик, сколотивший неплохой капиталец за счет безжалостной эксплуатации тех трущоб, хозяином которых являлся и за которые взимал с жильцов непомерную плату, все же помнил, что существуют правила приличия, и никогда открыто не выказывал своего презрения по отношению к семье Старбернов, изо всех сил сражавшейся с бедностью.
После похорон Адама жизнь у них в доме стала осторожно возвращаться к привычной рутине; из проигрывателя, стоявшего в дальнем углу, вновь доносились бодрящие мелодии Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, Сидни Бечета, Джелли Ролла, Кинга Оливера и Банка Джонсона. И субботние семейные советы с завтраками-пирами тоже возобновились, и Букер вместе с братьями и сестрами, Кэрол, Донованом, Элли, Фейвором и Гудменом[31], старались придумать ответы поинтересней.
В общем, со временем семья как-то встрепенулась, точно персонажи из кукольного мультсериала «Улица Сезам», надеясь, что веселье, если как следует постараться, сможет и жизнь подсластить, и мертвых успокоить. Букеру их шутки казались натянутыми, а искусственно созданные и чересчур активно обсуждаемые проблемы – надуманными и даже оскорбительными. И во время похорон, и в течение нескольких последующих дней среди всей этой бессмысленной суеты и галдящих родственников единственное исключение, с точки зрения Букера, составляла его тетушка по имени Куин[32], которая, впрочем, и раньше время от времени к ним приезжала. Вообще-то у нее, разумеется, была и фамилия, но ее последней фамилии никто не помнил, поскольку она, как говорили, слишком часто выходила замуж. Среди ее мужей был один мексиканец, двое белых, четверо чернокожих, один азиат – вот только вспомнить, в какой последовательности они сменяли друг друга, никто не мог. Немолодая, грузная, с огненно-рыжими волосами, Куин страшно удивила опечаленных Старбернов тем, что ради похорон Адама приехала аж из самой Калифорнии. Только она сумела почувствовать ту смесь печали, горя и гнева, которой был охвачен ее племянник, и, оттащив Букера в сторонку, сказала:
– Не отпускай его! Не позволяй ему уйти, пока он не будет готов. Вцепись в него зубами и когтями и постарайся во что бы то ни стало его удержать. Адам сам даст тебе знать, когда будет пора.
Куин сумела немного утешить Букера, придать ему сил и невольно подтвердила то несправедливое отношение к покойному остальных членов семьи, которое не давало Букеру покоя.
Из боязни нарушить хрупкое семейное равновесие и опасаясь кризиса, способного свести на нет возможность слушать духоподъемные пластинки, которые ставил его отец – они служили для истерзанной души Букера умиротворяющей целебной смазкой, – он решил попросить у отца разрешения брать уроки игры на трубе. Мистер Старберн легко на это согласился, но предупредил, что мальчик должен сам оплачивать половину гонорара, положенного учителю. Букер принялся изводить соседей просьбами дать ему любую работу по дому и, надо сказать, стал в итоге зарабатывать вполне достаточно, чтобы каждую субботу учиться играть на трубе. Это, кстати, дало ему возможность не участвовать в непременных субботних советах, благодаря чему несколько притупилось зарождавшееся в его душе нетерпимое отношение к младшим братьям и сестрам. «Как они могут притворяться, что все позади? – думал Букер. – Разве можно просто позабыть о таком и жить дальше? Ведь никто так и не знает, кто убил Адама и где он, этот убийца?»
Человек, который учил его играть на трубе, обычно уже с утра пораньше бывал слегка навеселе, однако это не мешало ему оставаться отличным музыкантом и умелым наставником.
– Так, – говорил он, – с легкими и пальцами у тебя полный порядок. Теперь нужно разрабатывать губы. Соединив эти три вещи воедино, ты постараешься о них позабыть, и только тогда сумеешь, наконец, выпустить музыку из своей души на волю.
И Букер с поразительным упорством к этому стремился.
Через шесть лет, когда Букеру исполнилось четырнадцать, он уже считался настоящим трубачом. И как раз в это время его учитель и самый лучший, с его точки зрения, человек на свете был арестован и предстал перед судом по обвинению в SSS[33]. Он оказался патологическим мерзавцем и извращенцем, зверски убившим шестерых мальчиков, в том числе и Адама Старберна. Причем имена всех этих мальчиков он на память вытатуировал у себя на плечах. Бойзе. Лени. Адам. Мэтью. Кевин. Роланд. И аналогично такому же убийце, герою видеоклипа «Мы – это мир»[34], татуированный музыкант заявил, что это просто имена детей одного из его клиентов, а не каких-то других.
А ведь этот человек – которого Букер считал самым лучшим на свете – был обыкновенным автомехаником на пенсии, добродушным, веселым, постоянно предлагавшим соседям что-нибудь починить. Особенно успешно он ремонтировал старые холодильники «Филко» и «ДжиИ», сделанные в пятидесятые годы и вполне успешно служившие до сих пор, а также газовые плиты и камины. «Во всем виновата грязь, – приговаривал он. – Домашняя техника выходит из строя в основном потому, что ее никогда не чистят». Этот его совет вспоминали потом все, кто поручал ему какой-то ремонт. Многие также припомнили и его улыбку, удивительно приветливую и душевную. Иными словами, все считали его въедливым и умелым мастером и очень приятным человеком. Впрочем, была у него одна особенность, о которой потом вспомнили почти все: он повсюду возил с собой в своем «универсале» маленькую, но очень смышленую собачку, терьера по кличке Бой. В полиции очень старались не разглашать подробности этого жуткого дела, но разве можно было заткнуть рот родителям и прочим родственникам убитых мальчиков? Шесть лет их преследовали кошмарные видения того, что могли сделать с их детьми, но реальные факты оказались еще страшнее. Шесть лет мучительного неведения, отчаяния, вопросов, так и оставшихся без ответа, как бы срослись в их восприятии с часами, проведенными в морге на опознании, и это была такая тяжесть, которая чуть ли не до земли сгибала плечи людей, заставляла их то безудержно рыдать, то каменеть от горя, то валиться навзничь в глубоком обмороке, когда их оставляли последние силы.
Когда нашли Адама, от него не так уж много осталось, но свидетельства более поздних изнасилований оказались и куда более очевидными, и куда более страшными. Детей, очевидно, держали связанными все то время, пока этот «самый лучший человек на свете» насиловал их, мучил и подвергал различным пыткам, в том числе ампутации. А в качестве приманки он, должно быть, использовал своего маленького белого терьера. Главная свидетельница, пожилая вдова, припомнила, что видела у него в автомобиле на пассажирском сиденье какого-то ребенка, который радостно смеялся, обнимая и прижимая к лицу беленькую собачку. А через некоторое время ей попались на глаза фотографии пропавшего мальчика, расклеенные в витринах магазинов, на телефонных будках и на деревьях, и ей показалось, что это, пожалуй, тот самый смеющийся ребенок, обнимавший собачку. Она позвонила в полицию. Там, конечно, хорошо знали этот «универсал», на котором красной и синей краской было написано: «У ВАС ПРОБЛЕМА? Я ЕЕ РЕШУ! У.В. Гумбольдт. Домашний ремонт». Когда дом мистера Гумбольдта обыскали, то в подвале был обнаружен грязный, покрытый засохшей кровью матрас, а рядом нарядная жестянка из-под печенья, в которую были сложены аккуратно, каждый по отдельности, завернутые кусочки сушеной плоти, в которых полицейские с первого взгляда узнали маленькие детские пенисы.
Народное возмущение и душераздирающие призывы к отмщению, слегка замаскированные требованиями справедливости, становились все громче. Перед зданием суда постоянно собиралась толпа с плакатами, передовые статьи в газетах были посвящены этому судебному расследованию – казалось, всенародное горе не утолить ничем, кроме публичной казни с отсечением головы. Букер присоединялся к этим выступлениям возмущенных людей, но ему подобная казнь представлялась слишком простым и легким исходом. Он хотел не смерти этого насильника и убийцы – ему нужна была его жизнь, и он часами изобретал жуткие сценарии, согласно которым жизнь этого человека отныне оказалась бы исполнена бесконечной боли и отчаяния. Ведь был же у одного из африканских народов такой закон, согласно которому к спине убийцы привязывали тело убитого им человека! И эта кара казалась Букеру вполне справедливой и обоснованной, ибо на убийцу не только обрушивалось бремя общественного позора и проклятья, но он еще и был вынужден повсюду носить на себе разлагающийся труп своей жертвы. Всеобщий гнев и жаркие споры по поводу того приговора, который могли вынести «самому лучшему человеку на свете», потрясли Букера почти столь же сильно, как и смерть Адама. Собственно, само слушание дела в суде заняло не так уж много времени, зато предварительное расследование показалось вечностью. И в течение всех этих месяцев, наполненных кричащими газетными заголовками, бесконечными дискуссиями на радио и телевидении, сплетнями и соседскими пересудами, Букер тщетно пытался как-то остановить, заморозить ту бурю страстей, что бушевала в его душе, разобрать свои чувства по полочкам и отделить их от чужих, печальных или лихорадочно гневных, переживаний. Тот ужас, что случился с Адамом, думал он, не ограничивается одной строчкой в газете о выделении общественного пособия семьям погибших и простым перечислением шести малолетних жертв. Это вообще дело очень личное, и касается оно по-настоящему только их двоих, родных братьев. Года через два Букеру все же удалось найти решение этой проблемы, более-менее его удовлетворившее, и он даже немного успокоился. Как бы в память о своем действе с желтой розой во время похорон Адама он попросил вытатуировать ему на левом плече маленькую розочку. Но, сидя у мастера-татуировщика, он никак не мог избавиться от мысли, что на том же самом стуле вполне мог сидеть и гнусный хищник, убийца его брата, и, может быть, та же игла выписывала на его белой, как зубная паста, коже имена замученных им мальчиков. Правда, у мастера он ничего так и не спросил. К сожалению, у того не оказалось краски головокружительно яркого желтого цвета, который запомнился Букеру, и ему пришлось согласиться на оранжевый.
После поступления в колледж стало немного легче – бурная студенческая жизнь, сперва совершенно его очаровавшая, не оставляла времени для долгих воспоминаний. Впрочем, восторг Букера вызывали не столько сами занятия, не столько умелые преподаватели, сколько сокурсники, показавшиеся ему невероятно живыми, уверенными в себе и знавшими все на свете. Первые два курса он пребывал во власти этих чар и был озабочен лишь необходимостью адекватной реакции со своей стороны – в виде многозначительных усмешек, громкого хохота, отрицания всех и вся, бесконечного поиска чужих ошибок и выказывания презрения – на то, что его более развитые однокурсники считали проявлением «критического мышления». Девушек в компании Букера оценивали по тем стандартам, которые предлагались в журналах для мужчин и порнофильмах, а друг друга – в соответствии с физическим и моральным обликом героев фильмов «экшн». Те, что были половчей, ухитрялись без особого труда преодолевать препоны, установленные преподавателями в виде зачетов и экзаменов; а вот гении частенько «выпадали в осадок» и в итоге откалывались от развеселой компании. К концу второго курса мягкий цинизм Букера стал потихоньку преобразовываться в депрессию. Мнения сокурсников стали все сильней его раздражать, причем не только тем, что были вполне предсказуемы; самое главное, они начали ему мешать заниматься серьезными проблемами и решать их. В отличие, например, от неустанных попыток Букера довести до идеала исполнение на трубе «Wild Cat Blues»[35] и занять подобающее место среди музыкантов, ему, чтобы как-то выделиться в среде старшекурсников, вовсе не требовались ни особые умственные усилия, ни новое, творческое мышление, ибо эта среда была окутана благословенным туманом молодого греха. Некогда кипевшее в студенческом кампусе возбуждение по поводу войны в Ираке давно угасло. Теперь лишь сарказм слабо помахивал своим победоносным флагом, а насмешки превратились в форму божбы. Для старшекурсников самым обычным делом было хитроумное манипулирование профессорами с помощью притворного послушания и понятливости. В общем, Букер вскоре снова стал задавать себе примерно те же вопросы, какие его родители задавали им, своим детям, во времена субботних советов на Декатур-стрит: 1) Какие новые истины ты узнал (и почему ты думаешь, что это есть истина)? 2) Какие у тебя имеются проблемы?
Ответ на первый вопрос: пока ничего нового. И на второй: отчаяние.
И тогда, надеясь получить действительно ценные знания и, возможно, как-то выбраться из пучины овладевшего им отчаяния, Букер подал документы в аспирантуру и в своих научных изысканиях сосредоточился на всевозможных путях обогащения – от простого бартера до производства бомб. Это превратилось в весьма увлекательное интеллектуальное путешествие, благодаря которому он сумел до некоторой степени усмирить свой гнев и даже посадить его в клетку, а также довольно многое понял относительно таких явлений, как расизм, нищета и войны. Политический мир он предал анафеме, а активистов этого мира, как ретроградов, так и прогрессистов, считал нелепо упорствующими в собственных заблуждениях и мечтах. С его точки зрения, революционеры – как мирные, так и с оружием в руках, – не имели ни малейшего представления о том, что будет, когда они, наконец, «победят». Кто станет править миром? Неужели «народ»? Ох, не надо! Но что тогда это означает? А то, что в таком случае лучше всего навязать «массам» новую идею о том, что, возможно, им, «массам», будет комфортнее, если от их имени станет действовать некий политик, ну и так далее. А далее все превратится в очередной театр, ищущий зрителей. Букер не сомневался, что только богатство объясняет все злодеяния человечества, и был решительно настроен никогда в жизни не оказывать богатству ни малейшего почтения. Он совершенно точно определил для себя направление и тему каждой из тех статей и книг, которые непременно напишет, и, продолжая свои исследования, постоянно записывал пришедшие в голову мысли и делал различные пометки. Приобретая все больше знаний в этой новой для него области, он все же изредка почитывал и поэзию, и кое-какие толстые литературные журналы. Но никаких романов – ни знаменитых, ни менее значимых. Некоторые стихотворения ему особенно нравились, потому что в них отчетливо слышалась музыка; а в журналах иногда печатали острые эссе, авторы которых, всячески возвеличивая культуру, мордовали политику и политиканов. В аспирантуре Букер начал писать и нечто совсем иное, чем наброски будущих эссе. Он пытался превратить поток мыслей, выраженных с помощью обычных, но практически лишенных знаков препинания, предложений, в язык музыки, способный отразить не только те вопросы, которые он задавал самому себе, но и результаты его размышлений над этими вопросами. Правда, свои опусы он по большей части выбрасывал в мусорную корзину, но некоторые все же сохранил.
Получив диплом магистра, Букер решил, наконец, съездить домой – исключительно ради того торжественного обеда, который собиралась по этому поводу устроить мать. Сперва он подумывал, не пригласить ли ему с собой Фелисити, свою давнюю подружку, с которой он то сходился, то расходился, но в итоге решил, что делать этого не стоит. Ему не хотелось, чтобы кто-то посторонний судил его семью. Такое он мог позволить только себе.
Во время семейного сборища все сперва шло гладко, даже весело, но только до тех пор, пока Букер не поднялся в свою старую комнату, которую когда-то делил с Адамом. Что-то ему там понадобилось найти, хотя он и сам толком не знал, что именно. Оказалось, что их комната не просто стала совсем другой – ее убранство полностью противоречило тому духу, который там когда-то царил. Двуспальная кровать вместо их с Адамом узких кроваток, белые прозрачные занавески вместо жалюзи, симпатичный коврик под изящным письменным столиком. Но хуже всего было то, что в шкафу, всегда битком забитом их с Адамом вещами и игрушками – битами, баскетбольными мячами, настольными играми, – теперь висели одни лишь девчачьи одежки, принадлежавшие Кэрол, сестре Букера. Он чуть не задохнулся от возмущения, обнаружив, что из шкафа исчез даже его старый скейтборд, точно такой же, как был у Адама. Охватившая Букера печаль и возмущение оказались столь сильны, что у него голова закружилась. Он спустился вниз, но стоило ему увидеть сестру, как невнятная слабость вспыхнула, превратившись в своего обжигающего близнеца – ярость. Букер набросился на Кэрол с упреками, та тоже отвечала весьма запальчиво, и ссора их все разгоралась, пока не затронула всю семью. Только тогда вмешался мистер Старберн и велел им обоим заткнуться.
– Прекрати это, Букер! Ты не единственный, кто до сих пор оплакивает Адама. Люди вообще по-разному горе переживают. – Голос отца звучал холодно и резко, точно стальное острие.
– Ну естественно! – В голосе Букера отчетливо слышались враждебность и презрение.
– Ты ведешь себя так, словно только ты в семье его по-настоящему любил, – продолжал отец. – Вряд ли Адаму это понравилось бы.
– Откуда тебе знать, что ему понравилось бы? – Слезы уже подступили к глазам, но Букер вполне успешно с ними справился.
Мистер Старберн поднялся с дивана.
– Ну что ж. В таком случае, я скажу, что именно не нравится мне. Мне не нравится, как ты ведешь себя у меня в доме. И если ты не намерен хотя бы держаться в рамках приличия, то убирайся вон.
– Ох! – прошептала миссис Старберн. – Не говори так!
Отец и сын смотрели друг на друга в упор, точно два вступивших в войну врага. Мистер Старберн сражение выиграл. И Букер ушел, решительно хлопнув дверью.
Пожалуй, было даже хорошо, что на него обрушился проливной дождь, стоило ему оказаться за порогом того дома, который он всю жизнь считал родным. Ежась под ливнем, Букер поднял воротник, втянул голову в плечи и теперь выглядел, точно незваный гость, который был бы благодарен, если б его приютили на ночь. Нахохлившись и прищурив глаза, Букер двинулся по Декатур-стрит, и мерзкая погода полностью соответствовала его мрачному настроению. Еще до стычки с Кэрол он попытался убедить родителей создать что-то вроде мемориала в честь Адама – например, учредить скромную стипендию его имени. Матери идея Букера пришлась по сердцу, но отец нахмурился и решительно возразил:
– Мы не можем попусту разбазаривать деньги, которые зарабатываем в поте лица, не жалея времени и сил, – сказал он. – И потом, те, кто любили Адама и до сих пор его помнят, вовсе не нуждаются в подобных мемориалах.
Так что почти с самого начала праздничного обеда Букер чувствовал ядовитую атмосферу недовольства, вызванного его предложением, и постепенно мрачнел. Причем не только из-за неудачного разговора с родителями. И Кэрол, и его младшие братья, Фейвор и Гудмен, тоже были им недовольны. Им казалось, что Букер хочет создать памятник, чуть ли не статую старшего брата поставить, умершего, когда они все трое были еще младенцами. То, что Букер понимал как верность семье, они восприняли как желание манипулировать ими, контролировать их действия и, возможно, как попытку перещеголять горе их отца. Неужели Букер считает, что имеет право командовать, если заработал два университетских диплома? – возмущались братья и сестра, осуждая Букера за высокомерие и излишнюю самоуверенность.
А уж когда Букер увидел, что творится в их с Адамом старой комнате, тонкие нити того неодобрения, которое он почувствовал, едва заговорив с родителями о мемориале, сплелись в толстый канат. Ему показалось диким подобное отношение к памяти Адама. Словно из семьи навсегда ушел не только Адам, но он сам, Букер. Так что, захлопнув за собой дверь родного дома и шагнув под проливной дождь, он сразу понял, что подобный исход был всего лишь несколько отложен, но совершенно неизбежен.
* * *
Фелисити сразу ответила: «О’кей, конечно», стоило Букеру спросить, нельзя ли ему какое-то время у нее перекантоваться, и он был ей очень благодарен за это, потому что своего жилья у него пока не было, а из аспирантского общежития он уже выписался. Возвращаясь на автобусе в университетский кампус, он вытащил старый номер журнала «Daedalus»[36], прихваченный с собой, погрузился в чтение и постарался отвлечься от бесконечного пережевывания грустных мыслей, вызванных разочарованием от встречи с родней. Впрочем, те же грустные мысли нахлынули с новой силой, когда в общежитии он зашел в свою прежнюю комнату и начал торопливо швырять в коробки остатки минувшей университетской жизни – рукописи, кроссовки, скомканную одежду, блокноты, журналы, – все подряд без разбору, за исключением обожаемой трубы. Наконец, решив, что буквально погряз в жалости к самому себе, несчастному и возмутительнейшим образом непонятому, он приостановил сборы и позвонил своей подружке Фелисити. Она работала в школе «на подмене», и их отношения с Букером продержались уже почти два года – прежде всего потому, что в течение довольно-таки продолжительных периодов времени они друг друга практически не видели. Фелисити вызывали на работу нерегулярно, в основном если внезапно заболел тот или иной учитель, и ей довольно часто приходилось ездить в весьма отдаленные районы. Так что Букер не испытывал особого смущения, спрашивая, может ли он ненадолго к ней переехать; оба прекрасно понимали, что речь идет всего лишь об одолжении и не имеет ничего общего с обязательствами. Дело было летом, а это означало, что Фелисити, скорее всего, довольно редко придется кого-то подменять в школе, так что они вполне спокойно смогут наслаждаться обществом друг друга, ничуть не ограничивая себя во времени: ходить в кино и в кафе, заниматься трейлраннингом[37] и вообще делать все, что им захочется.
Однажды вечером Букер взял Фелисити с собой в «Pier2», захудалый клуб D&D[38], который славился «живой музыкой» своего «комбо»[39]. Поедая рис с креветками, Букер, как это с ним часто бывало, размышлял о том, что квартету на крошечной сцене явно не хватает «меди». В сущности, вся популярная музыка держалась на струнных, гитарах и басах; их поддерживали клавишные и ударные. Разнообразные «комбо» мало чем отличались друг от друга – не считая, конечно, такие знаменитые коллективы, как «E Street Band»[40] или «Wynton Marsalis’s orchestra»[41], – и редко отводили должную роль как при групповом исполнении, так и соло саксофону, кларнету, тромбону или трубе, и Букер каждый раз болезненно воспринимал эту пустоту. В итоге в тот вечер он все же решился пройти за кулисы в узкую гримерку, полную смеха, дыма и запаха травы, и спросить у сидевших там музыкантов, нельзя ли и ему хотя бы иногда играть вместе с ними. Однако им совсем не хотелось делить свой скромный заработок с незнакомым музыкантом, и они сразу же послали Букера куда подальше.
– Давай, парень, проваливай отсюда.
– Тебя вообще кто пустил?
– Но вы бы хоть меня послушали! – взмолился Букер. – Я же на трубе играю, а вашей группе духовых как раз не хватает!
Гитаристы продолжали сердито на него таращиться, а ударник вдруг произнес:
– Ладно, в пятницу приходи со своей трубой. По пятницам тут такое творится, что даже если ты облажаешься, особо заметно не будет.
Букер ничего не сказал Фелисити о предстоящем прослушивании. Ее совершенно не интересовало, играет ли он на трубе.
Послушавшись барабанщика, в пятницу Букер пришел задолго до выступления и успел продемонстрировать всей группе свое умение, старательно подражая соло Луи Армстронга. После чего ударник одобрительно ему кивнул, клавишник улыбнулся, да и оба гитариста никаких претензий не выразили. С тех пор в течение всего лета Букер по пятницам играл с группой, именовавшей себя «Big Boys». По пятницам даже в этом захудалом клубе было не протолкнуться; правда, те гости, что пришли сюда хорошенько выпить и закусить, на музыку особого внимания не обращали.
А в сентябре группа «Big Boys» распалась – ударник куда-то уехал, а клавишник получил более выгодное предложение, – и Букеру с двумя гитаристами, Майклом и Фрименом Чейзом, пришлось играть на улицах, где на них с холодной яростью в глазах взирали многочисленные бездомные ветераны. Между прочим, благодаря музыкантам они получали куда более щедрые подачки, но все равно злились. Букер считал этот период самым лучшим в своей жизни, но, увы, счастье его длилось недолго. К концу лета их с Фелисити отношения износились до такой степени, что залатать их оказалось невозможно. Они все лето прожили вместе, время от времени с удовольствием предаваясь любовным играм, но постепенно стали раздражать друг друга своими привычками, хотя раньше на них даже внимания не обращали. Фелисити жаловалась, что Букер вечно, да еще и чересчур громко, играет на своей трубе, а по вечерам норовит остаться дома, отказываясь веселиться вместе с ней и ее друзьями. А Букеру просто осточертели ее сигаретный дым, ее пристрастие к ресторанной пище, ее музыкальные вкусы и предпочитаемые ею напитки. Кроме того, Фелисити обожала приглашать в гости многочисленных родственников, отличалась чрезмерным любопытством и постоянно совала нос в его дела. Но хуже всего, с точки зрения Букера, была ее невыносимая самоуверенность. Впрочем, и он раздражал Фелисити не меньше, чем она его. Ее невыносимо тошнило от его музыки, и она была уверена, что в итоге сойдет с ума, если ей еще хоть раз придется услышать произведения обожаемых им Дональда Бёрда, Фредди Хаббарда, Блу Митчелла[42] и кое-кого еще. Фелисити начинало казаться, что Букер – типичный лузер и женоненавистник, и эта взаимная враждебность стала разрастаться, подобно плесени. Впрочем, их отношения еще вполне могли бы наладиться, если бы не одно событие: арест Букера и ночь, проведенная им в КПЗ.
В тот день, проходя мимо пустой автостоянки, он заметил припаркованную на самом дальнем ее краю «Тойоту». Сидевшая в ней парочка по очереди прикладывалась к трубке с «крэком»[43], и само это зрелище, собственно, не представляло для Букера ни малейшего интереса, но на заднем сиденье он заметил ребенка лет двух, который громко кричал и плакал. Наркоманы не обращали на малыша ни малейшего внимания. Букер подошел к автомобилю, рывком открыл дверцу, вытащил мужчину наружу, дал ему в морду и ногой отшвырнул упавшую на землю трубку с «крэком». Из машины тут же выскочила женщина и бросилась на помощь своему дружку. Их схватка выглядела скорее смешной, чем опасной, но дрались они довольно долго и произвели достаточно шума, чтобы привлечь к себе внимание не только покупателей в магазине, но и полиции. Всех троих арестовали, а маленькую плачущую девочку передали органам опеки.
Фелисити пришлось уплатить штраф, хотя судья отнесся к Букеру весьма снисходительно – наркоманы, родители малышки, вызывали у него не меньшее отвращение, так что им он вынес обвинительный приговор, а Букеру просто выписал штраф за нарушение общественного порядка. Однако Фелисити эта история привела в бешенство. Она долго орала, с возмущением спрашивая, с какой стати Букеру понадобилось лезть не в свое дело.
– Ты кем себя считаешь? Бэтменом? – выкрикивала она.
Букер пощупал пальцем коренной зуб, проверяя, не шатается ли он, а может, даже и сломан. По челюсти ему врезала кулаком как раз та наркоманка. У нее, кстати, сил оказалось гораздо больше, чем у мужа, и она как бешеная налетала на Букера.
– У этих подонков в машине был маленький ребенок! Девочка! – сказал он Фелисити.
– Ну и что? Это же не твой ребенок! И нечего было не в свое дело нос совать! – парировала она.
Букер не ответил и еще раз ощупал зубы, решив, что повреждения, в общем, незначительные, но сходить к дантисту все-таки придется.
Уже в автобусе, возвращаясь домой, оба понимали, что между ними все кончено, хоть и не сказали об этом ни слова. Фелисити продолжала ворчать и в квартире ругалась еще по крайней мере час, но, поскольку Букер отвечал ей свинцовым молчанием, в итоге умолкла и пошла принимать душ. Возможно, она надеялась, что Букер, как всегда, к ней присоединится, но он этого не сделал.
Послужной список Букера в качестве музыканта был весьма невелик – он всего один семестр и не слишком удачно проработал учителем музыки в средней школе; собственно, только туда его и брали, поскольку диплома о музыкальном образовании у него не было. Отсутствие нужных документов также послужило препятствием для участия в тех музыкальных конкурсах и прослушиваниях, которые его интересовали. Его талант трубача был вполне достоин внимания, но отнюдь не исключителен.
Удача улыбнулась ему именно тогда, когда это было более всего необходимо. Букера не без труда разыскала его сестра Кэрол и передала письмо из одной адвокатской конторы. Оказалось, что мистер Дрю умер и, ко всеобщему удивлению, включил в свое завещание не детей, а внуков, так что теперь Букеру предстояло разделить с братьями и сестрами немалое состояние старика, которым тот постоянно хвастался. Букер решил не думать о том, что лишь преступная алчность помогла его деду, владельцу и безжалостному эксплуататору трущоб, сколотить такую кругленькую сумму, и постарался убедить себя, что теперь дедовы деньги очищены его смертью. Это была неплохая мысль, и он успокоился. Букер получил возможность снять нормальное жилье, тихую комнату в спокойном районе, и продолжать играть либо на улице, либо в каких-нибудь захудалых клубах. Многие музыканты, не имея доступа к студиям, играли на перекрестках. И не за деньги – что, конечно, жаль, – а для практики, пробуя сыграть друг с другом на публике, хотя публика эта и не платила им ни гроша, а потому была нетребовательной и некритичной.
А потом наступил тот день, который навсегда изменил и самого Букера, и его музыку.
* * *
Букер прямо-таки онемел, так хороша была эта женщина. Открыв от изумления рот, он беззастенчиво уставился на нее, а она стояла у обочины и смеялась. Кожа у нее была невероятно темная, прямо-таки иссиня-черная, а одежда, наоборот, вся белая. Ее пышные волосы выглядели так, словно на голову ей уселся и уснул миллион черных бабочек. Она разговаривала с другой женщиной – у той была молочно-белая кожа, а на голове белокурые дреды. Возле них остановился роскошный лимузин, но обе женщины продолжали спокойно разговаривать, ожидая, когда шофер подойдет и распахнет перед ними дверцу. Букера несколько опечалило то, что лимузин увез темнокожую красавицу прочь, он тем не менее продолжал счастливо улыбаться, направляясь ко входу в подземку, где собирался играть вместе с приятелями-гитаристами Майклом и Фрименом. Но ни того, ни другого в условленном месте не оказалось, и только тогда Букер заметил, что, оказывается, идет дождь, довольно сильный, но ровный и теплый. Как ни странно, одновременно светило солнце, так что капли дождя, падавшие с нежно-голубых небес, вспыхивали, точно осколки хрусталя, и разбивались на тротуаре в светящуюся пыль. Постояв некоторое время в одиночестве под дождем, Букер решил все же немного поиграть на трубе, отлично понимая, что никто из прохожих не остановится, чтобы его послушать: все они, поспешно закрывая мокрые зонты, устремлялись вниз, к поездам. Но он был настолько потрясен красотой увиденной им темнокожей девушки, что, как только поднес к губам трубу, из нее полилась такая удивительная музыка, какой ему до сих пор никогда еще не доводилось исполнять. Низкие, чуть приглушенные ноты звучали протяжно, даже, пожалуй, слишком, и мелодия словно плыла сквозь светлые струи дождя.
Букер не смог бы описать словами те чувства, которые тогда испытывал. Но он хорошо помнил: в насквозь пропитанном дождем воздухе витал явственный аромат сирени, когда он, играя, вспоминал ту волшебную девушку. И окрестные улицы с заваленными мусором тротуарами больше не казались ему грязными – они, пожалуй, были даже интересными, живописными благодаря своим винным погребкам, парфюмерным магазинам, салонам красоты, ресторанам, кафе и супермаркетам; да и жилые дома вокруг, тесно прислонившиеся друг к другу, выглядели дружелюбно. Стоило Букеру представить блестящие глаза той девушки или ее губы, приоткрытые в беспечной улыбке, и его охватывало не только жгучее желание, но и странное ощущение того, как тают, растворяются призраки прошлого, тот мрак, который окутывал его все годы после смерти Адама. Он словно шагнул за пределы мрачного облака и испытал почти такое же эмоциональное удовлетворение, как в тот день, когда Адам, освещенный закатными лучами, катил ему навстречу на любимом скейтборде, ибо там, за пределами мрака, была она. Полуночная Галатея, ожившая и навсегда оставшаяся в памяти живой.
А через несколько недель после того, как Букер впервые увидел ее, вместе с подругой поджидавшую лимузин, она вновь попалась ему на глаза – возле стадиона, в очереди на концерт «Black Gauchos», новой модной группы, быстро набиравшей популярность и исполнявшей смесь бразильского и новоорлеанского джаза. Концерт предполагался только один, и очередь была на редкость длинной, шумной и суетливой, но, как только двери открылись и толпа ринулась вперед, Букер ухитрился оказаться в числе первых, затем обошел еще четверых людей, стоявших в очереди за нею, и, когда толпа стала, наконец, рассаживаться по скамьям, сумел встать точно за спиной у своей темнокожей красавицы.
Воздух был насквозь пропитан музыкой, и благодаря этой особой атмосфере нарушились все правила приличия, ослабли телесные запреты; сексуальная щедрость изливалась подобно густым сливкам; так что Букер воспринял как нечто совершенно естественное желание обвить руками талию своей Галатеи. Мало того, этот жест был попросту неизбежен. А она не отстранилась, и они танцевали, танцевали, танцевали… Когда музыка смолкла, девушка повернулась к нему и одарила той самой радостной беспечной улыбкой, которую он все время вспоминал. Он спросил, как ее зовут, и она ответила:
– Брайд.
«Ах-ты-боже-мой-черт-меня-побери-совсем!» – прошептал он себе под нос.
* * *
И с самого начала все у них получалось просто изумительно – спокойный, изысканный секс, при этом достаточно продолжительный, то есть как раз такой, какой и был необходим Букеру, так что он порой сознательно несколько вечеров подряд предавался воздержанию, чтобы потом, вернувшись в ее постель, заново пережить незабываемые ощущения. Да и сами их отношения были поистине безупречными. Особенно Букеру нравилось то, что Брайд не слишком интересуется его личной жизнью и ни во что не сует нос – в отличие от Фелисити. Брайд была сногсшибательно красива, легка в общении, ей каждый день было чем заняться, и она вовсе не требовала, чтобы Букер постоянно находился при ней. Ее любовь к себе и собственной внешности пребывала в полном согласии с той особой средой, в которой она существовала, и с деятельностью той косметической компании, в которой она успешно трудилась; ее жизнь казалась ему зеркальным отражением его жизни. Когда Брайд весело рассказывала ему о сослуживцах, или о новой продукции, или о рынках сбыта, он видел только ее глаза, чарующе прекрасные и столь выразительные, что они говорили куда больше простых слов. Да, у нее действительно говорящие глаза, думал он, наслаждаясь музыкой ее голоса. Каждая ее черта – высокие выступающие скулы, зовущий рот, изящные нос, лоб и подбородок, потрясающие глаза, – была подчеркнута иссиня-черной, точно полуночное небо, кожей, делавшей ее облик поистине изысканным, вызывающим эстетический восторг. Лежал ли Букер на спине, наслаждаясь тяжестью распластанного на нем тела своей возлюбленной, или сам возвышался над нею, или просто нежно обнимал ее – именно полночный цвет ее кожи вызывал у него наибольшее возбуждение. Ему казалось, что он не только держит в своих объятьях царицу-ночь, но и обладает ею. А если и этого было недостаточно, он всегда мог заглянуть в глаза Брайд и увидеть в них свет звезд. Ему нравилось ее невинное, как бы немного рассеянное чувство юмора. Он хохотал во все горло, когда она, никогда не прибегавшая к макияжу, хотя ее работа и была полностью связана с косметикой, просила его помочь ей выбрать самый победоносный оттенок губной помады. Его восхищало и умиляло настойчивое желание Брайд носить исключительно белую одежду. Ему не хотелось даже в самой малой степени делить ее с другими, а потому у него редко возникало желание посетить какой-нибудь клуб. Но все же и ему трудно было устоять перед соблазном, когда он представлял себе, как будет танцевать с ней в полутемном зале под песни Майкла Джексона или вопли Джеймса Брауна. Они оба просто таяли от любви, прижимаясь друг к другу в толпе танцующих. Короче, ей Букер ни в чем не мог отказать. Он не соглашался только сопровождать Брайд, когда она собиралась «пробежаться по магазинам».
Время от времени Брайд, правда, впадала в уныние, что было весьма странно для потрясающе успешной деловой женщины, вроде бы полностью владеющей собой, и начинала признаваться Букеру в каких-то своих недостатках или говорила о тех болезненных воспоминаниях, что были связаны с ее детством. И он, прекрасно понимая, как долго гноятся в душе раны, нанесенные в далеком детстве, но никогда не заживающие, старался ее утешить, скрывая бешеную ярость, которая охватывала его при одной лишь мысли о том, что кто-то мог сделать ей больно.
С матерью у Брайд были весьма сложные отношения, а с отцом, который когда-то самым гнусным образом их бросил, и вовсе никаких отношений не было, так что она, как и сам Букер, чувствовала себя свободной от семейных уз. В этом мире их было только двое, и в их жизнь все реже и реже вмешивался кто-то из коллег Брайд, если, конечно, не считать эту ее несносную псевдоподругу Бруклин. Иногда днем по уик-эндам Букер играл вместе с Фрименом и Майклом, но все чаще он и Брайд с утра пораньше отравлялись загорать на пляж и великолепно проводили там время, а прохладными вечерами гуляли в парке, держась за руки и предвкушая ту сексуальную хореографию, которой займутся, едва переступив порог квартиры. Оставаясь трезвыми, как священники, и творчески активными, как сам дьявол, они словно заново изобретали секс. Во всяком случае, так казалось им самим.
Когда Брайд уходила на работу, Букер, наслаждаясь одиночеством, играл на трубе или писал письма своей любимой тете Куин; кроме того, поскольку в квартире Брайд никаких книг не было – только журналы, посвященные новинкам моды и светским сплетням, – он часто посещал библиотеку. Там Букер читал и перечитывал книги, которые, учась в университете, изучить не успел или просто недопонял. «Имя Розы» Умберто Эко, например, а также сборник «Вспоминая рабство»[44]. Исповеди бывших рабов настолько тронули Букера, что он даже сочинил в честь этих людей несколько сентиментальных музыкальных пьес, довольно посредственных, с его точки зрения. Кроме того, Букер перечитал всего Марка Твена, наслаждаясь жестокостью его юмора; с удовольствием «проглотил» Вальтера Беньямина[45] и был потрясен красотой его переводов; еще раз прочел автобиографию Фредерика Дугласа[46], и его впервые по-настоящему восхитило то красноречие, с которым Дуглас скрывает и одновременно обнажает свою ненависть к рабству. Он вновь перечел «Моби Дика» Германа Мелвилла, и гибель маленького юнги, негритенка Пипа, в очередной раз тронула его сердце, ибо он вспомнил об Адаме, всеми покинутом и проглоченном волнами повседневного зла.
И вот шесть месяцев слепящего счастья, упоительного секса, музыки фри-стайл, увлекательных книг и общества мягкой, уступчивой и нетребовательной Брайд пошли прахом; волшебный сказочный замок их любви развалился и рухнул в грязь, ибо, как оказалось, был построен на песке тщеславия. И Букер сбежал.
От нее ничего. Только звонок начальству с просьбой продлить отпуск без сохранения содержания якобы для дальнейшей реабилитации. Эмоциональной! Да ради бога. Почему ни слова о том, куда она исчезла? И вот только сегодня я получила от нее записку, нацарапанную на вырванном из блокнота листке желтой линованной бумаги. Господи! Да мне и читать это письмо было не нужно – я и так сразу все поняла. Там говорилось: «Извини, что я вот так взяла и убежала. Я была вынуждена это сделать. В моей жизни осталась только ты – все остальное буквально разваливалось на куски…» Ну, и так далее. Сплошное бла-бла-бла…
Красивая тупая сука. Так ведь и не сообщила, ни где она, ни как долго там пробудет! Одно я знаю наверняка: она идет по следу того парня. Мне ведь ничего не стоит прочесть ее мысли – для меня это как бегущая строка у нижнего края телевизионного экрана. Этот дар у меня еще в детстве проявился, когда хозяйка квартиры сперва сперла деньги, лежавшие у нас на обеденном столе, а потом заявила, что мы опаздываем с оплатой. А когда мой дядя еще только собрался меня пощупать, где не надо, я сразу обо всем догадалась; и с тех пор – еще до того, как он успевал снова распустить руки, – всегда убегала и пряталась или просто громко кричала, притворяясь, что у меня живот схватило, и заставляя мать очнуться, наконец, от пьяного забытья и вмешаться. Уж поверьте, я всегда чувствую, чего хотят люди и как доставить им удовольствие. Или неудовольствие. Лишь однажды я ошиблась – неверно прочла мысли парня, любовника Брайд.
А знаешь, Брайд, я ведь тоже убежала, только мне тогда было всего четырнадцать и обо мне некому было позаботиться. Так что я сама о себе позаботилась и, можно сказать, сама себя изобрела, сделала стойкой. Мне казалось, что и с тобой примерно то же самое было. Но в том, что касается бойфрендов, ты вела себя иначе. Особенно с этим, последним, – вот уж настоящий проходимец! Я сразу догадалась, что с ним ты вскоре снова превратишься в ту перепуганную маленькую девочку, какой была в детстве. Именно так и случилось. И одного-единственного столкновения с насильником, точнее, с сумасшедшей теткой, оказалось достаточно, чтобы ты сдалась и от всего отступилась, даже от работы, самой лучшей в мире, что, по-моему, было совсем уж глупо.
Я начинала с того, что подметала пол в парикмахерской, потом была официанткой, после, наконец, получила работу в аптеке. Все это задолго до «Сильвия Инкорпорейтед». Я сражалась с жизнью, как дьявол, и хваталась за любую возможность, не позволяя никому и ничему встать поперек дороги.
А ты? «Ах, я была вынуждена бежать…» Куда? В какое такое место? Неужели туда, где даже приличной писчей бумаги или хотя бы почтовой открытки не нашлось?
Брайд, пожалуйста, вернись!
* * *
Столичной девушке быстро надоедает картонная скука маленьких провинциальных городков. Какова бы ни была погода – сверкает ли солнце, льет ли дождь, или дует пронизывающий ветер, – эти обшарпанные жилища-коробки, скрывающие бесхитростных и беспомощных обитателей, могут осточертеть кому угодно, даже самому внимательному и заинтересованному приезжему. Другое дело, когда возле сельской дороги, по которой почти никто не ездит, селятся бывшие хиппи и живут там в полном соответствии со своими антикапиталистическими идеалами. Все-таки прошлая жизнь у Ивлин и Стива была яркой и весьма впечатляющей, полной риска и смысла. Но если это не бывшие хиппи, а самые обыкновенные люди, которые родились и живут в этих местах, ни разу в жизни не уехав отсюда? Брайд отнюдь не испытывала чувства превосходства, созерцая ряды унылых деревенских домишек и жилые автофургоны, видневшиеся по обе стороны от дороги; она скорее просто недоумевала и никак не могла понять, что могло заставить Букера выбрать для жизни именно это место? И кто, черт побери, эта К. Олив?
Она проехала в общей сложности сто семьдесят миль – и по шоссе, и по грязным проселочным дорогам, которые зачастую больше походили на тропы, исхоженные мокасинами местных жителей и волчьими лапами. По таким «дорогам» грузовики еще способны были как-то проехать, но ее бедному, с трудом починенному «Ягуару» с кое-как приделанной дверцей от другого автомобиля приходилось трудно. Брайд вела машину очень осторожно, напряженно вглядываясь вперед, чтобы вовремя заметить любое непредвиденное препятствие, живое или мертвое. К тому времени, как она увидела указатель, прибитый гвоздями к стволу сосны, усталость ее была настолько всеобъемлюща, что даже несколько приглушила растущую тревогу. К тому же, хотя на теле у нее в последнее время вроде бы больше ничего не исчезло, она была весьма озадачена и обеспокоена тем фактом, что у нее уже два, а то и все три месяца отсутствуют менструации. Лишившись роскошного бюста, растительности на лобке и под мышками, а также дырочек в ушах и нормального, некогда весьма стабильного, веса, Брайд тщетно пыталась прогнать одну страшно назойливую мысль, которая все время крутилась у нее в голове: она была почти уверена, что это начало ее невероятного обратного превращения в маленькую, насмерть перепуганную чернокожую девочку.
Деревня Виски, как оказалось, действительно представляла собой одну-единственную улицу, точнее, грунтовую дорогу с гравиевым покрытием, вдоль которой выстроилось с полдюжины домов, а чуть дальше по дороге, на поле, разместилось еще какое-то количество трейлеров. Параллельно дороге полосой тянулся весьма печального вида лесок, где среди деревьев бежал довольно глубокий, но узкий ручей. Номеров здешние дома, естественно, не имели, а вот на некоторых трейлерах висели потрепанные почтовые ящики, украшенные табличкой с именем владельца. Сопровождаемая взглядами местных жителей, с явным подозрением смотревших вслед незнакомому автомобилю, за рулем которого сидела неузнаваемая женщина, Брайд медленно плыла по грейдеру, пока не увидела на почтовом ящике, висевшем на дверях бледно-желтого дома на колесах, два слова, написанные крупными печатными буквами: КУИН ОЛИВ. Она остановила машину, вылезла и направилась к домику, но неожиданно уловила запах бензина и дыма, тянувшийся, похоже, откуда-то с заднего двора. Брайд осторожно подкралась ближе и, заглянув за угол, увидела полную приземистую женщину с ярко-рыжими волосами, которая заботливо орошала бензином металлические пружины кроватного матраса в тех местах, где, как ей казалось, пламя следовало «подкормить».
Брайд поспешно вернулась обратно в машину и стала ждать. Вскоре возле ее «Ягуара» остановились двое детей, явно привлеченные видом небывалого в здешних местах роскошного автомобиля. Оба, правда, смутились, увидев за рулем незнакомую чернокожую женщину, но не ушли, а несколько минут, не мигая, смотрели прямо на нее. Брайд сделала вид, что не замечает онемевших от изумления детей. Она хорошо знала, как себя вести в таких случаях. Сколько раз бывало, когда она, едва войдя в комнату, где много белых, сразу замечала, как они начинают переглядываться. В последнее время, впрочем, Брайд почти не обращала на это внимания, прекрасно зная, что за «ахами» и «охами» по поводу ее невероятной черноты неизменно последуют завистливые взгляды, спровоцированные ее красотой. Хотя Брайд с помощью Джерри давно уже научилась эксплуатировать необычайно темный цвет своей кожи, подчеркивая его белой одеждой и благодаря этому превращаясь в поистине фантастическую красавицу, она часто вспоминала один разговор с Букером, когда, жалуясь на мать, призналась, что из-за этой черноты Свитнес ее и ненавидела.
– Но это же просто цвет кожи, – сказал тогда Букер. – Обычная генетическая черта – не недостаток, не проклятие, не благословение, не грех.
– Некоторые люди, – не сдавалась Брайд, – считают, что с точки зрения расовой принадлежности…
Букер не дал ей договорить:
– С точки зрения биологии, такой вещи, как раса, вообще не существует, так что расизм без расы – это абсолютный нонсенс; точнее, это просто выбор, сделанный той или иной группой людей, хотя и сделанный по наущению тех, кому этот выбор выгоден или нужен. Но это тем не менее выбор. Люди, разделяющие расистские убеждения, без них попросту превратились бы в ноль без палочки.
Разумные доводы Букера на какое-то время несколько утешили Брайд, однако они все же имели слишком малое отношение к тому, что ей почти ежедневно приходилось испытывать. Вот и сейчас, например, ей было крайне неприятно сидеть в машине под остолбенелыми взглядами двух маленьких белых ребятишек, которые смотрели на нее, точно завороженные; так же они, наверное, смотрели бы и на динозавра в музее. Тем не менее она отнюдь не намерена была поворачивать назад и отказываться от достижения поставленной цели только потому, что оказалась в несколько недружелюбной обстановке, вне привычной и комфортной для нее зоны обитания, вдали от выложенных плиткой тротуаров, аккуратных лужаек и домов, где живут люди самой различной расовой принадлежности, которые, скорее всего, не стали бы ей помогать, но и вредить тоже не стали бы. Короче, раз уж она, Брайд, решила выяснить, наконец, из чего она создана – из ваты или из стали, – то и речи быть не могло ни об отступлении, ни о возвращении назад!
Прошло еще с полчаса; дети уже успели уйти, а сверкавшее, как новенькая монетка, полуденное солнце так нагрело корпус машины, что Брайд не выдержала. Вылезла из «Ягуара», подошла к желтой дверце трейлера и, набрав в грудь побольше воздуха, решительно постучалась. Когда на пороге возникла полная приземистая поджигательница, Брайд вежливо сказала:
– Здравствуйте. Извините за вторжение, но я ищу Букера Старберна. Мне дали именно этот адрес.
– Оно и понятно, – кивнула женщина. – Ко мне и почта его приходит – журналы, каталоги, ну и всякая ерунда, которую он сам пишет.
– Так он здесь? – У Брайд голова закружилась, и она как завороженная уставилась на серьги женщины – золотые диски размером с раковину венерки.
– Не совсем. – Женщина покачала головой, так и сверля Брайд взглядом. – Хоть и неподалеку.
– Правда? А что значит «неподалеку»? Это далеко отсюда? Как туда доехать? – Вопросы так и сыпались у Брайд изо рта, поскольку она испытала огромное облегчение, убедившись, что К. Олив далеко не молода, а значит, ей не соперница.
– Запросто пешком дойти можно. Но сперва вы все-таки ко мне зайдите. Букер никуда не денется. Его надолго в постель уложили – он руку сломал. Да входите же! У вас такой вид, словно вас енот в лесу нашел, да только есть отказался.
Брайд нервно сглотнула. В течение последних трех лет девушка только и слышала, какая она удивительная красавица, какая у нее экзотическая, потрясающая внешность, какая она «горячая штучка» и тому подобное. В общем, сплошное «вау»! И вот теперь эта старуха с жесткими от краски рыжими волосами и осуждающим взглядом одной лишь шутливой фразой уничтожила весь набор комплиментов, ставших для Брайд такими привычными, и она снова почувствовала себя некрасивой девочкой с чересчур черной кожей – словом, в точности как дома у матери.
А Куин, поманив согнутым пальцем, ласково сказала:
– Входи, детка, входи. Тебе непременно поесть нужно.
– Послушайте, мисс Олив…
– Просто Куин, дорогая. И моя фамилия произносится, как «Ол-ли-вей». Ну, смелей, ставь ногу на ступеньку. У меня не так часто гости бывают, к тому же я могу с первого взгляда понять, голоден человек или нет.
«Вообще-то она права, – подумала Брайд. – Она так долго ехала и так сильно переживала все это время, что волнение совершенно заглушило чувство голода, однако теперь у нее в животе громко бурчало, так сильно хотелось есть, и она покорно вошла в дом. Первая комната приятно удивила царившим там порядком. Мало того, она оказалась такой уютной и милой, что у Брайд даже мелькнула мысль, уж не ведьма ли заманила ее обманом в свое логово. Было совершенно очевидно, что все в комнате сделано руками Куин: она сама и шила, и вязала как спицами, так и крючком, и кружева плела. Занавески, чехлы для мебели, вышитые салфетки – все было сделано вручную и выглядело замечательно. Одеяло, висевшее на спинке кровати – пружинный матрас с нее, по всей видимости, как раз остывал снаружи после обработки огнем, – было искусно выполнено в стиле пэчворк из лоскутков мягкой ткани нежнейших оттенков. В комнате поместились несколько старинных вещей – например, маленькие боковые столики, – размещенные весьма необычно. Одна стена была целиком отведена фотографиям детей в изящных рамках. В сторонке стояла плита с двумя конфорками; на ней исходила паром кастрюля. Тем временем Куин, явно не привыкшая к отказам, уже успела постелить на один из узких столиков льняные салфетки, поставить две фарфоровые плошки, а рядом еще положить салфетки в кольце и красивые серебряные суповые ложки, черенки которых были украшены филигранью.
Брайд уселась на стул с декоративной подушкой на сиденье и стала смотреть, как Куин половником наливает в плошки густой суп, в котором кусочки курицы плавали среди горошка, картошки, молодых кукурузных початков, помидоров, сельдерея, зеленого перца, шпината и небольшого количества макарон-ракушек. Брайд только никак не могла понять, какой пахучей приправой этот суп сдобрен. Карри? Кардамон? Чеснок? Кайенский перец? А может, просто смесь черного и красного перца? Впрочем, что бы Куин туда ни положила, результат оказался поистине волшебным. К супу хозяйка подала корзинку с кусками еще теплой лепешки. Затем она и сама села за стол, благословила пищу и вместе с гостьей принялась за еду. Довольно долго обе молчали и с аппетитом ели. Наконец Брайд оторвалась от своей плошки, вытерла губы, вздохнула и, посмотрев на Куин, спросила:
– А зачем вы обжигали пружинный матрас? Там, за домом? Я видела.
– Из-за клопов, – кратко ответила Куин и пояснила: – Я их каждый год выжигаю, пока они из яиц не вылупились.
– Ох, а я о таком даже не слышала! – Теперь Брайд чувствовала себя гораздо свободней, а потому снова спросила: – А какую «ерунду» Букер вам посылал? Вы сказали, что он посылал какие-то свои опусы.
– Угу. То и дело посылал.
– О чем же он пишет?
– Да разве ж поймешь? Я чуть голову не сломала, да так и не разобралась. Если хочешь, я тебе кое-какие его записи покажу. А вот ты скажи-ка мне, зачем ты Букера ищешь? Он что, денег должен? По-моему, его женщиной ты никак быть не можешь. Да ты, судя по всему, и знаешь его не очень-то хорошо.
«Что правда, то правда. А ведь мне казалось, что я его очень хорошо знаю», – подумала Брайд, но вслух этого не сказала. Ей вдруг стало совершенно ясно, что секса, даже отличного, слишком мало, чтобы узнать человека. Секс вообще вряд ли можно считать хоть каким-то источником информации.
Брайд промокнула губы салфеткой и произнесла:
– Мы некоторое время жили вместе, а потом он меня бросил. Просто так. Словно на свалку выбросил за ненадобностью. – Брайд даже пальцами прищелкнула. – Встал и ушел, не сказав ни слова.
Куин усмехнулась.
– Да, он такой. Вечно уходит, вечно кого-то бросает. Считает, что это нормально. Он и из семьи точно так же ушел. Всех бросил. Всех, кроме меня.
– Он правда ушел из семьи? А почему? – Эта новость удивила, хотя ей вовсе не хотелось, чтобы Куин ставила ее на одну доску с родственниками Букера.
– Его старшего братишку зверски убили, когда они с Букером совсем маленькими были, и Букеру не понравилось, как его родители к этому отнеслись.
– А-а-а… – протянула Брайд. – Как это печально! – Она, конечно, постаралась придать голосу соответствующие сочувственные интонации, однако больше всего ее, на самом деле, потрясло то, что она ничего, совсем ничего об этом не знала.
– Не просто печально. Это событие, можно сказать, семью разрушило.
– Что же они такое сделали, раз он из дома ушел?
– Ничего. Просто стали жить дальше. И старательно делали вид, будто живут настоящей жизнью. Букер хотел, чтобы они почтили память брата – ну, там, какой-нибудь мемориал создали, или фонд, или еще что-нибудь в этом роде. Только у них его идея никакого интереса не вызвала. Совсем. Даже наоборот. Вот и произошел разрыв. Вообще-то, до некоторой степени и я в этом виновата. Я когда-то сказала Букеру, чтобы он ни в коем случае не отпускал брата, чтобы как можно дольше его оплакивал – так долго, как это будет необходимо. Но я никак не рассчитывала, что он поймет мои слова настолько буквально. Вот и получилось, что смерть Адама заполнила всю его жизнь. Да нет, стала его жизнью. Вот-вот, именно так, я думаю. И, по-моему, никакой другой жизни у него нет. – И Куин, заглянув в пустую плошку Брайд, предложила: – Еще?
– Нет, спасибо, но было очень, очень вкусно! Я просто не помню, чтобы когда-нибудь ела что-нибудь столь же восхитительное.
Куин улыбнулась.
– Это мой собственный рецепт. Называется «Объединенные Нации». Я соединила в нем рецепты тех городов, где родились мои семеро мужей. От Дели до Дакара, от Техаса до Австралии. Ну, там и еще несколько между ними затесалось. – И Куин засмеялась так, что плечи затряслись. – Господи, столько мужчин! И ведь в самом главном все одинаковые.
– А что в них самое главное?
– Право собственности.
«Столько мужей, и все же она живет одна», – подумала Брайд и спросила:
– А детей у вас нет? – Наверное, все-таки есть; фотографии маленьких людей были здесь повсюду.
– Детей у меня полно. Двое живут со своими отцами и их новыми женами; двое служат в армии – один на флоте, второй в авиации. А моя последняя дочка учится в медицинском колледже. Она – дитя моей мечты. Мой предпоследний сынок теперь отвратительно богат и счастливо живет где-то в Нью-Йорке. И все они в основном деньги мне присылают – это чтобы не нужно было самим меня навещать. Но они и так все время со мной. – Она обвела рукой стену с фотографиями детей, смотревших на нее из искусно сделанных рамок. – Я знаю, о чем они думают, как жизнь воспринимают. Только Букер никогда со мной связи не прерывал. Вот я сейчас попробую тебе кое-что показать, может, ты и поймешь, что у него на уме. – Куин открыла дверцу шкафчика, где были аккуратно сложены или висели на плечиках самые разнообразные материалы для шитья, а на нижней полке стояла старомодная хлебница. Порывшись в ней, Куин вытащила тонкую пачку сколотых вместе листков и протянула гостье.
«Какой чудесный почерк!» – удивилась Брайд, и вдруг до нее дошло, что она ни разу за все это время не видела, чтобы Букер что-то писал, хотя бы собственное имя. В пачке оказалось семь листков. По одному на каждый месяц – плюс еще один. Брайд медленно прочла первую страницу, с трудом водя пальцем по строчкам, потому что знаки препинания в тексте отсутствовали.
Эй девушка что таится там в твоей кудрявой головке помимо темных комнат с темнокожими мужчинами которые танцуя тесно прижимаются к тебе чтобы дать успокоение твоему изголодавшемуся рту жаждущему большего, того что наверняка есть где-то там и просто ждет когда язык и дыхание ласково коснутся твоих зубов яростно вцепившихся в эту ночь и пытающихся проглотить разом весь отвергнувший тебя мир а потому отрешись от своих неясных мечтаний и ложись на песок пляжа в мои объятья а я стану посыпать тебя этим белым песком принесенным с далеких берегов которых ты никогда в жизни не видела те далекие берега омывают воды такой чистоты и такой сияющей голубизны что стоит себе это представить и слезы выступают на глазах и ты понимаешь что ты действительно родом с этой планеты что ты ее часть и теперь можешь вместе с нею присоединиться ко всей вселенной под спокойное умиротворяющее пение виолончели.
Брайд дважды перечитала написанное, но почти ничего не поняла. Она взяла второй листок, прочла, и ей стало не по себе.
Ее воображение безупречно в том смысле что способно разре´зать и выскоблить кость даже не прикоснувшись к костному мозгу где и таится то грязное чувство жалобно тренькая как скрипка которая боится что ее струны лопнут и пронзительным криком возвестят утрату своей мелодии поскольку для нее постоянное пребывание в неведении лучше живой жизни.
Куин тем временем закончила мыть посуду и предложила гостье выпить виски, но Брайд эту идею не оценила.
Когда девушка читала третий листок, ей показалось, что она вспоминает разговор, однажды состоявшийся у них с Букером; этот разговор вполне мог послужить причиной написанного. В тот раз Брайд рассказала ему историю, связанную с хозяином их с мамой квартиры, и еще кое-что о своем невеселом детстве.
Ты безропотно точно вьючное животное удар хлыста приняла и проклятье чужого человека и ту бессмысленную угрозу которая в этом проклятье содержалась и тот шрам который это проклятье оставило а потом превратила свою жизнь в некое опровержение всего этого хотя те исполненные ненависти слова представляли собой лишь тонкую линию начертанную на песчаном берегу и мгновенно растворяющуюся в морской вселенной стоит бездумной беспечной волне ласково ее коснуться так музыкант легко коснувшись пальцем клапана кларнета превращает звук в молчание чтобы следующая настоящая нота могла прозвенеть в полную силу.
Затем Брайд быстро прочитала еще три страницы подряд. Здесь знаков препинания было больше.
Попытки понять пагубность расизма только питают его, делают мощным, раздувшимся, как шар, и этот шар плывет высоко у нас над головой, угрожая вот-вот рухнуть на землю, где любая острая травинка способна его проткнуть, выпустив наружу зловонные фекалии, которые с ног до головы выпачкают завоеванную расизмом аудиторию – так плесень пачкает и разрушает клавиши пианино, и черные, и белые, уничтожая диезы и бемоли, а потом справляя по ним панихиду.
Видишь ли, я не желаю, чтобы мне тыкали в нос тем «позором», который и другим приписывают и который полностью соответствует жалкому комплексу превосходства и деградировавшей морали тех, кто настойчиво требует от людей хотя бы поверхностного проявления чувства собственной неполноценности и слабости, желая при этом всего лишь скрыть трусость и притвориться, будто обладает помыслами столь же чистыми, как звуки банджо.
Спасибо тебе. Ты показала мне и гнев и хрупкость и враждебную отвагу и бесконечную тревогу – тревогу – тревогу пронизанную такими бескомпромиссными стрелами света и любви что это казалось проявлением доброты ибо давало силы оставить тебя и не впасть при этом в такую глубокую тоску которая способна не только сердце разбить но и разрушить разум ибо разум знает как пронзительно вскрикивает гобой в клочья разрывая тишину и показывая всем твою красоту настолько ослепительную что ее невозможно удержать в руках и эта красота превращает мелодию гобоя в истинную благодать живого мира.
Вконец озадаченная, Брайд оторвалась от текста и посмотрела на Куин.
– Интересно, правда? – сказала та.
– Очень, – ответила Брайд. – И очень странно. Любопытно, с кем он ведет беседу?
– С самим собой, – предположила Куин. – Спорить готова, это все о нем. А тебе разве так не кажется?
– Нет, – прошептала Брайд. – Это все обо мне. И о том времени, что мы прожили вместе. – И она стала читать последний листок.
Если сердце твое разбито то в любом случае к этому следует относиться серьезно и мужественно позволить боли ослепительно сиять и жечь твою душу подобно звезде-пульсару свет которой нельзя да и невозможно ни притушить ни смягчить превратив в патетическое самобичевание ибо этот взрывной свет полностью оправдан и звенит по всей вселенной подобно меди литавров.
Брайд положила листки на стол и прикрыла глаза рукой.
– Ступай, повидайся с ним, – вполголоса сказала Куин. – Это там, чуть дальше по дороге, последний дом у ручья. Ну же, вставай! Умойся хорошенько и иди к нему.
– Но я совсем не уверена, что мне следует к нему идти. – Брайд даже головой покачала. Слишком долго она полагалась исключительно на свою внешность, будучи уверенной, что красота действует на мужчин поистине безотказно. Вот только ей и в голову не приходило, до чего все это мелко. Она и понятия не имела, какой стала трусливой – а все в результате того рокового урока, который преподала ей Свитнес, которая гвоздями прибила эту трусость к позвоночнику дочери, желая его согнуть.
– Да что с тобой такое? – В голосе Куин отчетливо звучало раздражение. – Ты проделала такой долгий путь, а теперь хочешь развернуться и уехать? – И она пропела каким-то детским голоском:
Я не знаю, почему
Нет солнца в небе. Потому
Мне и дальше не пройти.
Все пропало по пути,
Бурей унесло…[47]
– Черт побери! – Брайд даже рукой шлепнула по столешнице. – Вы абсолютно правы, Куин! Абсолютно! И все-таки это обо мне, а не о нем. Обо мне!
* * *
– Ты? Убирайся! – И Букер, приподнявшись на узком и скромном ложе, указал Брайд на дверь.
– Ах ты, урод хренов! Никуда я не уйду, пока ты…
– Я сказал, убирайся! Немедленно убирайся отсюда! – Глаза Букера казались мертвыми, но в них горела вполне живая ненависть. Своей здоровой рукой он по-прежнему указывал на дверь, и Брайд не выдержала: пробежав девять коротких шагов, отделявших ее от Букера, она со всех сил влепила ему пощечину. В ответ он тоже ее ударил, причем настолько сильно, что сбил с ног. Брайд с трудом поднялась, схватила стоявшую на буфете пивную бутылку, размахнулась и разбила ее о голову Букера. Он замертво рухнул на кровать, а она, сжимая в руке горлышко разбитой бутылки, с ужасом увидела, как в левое ухо ему заползает тонкий ручеек крови. Впрочем, уже через несколько секунд Букер очнулся, неуверенно приподнялся на локте, прищурил глаза и ошалело уставился на Брайд.
– Как ты мог меня бросить? Как ты мог просто встать и уйти, не сказав ни единого слова? – заорала она. – Ничего не объяснив! Теперь я хочу выслушать твои оправдания. Какими бы они ни были. Да, я хочу их услышать. Прямо сейчас!
В ответ Букер прорычал, здоровой, правой, рукой вытирая кровь с левой щеки:
– Да какого хрена! Не буду я тебе ничего объяснять!
– Нет, будешь! – И она грозно замахнулась зажатой в руке «розочкой».
– Слушай, шла бы ты к чертям собачьим из моего дома, пока с тобой чего плохого не случилось.
– Заткнись и отвечай!
– Господи, женщина, ты что, спятила?
– Вот еще! Я хочу понять тебя, Букер. Просто понять.
– Ты сперва сама объясни, с какой стати тебе понадобилось покупать подарки той твари, которая детей совращала и за это в тюрьму угодила? Объясни мне, ради бога, зачем ты к этому чудовищу подлизывалась?
– Я лгала! Лгала! Лгала! Я солгала тогда. Она ни в чем не была виновата! Это я помогла ее осудить, да еще за такое страшное преступление. А на самом деле она ничего чудовищного не совершала! Ну и потом мне, конечно, захотелось как-то… компенсировать свою вину. Только она даже слушать не стала. И чуть душу из меня не выбила. Хотя я, конечно, все это заслужила.
Жарче в комнате за эти несколько минут явно не стало, но Брайд отчего-то вся взмокла. Пот выступил и на лбу, и на верхней губе, и под мышками.
– Значит, ты тогда солгала? Но за каким чертом?
– Чтобы моя мать хоть раз взяла меня за руку!
– Что-что?
– И хоть раз с гордостью на меня посмотрела!
– И что, посмотрела?
– Да! И даже сказала, что я молодец.
– Ты хочешь сказать, что…
– Заткнись! Теперь твоя очередь рассказывать. Говори, почему ты меня бросил?
– О господи! – У Букера по щеке поползла тонкая струйка крови, и он стер ее здоровой рукой. – Ну, ладно. Понимаешь, мой брат… В общем, его зверски убил один гад, извращенец, настоящий хищник вроде той особы, которую, как мне показалось, ты решила простить, и я…
– Мне все равно, что там тебе показалось! Это же не я сделала! Не я твоего брата убила!
– Ладно-ладно! Хорошо! Теперь мне кое-что стало понятно, однако…
– Никаких «однако»! Я действительно вела себя глупо, пытаясь загладить свою вину и подлизаться к той, кому всю жизнь порушила. А вот с чего ты злился на весь мир и обвинял всех и вся как последний ублюдок? На вот, вытри свою чертову руку. – Брайд швырнула Букеру посудное полотенце и, наконец, осторожно положила «розочку» на буфет. Затем отерла руки о джинсы, отбросила назад волосы, прилипшие к вспотевшему лбу, и, спокойно глядя на Букера, ровным тоном сказала: – Ты, безусловно, не обязан меня любить, но уважать ты, черт побери, обязан. – После чего Брайд неторопливо уселась в кресло возле стола и положила ногу на ногу.
Довольно долго оба молчали. В тишине было слышно лишь их дыхание. Друг на друга они не смотрели – глядели на собственные руки, в окно, в пол. Так прошло несколько минут.
Наконец Букер почувствовал, что ему пора сказать нечто определенное и существенное; объяснить ей все так, чтобы она поняла. Но стоило ему открыть рот, и язык словно примерз к зубам, а нужных слов как не бывало. Впрочем, теперь все это было уже неважно, потому что Брайд крепко спала. Она так и уснула, сидя в кресле, уронив подбородок на грудь и вытянув перед собой прекрасные длинные ноги.
* * *
Куин стучаться не стала; она просто открыла дверь и вошла. Увидев Брайд, крепко спящую в кресле, и Букера с рассеченным лбом, она негромко воскликнула:
– Боже всемилостивый! Что тут случилось?
– Подрались, – кратко пояснил Букер.
– С ней все в порядке?
– Да. Сама себя нокаутировала, а потом заснула.
– Значит, «подрались»? Она специально тащилась в такую даль, чтобы тебя поколотить? А за что? За любовь или за страдания?
– Наверное, и за то, и за другое.
– Ясно. Ну, тогда давай перенесем ее на кровать, – сказала Куин.
– Давай. – Букер встал. И с помощью Куин и своей единственной здоровой руки сумел-таки перетащить Брайд на узкую неубранную постель. Девушка что-то простонала, но так и не проснулась.
Куин уселась в то кресло возле стола, где раньше сидела Брайд, и спросила:
– Ну, и как ты теперь с ней поступишь?
– Не знаю, – признался Букер. – Какое-то время у нас все получалось просто идеально…
– И что было причиной разрыва?
– Ложь. Молчание. Нежелание рассказать, как все было на самом деле и почему.
– О чем именно рассказать?
– О своем детстве. О том, что с нами тогда происходило, почему мы совершали те или иные поступки, почему всякое себе придумывали. В общем, о том, что мы пережили, когда были всего лишь детьми.
– Например, о том, что для тебя значил Адам?
– Да, и об этом тоже.
– А она о чем тебе не поведала?
– Об одной большой лжи, которую она, еще совсем маленькая, выдумала и с которой выступила в суде как свидетельница. И из-за этой лжи в тюрьму посадили невинную женщину, которой дали длительный срок, обвинив в изнасиловании ребенка, хотя она ничего подобного и не совершала. Мне казалась странной привязанность Брайд к этой женщине, мы сильно поссорились, и я ушел. Да, тогда все это виделось очень неясным и настолько отвратительным, что даже рядом с Брайд находиться не хотелось.
– Зачем же она в суде-то солгала?
– Чтобы заслужить хоть капельку любви… получить крохотную похвалу от своей матери.
– Господи, путаница какая! Сам черт ногу сломит! А ты, разумеется, сразу Адама вспомнил. Всегда у тебя на уме один только Адам.
– Угу.
Куин, скрестив руки, навалилась на стол и грозно спросила:
– И долго еще он будет тобой управлять?
– Я ничего не могу с этим поделать, Куин.
– Нет?! Девочка тебе поведала все! А ты? Какую правду можешь ты о себе рассказать?
Букер не ответил. Некоторое время оба молчали; тишину нарушало лишь сонное посапывание Брайд. Потом Куин снова заговорила:
– Тебе нужна благородная причина, только тогда ты сможешь позволить себе потерпеть неудачу, верно? Или, наоборот: тебе требуется достаточно веская причина, дабы ты мог почувствовать собственное превосходство?
– Да нет, Куин, нет, я все-таки не настолько… Нет, нет!
– Тогда в чем дело? Ты же привязал Адама к себе! Посадил его на закорки и заставляешь денно и нощно трудиться – думать за тебя, решать за тебя, заполнять твои мозги собственными мыслями. А тебе не кажется, что Адам смертельно ото всего этого устал? Что он, возможно, совсем обессилел, сознавая, что давно должен был бы умереть, но не может обрести заслуженный покой, потому что ты требуешь, чтобы он руководил твоей жизнью. Твоей, а не своей собственной.
– Адам мной не руководит.
– Нет? Ну да, это ты им руководишь. Точнее, заставляешь его тобой руководить. Ты хоть когда-нибудь чувствовал себя полностью от него свободным? Ну хоть когда-нибудь?
– Я… – Букер помолчал и задумался, словно прокручивая в уме пленку. Он вспоминал, как Брайд стояла под дождем на обочине; как она села в лимузин; как изменилась его музыка и сама жизнь после того, как он впервые ее увидел; как внезапно рассеялся тот мрак, в котором он до той поры существовал; как во время того концерта на стадионе он обнял ее за талию, и они танцевали, и она потом с улыбкой к нему повернулась… – Мне… – снова попытался начать он, – …мне какое-то время было с ней очень хорошо, действительно хорошо. – И он не сумел скрыть радость, вспыхнувшую в глазах при этих словах.
– И все же это «хорошо», по всей вероятности, показалось тебе недостаточным для полного счастья, и ты снова призвал Адама, начал умерщвлять свои мозги бесконечными размышлениями о его трагической гибели, а свою живую кровь превращать в формальдегид! – выпалила Куин.
Некоторое время они смотрели друг на друга, не говоря ни слова, потом Куин встала и, даже не пытаясь скрыть разочарования, небрежно бросила: «Дурак ты, Букер», и вышла, а он, горестно поникший, так и остался сидеть в кресле.
Куин неторопливо брела к дому. В ее душе боролись радость и печаль. Она радовалась, потому что уже несколько десятилетий не видела, чтобы влюбленные друг с другом по-настоящему дрались – с тех пор, как жила в новостройках Кливленда, где молодые пары запросто выплескивали любые эмоции, даже ссоры превращая в увлекательное театральное действо и отлично сознавая: на них смотрит целая толпа зрителей как видимых, так и невидимых. Собственно, и сама Куин не раз устраивала подобные представления, хотя теперь все ее многочисленные мужья словно слились воедино, так что она воспринимала их, как безликое существо. Исключение составлял лишь ее первый муж, Джон Лавдей. С ним она сама развелась – а впрочем, развелась ли? Она и этого толком не помнила; да и со следующим мужем она тоже не то развелась, не то нет, кто его знает? Куин улыбнулась, радуясь селективности нынешней памяти – истинному благословению, дарованному ей старостью. Но в улыбке ее все же сквозила легкая печаль. Гнев и ярость, которые Брайд и Букер столь бурно выплеснули наружу, свойственны, конечно же, только молодым. Впрочем, Куин успела заметить и еще кое-что: когда они с Букером перетащили спящую девушку на кровать и как следует уложили, молодой человек быстрым и ласковым движением убрал у нее со лба спутанные волосы, и Куин, быстро на него глянув, была поражена той нежностью, что светилась в его глазах.
А ведь они ее погубят, эту нежность, думала она. Станут каждый по отдельности цепляться за горестные переживания, за то, что случилось давным-давно, за ту боль, которую жизнь причинила их чистым невинным душам. И оба так и будут вечно переписывать заново свою печальную историю, прекрасно зная ее содержание, но все же угадывая и другую тему, пытаясь придать старой истории новый смысл и отбрасывая за ненадобностью то, что конкретно послужило ее источником. Какая бессмысленная трата времени и сил! Куин по личному опыту знала, как трудна любовь и как она эгоистична. И как легко разлучить влюбленных. Молодые бросаются из крайности в крайность – то воздерживаются от секса, то, наоборот, полагаются только на него; то совершенно не обращают внимания на своих детей, то буквально сжигают их любовью; то пытаются направить истинное, старое как мир чувство по новому пути; то наглухо запирают свою душу и не впускают туда новых чувств. И некоторое время молодость служит извинением для этой сладко-счастливой поры любви – но только до тех пор, пока пора эта не минует, а любовь не превратится в чистейшей воды глупость взрослых людей.
«А ведь я когда-то была хорошенькой, – вдруг подумала Куин, – по-настоящему хорошенькой, и тогда мне казалось, что этого достаточно. На самом деле какое-то время действительно так и было, но потом этого хватать перестало, и тогда мне пришлось стать настоящим человеком, способным как следует собственной головой думать. И, наконец, сообразить, что полнота – это состояние тела, а не болезнь. Научиться, опираясь на собственный опыт, понимать или хотя бы догадываться, что у разных людей на уме, особенно у людей эгоистичных». К сожалению, в том, что касалось ее детей, и ум, и сообразительность, и опыт пришли к ней слишком поздно.
Каждый из «мужей» отнимал у нее ребенка, а то и двух, либо предъявляя «свои законные права», либо просто на некоторое время исчезая вместе с ним. Один, например, забрал у нее сынишку и увез к себе на родину; второй заставил любовницу выкрасть у нее сразу двоих детей. И у всех этих «мужей», кроме одного – самого первого, душки Джонни Лавдея, – было более чем достаточно причин, чтобы притворяться в нее влюбленными: американское гражданство, паспорт, финансовая помощь, женская забота, уход в случае болезни и даже жилье, хотя бы и временное. А в итоге у нее попросту не оказалось возможности вырастить хотя бы одного из своих детей; они оставались при ней максимум до двенадцати лет. Она лишь через какое-то время сумела окончательно уяснить для себя мотивы этой ненастоящей, притворной любви – как собственной, так и всех ее мужей. И поняла, что, скорее всего, основным мотивом их было желание выжить, в буквальном и переносном смысле этого слова. Впрочем, сейчас вся «любовь» осталась в прошлом; теперь Куин живет в этом диком краю совершенно одна и, чтобы убить время, без конца что-то вяжет или плетет кружева; а еще она благодарит доброго Бога, который даровал ей теплое одеяло забвения и маленькую подушку мудрости в придачу, чтобы она хоть в старости обрела, наконец, покой.
* * *
Букера терзало необъяснимое беспокойство, а также глубокое недовольство и самим собой, и тем, как повернулись события. Особенно поразительной была открытая неприязнь, с которой Куин оценила его поступки. Он вышел из дома и присел на ступеньку крыльца. Уже спускались сумерки, и вскоре вся деревня – точнее, странное скопление случайных жилищ, где нет ни улиц, ни уличных фонарей, – должна была погрузиться во тьму. И тогда музыка, доносящаяся из радиоприемников, станет такой же далекой, как и мерцание за окнами телевизоров – в основном старых «Зенитов» и «Пионеров». Мимо прогрохотала парочка грузовиков с местными номерами; вскоре за ними промчалось несколько мотоциклов. Водители грузовиков все были в кепках; а у мотоциклистов на голове красовались шарфы, повязанные на современный манер через лоб. Букеру нравилась царившая в этих местах легкая анархия; нравилось и равнодушно-спокойное отношение поселка к своим обитателям, что, впрочем, было несколько смягчено присутствием рядом Куин, единственного человека, которому он полностью доверял. Букер и работу себе здесь нашел, время от времени помогая лесорубам и зарабатывая этим достаточно, но потом, к сожалению, он упал с подъемника и сломал плечо. Мысли Букера текли как попало, без всякой цели, но на каждом повороте в них врезалось одно и то же видение: чернокожая чаровница, спящая в его постели. Она, бедная, уснула, устав от крика и безумных своих попыток убить его или как минимум одержать над ним верх. И он никак не мог понять, что же все-таки заставило ее проделать такой долгий путь, неужели всего лишь жажда мести или слепая ярость? А может, все-таки любовь?
«Куин права, – думал он. – Я ничего не понимаю в любви, хотя Адама я, конечно, очень любил. Но любить Адама было легко: у него практически не было недостатков, он был невинен и чист, как ангел. А вот было бы мне так же легко любить его, если бы он остался жив? Если бы он, в итоге став взрослым, приобрел кое-какие не слишком приятные качества, например, склонность к обману или предательству? Или, скажем, оказался бы глуповат или невежествен? Стоил бы он тогда моей любви? И потом, что это за любовь такая, если ей требуется только ангел и никак не меньше?»
И, размышляя, Букер продолжал казнить себя.
«Наверное, – думал он, – Брайд знает о любви гораздо больше, чем я. Или, по крайней мере, хочет в полной мере ее понять, определить ее суть и характер; ради этого она готова многое сделать и многим рискнуть. Я же ничего не делаю и ничем не рискую. Я просто построил себе трон и теперь восседаю на нем, с высоты своего положения определяя, сколь сильны в других людях признаки их несовершенства. Похоже, я угодил в путы собственного интеллекта и оказался околдован его «величием» и теми «высокими» моральными принципами, которые взял на вооружение, не заметив, что все это, безусловно, сопряжено с оскорбительным высокомерием. Где все те блистательные исследования, которые я собирался завершить? Где те шедевры просветительства, которые я мечтал создать? Нет их. Вместо этого я пишу заметки о недостатках других людей. Это ведь так легко – замечать чужие недостатки. Ну а как насчет бревна, которого я в собственном глазу не вижу? Мне же все в ней так нравилось – и как она выглядит, и какой замечательный у нас секс, и то, что она не предъявляет никаких требований. Однако стоило меж нами возникнуть первому серьезному разногласию, и я трусливо сбежал. Считая при этом, что моим единственным судьей является Адам, который, как справедливо заметила Куин, уже, наверное, устал быть вечной ношей и моим крестом».
Букер на цыпочках вернулся в дом и, прислушиваясь к сонному сопению Брайд, вытащил блокнот, чтобы в очередной раз – и снова без знаков препинания – излить на бумаге все то, что не в состоянии был выговорить вслух.
Я больше не тоскую по тебе Адам я скорее тоскую по тому чувству которое вызвала твоя смерть и это чувство оказалось настолько сильным что смогло не только определить мой характер но и тебя как бы стерло из моей памяти оставив мне лишь ощущение твоего отсутствия внутри которого я и существовал точно в безмолвии возникающем сразу после удара японского гонга а потому кажущемся куда пронзительней любого звука который может за этим безмолвием последовать.
Прости что поработил тебя. Да я и самого себя точно цепями приковал к иллюзии полного самообладания и дешевому соблазну властью. Лучших результатов не смог бы наверное добиться ни один рабовладелец в мире.
Букер отложил блокнот, и теплые сумерки окутали его, утишая душевное волнение. Теперь ему оставалось только дождаться рассвета.
Брайд проснулась навстречу ярким солнечным лучам после крепкого, без сновидений, сна – так крепко она не спала никогда в жизни, даже после изрядного подпития. И теперь, проспав столько часов подряд, она чувствовала себя не только отлично отдохнувшей и набравшейся сил, но и полностью избавившейся от того напряжения, что владело ею в последнее время. Впрочем, сразу вставать с постели она не стала и продолжала лежать с закрытыми глазами, наслаждаясь чудесными новыми ощущениями – приливом жизненных сил и ослепительной ясностью мыслей. Покаявшись в грехах, совершенных Лулой Энн, Брайд почувствовала себя заново рожденной. Ей больше не нужно вновь и вновь переживать пренебрежение матери и уход из семьи отца, не пожелавшего смириться с появлением чернокожего ребенка. Да нет, все это она не просто переживала; она пыталась выжить, терзая себя постоянными воспоминаниями об этом. Решительно отогнав мысли о прошлом, Брайд села в постели и увидела Букера. Он пил кофе за откидным столиком, и вид у него был скорее задумчивый, чем сердитый. Брайд, недолго думая, придвинулась к столу. И даже стащила у Букера с тарелки полоску бекона. А потом и кусок от его тоста откусила.
– Хочешь еще? – спросил Букер.
– Нет, спасибо.
– Кофе? Сок?
– Ну, пожалуй, кофе.
– Конечно, сейчас.
Брайд протерла глаза, пытаясь восстановить в памяти, что именно предшествовало ее соскальзыванию в столь глубокий сон. Вспомнить все ей помогла шишка, красовавшаяся у Букера над левым виском.
– Как это ты с одной здоровой рукой ухитрился меня на постель перетащить?
– Мне помогли, – сказал Букер.
– Кто?
– Куин.
– О господи! Теперь она решит, что я окончательно спятила!
– Вряд ли. – Букер поставил перед Брайд чашку с горячим кофе. – Она у нас большая оригиналка. Спятивших от нормальных отличать не умеет.
Брайд сдула в сторону парок, поднимавшийся над чашкой.
– Она показала кое-что из того, что ты присылал. Несколько страниц. Почему ты все это отсылал именно ей?
– Не знаю. Возможно, я все-таки слишком дорожил своими опусами, чтобы просто взять и выбросить их в мусорную корзину; с другой стороны, они не настолько мне нравились, чтобы вечно таскать их с собой. В общем, я решил, что неплохо было бы сохранить их где-нибудь в надежном месте. А Куин хранит абсолютно все.
– Когда я их прочла, то догадалась, что все это обо мне… Я права?
– О да! – Букер нарочито округлил глаза и театрально вздохнул. – Разумеется, все это о тебе – ну и еще немного о нашем мире и о той Вселенной, в которой мы существуем.
– Может, перестанешь надо мной подшучивать? Ты же прекрасно понял, что я хотела сказать. Ты написал это, когда мы были вместе, так?
– Это просто мысли, Брайд. Разрозненные мысли – попытка передать словами то, что я чувствовал, чего боялся, и чаще всего то, во что я по-настоящему верил.
– И ты все еще веришь, что разбитое сердце должно гореть, как звезда?
– Верю. Но звезды могут взрываться и исчезать, так что того, что мы видим, глядя на них, там, возможно, уже вовсе и нет. Некоторые звезды могли умереть тысячу лет назад, но их свет дошел до нас только сейчас. Что-то вроде старой информации, которую выдают за свежие новости. Кстати, об информации: как ты узнала, где я?
– Тебе пришло письмо. Вернее, просроченная платежная квитанция из музыкального магазина-мастерской «Pawn Palace». Вот я туда и поехала.
– Зачем?
– Чтобы заплатить, идиот. Они-то и подсказали, что ты, возможно, обретаешься в этом вонючем захолустье, и дали имевшийся у них контактный адрес некой К. Олив.
– Значит, ты оплатила счет, а потом отправилась в такую даль, чтобы дать мне по морде?
– Возможно. Вообще-то я заранее этого не планировала, но, должна признаться, сделать это было действительно очень приятно. В общем, дудку твою я привезла. У тебя кофе еще есть?
– Ты привезла мою трубу? Ты ее забрала?
– Естественно. И они ее починили.
– Где она? У Куин?
– У меня в багажнике.
Сперва в улыбке изогнулись губы Букера, затем засияли и его глаза. И все лицо осветилось совершенно детской радостью, когда он крикнул:
– Я тебя люблю! Люблю! – И, выбежав из дома, рысью помчался к «Ягуару», припаркованному на обочине.
Огонь разгорался медленно, незаметно. Он, как это часто бывает, нащупывал путь неуверенно, опасливо, словно страдая от собственной застенчивости и не зная еще, чем все это может обернуться. Затем, хлебнув воздуха и солнечного света, он постепенно набрался уверенности – ведь в зарослях сорняков, где он раньше таился, света и воздуха было маловато.
Собственно, огонь давно прятался там, на заднем дворе, где Куин Олив каждый год обжигала пружины матраса, уничтожая поселения клопов. И теперь, набравшись сил, он начал быстро распространяться, то взлетая тонким красным языком, то замирая на несколько секунд, чтобы затем опять вспыхнуть, но уже с новой силой и гораздо ярче, поскольку и путь, и конечная цель были ему теперь совершенно ясны: его первой добычей должно было стать большое вкусное сосновое полено, покрытое плесенью и валявшееся возле двух жалких ступенек, изображавших в этом домике на колесах крыльцо. Затем он намеревался пожрать дверь, она тоже была из сладкой, мягкой сосновой древесины. А на десерт вкуснейшие ткани – шелк, бархат, кружево – да еще и с чудесной вышивкой!
К тому времени, как подоспели Букер и Брайд, перед домом Куин собралась небольшая толпа – несколько безработных, а также дети и старики. Дым уже вовсю просачивался в щели под окнами и дверью. Первым внутрь вломился Букер; Брайд следовала за ним по пятам. Они сразу же бросились на пол, где задымление было наименьшим, и дружно поползли к дивану, на котором лежала неподвижная Куин, соблазненная и доведенная до беспамятства улыбками дыма, лишенного жара и огня. Букера и Брайд душил кашель, слезы ручьем лились у обоих из глаз, однако они с помощью трех рук – одной здоровой руки Букера и двух рук Брайд – все же ухитрились приподнять бесчувственную Куин и стащить ее на пол, а потом выволокли на крошечную лужайку перед домом.
– Подальше оттащите! Подальше! – крикнул кто-то из толпы. – Того и гляди весь дом на воздух взлетит!
Но Букер ничего не слышал – он изо всех сил старался вдохнуть в легкие Куин хоть немного воздуха. Наконец вдали послышались сирены пожарных машин и «Скорой помощи»; дети, завороженные мультипликационной красотой ревущего огня, пришли в еще большее возбуждение. И вдруг крошечная искра, до той поры прятавшаяся в густых волосах Куин, взорвалась ярким пламенем, которое в одно мгновение охватило всю эту рыжую копну – Брайд едва успела сорвать с себя майку, набросить ее на голову Куин и потушить горящие волосы. Она не сразу почувствовала острую боль в обожженных ладонях; отшвырнув в сторону почерневшие и еще дымившиеся остатки майки, она посмотрела на Куин, и лицо ее невольно исказилось при виде изуродованного скальпа, покрытого страшными волдырями, между которыми еще торчали немногочисленные клочки волос. А Букер все шептал: «Да, да, давай, дорогая, дыши, дыши!», и Куин в итоге действительно задышала, кашляя и отплевываясь. Только тогда они по-настоящему поняли, что она осталась жива. Когда к ним подъехала «Скорая помощь», толпа вокруг еще больше разрослась, а некоторые зеваки, похоже, и вовсе застыли как зачарованные. Однако смотрели они, выпучив глаза, отнюдь не на стонущую обгоревшую женщину, которую на носилках поспешно засовывали в машину. Они не могли отвести глаз от чудесных округлых грудей чернокожей красавицы. Впрочем, какое бы удовольствие ни доставило этим бездельникам созерцание ее обнаженной груди, его невозможно было даже сравнить с той радостью, которую испытывала сама Брайд. Эта радость настолько ее оглушила, что она не сразу взяла из рук фельдшера одеяло, которое тот протягивал, чтобы она могла себя прикрыть. Она сделала это, лишь заметив, какое выражение застыло у Букера на лице. Правда, до конца подавить радость она так и не сумела, хоть ей и было чуточку стыдно, что она делит свое внимание между печальным зрелищем отправляемых в недра «Скорой помощи» носилок с Куин и волшебным возвращением собственных безупречных грудей.
Затем Брайд и Букер бегом бросились к «Ягуару» и последовали за «Скорой помощью».
Как только им разрешили посещать больную, Брайд стала дежурить возле нее днем, а Букер – ночью. Однако Куин впервые открыла глаза лишь через трое суток и своих спасителей явно не узнавала. Вся голова у нее была обмотана бинтами, разум затуманен анальгетиками, и Брайд с Букером оставалось только следить за трубками, подсоединенными к ее телу. Одна из них была прозрачной, как стекло, и извилистой, как лиана в дождевом лесу; вторая – плотная и тонкая, как телефонный провод. Рот и пол-лица Куин были скрыты маской, похожей на цветок белого клематиса; из-под маски доносилось хрипловатое, булькающее дыхание, а по экрану, висевшему над больничной койкой, неустанно текли, извиваясь, разноцветные линии. Прозрачные контейнеры с чем-то, похожим на выдохшееся шампанское, по капле отдавали свое содержимое через иглу, воткнутую в безжизненную руку Куин.
Поскольку прикасаться к обожженному телу Куин было запрещено, ее нельзя было даже приподнять, чтобы подложить судно, приходилось часто ее подмывать, смазывать маслом и надевать на нее свежие памперсы – все это Брайд, не доверяя равнодушным рукам санитарок, делала сама так осторожно и нежно, как только могла. А еще она по частям обтирала тело Куин влажной салфеткой, стараясь, чтобы во время «мытья» все остальное было заботливо укрыто. Она не касалась лишь ее ступней – еще в тот вечер, когда Букеру удалось оживить Куин, он настоял на том, что сам будет ежедневно омывать их, словно причащаясь на Пасху и совершая акт величайшей преданности. Он относился к этой своей обязанности очень серьезно и сам подстригал Куин ногти на ногах, умащивал ее ступни питательным кремом и медленно, ритмично массировал их, используя особый лосьон с запахом вереска. То же самое он проделывал и с кистями ее рук, разминая и массируя ей пальцы. И все это время он молча проклинал себя за ту враждебность, которая возникла в его душе во время их с Куин последнего разговора.
Оба совершали эти омовения в молчании, только Брайд иной раз что-то тихонько напевала себе под нос, и эта тишина действовала на их души, как чудодейственный бальзам, столь им обоим необходимый. Они работали бок о бок, как настоящая семейная пара, и думали не о себе, а о том, как помочь другому человеку. Во всяком случае, для обоих было сущими мучением, если приходилось сидеть вместе с родственниками других пациентов в приемном покое и бездействовать, терзаясь непреходящей тревогой. Впрочем, не менее мучительным для них было и ощущение полной беспомощности при виде распростертого тела Куин. Они замечали каждое ее движение, каждый вздох и провели трое суток в напряженном ожидании, прерываемом лишь теми малыми действиями, с помощью которых пытались обеспечить ей хотя бы минимальный комфорт. И, наконец, Куин заговорила. Точнее, из-под кислородной маски донеслось нечто вроде хриплого, неразборчивого карканья. А уже ближе к ночи, когда с нее сняли маску, Куин прошептала:
– Я поправлюсь?
Букер улыбнулся.
– Конечно, поправишься! То есть вообще без вопросов! – И он, наклонившись, поцеловал ее в нос.
Куин облизнула пересохшие губы, закрыла глаза и крепко уснула. Даже стала похрапывать.
Утром в больницу вернулась Брайд, чтобы сменить Букера, он рассказал ей, что произошло, и они решили отпраздновать это великое событие совместным завтраком в больничном кафетерии. Брайд заказала овсянку, Букер – апельсиновый сок.
– А как же твоя работа? – вдруг спросил Букер, подняв бровь.
– Что именно тебя интересует?
– Я просто спросил, Брайд. Это обычный разговор за завтраком, понимаешь?
– Насчет работы ничего не известно. Да мне, в общем-то, все равно, что с ней. Ничего, другую найду.
– Вот как? Правда?
– Правда. Ну а ты? Так и будешь тут вечно торчать и лес валить?
– Может, и буду. А может, и нет. Вообще-то лесорубы на другое место переезжают после того, как лес вырубят.
– Ну что ж. А насчет меня ты не беспокойся.
– Но я все-таки беспокоюсь.
– С каких это пор?
– С тех пор, как ты кокнула пивную бутылку о мою голову.
– Мне очень жаль…
– Если честно, мне тоже.
Они посмеялись.
Вдали от больничной койки, испытывая облегчение в связи с тем, что Куин стало лучше, они, наконец, немного расслабились и теперь развлекались ничего не значащей болтовней, словно старые супруги.
Затем Букер, вдруг что-то вспомнив, щелкнул пальцами и вытащил из нагрудного кармана рубашки золотые сережки Куин. Их сняли, когда бинтовали ее обожженную голову. Все это время сережки в маленьком пластиковом пакетике лежали в ящике прикроватного столика.
– Возьми, – сказал Букер. – Она этими сережками всегда очень дорожила; ей было бы приятно, если бы ты поносила их, пока она не выздоровеет.
Брайд невольно коснулась своих мочек, нащупала в них неожиданно вернувшиеся дырочки и расплакалась от счастья, улыбаясь сквозь слезы.
– Дай-ка я. – Букер аккуратно вдел украшения ей в уши и сказал: – Хорошо, хоть серьги были на ней, когда дом загорелся. Там ведь совсем ничего не осталось. Ни писем, ни записной книжки, ничего. Все сгорело. Так что я даже матери позвонил и попросил ее связаться с детьми Куин.
– А она поддерживает с ними связь? – спросила Брайд, слегка вертя головой и с наслаждением чувствуя, как покачиваются в ушах золотые диски. «Значит, постепенно все возвращается? – думала она. – Почти все. Почти».
– Да, с некоторыми, – ответил Букер. – У нее дочка в Техасе учится. В медицинском. Ее легче всех будет найти.
Брайд помешала ложкой овсянку, попробовала, поняла, что каша совершенно остыла, и сказала:
– Куин говорила, что ни с кем из них больше не видится. Но деньги они ей присылают.
– У каждого своя причина, чтобы ее ненавидеть. Насколько я знаю, кое-кого из детей она сама бросила, когда в очередной раз замуж вышла. Она ведь много мужей сменила. И каждый раз то ли не хотела взять с собой детей, то ли не могла. Да и отцы прилагали все усилия, чтобы малыши ей не достались.
– Мне кажется, она все-таки очень их любит, – сказала Брайд. – У нее в домике их фотографии повсюду.
– Это да. Хотя тот гребаный ублюдок, который моего брата прикончил, тоже все свое логово фотографиями жертв увешал.
– Но, Букер, это ведь не одно и то же!
– Нет? – Он почему-то выглянул в окно.
– Нет. Куин любит своих детей.
– Они так не думают.
– Ох, прекрати это, – отрезала Брайд. – Хватит глупых споров о том, кто кого любит, отвратительный ты тип! – Она оттолкнула на середину стола плошку с овсяной кашей и отпила немножко апельсинового сока из его стакана. – Пошли. Надо снова к ней заглянуть, посмотреть, как там дела.
Остановившись по обе стороны от кровати Куин, оба страшно обрадовались, когда услышали ее голос. Она громко и внятно сказала:
– Это ты, Ханна? Да? – И Куин, тяжело дыша, в упор посмотрела на Брайд. – Подойди сюда, детка. Ты меня слышишь, Ханна?
– Кто такая Ханна? – шепотом спросила Брайд.
– Ее дочь. Та студентка-медичка.
– Значит, она думает, что я – ее дочь? Господи! Это все наркотики, которыми ее пичкают. От них все мозги набекрень.
– А может, наоборот? Может, они ей мозги как раз прочистили? – И Букер шепотом пояснил: – С Ханной все далеко не так просто. У нас в семье ходили слухи, что в свое время Куин то ли не обратила внимания на жалобы девочки – когда Ханна поведала, что ее папаша к ней пристает, – то ли вообще запретила говорить на эту тему. Не помню уж, кто он был, то ли азиат, то ли техасец, а может, и еще кто-то. В общем, Куин дочери не поверила. И с тех пор лед между ними так и не растаял.
– И она по-прежнему об этом думает.
– Не просто думает. Все гораздо глубже… – Букер сел на стул в ногах Куин, слушая ее настойчивые призывы, обращенные к Ханне, но теперь произносимые почти шепотом. – Знаешь, теперь, вспоминая эту историю, я начинаю понимать, почему Куин тогда велела мне не отпускать Адама и всеми силами его удерживать.
– Но ведь Ханна-то не умерла!
– В какой-то степени, наверное, умерла – по крайней мере, для матери. Ты же видела, сколько фотографий у нее на стене. Почти вся целиком, сверху донизу, занята. Для нее это вроде как перекличка детей. Хотя на самом деле там почти все – фотографии Ханны. Младенцем, подростком, выпускницей школы, во время получения каких-то наград… Больше, пожалуй, на мемориал похоже.
Брайд обошла кровать, встала за спиной у Букера и принялась массировать ему плечи.
– А я думала, на фотографиях все ее дети, – сказала она, – не только дочь.
– Да, там есть фотографии всех. Но правит там Ханна. – Букер прислонился затылком к животу Брайд, чувствуя, как невероятное напряжение, которого он в себе даже не подозревал, начинает отступать, растворяться.
В последующие несколько дней Куин – к великой радости Букера и Брайд – не только пришла в себя, но и вроде бы даже начала понемногу выздоравливать, хотя ее сознание по-прежнему оставалось затуманенным. Она уже и есть стала самостоятельно, и охотно со всеми разговаривала, вот только речи ее было трудно понять; они, казалось, состояли из одних только географических названий – перечислений тех мест, где она когда-то жила, – и незначительных историй, связанных с Ханной и адресованных ей.
Еще больше Брайд и Букер обрадовались, когда лечащий врач сказал, что общее состояние Куин значительно улучшилось. Они даже немного расслабились и начали прикидывать, как им быть, когда женщину выпишут из больницы. Может быть, подыскать такое жилье, где им троим хватило бы места? Например, какой-нибудь большой дом на колесах? Во всяком случае, оба, не вдаваясь в подробности, сразу решили, что до тех пор, пока Куин не сможет сама о себе заботиться, они будут жить с ней вместе.
Однако вскоре их радужные планы насчет ближайшего будущего стали постепенно мрачнеть и меркнуть. Зато разноцветные линии на экране над койкой Куин начали скакать то вверх то вниз, и их резкие прыжки то и дело сопровождала музыка звонка дежурной медсестре. А затем поспешно приходил и врач. Букер и Брайд, затаив дыхание от ужаса, следили, как у больной неуклонно падают показатели крови на фоне постоянного повышения температуры тела. Организм Куин явно атаковал зловредный больничный вирус, такой же пронырливый и всеядный, как и то пламя, что уничтожило ее дом. Сперва она металась на подушке, потом вдруг высоко подняла руки и застыла в этой странной позе, словно вцепившись согнутыми, как когти, пальцами в перекладины лестницы, которую только она одна и могла видеть. Женщина будто поднималась по этой лестнице все выше и выше. А потом все это прекратилось.
Через двенадцать часов Куин была мертва, но один ее глаз еще оставался открытым, так что Брайд засомневалась в ее смерти. Букер сам закрыл этот ничего уже не видящий глаз. И зажмурился, точно от сильной боли.
* * *
Три дня они ждали, когда можно будет получить прах Куин, и все это время спорили, какую лучше выбрать урну. Брайд хотелось элегантный сосуд из бронзы; но Букер считал, что лучше какой-нибудь естественный материал, более благоприятный для окружающей среды и способный впоследствии обогатить почву. Но выяснилось, что на расстоянии по крайней мере тридцати пяти миль и от трейлера Куин, и от самой деревни нет не только ни одного кладбища, но и ни одного подходящего местечка, где можно было бы захоронить урну, и тогда они решили отнести коробку с прахом к ручью и развеять ее содержимое над водой. Букер выставил лишь одно требование: он сам, один, сделает все необходимое, а Брайд пусть подождет его в машине. Она согласилась и, охваченная тревогой, внимательно следила за ним, пока он шел к ручью, правым локтем прижимая к себе картонку с прахом, а в левой руке держа свою трубу. Она смотрела Букеру вслед и думала о том, как сильно они сблизились за эти несколько дней, решая, как им жить дальше и думая не столько о себе, сколько о ком-то третьем, кто был дорог им обоим, кого они оба очень любили. – «Что же будет теперь, – думала Брайд, – когда мы с ним снова остались вдвоем? По-прежнему ли мы вместе?» Ей совсем не хотелось расставаться с Букером, она желала бы всегда жить с ним, но тем не менее была уверена: если уж ей и придется с ним расстаться, то в итоге все будет нормально. Ну а насчет будущего… Ничего, она и с этим как-нибудь справится.
Хотя Букер и продумал заранее всю церемонию в честь своей любимой Куин, осуществить это должным образом ему все же не удалось. Во-первых, прах оказался каким-то комковатым, так что развеять его толком не удалось; во-вторых, его музыкальное подношение Куин – он попытался сыграть что-нибудь из «Kind of Blue»[48] – прозвучало на редкость фальшиво и без малейшего вдохновения. Не доиграв, Букер, объятый такой печалью, какой не испытывал со дня похорон Адама, швырнул трубу в серую воду ручья, словно это она оказалась во всем виновата и так сильно его подвела. Несколько минут он смотрел, как трубу уносит водой, потом сел на траву и закрыл лицо ладонью здоровой руки. Мысли в голове едва шевелились, словно мертвые. Букеру никогда даже в голову не приходило, что с Куин может что-нибудь случится, что она может умереть. Даже в больнице, заботливо ухаживая за ее ступнями и чутко прислушиваясь к ее дыханию, он думал не о ней, а о своей жизни, о своих тревогах и неприятностях. О том, что жизнь его теперь разорвана в клочья, что именно ему придется заботиться о тетке, которую он, впрочем, всегда обожал и которая взяла и умерла из-за собственной беспечности и неосторожности – кто, черт возьми, в наше время выжигает клопов из пружинного матраса бензином? А как ему, и без того попавшему в затруднительное положение, теперь быть с этой неожиданно вернувшейся женщиной, с которой когда-то было так хорошо и которая тогда казалась ему какой-то одномерной? И вот за невероятно короткий промежуток времени она ухитрилась совершенно перемениться и предстала перед ним практически в трех измерениях сразу, неожиданно проявив и требовательность, и чрезвычайную восприимчивость, и полнейшее бесстрашие. – «А с чего я, собственно, решил, – продолжал терзать себя Букер, – что я так уж хорошо умею играть на трубе? Что я достаточно талантлив, чтобы своей игрой почтить память этой замечательной женщины? Разве моя игра способна стать языком памяти, рассказать о счастье или утрате? Как же далеко унесла меня полученная в детстве травма от берегов и течений реальной жизни!» Непролитые слезы жгли Букеру глаза, но заплакать он так и не сумел.
А останки Куин, гонимые ветерком, в кои-то веки сюда залетевшим, уплывали все дальше по течению. И небо, слишком хмурое, чтобы сдержать обещание и послать хотя бы немного солнечного света, вместо этого обрушивало на землю тяжелую, влажную жару. Охваченный чувством невыносимого одиночества и глубочайшего раскаяния, Букер встал и присоединился к Брайд, терпеливо ожидавшей его в «Ягуаре».
В машине царило непроницаемое и какое-то невероятно жестокое молчание – возможно, потому что у обоих не нашлось ни слез, ни сколько-нибудь достойных слов. Собственно, важным в данный момент было только одно. Одна-единственная вещь.
И Брайд, глубоко вздохнув, все же решилась первой нарушить это гробовое молчание. «Сейчас или никогда», – думала она.
– Я беременна, – произнесла она внятно и спокойно, глядя прямо перед собой на хорошо укатанную, присыпанную гравием дорогу.
– Что ты сказала? – Голос у Букера невольно дрогнул.
– Ты же прекрасно слышал. Я беременна. У меня будет ребенок, и он твой.
Букер долго смотрел на нее, потом отвернулся и стал глядеть в сторону ручья, где по воде, наверное, все еще плыл прах Куин, а вот труба, конечно, уже утонула. Одну погубил огонь, вторую – вода; и обе они, те, кого он так сильно любил, от него ушли. Не может же он потерять и третью, последнюю. Слабый призрак улыбки изогнул его губы, когда он, резко повернувшись, вновь посмотрел на Брайд и сказал:
– Нет, он наш.
И протянул ей руку, ту самую руку, о которой она столько мечтала; ради этой руки ей не нужно было лгать, ибо это была рука доверия, рука заботы и нежности – а ведь сочетание всех этих вещей и называют истинной любовью. Брайд погладила Букера по ладони, переплела свои пальцы с его пальцами, и они обменялись легким, невинным поцелуем, а потом, наконец, позволили себе откинуться на спинки автомобильных кресел, покрытых мягкой шкурой, дать позвоночнику отдых и немного расслабиться. Глядя прямо перед собой в ветровое стекло, каждый из них пытался представить, каким же на самом деле окажется их будущее.
Мимо них не прошел никто из детей – ни с удочкой, ни гуляющих просто так. И никто из детей не видел, как эти странные взрослые, сидя рядом в пыльном сером автомобиле, с улыбкой смотрят вдаль. Но если бы все же хоть один ребенок прошел мимо, он наверняка заметил бы, как сияют лица этих странных взрослых, как мечтателен их взгляд, хотя ему, конечно, было бы невдомек, отчего эти мужчина и женщина светятся счастьем.
Ребенок. Новая жизнь. Он будет невосприимчив к злу или болезням, защищен от киднепинга и расизма, избавлен от побоев и насилия, от оскорблений и увечий, от ненависти к себе, от чувства одиночества и заброшенности. Он не совершит их ошибок. Он станет воплощением добродетели, и ему не будут свойственны вспышки гнева.
Так им обоим казалось.
Я предпочитаю это место – Уинстон Хаус – частным загородным лечебницам, таким дорогим и чересчур просторным. Наша маленькая больница вся такая домашняя, уютная; и потом, она гораздо дешевле, да и здешние сиделки двадцать четыре часа на посту, а доктор обязательно дважды в неделю каждого навещает. Мне всего шестьдесят три – пожалуй, маловато, чтобы травку на пастбище щипать, – да вот прицепилась ко мне какая-то гнусная ползучая болячка, от которой все кости ноют, так что теперь хороший уход мне, можно сказать, жизненно необходим. Только скучно здесь. Скука вообще оказалась гораздо хуже слабости или боли. А впрочем, здешние сестрички очень милы. Вот сегодня одна радостно чмокнула меня в щеку и от души поздравила, когда я сообщила ей, что скоро стану бабушкой. Она так мне улыбалась и так меня поздравляла, словно я вот-вот королевой стану.
Я показала ей записку на голубом листочке, которую мне Лула Энн прислала – ну, подписалась-то она «Брайд», но я на это никогда особого внимания не обращала. У меня даже голова слегка закружилась, когда я ее письмецо прочитала. «Догадайся, Свитнес, зачем я тебе пишу и отчего я так счастлива? С превеликой радостью сообщаю: у меня будет ребенок! Я прямо-таки невероятно взволнована и пребываю в полном восторге. Надеюсь, что и ты этому событию рада». Хотелось бы думать, что ее волнение все-таки связано с будущим ребенком, а не с его отцом, потому что об отце она вообще не упоминает. Интересно, он такой же черный, как она? Если да, то ей незачем беспокоиться; во всяком случае так, как беспокоилась я. Впрочем, со времен моей молодости все несколько переменилось. Такие иссиня-черные, как Лула Энн, теперь повсюду – и в телевизоре, и в модных журналах, и в коммерческих; даже в кино некоторые звезды темнокожие.
На конверте обратного адреса не было, и я догадалась, что Лула Энн по-прежнему считает меня плохой матерью и будет до самой моей смерти наказывать меня за то, как я обращалась с ней в детстве. А ведь на самом деле действовала я исключительно из благих побуждений и, по-моему, воспитала ее именно так, как надо. Я знаю, конечно, что она меня ненавидит. При первой же возможности она от меня уехала, и я осталась совершенно одна в этой ужасной квартире. И уж она постаралась убраться как можно дальше. Потом стала вовсю наряжаться, получила какую-то классную работу в Калифорнии… Когда в последний раз я ее видела, она выглядела так хорошо, что я даже позабыла, какого цвета у нее кожа. И все же отношения наши сведены к тому, что она просто регулярно присылает мне деньги. И я, надо сказать, очень ей за это благодарна, потому что мне никого ни о чем не приходится просить, не то что некоторым другим пациентам. Например, понадобится мне новая колода карт для солитера, и я запросто могу сама ее купить, а не мучиться, пользуясь старой потрепанной колодой, что лежит у нас в гостиной. Или попрошу кого-нибудь из сиделок купить мне мой любимый крем для лица. Только меня не обманешь. Я ведь прекрасно понимаю, что деньги Лула Энн присылает для того, чтобы самой не приезжать. По-прежнему предпочитает держаться от меня подальше. А заодно старается с помощью денег приглушить слабенький голос совести, если она, конечно, у нее еще осталась.
Если в моих словах и слышится раздражение или даже неблагодарность, то причиной тому – по крайней мере отчасти – мучительные сожаления, что таятся у меня в глубине души. Да, я о многом сожалею. Даже о тех мелочах, которых я для Лулы Энн не сделала или даже сделала, но неправильно. Я, например, хорошо помню, как отвратительно с ней поступила, когда у нее впервые пришли месячные. И как сердито я на нее кричала, когда она спотыкалась или случайно что-то роняла. А уж как я на нее орала, требуя, чтобы она ни коем случае не болтала насчет нашего квартирного хозяина – хотя он, сволочь такая, действительно гад распоследний! Не скрою, я страшно расстроилась, увидев, какой Лула Энн на свет появилась – она была такая черная, что мне к ее коже и прикоснуться было противно. И вначале я даже подумывала… Да нет, чего теперь об этом вспоминать. Надо поскорей прогнать эти мысли – все равно они уже никакого значения не имеют. Я ведь знаю, что сделала для нее все, что было в моих силах при сложившихся обстоятельствах. Когда мой муж сбежал и самым подлым образом нас бросил, Лула Энн и впрямь стала для меня тяжкой обузой. Но я все-таки выдержала и со всем очень даже неплохо справилась.
Да, я была с ней жестока. Это точно. А как же иначе? После суда над учителями-извращенцами на Лулу Энн внимание так со всех сторон и посыпалось; даже я с трудом с ней справлялась. А уж когда ей пошел тринадцатый год, мне и вовсе пришлось взять ее в ежовые рукавицы. Она то и дело огрызалась, капризничала, отказывалась есть то, что я приготовила, и вечно со своими волосами возилась, так и эдак их причесывала. Бывало, заплету я ей косы, а она по дороге в школу возьмет и расплетет их. Но я никак не могла допустить, чтобы она по дурной дорожке пошла. Вот я и стала все подряд ей запрещать. Да еще и предупредила, какими словами ее будут обзывать, если она эту дорожку выберет. Теперь-то, наверно, мои уроки у нее совсем из памяти выветрились, а все же они ей на пользу пошли. Вы бы посмотрели, какова она теперь! Такая красивая, хорошо обеспеченная девушка, сделавшая отличную карьеру. Неплохо, да?
И вот теперь она ждет ребенка. Ну что ж, отличный ход, Лула Энн! Только если ты думаешь, что для того, чтобы стать хорошей матерью, достаточно нежно ворковать над младенцем, вязать ему пинетки и менять подгузники, то тебя ждет большое разочарование. Очень большое. Ты и твой безымянный бойфренд – или муж, или любовник, да кто угодно! – совершенно напрасно вообразили себе, что все будет ути-пути-кис-мяу!
Послушай меня. Очень скоро тебе предстоит узнать, как много нужно, чтобы быть настоящей матерью для своего ребенка. Став родителями, вы будете заново искать место в окружающем мире, ибо этот мир сильно изменит свое отношение к вам, да вы и сами будете уже другими.
Удачи тебе, и пусть Господь хранит твое дитя.
1
Sweetness (англ.) – сладость; здесь: милая, любимая. – Здесь и далее примечания переводчика.
2
«Детка, почему ты так ко мне относишься? Я же сделаю все, что ты скажешь, пойду, куда ты велишь» (англ.).
3
Песня Уитни Хьюстон; авторы Джордж Меррилл и Шэннон Рубикэм; главные слова припева: «Я хочу танцевать с кем-то / с кем-то, кто любит меня…»
4
Bride (англ.) – невеста.
5
То есть вместо «Эй, девушка!» будет «Ф-фуу, девушка!».
6
Американская компания, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью.
7
Английская медсестра (1820–1910); организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны 1853–1856 гг.; создательница системы подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании.
8
Здесь: «полноценное существо» (англ.).
9
Или «шовелборд», игра, в которой толкают деревянные или металлические диски по размеченной поверхности.
10
Вид азартной игры, напоминающей лото.
11
Чарльз Мэнсон – безумный маньяк, возомнивший себя пророком; в 1969 г. он и его последователи совершили в США серию жестоких убийств, в частности была убита молодая беременная актриса Шэрон Тейт. О Мэнсоне был снят фильм «Девочки Мэнсона», режиссер Сусанна Ло.
12
Человек, носящий множество дешевых украшений (сленг). Здесь: вечеринка с веселой музыкой.
13
Уильям Хауард Гасс (Гэсс) – американский писатель, теоретик литературы. Ему свойственна язвительная ирония и склонность к эксперименту, особенно ярко проявившаяся в сборнике повестей «В самом сердце страны» (1968). Известен также своими философско-эстетическими работами о творчестве Х.Л. Борхеса, В.В. Набокова, Д.Г. Лоуренса.
14
Фред Роджерс (1928–2003) – американский педагог и пресвитерианский проповедник, ведущий и создатель популярного детского телешоу «Наш сосед мистер Роджерс».
15
Джейн Остин (1775–1817) – английская писательница; особую известность ей принесли романы «Чувство и чувствительность» (1811) и «Гордость и предубеждение» (1813), а также пародия на готический роман «Нортенгерское аббатство» (1798), опубликованный в 1818 г.
16
Intercourse (англ.) – половой акт, совокупление.
17
No Name – безымянный.
18
Hell – ад.
19
Elephant Butte – слоновья задница.
20
Pig – свинья.
21
Tightwad – скряга.
22
Нина Симон (Юнис Кэтлин Уэймон) (1933–2003) – чернокожая американская певица, пианистка, композитор; в своем творчестве сочетала джаз, соул, госпелы, блюзы и поп-музыку.
23
Снова говорящие имена: Raisin (англ.) – изюм; Rain (англ.) – дождь.
24
«Эта страна твоя, эта страна моя…» – песня Вуди Гатри (настоящее имя Вудро Уилсон) (1912–1967), американского певца и композитора, автора более 1000 собственных песен (преимущественно в стиле кантри) и баллад, а также обработок народных песен.
25
Набор аббревиатур: доктор медицины, доктор философии, доктор юридических наук, ДДТ, компания «ОМБ», производящая бойлеры.
26
Silky (англ.) – шелковистая.
27
Адам Смит (1723–1790) – шотландский экономист и философ, один из основоположников современной экономической теории.
28
Милтон Фридмен (1912–2006) – американский экономист, лидер монетаризма в политэкономии. Выдвинул монетарную теорию национального дохода и новый вариант количественной теории денег; Нобелевская премия 1976 г.
29
От «Джим Кроу», песни, исполняемой Томасом Райсом (1808–1860), негритянским менестрелем; «джимкроу» – оскорбительное нарицательное название негров в США; «джимкроуизм» – с конца девятнадцатого века система дискриминационных расистских мероприятий и традиций в отношении негритянского населения.
30
Альбом джазовых композиций Л. Армстронга, 1968 г.
31
В алфавитном порядке это выглядит так: Adam, Booker, Carole, Donovan, Ellie, Favor, Goodman.
32
Queen (англ.) – королева.
33
Sexually stimulated slaughter (англ.) – убийство по сексуальным мотивам.
34
«We are the World» (2010) – благотворительный сингл супергруппы из 45 американских артистов, призывающих объединиться для помощи голодающим Африки. Песня написана Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи в жанре госпела.
35
Автор этого произведения – американский саксофонист и кларнетист Сидней Беше (1897–1959), один из пионеров джаза, выдающийся исполнитель новоорлеанского и чикагского стилей.
36
Академический журнал, основанный в 1955 г. как замена для слушаний американской Академии искусств и науки.
37
Trailrunning (англ.) – «бег по тропам»; спортивная дисциплина, бег по природному рельефу.
38
Dinner-and-dancing (англ.) – «обед-и-танцы».
39
Маленькая группа музыкантов (сленг).
40
Сформированная в 1972 г. группа Брюса Спрингстина (р. 1949), культового американского рок– и фолк-музыканта и автора песен; лауреата премии «Грэмми» за лучшую песню к кино– и телефильмам.
41
Уинтон Марсалис (р. 1961) – американский композитор и трубач, художественный руководитель Джазового Линкольн-центра; лауреат премии «Грэмми» за лучшее импровизированное джазовое соло.
42
Чернокожие американские джазмены-трубачи: Дональд Бёрд (1932–2013), профессиональный музыкант, знаменитый исполнитель блюзов и соулов; Фредди Хаббард (1938–2008), известен с 1960-х гг.; Блу Митчелл (1930–1979), известен с 1950-х гг., исполнял джаз, блюзы, соулы, рок.
43
Курительный кокаин (сленг).
44
«Remembering Slavery» (1999) – сборник, где авторы, Ира Берлин, Марк Фавро, Стивен Ф. Миллер, берут интервью у более 100 бывших рабов, и те рассказывают о своем личном опыте рабства и свободы. Сборник выпущен в честь 25 марта, национального дня поминовения в США жертв рабства и работорговли.
45
Вальтер Беньямин (1892–1940) – немецкий эссеист, литературный и художественный критик, переводчик сочинений Ш. Бодлера и М. Пруста, автор трактата «Происхождение немецкой трагедии». С 1933 жил в эмиграции в Париже; покончил с собой во время бегства из оккупированной Франции.
46
Фредерик Дуглас (1817–1895) – американский аболиционист, публицист, выступавший за вооруженную борьбу с рабством; один из создателей «подземной железной дороги» и первых негритянских полков во время Гражданской войны в США.
47
Песня Гарольда Арлена «Stormy Weather», которую исполнял как сам автор, так и Этель Уотерс, Этта Джонс, Билли Холлидэй и другие.
48
«Kind of Blue» (1959) – студийный альбом Майлза Дэвиса (1926–1991), американского джазового трубача, оказавшего значительное влияние на развитие музыки XX в., особенно разнообразных стилей и направлений в джазе.