Книга: Жаркие горы
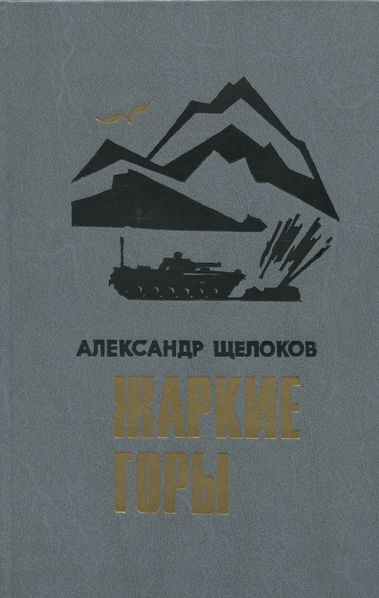
Жаркие горы
ПАКИСТАН.
УРОЧИЩЕ ЛЭВВКАНДА. ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В тамбуре штабного домика раздалось металлическое лязганье. Сработал привод электромагнитного замка. Обычно полковник Каррингтон сам открывал дверь тем, кто посещал его. Для этого не требовалось вставать — достаточно протянуть руку, нажать кнопку, и привод сработает.
Чтобы открыть дверь с улицы, следовало на пульте у входа набрать цифры кода. В целях безопасности их регулярно меняли. Любая ошибка в наборе вызывала сигнал тревоги. Если он не прозвучал, значит, вошел свой.
Тем не менее Каррингтон захлопнул лежавшую перед ним папку с документами и приоткрыл ящик стола, в котором хранил пистолет. Сделал это не из-за боязни, а в силу многолетней привычки. Общаясь с публикой, с которой его сводила служба, приходилось всегда соблюдать осторожность.
В кабинет вошел шифровальщик базы уоррент-офицер Клей с синей пластиковой папкой в руке.
— Телеграмма, сэр, — доложил он и лихо щелкнул каблуками. — Срочная. Открытым каналом.
Каррингтон задвинул ящик, взял в руки папку. Вынул форменный бланк телеграммы. Стал читать.
«Срочная первой очереди. Доктору Каррингтону.
Дела по управлению фермой передайте доктору Фреду Томпсону. Без задержки возвращайтесь в университет. Получение телеграммы подтвердите.
Еще раз пробежав глазами текст, Каррингтон закрыл корочки папки. Поднял голову на шифровальщика.
— Чего это им пришла блажь посылать предписание открытым каналом?
— Так быстрее, сэр, — доложил уоррент-офицер без особых эмоций. — Закрытые каналы забиты шифрованной чепухой.
— Брауну явно не хватило юмора, — заметил Каррингтон, — иначе бы он подписался «профессор». Я думаю, Гарри, генерал-майор может позволить себе такое?
— Не знаю, сэр, что может позволить себе генерал-майор Браун. Ежедневно я читаю все телеграммы, но в мои обязанности не входит выяснять, что в них так, что не так.
— Ценю твою сдержанность, Гарри. Если получу назначение на банановую ферму поближе к дому, вызову тебя. Поедешь?
— Благодарю вас, сэр.
— Вот и отлично, Гарри. А теперь скажи, когда ждать гостя?
— Доктор Томпсон прибывает сегодня в девять по местному. Из Пешавара его довезут до контрольного поста на машине Центра.
— Я встречу полковника Томпсона, — сказал Каррингтон. — Или доктора, как нам сообщили.
Час спустя он уже ехал к назначенному месту. Автомобильная магистраль, построенная со всей капитальностью, прорезая каменистые кряжи, минуя степные пространства, по которым ветер гонял кусты колючек, шла на восток от афганской границы.
Солнце палило. Встречный ветер обдавал жаром кузницы. Губы мигом пересыхали и трескались.
Водитель, словно стараясь укоротить время пытки, гнал машину на бешеной скорости. Тяжелый лендровер летел вперед так, будто пытался оторваться от собственной тени.
Будь пассажир понаивней, он наверняка бы задумался: кому и зачем в столь глухих местах понадобилось сооружать такую классную дорогу? Но Каррингтон был человеком искушенным. Он знал: в этом краю все подчинено богу войны. А поскольку сам Каррингтон уже двадцать лет служил этому идолу, он ясно представлял, что на такое дело обычно не жалеют ни денег, ни материалов.
На встречу с Фредом Томпсоном Каррингтон ехал с радостным чувством. Наконец он оставит этот унылый, опостылевший нищетой и нудностью край, отрезанный от дома временем и расстоянием. Было приятно снова встретить однокашника, с которым они бок о бок занимались шагистикой в военной академии и в один день получили офицерские погоны.
Когда лендровер Каррингтона подкатил к контрольному посту, перекрывавшему шоссе шлагбаумом, возле будки охраны уже стоял черный потасканный лимузин. Рядом прохаживался Томпсон. Каррингтон сразу узнал его.
Время, в течение которого они не встречались, мало изменило Фреда. Перед Каррингтоном стоял мужчина лет сорока, высокий, поджарый, но с крепкой, широкой костью. Вытянутое, с резкими, грубоватыми чертами лицо, отливающие медью волосы, постриженные коротким ежиком; глубоко посаженные стальные глаза, брови вразлет, приплюснутые уши профессионала борца придавали ему вид энергичный и мужественный. В уголках губ залегли глубокие прямые складки, подчеркивавшие отчужденность и жестокость характера.
— Салют, Фред!
Каррингтон едва не ляпнул вертевшееся на языке слово «фрод» — мошенник. Так однокашники, выпускники Вест-Пойнта, в своем кругу за глаза звали Томпсона, тем самым отдавая дань его деловым качествам.
— Салют, Фред! С благополучным прибытием! Не печалься, если ваши места тебе не показались. Поживешь и поймешь — здесь райский уголок.
— Салют, Бен! — Широко улыбаясь, Фред протянул лапищу и тряхнул руку приятеля. — Ты все шутишь. Или это от радости, что уезжаешь?
— Рад тебя видеть, старый дьявол, — не отвечая на вопрос, сказал Каррингтон и похлопал Томпсона по широкой костистой спине. — Подожди минуту. Ахмед перегрузит твои вещи в мой танк, и мы отпустим твою колымагу.
— Стоит ли возиться? Давай я сяду к тебе, а чемоданы сгрузим уже на месте.
— Извини, старина, предложение не проходит. В рай, как известно, есть только вход. Лишь ангелы имеют право передвигаться туда и обратно. Твой водитель, судя по его физиономии, не ангел, а обычный фрод.
Произнеся это, Каррингтон ощутил облегчение. Он все же вставил в разговор слово, которое с утра вертелось на языке.
— Мошенник не мошенник — откуда мне знать? — сказал Фред мрачно. — Такого дали в Центре. Там-то, надеюсь, люди проверенные?
— Не знаю, сэр! — шутовски ответил Каррингтон. Он был возбужден, радостей и не скрывал своего состояния. Два года торчания в подлой дыре для него благополучно кончались. — В Центре могут быть всякие. А вот в раю работают только люди серьезные. Я имею в виду, сэр, что они работают под вашим руководством.
Фред засмеялся.
— Узнаю твои шутки, Бен. И чем ты веселее, тем у меня больше желания посмотреть на то, как ты тут тратишь денежки американских налогоплательщиков.
— Сэр, — сразу став серьезным, ответил Каррингтон, — я не трачу здесь денег. Я вкладываю их в полезное дело. Значит, сберегаю.
Он повернулся к шоферу:
— Ахмед! Перекинь «золотой запас» полковника Томпсона в наш танк.
— Старина, — сказал Фред, — ты ведь не случайно второй раз называешь свой драндулет танком. С чего бы это?
— Чтобы ты сразу вник в традиции райского уголка. Генерал Зия Нур до моего приезда сюда проводил по всем отчетам эту машину как танк. А танк кому-то продал.
— Всего один танк? — спросил Томпсон скептически. — Это немного. Я сталкивался, когда их продавали десятками.
По дороге в лагерь они не говорили о службе. Полчаса езды — время небольшое, и промолчать его для людей, которые привыкли вести откровенные беседы только с глазу на глаз, трудности не составляло.
Лагерь специального назначения располагался в долине, окруженной облезлыми каменистыми взгорьями. Со всех сторон его обтягивала густая паутина колючей проволоки. Торчали мрачные вышки, на которых были установлены прожекторы и пулеметы. Белели щиты с предупредительными надписями на арабском.
У въездных ворот стояли охранники в шлемах военной полиции. Когда подъехала машина, они подчеркнуто засуетились, забегали. Открыв ворота, замерли в почтительном окостенении.
Лендровер, пропылив по накатанной колее к штабному домику, остановился.
Томпсон по-юношески легко выскочил из машины. Размял плечи. Огляделся. Сразу заметил чистоту территории. Это было хорошим признаком. Значит, Каррингтон поддерживал здесь строгую дисциплину, и сразу браться за рутинные мелочи порядка ему не придется.
Возле домика виднелись вкопанные в землю железные бочки с позеленелой водой — на случай пожара. За линией бараков в мареве зноя зыбко колыхались очертания дальних гор. С севера за колючей проволокой простиралась бесплодная степь. Она уходила к горизонту, где без всякой видимой черты сливалась с серым небом. На западе, среди скал, просматривалось здание радиолокационной станции. Антенны радара лениво колыхались, вслушиваясь в шумы безбрежного неба.
— Унылый вид, не так ли? — спросил Каррингтон, проследив за движением глаз Томпсона.
— Я привык к подобным местам, — ответил тот и провел рукой по ежику медных волос. — Главное везде сходится — эта колючая проволока, бараки, радары. А сельва, джунгли или пустыня вокруг тебя — это второстепенное.
Каррингтон взглянул на Томпсона, пытаясь понять, не прикрывает ли тот растерянность показным оптимизмом. Но удивился, заметив оживленные, посветлевшие глаза Фреда. Старому боевому скакуну новое седло явно доставляло удовольствие. Или он делал какую-то ставку в своей карьере на эти края?
— Молодец, старина, — похвалил Каррингтон однокашника. — По виду ты не обескуражен. Настоящий милитарист.
— Осторожней, Бен! — сказал Томпсон. — Как бы я тебя после таких слов не зачислил в красные.
— Бог ты мой, какой ужас! — притворно охнул Каррингтон. — Объясни почему.
— Есть анекдот. По гарнизону идет дивизионный генерал. Солдаты глядят ему вослед. Один говорит: «Вот сволочь, придира. Милитарист проклятый!» А тут проходит сержант: «О чем речь, парни?» — «Мы, сэр, спорим: как лучше отличить красного?» — «Очень просто, ребята. Вон кто там пошел?» — «Командир дивизии». — «Верно. Но это для вас, честных парней. А для каждого красного он сволочь и проклятый милитарист».
Каррингтон вежливо посмеялся. Анекдот, прибывший транзитом из Штатов, имел по меньшей мере двадцать лет армейской выслуги. Но не посмеяться было бы невежливо.
Они прошли к коттеджу.
Каррингтон набрал код, открыл дверь и пропустил гостя вперед. Потом осторожно, стараясь не хлопать, повернул ручку дверного замка.
После улицы в помещении казалось студено, как в подвале бомбоубежища. Тихо шипел японский кондиционер. Сквозь прикрытые жалюзи в комнату сочилось солнце. Светлыми полосами оно причудливо расчерчивало большой красный ковер, покрывавший пол.
— Прошу, — сказал Каррингтон и радушным жестом обозначил Фреду дорогу. — Надеюсь, здесь не так жарко. Это теперь твой офис. Если, конечно, ты его не перенесешь. Располагайся. Удобства стандартные. Можешь воспользоваться.
— Не премину, — сказал Фред и скрылся за небольшой дверью.
Через несколько минут он вышел оттуда освеженный, сияющий. Пройдя к столу, на котором уже стояли бутылки и фрукты, он с размаху рухнул в глубокое мягкое кресло. Положил свободно руки на подлокотники, откинул голову на спинку.
Каррингтон налил стакан минеральной воды и пододвинул его гостю.
— Прошу. Остальное по твоему усмотрению. А пока поясни мне, что за цирк у нас в Белом доме. Сидя здесь, трудно понять, зачем позволяют старому ковбою так лихо вольтижировать на скаку. Он, по мне, и раньше не казался мудрецом, а сейчас так и вовсе выглядит дурачком.
— Боишься, Рони подпишет с красными договор?
— Ну, такого мне и на ум не приходило. Просто бывает обидно видеть, как он глупо подставляется на пустяках. Неужели те, кто рядом, не видят, что он живет в выдуманном мире?
— Еще в каком! — заметил Томпсон. — Недавно он рассказал журналистам анекдот из жизни Советов — рухнешь.
— Он их часто рассказывает.
— Этот был особо симптоматичный. Точнее, клинический.
— Не интригуй.
— Дело якобы происходит в современной Москве. Ночная темень. Близится комендантский час. Солдат с автоматом кричит прохожему: «Стой!» Тот не останавливается, а бежит. Солдат стреляет. Человек падает. «Зачем стрелял? — говорит офицер. — Этот тип до комендантского часа мог дойти до дому». «Не смог бы, — отвечает солдат. — Я знаю, он далеко живет».
— Ты меня разыгрываешь!
— Ни в малой степени.
— Тогда красным остается пошире распространить этот анекдот о себе, и от Рони ещё долго будет дурно пахнуть.
— Ты явно на стороне красных, Бен. Не потому ли, что сам служил в Москве?
— В Москве, но не ей. За то и был изгнан оттуда. Так что я чист, старина. Но нам все труднее строить из себя миролюбцев. Это факт. И адрес у империи зла может смениться.
— Не будь таким пессимистом. Я считаю, что ребята со старшего курса обмозгуют проблему.
Каррингтон улыбнулся. Он знал, кого имел в виду Фред. Многие их однокашники, правда со старшего курса, уже стали генералами и пополнили штат Пентагона и ЦРУ. Уж они-то не позволят никому — ни президенту, ни конгрессу — пройтись карандашом по штатному расписанию штаба войны. Ребята со старшего курса, в это Каррингтон верил твердо, скорее пойдут на локальный конфликт, организуют бросок морской пехоты на чужое побережье, дадут своей стране возможность потерять каких-нибудь пять — десять тысяч парней, чем разрешат за ненадобностью сократить на сто генералов штаты штабов и дивизий.
— Что касается старого ковбоя, — сказал Томпсон, — за него нам стоит держаться. Уйдет он, и мы, поверь, будем вспоминать его время как золотые деньки.
— Мне трудно возразить или поддержать тебя. В этой дыре масштабы видятся искаженными. Я как каменщик, который кладет стену, но не представляет, каким видит дом архитектор.
— Зачем кокетничать? Я не поверю, будто Бенджамен Каррингтон просто кладет стену. На своем участке он и архитектор и каменщик.
— Спасибо, Фред. Тем не менее я здесь не информирован о многом. Более того, многие вольты нашего ковбоя отсюда выглядят неожиданными и непонятными взбрыками.
— Это нюансы. Старик блажит, это верно. Он — рамоли́к. Но главное — противостоять русским, не делать им уступок, ни с чем не соглашаться — он вызубрил наизусть и помнит даже во сне.
— Посмотрим, посмотрим…
Каррингтон подошел к окну. От узла связи по дорожке к штабу шел шифровальщик. На этот раз он нес в руке черный чемоданчик, притороченный к запястью стальной браслеткой. Каррингтон поморщился. Обычно шифровки, поступавшие во второй половине дня, ничего хорошего не предвещали.
Он сам открыл дверь уоррент-офицеру и пропустил его в кабинет.
— Гарри, это полковник Томпсон. Новый шеф нашей плантации.
Клей щелкнул каблуками и почтительно склонил голову. Только после этого он раскрыл чемоданчик и передал Каррингтону телеграмму.
— Могу идти? — спросил он разрешения.
— Да, Гарри, идите. Каррингтон развернул телеграмму.
«Молния.
Совершенно секретно.
Только полковнику Каррингтону.
По прочтении уничтожить. В связи с началом вывода красными полков из Афганистана в регионе может возникнуть новая ситуация. Предлагаю срочно разработать меры для стабилизации положения. Продумайте, как воспрепятствовать уходу красных. Доложите для утверждения. Получение подтвердите.
Каррингтон протянул бумажку Томпсону:
— Красиво сформулировано, верно?
Томпсон отодвинул телеграмму на длину вытянутой руки и прочитал ее, не надевая очков. Швырнул бумажку на стол.
— Сожги ее к дьяволу! Дрянь! Как все, что высиживают наши политики!
Он брезгливо подтолкнул телеграмму к Каррингтону. Тот взял ее за уголок, достал зажигалку. Желтый огонек лизнул листок.
— Рискованная оценка, полковник, — сказал Каррингтон насмешливо. Телеграмма в его руке быстро чернела. — Меры по стабилизации придется разрабатывать вам.
— К черту меры! Просто пошлю шефа подальше, а сам сделаю все как надо.
— Ты не изменился. — Каррингтон сел в кресло, закинул ногу на ногу.
— Что имеешь в виду? — спросил Фред.
— Твое командирское кредо: «Пункт первый. Полковник всегда прав. Пункт второй. Если полковник не прав, руководствоваться пунктом первым».
— Было и такое, — усмехнулся Фред. — Чего там скрывать! Но теперь я уже другой.
— Что имеешь в виду? — повторил Каррингтон вопрос Фреда.
— Принял более демократические, если хочешь, более гибкие взгляды.
— Забавно. Как это?
— Помнишь, каким образом президент Джонсон определял пригодность своих помощников?
— Прости, нет.
— Он говорил: если я сниму штаны и заставлю помощника нюхать зад, тот должен сказать: «Благоухает, как роза».
— Крепко!
— Суть не в крепости. Куда важнее демократичность выбора. И я теперь придерживаюсь этого принципа.
— Вопросов нет, сэр! — сказал Каррингтон, опустил ногу и, не вставая, щелкнул каблуками, как уоррент-офицер Клей.
— Молодец, парень! — язвительно похвалил Фред. — Ты всегда был на курсе лучшим щелкателем каблуками. А теперь главное — не оттягивать дело. Нельзя дать красным уйти. Нельзя!
Томпсон вскочил и нервно прошелся от окна к столу и обратно.
— Это проигрыш для нас, если они уйдут. Думай, старина, как застопорить их уход.
— Ты всерьез? — спросил Бен. — Тут думать нечего: это невозможно. Они решили — они уйдут. Серьезная страна, как ты знаешь.
— Заставить! Сбить с них шляпу! Ударить в спину! Пусть обернутся. Потом остановятся. Надо принудить их остаться! — кипятился Томпсон.
— Успокойся, — сказал Каррингтон. — Прямых указаний держать их здесь из Центра не дали. Чего волнуешься? Прикажут — другое дело.
— Прикажут?! Да мне плевать на их приказы! Русские к тому времени уйдут. Это может сделать процесс необратимым. Либералы почувствуют силу. Они заставят нас ходить испанским шагом…
На жаргоне профессиональных служак «испанский шаг» означал увольнение со службы, и Каррингтон почувствовал, что Фред заглядывает далеко вперед, стараясь предугадать вероятность развития событий.
— Что у нас на выходе? — спросил Томпсон сухо. — Есть готовые операции?
— Два каравана с оружием для Хайруллохана.
— Стоящий человек?
— Фред! — воскликнул Каррингтон с внезапно вспыхнувшей злостью. — Ты в своем уме?! Кто в этой проклятой дыре может быть стоящим? Все дерьмо! Сплошное дерьмо. Кругом. Все эти гульбеддины, якдасты, раббани. Все ханы, вожди и лидеры. Самое вонючее дерьмо!
Фред встал и отошел к холодильнику. Достал бутылку кока-колы. Открыл пробку. Набулькал в стакан жидкости. Выпил медленными глотками, смакуя холодный напиток. Когда Каррингтон выдохся, он поставил стакан. Спросил:
— Всё? И тебя бесит, что у нас в запасе столько дерьма? Это же прекрасно! Все его и надо выплеснуть на русских. Только сразу. Посадить их в него! По уши!
— Смотри, — сказал Каррингтон, несколько поостыв. — Твое, в конце концов, дело.
— Я смотрю.
— Не переусердствуй.
— У меня, Бен, отсутствует синдром осторожности.
— Ты считаешь, он есть у меня?
— А ты и не догадываешься? Тогда скажи, почему тебя отзывают раньше срока?
— Не привык оперировать догадками. Сплетни — это привилегия вашингтонских коридоров. Если что-то знаешь — скажи.
— Знаю, парень. В Центре тобой недовольны. Во всяком случае, не очень довольны.
— Я выполнял все указания точно.
— Знаю. Только сегодня этого мало. Сейчас нужно проявлять больше самостоятельности. Надо почаще создавать такие ситуации, которые показывали бы политикам, что примирение с красными невозможно. Необходимо держать либералов в напряжении.
— Ты же знаешь, это не так просто. Сверху на нас постоянно давят.
— Знаю. Потому и нужна здесь упругость. Тебя давят, а ты должен возвращаться в прежнее положение, едва отпустят. Энергично возвращаться.
— Не слишком ли часто мы стали возвращаться в прежнее положение, после того как на нас надавили обстоятельства? Эти возвраты уже стали притчей во языцех. И люди видят в таких колебаниях не упругость, а косность. Неумение оценивать обстановку. Вот. — Каррингтон встал, прошел в угол к журнальному столику, заваленному прессой. Выбрал какой-то журнал. — Вот «Харперс мэгэзин». Ты потерпи, Фред, если я приведу слишком длинную цитату.
— Давай, старина. Для тебя чего не потерпишь.
— Спасибо. Так вот, Люис Лэпмэн, заметь, не красный, а наш, только с более, чем у других, здравым взглядом, пишет о нашем с тобой шефе: «Я не сомневаюсь в патриотизме и усердии Кейси, но, как и другие богатые бизнесмены с высших этажей администрации — не только президент, но и господа Уайнбергер, Шульц, Риган, Бейкер, Бьюкенен и Миз, — он путает власть денег с силой человеческого характера и духа. Это общая ошибка для американской плутократии. Не зная иностранных языков, истории, литературы, не зная ничего о других обществах, кроме собственного, они полагаются на профессиональные советы услужливых софистов, как, например, Генри Киссинджера. Было бы несправедливо особо кивать на Киссинджера, который не более и не менее честен, чем большинство его коллег по политическим институтам, но он обладает исключительным даром сочинять «неофициальные мнения» так, чтобы заслужить одобрение своей клиентуры. В 1974 году в руководстве, озаглавленном «Американская внешняя политика», он сформулировал правило всемогущества: «Научная революция при всех ее практических целях сняла технические ограничения с применения силы во внешней политике».
— Что ты хотел доказать этой длинной цитатой? Что Киссинджер дурень? В этом уже давно мало кто сомневается. Что касается автора статьи, он типичный левак.
— А я вижу в нем честного человека, — сказал Каррингтон, — чувства которого оскорбляет глупость тех, кто больше других должен заботиться о патриотизме.
— Я в детстве увлекался не Лэпмэном, а Стивенсоном, — сказал Томпсон задумчиво, — и помню его выражение о том, что патриотизм не всегда нравствен.
— Это слова Престонгрэнджа из «Катрионы», если не ошибаюсь. Во всяком случае, не самого Стивенсона.
— Чепуха! Все, что есть в любой книге, принадлежит автору. Он и герой и подлец в одном лице. Так вот, Бен, патриотизм, как ты его понимаешь, тоже достаточно аморален.
— Поясни.
— Америка — не Гренада. Америке в этом мире никто и ничто не угрожает, кроме собственных ошибок. А эти ошибки ведут к тому, что опасность нависает над кланом верных сыновей Америки. Над нами, Бен. Над людьми военными. Ты ведь согласен, что мы — клан?
— Да уж как не согласиться.
— Тогда нам всем в равной мере надо думать, как сохранить свою силу и позиции в обществе. Пацифизм действует на умы разлагающе. Когда люди имеют дело только с готовыми котлетами, они перестают думать о том, что скотину надо резать. Живя в условиях безопасности, леваки начинают думать, что эта безопасность рождается сама по себе.
— Человечество пугает ядерный призрак. И без того в мире много бед, чтобы добавлять к ним атомную зиму.
— Плевать мне на человечество, Бен. Я не хочу и не могу быть выше самого господа бога. Он взирает свысока на все, что сам сотворил, что происходит по его воле. Люди от рождения до смерти корчатся в муках, стонут, молят всевышнего об избавлении от болезней, уродств, боли. А что меняется? Что?! Почему же я должен быть выше господа бога? Я такой же смертный, как и все остальные. Я знаю все: боль, ревность, тоску. Так почему же мне еще исповедовать гуманизм? Думаю, хватит веры в бога. Остальное — на его совести. Мне на других наплевать! На всех, вместе взятых! И если наш нынешний президент, никого не стесняясь, говорит о том же, я ему аплодирую. Мы аплодируем, патриоты Америки. Ее военные, в чьих руках честь и гордость нации.
Томпсон стукнул кулаком по хлипкому столику на металлических ножках, и тот закачался.
— Мы патриоты, Фред, это верно. Но кое-кто говорит, что за такой патриотизм нам слишком хорошо платят.
— Это говорят красные. Я знаю, что мои деньги мне не дарят. Я их получаю за риск, которым сопровождается дело. И во Вьетнаме, и в других дырах земли, где стреляли, — я побывал всюду. От опасности не прятался. Так почему же мне стесняться денег? Почему я должен без борьбы уступать свое место тем, кто хочет лишить меня моего дела? Короче, Бен, я сюда приехал не отдыхать. Сегодня доложу о прибытии. Завтра — о первых делах. Шеф любит, когда в работу включаются сразу. Поэтому давай докладывай, что у тебя в готовности к запуску. Чтобы сразу начать стартовый отсчет.
— Более всего готовы «медведи». По плану они должны завтра уйти на ту сторону.
— Постой, не спеши. Прошу просвещать меня в мелочах. Обычно слово «медведи» означает…
— Не ошибаешься и на сей раз. Мы сохраняем все родные определения. «Медведи» — это русские.
— Откуда у вас русские?
Бен усмехнулся:
— Мы выращиваем их сами. В нашем питомнике — «Баглэбе». В данном случае «медведи» — это мужахиды из группы Фарахутдина. Отобрали трех фанатиков. По колеру они более или менее рыжие. Переодели.
— В шкуры? — спросил Томпсон.
— В красные шкуры, — уточнил Каррингтон и улыбнулся.
— Цель операции? — спросил Томпсон. Он сделал вид, что не обращает внимания на стремление Бена вести разговор в легком тоне.
— Красный терроризм в Афганистане.
— Догадываюсь. Но мне важнее знать, где и когда появятся эти люди. Скажу честно, я таких штучек остерегаюсь. Как ни прячь уши, тайное вылезает наружу, становится явным. Конечно, мы делаем вид, что нам все нипочем. Но дурно пахнет не один день. Поэтому яма, куда кидают отбросы, должна быть закопана надежно.
— Будь уверен, пройдет спокойно. Здесь не Европа. Ни левых свистунов в парламенте, ни пройдох журналистов. Те, что бродят там, в Афганистане, полковники не меньше чем мы с тобой. Короче, «Баглэб» — учреждение с тройной гарантией.
— Хорошо. Как пойдет операция?
— «Медведи» уходят первыми. Немного порезвятся.
— Где именно?
— Нас интересует район рода Абдулл Кадыр Хана. Он занимает пока нейтральную позицию — ни нам, ни красным. Нужно, чтобы работал с нами. «Медведи» создадут такую возможность.
— Где гарантия, что все сойдет? Что сделано для прикрытия операции?
— «Медведей» поведут парни из банды Хайруллохана.
— Сколько их?
— Десять человек. Тройной перевес. И — внезапность.
— В чем?
— «Медведи» после операции выйдут к условному месту, где им положено снять красную шкуру. Там их и возьмут.
— Что значит «возьмут»?
— Если тебе больше нравится иное, скажу так: их положат огнем, как красных, и передадут роду Абдулл Кадыр Хана.
— Сколько человек знают о плане всей операции?
— Только двое. Я и ты.
— О части «Медведь»?
— Пока шестеро: три исполнителя, ты, я и полковник Исмаил.
— О части «Прикрытие»?
— Ты и я. Для устранения «медведей» отобраны стопроцентные фанатики. С «медведями» они не знакомы. Пройдет без сложностей.
— Да поможет нам бог, Бен. Пойми мою придирчивость. Я остаюсь наследником неизвестного мне состояния и хочу знать, не стоит ли сразу отказаться от долгов по наследству.
— Решайте, сэр. Теперь вы на мостике.
— Еще один вопрос. Почему спецзону здесь именуют «Баглэб»?
Томпсона явно смущала первая часть слова: «баг» — клоп. В английском оно употребляется довольно широко. Клопами именуют и вонючих кровососов-насекомых, и чокнутых, полоумных людей. Клоп — это подслушивающий микрофон и тайно приспособленная в укромном месте следящая система, которой поручают охрану объектов. Но в каком измерении ни приложи — похвалы слово в себе не несет никакой, и потому название попахивало. Клоповник. Клопиная лаборатория… Что-то в этом роде.
— Так кто навесил ярлык на доброе заведение?
— Были тут с недобрыми языками. Их нет, а название прилипло. В конце концов, черт с ним!
— Что будет в конце концов, — сказал Томпсон, — это уже решу я.
— Решай, старина.
— А теперь я скажу, что дел у нас две капли. Оружие Хайруллохану и «медведи». Негусто. А ведь речь идет о жизни или смерти. Если уйдут русские, для нас почти поражение. Уколами их не возьмешь. От них вздрагивают, не более. А нужен удар. Нокаут. Улыбаешься? Давай снизим критерий. Нужен нокдаун.
— На складах базы нокдаунов нет, — сказал Каррингтон язвительно. — Давно не завозили. Заявки посланы. Ждем. Скорее всего, ты их и получишь.
— Дорогой Бен, — Томпсон зло сузил глаза, лицо его стало жестким, постаревшим, — я всегда ценил юмор. Твой, в частности. Но есть вещи святые, которые нельзя вышучивать.
— Мне казалось, — спокойно ответил Каррингтон, — что на первых порах заявка сделана неплохая. Оружие. «Медведи». Тебе не понравилось. Ладно. Но не воспринимать же это как конец света.
— Не конец, и все же речь идет о жизни или смерти. Если русские уйдут — для нас с тобой это поражение. Поэтому надо бросить все, что есть в резерве. Я обращаюсь к тебе по необходимости. Ведь в конце концов разберусь во всем сам. Но уйдет время. Уйдет. Поэтому подумай. Просчитай каждую мелочь. Ну?
— Дарбар, — сказал Каррингтон твердо. — Единственное, что я вижу.
— Что есть Дарбар? — спросил Томпсон с сомнением. — На слух не впечатляет.
— Дарбар — городишко на той стороне. Крепость при нем. В ней мужахиды блокировали афганский гарнизон. Прошло уже три недели. У гарнизона на исходе продукты и боеприпасы.
— Ну-ну, — оживился Томпсон. — Что-то может сложиться. Почему гарнизон не действовал активно?
— Они упустили время.
— Почему? Нет ли здесь какой хитрости?
— Есть нераспорядительность. Это раз. Нерешительность командования — два. Отсутствие эффективной разведки — три.
— Хорошо. Кто командует на участке мужахидами?
— Высочайший Хайруллохан.
— Толковый человек?
— Авантюрист, конечно, как и все остальные, но кое-что умеет.
— Надо брать этот… как его… — Томпсон пощелкал пальцами, вспоминая ускользавшее из памяти название.
— Дарбар, — напомнил Каррингтон.
— Да, именно. И тянуть нельзя. Надо с ходу раскручивать операцию. Цель: как можно скорее поставить русским клизму с битым стеклом.
— Пока что я вижу только битое стекло, — заметил Каррипгтон.
— Будет и клизма, — пообещал Томпсон. — Где наши «медведи»? Я хочу заглянуть в их клетку.
— Сперва обед, — возразил Каррингтон.
Сдаваясь, Томпсон поднял вверх руки ладонями на уровне плеч.
После обеда у штаба их ждал уже знакомый Томпсону лендровер. Возле машины стояли два автоматчика в полувоенной форме, в черных чалмах, с мрачными бородатыми лицами.
— Кто это? — спросил Томпсон.
— Риф-Раф [1], — ответил Каррингтон.
— Сразу видно — подонки, — усмехнулся Томпсон. — Но меня интересует другое.
— Я и не имел в виду подонков, — ответил Каррингтон серьезно. — Того, что слева, сэр, я назвал Риф. Правого — у него еще родинка под глазом — Раф. А вместе это звучит вызывающе. Не так ли?
Оба рассмеялись.
— Все-таки, — сказал Томпсон, — твой юмор для здешних мест просто клад. Сейчас я произнесу эти прекрасные имена.
Он повернулся к автоматчикам. Голосом, полным командирской силы, поздоровался:
— Здравствуйте, рифф-рафф!
Автоматчики, сверкая свирепыми глазами, вытянулись и закостенели.
— Они ни бельмеса, — пояснил Каррингтон и перевел: — Ассялям алейкем, Риф-Раф!
Офицеры прошли к машине. Риф распахнул дверцу и отступил в сторону.
Бен, пропуская Фреда, занял место после него.
«Танк» взял с места хорошую скорость.
Каменистая степь, спаленная солнцем, лежала безжизненная и пустынная. Ветер, жаркий и нервный, дул монотонно и беспрерывно. Он высвистывал унылый мотив, от которого воротило душу. Кругом, куда ни посмотри, стлалась однообразная волнистая пустота, тут и там ряды плешивых холмов. Одинокие смерчи, то и дело вздувавшиеся в разных местах, сметали в кучи сухую полынь, пыль и мусор.
Раф, стиснув руль обеими руками, не отвлекался от дороги. Он вжал ногой педаль газа до самого пола и не ослаблял давления на нее ни на мгновение. Машина летела напористо, яростно, сметая с дороги песчаную крошку.
— Сколько тут? — спросил Томпсон.
— Две мили.
У ворот зоны пришлось остановиться. Путь перегораживала тяжелая балка шлагбаума. Как бы укрепляя ее прочность, в бетонированном гнезде стоял пулемет на треноге. Только когда начальник караула подошел к машине и увидел в ней Каррингтона, он взмахнул рукой. Солдаты, оставив пулемет, пошли поднимать шлагбаум.
Томпсон, приоткрыв дверцу, огляделся. Между холмов за колючей проволокой виднелись очертания небольших домов — то ли жилых помещений, то ли складов — не разобрать. Справа от дороги белел огромный щит, изрисованный вязью арабских букв. Что написано на нем, Томпсон не спрашивал. Он раз и навсегда усвоил, что там должно быть написано, и знал: так оно и есть. «СОБСТВЕННОСТЬ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА. ПРОХОД И ПРОЕЗД ВОСПРЕЩЕН. ОГОНЬ ОТКРЫВАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
Знал Томпсон и то, что ребята, которым поручают охрану подобных объектов, не любят церемониться, не кричат: «Стой! Кто идет?» Для них главное — нажать на спуск автомата и наблюдать, как отчаянного смельчака — дурак он или просто неграмотный, все равно кто, — рвет на куски метко пущенная очередь.
Сплоховать и не попасть в нарушителя для таких служак означало поставить крест на своей карьере, и они всегда попадали.
Машина неторопливо подкатила к домику, затянутому маскировочной сетью. Томпсон из-за этого и не заметил его на фоне пегой возвышенности.
Въехали на стоянку под специальным навесом. Вышли из машины и с минуту стояли, давая глазам возможность привыкнуть к сумраку, царившему здесь. Томпсон повел носом. Тянуло сильным запахом дыма и жареного мяса.
— Здесь готовят азиатский пир?
— Традиция, — пожав плечами, ответил Каррингтон. — Перед уходом на операцию люди покупают барана и устраивают себе отдых.
— Откуда им известно об операции? — В голосе Томпсона звучало подозрение. — У вас об этом объявляют заранее?
— Успокойся, Фред. Никто ничего не знает. Но люди чувствуют такие вещи нутром.
— Нужно выяснить, у кого такое нежное нутро. Мне оно не очень-то нравится.
— Да не горячись, старина. Ровным счетом ничего криминального. До обеда я сообщил, что приеду. Как считаешь, прибытие шефа и подгонка обмундирования что-нибудь в этом мире значат?
— Хорошо, успокоил.
Они прошли в штабной домик. Раф открыл перед ними дверь и встал с автоматом у входа. Риф так и остался в машине, только приоткрыл дверцу, чтобы сделать полосу обзора для себя пошире.
— Сволочь у тебя дрессированная, — сказал Томпсон, наблюдавший за поведением охраны. — Пожалуй, их можно будет оставить себе.
Десять минут они провели в уединении, наслаждаясь кондиционированным раем. Наконец открылась дверь и в помещение вошел высокий худощавый полковник в пакистанской военной форме. Легко вскинул руку к фуражке с высокой тульей.
— Полковник Исмаил, — представил Каррингтон вошедшего. — Наш большой друг.
— Где ваши «медведи»? — спросил Томпсон, словно забыв о вежливости, какая полагалась при первой встрече.
— В загоне, мистер Каррингтон, — обращаясь к Бену, ответил Исмаил. Его бесцеремонность сильно задела Томпсона.
— Чем занимаются? — снова спросил он.
— Сейчас будем переодевать. Пусть обносят новую форму. Затемно их предстоит увезти на ту сторону.
— Мы хотим посмотреть на обряд переодевания, — сказал Томпсон. — Это, должно быть, интересное зрелище.
— Пожалуйста, — сказал полковник Исмаил. — Здесь недалеко.
Они прошли за один из бараков, в загон, отгороженный фанерными щитами. В небольшом закутке бродили трое раздетых до трусов мужчин. Двое высоких, ширококостых, один низенький, тощий, со спиной, покрытой бурыми прыщами.
Увидев вошедшее начальство, они встали в шеренгу. Заморыш занял место на правом фланге.
— Кто этот недоносок? — спросил Томпсон.
— Командир группы Машад Рахим, — доложил полковник Исмаил. — Двое других — боевики Муфта Мангал и Мирзахан.
Томпсон подошел к боевикам поближе. Брезгливо оглядел с ног до головы. Такое дерьмо ему давно не встречалось. Должно быть, там, за Хайбером, дела у мужахидов обстоят из рук вон погано. С такими боевиками…
Он подошел к высокому носатому парню, впервые оказавшемуся полуголым перед высоким начальством и оттого заметно стеснявшемуся. Пальцем, как паршивому коню, когда стараются сбить цену, провел по ребрам. Они выпирали из-под кожи, словно прутья из старой корзины.
Парень неловко пошевелился, словно хотел оборонить себя.
— И это «медведи»?! — спросил Томпсон брезгливо. — Пусть одеваются.
Через некоторое время все трое были в советской военной форме.
— Откуда такое? — спросил Томпсон, разминая в руке полу куртки Муфти Мангала.
— В Пешаваре есть мастерская, — пояснил полковник Исмаил. — Можем обшить целую дивизию.
— Оружие?
— Автоматы русского типа АК, — сказал Каррингтон. — Производство английское. Фирма «Интерармз».
— Все как у «медведей», — скривив губы в усмешке, произнес Томпсон. — А на каком языке будут говорить эти звери?
— В акции — по-русски.
— Интересно. Весьма интересно.
Томпсон подошел к мордолошадому Мирзахану. Спросил, четко выговаривая русские слова:
— Ты менья понимайш, скотина?
Мирзахан вытянулся и застыл. На тупой физиономии — выражение растерянности и испуга.
— Многого хочешь, Фред, — заметил Каррингтон.
— Свиньи, — сказал Томпсон и поморщился.
— Это слово, — произнес Каррингтон жестко, — здесь забудь! Ослы, бараны — еще куда ни шло. А свинья для мусульманина — животное греховное.
— Плевать! Я не привык менять выражения по религиозным причинам. Свиньи, и всё тут.
— Я тоже мусульманин, — произнес полковник Исмаил и зло посмотрел на Томпсона.
— Простите, сэр, — спокойно ответил Фред. — Речь шла не о верованиях, а об умственных способностях. Вы лучше продемонстрируйте мне, как они будут говорить по-русски во время акции.
Исмаил повернулся к троице. Сказал им несколько слов на пушту. В ответ заморыш изобразил на лице свирепость и разразился тирадой:
— Иван! Стирляй! Пирод! Дапай, дапай!
— Им с такими талантами хоть в Москву! — сказал Томпсон. — Впрочем, для одноразового употребления вполне сойдут. Можете отправлять, полковник Исмаил, Бог помощь!
Ночь в степи — это безбрежное море темени. Только небо мерцает призрачным светом. Звезды на юге крупные, льдистые. Млечный Путь, как караванная тропа в иные галактики, перехватывает бархат свода от горизонта до горизонта.
В неглубокой балке, среди продутой ветром степи, в уютном затишье горит костер. Маленький очаг живого огня, дарящий людям тепло и свет.
Пламя, перебегая по хворосту, то бледнеет, угасая, то ярко вспыхивает, взрывается, с треском рассыпает искры. Они взлетают и гаснут, немного не долетев до неба.
У костра, коротая ночь, сидят шпун Захир — сельский пастух и четверо ребятишек — кишлачных сирот. В одиноком добром пастыре ребята встретили теплоту и участие и теперь ходят за ним и за овцами, почитая старика, как отца.
Сказка у костра, древнее предание, рассказанное в ночи, хранят в себе величайшую тайну живого слова. Того, которое заставляет юные сердца трепетать от любви и ненависти, учит различать добро и зло, славит благородство, осуждает черную подлость.
В бетонных домах больших городов сказка для ребенка — забава, вечерняя порция духовной пищи на сон грядущий.
В теснинах гор и на степных просторах, в юртах кочевников и хижинах дехкан-базгаров сказка — это завет ушедших поколений тем, кто идет за ними в будущее по караванным путям пустынь и козьим тропам гор, среди пропастей и утесов.
Шпун Захир — хороший рассказчик.
— О аллах, милосердный, всесильный, всевидящий и всеблагой!
Голос у Захира спокойный, ровный, слова его — не вдохновенная молитва или похвала всевышнему, а лишь привычная и неизбежная формула, необходимая для начала хорошей сказки.
— В Книге аллаха записаны судьбы всего живого — человека и зверя.
Все в мире совершается и течет по воле всевышнего. Аллах вознес орла могучего над землею, дал ему крылья широкие, крепкие. Небо — безбрежная обитель птицы.
Только орлу подвластны неприступные скалы. Облака — его одеяло. Ветер — его товарищ. Гнездо орла — крепость воли и гордости.
Аллах дал земле шакала, но не одарил его смелостью волка и добротой собаки. Ростом ниже колена, шакал обречен бегать с опущенной головой, нюхая по пути запахи ослиной мочи и помет верблюдов.
Ненасытный и жадный, шакал в зависти поднимает голову, жалуется на судьбу, плачет и воет отчаянно.
Вот однажды, — о аллах, по твоей ли воле? — подняв голову к небу и завыв во все горло, шакал увидел орла. Зависть сжала черное сердце.
Решил тогда вонючий: «Вот поднимусь я в горы, найду гнездо орла, схвачу его, растерзаю и сам стану править миром. Сидя на высоком троне, буду принимать подданных — все зверье, степное и горное, всех птиц перелетных. Со всех возьму дань, всех заставлю трепетать перед собой…»
Прижавшись друг к другу, затаив дыхание, сидят у костра дети и слушают шпуна Захира. Орел и шакал. Гордый полет к свету, к небу и завистливый вой в ночной темноте. Сколько раз слыхали его пробирающий до пяток плач и смех в пустынной степи! Орел и шакал. Что будет, когда они столкнутся? Что будет?..
Широко открытые глаза. Ожидание откровения…
— Сказал шакал свое слово и полез на утесы.
Он полз вверх тихо и осторожно. Не спешил. Перебирался с выступа на выступ, переползал с уступа на уступ. И чем выше забирался, тем больше дрожал.
Орел взлетает к солнцу, чтобы оттуда оглядеть свой владения. Чем выше он взлетит, тем больше видит, тем радостнее у него на сердце.
Шакал не испытывает радости от высоты. От нее ему тошно. Он забирался на скалы, дрожа от страха. Вниз смотреть боялся. Его мокрый след виднелся на камнях.
Воистину сказано: трусливая душа не должна подниматься высоко. Чем выше она взлетает, тем большему числу глаз будет виден ее мокрый, дрожащий зад.
Так, дрожа и повизгивая, шакал добрался до уступа, с которого ему оставалось только прыгнуть вниз, чтобы оказаться в орлином гнезде.
Лег шакал на краю обрыва, положил голову на лапы и стал ждать, когда вернется домой орел. Гнездо рядом — только прыгай.
Но, как записано в Книге, все в мире проистекает, течет и льется только по воле аллаха.
Ветер ли дует, дождь ли идет, сжигает ли суховей плодородную пашню — все в руке господней, все от него одного. Аллах акбар!
Уже возомнил шакал себя сидящим на троне шахи-шаха птиц, бейлербея пернатых, как разыгрался среди утесов ветер, закрутилась конским хвостом дурдурака [2], встала метлой над скалами. Увидел шакал, что несется на него свистящий бурбукей [3], завизжал с перепугу, к камням прижался, глаза закрыл.
Ветер ударил вонючего нахала, опрокинул на спину, подхватил его, подбросил, закрутил волчком, пнул под зад и швырнул с размаху в глубину ущелья.
В это время орел возвращался в свое гнездо с добычей. Налетела и на него метла дурдураки. Тогда гордая птица пошире распахнула крылья и легко, без лишних усилий, взмыла к самому поднебесью.
Орел летел вверх.
Шакал падал вниз.
Орел уселся на трон и оглядел мир с гордой высоты.
Шакал трахнулся о камни, завизжал, но не убился — на то была воля аллаха. От боли и стыда залез он в камни, стал зализывать ушибы. А когда поднял голову и увидел летящего орла, завыл злобно, дико.
С той поры весь мир под луной знает: не дано шакалу власти править в животном царстве, сидеть на троне. Не дано ему глядеть на землю с высоты.
Не сидеть рыжехвостой твари в каменной крепости хана птиц. Даже если туда и заберется вонючий нахал, ветер справедливости, завившись косой в дурдураку, вздыбившись бурбукеем, выметет нечисть вон…
Потом до слуха сидевших у костра донеслись два глухих удара.
— Что это, отец? — спросил один из мальцов.
— Это стреляли из старой крепости, — ответил шпун Захир. — Солдаты со звездами на шапках. Шурави.
— Отец, — снова задал вопрос мальчик, — в крепости Дэгурбэти дзалэй солдаты шурави. Разве аллах не вышвырнет их? Не сбросит на землю? Не растопчет?
Шпун Захир торжественным жестом молящегося правоверного огладил черную густую бороду, опустил руки ладонями вниз на колени.
— Гулям, — сказал он многозначительно, — ты, наверное, плохо слушал меня. И потому не понял сказку. Я сказал: аллах никогда не позволит шакалу сравняться с орлом. Дэгурбэти дзалэй — крепость орлов. И они сейчас там. А шакалы скрываются в расселинах гор. И воют по ночам. И рвут стаей честных дехкан, отбирая у них скот, сжигая дома. Это самая правда из всех известных мне правд. И пусть меня накажет аллах, если я хоть немного кривлю душой. Аминь!
АФГАНИСТАН.
КРЕПОСТЬ ДЭГУРВЭТИ ДЗАЛЭЙ. ГАРНИЗОН СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Эта старая крепость насчитывает многие века. Никто точно не знает, когда был положен первый камень в основание ее бастионов, кто первым проверил тараном прочность ее богатырских стен. Никто.
Ушли из жизни участники давних кровавых битв, забыты их имена.
И снова дни неслись над крепостью, как тысячи стрел, гремели годы грохотом стенобитных орудий, звенели века ударами ядер и чугунных бомб.
Битвы испещрили грудь бастионов шрамами и опалили огнем. Но камни хранят память обо всем происшедшем безмолвно.
Нет в живых свидетелей битв. И кто помнит об их смелости и мужестве?
Только слава никогда не меркнет, если она настоящая.
О сражениях, сотрясавших стены, своим детям рассказали очевидцы мужества осажденных. Передаваемое из уст в уста, до наших дней из глубины незапамятных лет дошло имя крепости — Дэгурбэти дзалэй (Орлиное гнездо).
Обратившись к Советскому Союзу за военной поддержкой, афганское правительство указало крепость Дэгурбэти дзалэй как одно из мест дислокации дружественных войск.
Войдя в Орлиное гнездо, советские солдаты привели в порядок старые казармы, завезли в узкие дворики бастионов плодородную землю, посадили кусты и деревья. На стене крепостного здания солдатский художник нарисовал березки. Две сестрицы по двум сторонам сводчатого входа. Та, что слева, стоит выпрямившись, как дева-краса, на юру, на ветру. Тугие струи воздуха бьют в ее зеленую грудь, и длинные ветви развеваются вольно, как косы. Гордая и радостная в борьбе с ветром, она не сдается, противостоит ему.
Вторая, та, что справа, выглядит мирной красавицей. Как добрая мать над колыбелью, распушив ветви-волосы, встречает она сыновей, возвращающихся после трудных дел, ласкает, обдувает дыханием родной стороны.
Кто-то из офицеров, до того служивших в Группе советских войск в Германии, окрестил это место «Унтер ден березкен», по ассоциации с берлинской улицей Унтер ден Линден — Под липами. Название привилось.
Строители крепости меньше всего беспокоились об удобствах. Их в основном заботила прочность сооружений. Стены казармы достигали двухметровой толщины. Окна в них выкладывали маленькие, неудобные, похожие на бойницы. Пришлось советскому гарнизону многое совершенствовать, переделывать на привычный лад. Стены внутри казармы обшили досками. Настелили новые полы. Побелили потолки. Поставили хорошие теплые печи. И сразу задышали древние камни запахами смолистого бора.
К тому времени, о котором идет речь, в крепости располагались мотострелковый батальон, которым командовал капитан Александр Макарович Бурлак, саперная рота и артиллерийская батарея старшего лейтенанта Федора Анискина.
Все подразделения Орлиного гнезда подчинялись капитану Бурлаку, доставляя ему массу тревог и беспокойства. Вот и в тот день капитан Бурлак с утра был в напряжении. Минувшая ночь выдалась для него беспокойной, нервной.
Сразу с наступлением темноты было получено предупреждение от разведки, что в «зеленке» — в зоне садов, занимавших долину, — мобильная группа душманов развертывает пусковые реактивные установки. Были указаны и координаты. Куда собирались бросить свои снаряды бандиты — на крепость или на ближайшие кишлаки, — разведка не сообщала. Но разве что-то зависело от того, куда метят душманы?
Расчет прожекторной установки взял цель «с выстрела», то есть не потратив на ее поиски ни секунды. Огневики первого взвода батареи Анискина дали два выстрела. Они заранее пристреляли в своем секторе каждый бугорок и потому били без промаха. Оба снаряда попали в цель. В стереотрубу было видно, как оранжевое пламя разрывов взметнуло и разнесло по сторонам какие-то черные предметы. В панике метались и падали душманы.
Выехавший перед рассветом в поиск дозор привез подтверждение о том, что обе пусковые установки уничтожены. Брошенные душманами остатки боеприпасов разведчики подорвали на месте.
Людские потери бандгруппы подсчитать не удалось. Останки погибших душманы унесли с собой.
Лег капитан Бурлак в три ночи, встал в пять утра. Выслушал доклад дежурного по гарнизону и прошел в учебный класс батальона. Там трое топографов заканчивали работу над рельефным макетом района предстоящего рейда. Бурлак сделал несколько замечаний и засел в штабе.
Штаб батальона помещался в довольно светлой, наново отделанной комнате. Батальонные умельцы обшили ее стены сосновыми плашками, нарезанными из старых ящиков, покрыли их бесцветным лаком. Здесь стоял видавший виды стол, но его хорошо обстрогали, и потому он выглядел как новый. У стены стоял потертый железный ящик, в котором хранились документы. На стене на рейках висела политическая карта Афганистана, купленная кем-то из офицеров в книжном магазине в Москве.
Командиры чаще всего вступают в бой раньше своих солдат. Батальон после завтрака ушел на плац заниматься строевой подготовкой, а капитан Бурлак вызвал врача капитана Морякина.
Тот ждать себя не заставил. Стукнув для приличия в дверь костяшками пальцев, не ожидая ответа, сразу открыл ее. Задержался на пороге:
— Разрешите?
— Входи.
Бурлак протянул Морякину руку, энергично пожал ее и тут же отпустил, будто отбросил. Отрывистые, редкие движения, неожиданные повороты были частью его натуры, бурной, пульсирующей. Предложил: «Садись». Сам прошел к двери, притворил ее поплотнее. Вернулся к столу. Не спеша сел. Положил перед собой руки и замкнул пальцы в замок.
— Слушай, Иван Иванович, хорошо выглядишь. Мало я, наверное, тебя гоняю. Мои вон все черные как галки.
— Достается и мне, — коротко ответил Морякин.
Бурлак посмотрел на него внимательно. Ему нравился этот немногословный офицер. Благополучно устроенный московский хирург, как говорили специалисты — врач с божьим даром и хорошими перспективами, сын потомственных медиков, он добился призыва и приехал сюда, на передний край, что лежит далеко впереди пограничных застав.
— Невеселый у нас разговор будет, — сказал Бурлак. — Не люблю я эту тему.
— А куда денешься?
Морякин догадывался, о чем пойдет речь.
— Вас, Александр Макарович, оттого тема задевает, что вы в больнице не работали. Я интернатуру проходил в институте Склифосовского. Там каждый день кровь и стоны. А ведь в Москве войной и не пахнет.
— Что ты этим хочешь сказать? — спросил Бурлак и пристально посмотрел на врача.
— Ничего. Просто советую: относитесь спокойнее. Я ведь замечаю, как вы всякий раз переживаете.
— Слушай, Иван, ты что, в самом деле циник? Или у вас, медиков, это профессиональное?
— Что именно?
— Да все то же.
— Насколько я понимаю, речь пойдет о медицинском обеспечении выхода. Так? Я и советую вам относиться к делу спокойнее. В чем же цинизм? Да, будут раненые. Кого-то и убить могут. Но это обычное военное дело. И я отношусь к нему философски.
Бурлак неожиданно взорвался.
— Ты меня с собой на одну доску не ставь, — резко оборвал он Морякина. Чтобы остыть, поднялся из-за стола и прошел к окну.
— Да где уж мне, — обиженно сказал ему в спину Морякин. — Вы — комбат, а я так…
Бурлак резко повернулся:
— Ну-ну, мадам Фи-Фи! Ишь, обиделся! Ты сперва подумай, что я имел в виду. Твое дело по кругу гуманное. Хоть после автокатастрофы, хоть после боя, ты людей в порядок приводишь, на ноги ставишь. А я в этом деле как милиционер, на глазах которого столкнулись машины. Он вроде и мог что-то сделать, жертвы предотвратить, а не сделал. Не смог. Хоть это ты понимаешь? Доходчиво я обстановку объясняю?
— Доходчиво, — мрачно ответил Морякин. — Прошу прощения. Я действительно не о том подумал.
— Ладно, — сказал Бурлак примирительно. — Другой раз думай.
— И все же вы, Александр Макарович, неверно рассуждаете. Вы на дороге не милиционером стоите. Вы сами в той машине, которая должна столкнуться с другой. И в равной степени рискуете со всеми вместе. Кто может ручаться, что вас самого…
— Кончили об этом, — перебил его Бурлак. — Времени мало. Пофилософствуем опосля. Идет? Сейчас о деле.
— Слушаю, — сказал Морякин и почему-то встал.
— Постарайся сделать так, чтобы в группу медусиления госпиталь дал хороших ребят. У тебя там все знакомые. Подговори тех, кто посильнее. Хорошо поработают — за нами не заржавеет.
— Понял.
— Группа крови у всех проверена?
— Должна быть.
— Вот видишь, Иван Иванович, должна. А я требую от тебя лично в этом удостовериться. Сколько случалось: все быть должно, а ничего и в помине. Прибыли новенькие. Их особо проверь. Заранее продумай, как предупредить неожиданности. Ты историю с мартышкиным фактором помнишь?
— Нет. Меня, должно быть, здесь тогда еще не было.
— Мог бы и выяснить, — сказал Бурлак. — Ни черта никого опыт не волнует. А тем более из-за этого панчар был медицинский.
— Не понял — что?
— Панчар? По-афгански — прокол шины. Так вот он лег на совесть медиков. Было так. Прочесывали «зеленку», и ранило там лейтенанта Брускова. Рана несерьезная, но сам он оказался кровистый. Потребовалось срочное переливание. Тут и забегали спасители. Не оказалось у них нужной группы крови.
— При чем тут мартышка?
— Был здесь такой, капитан Пилькин. Он до того, как лечить, считал необходимым каждому лекцию прочитать. И тогда, вместо того чтобы нужную кровь искать, стал мне объяснять, что резус-фактор на мартышках определен. Потом этот Пилькин далеко меня стороной обходил.
— Резус тоже проверю.
— Санинструкторов погоняй. Десять дней не работали. Сержант Князев у тебя ходит вразвалку, как столичный полковник. Предупреди: я его с ефрейтором Кулматовым пошлю. Там он вспомнит, как люди бегают.
— Понял, займусь.
— Для начала все. Да, вот еще. Задачу офицерам я поставлю через час. Не раньше. Тебе стало известно о выходе первому. Потому не роняй информации. Занимайся делом — и всё. Пусть люди сегодня спокойно отдыхают.
Дверь в комнату распахнулась, и в нее заглянул дежурный. Заполошно доложил с порога:
— Товарищ капитан! Прибыл генерал Санин.
— Соберите в класс офицеров, — приказал Бурлак дежурному. — Всех. И быстро! — Повернулся к Морякину: — Всё, Иван Иванович. Давай иди, разводи пирамидон.
Генерал выскочил из машины легко, пружинисто. Снял кепи, пригладил светлые волнистые волосы, поправил пистолет и только после этого надел головной убор. Шагнул навстречу комбату.
Выслушав обязательный доклад, поинтересовался ночным происшествием. Лишь затем поздоровался, подав руку Бурлаку и его заместителю по политчасти майору Полудолину.
— Позавтракаете? — тоном радушного хозяина предложил комбат.
— Нет. Пора начинать. Люди собраны?
Они прошли по гулкому пустому коридору. Возле дверей батальонного класса остановились.
— Готов? — спросил генерал комбата с интонацией, которая не допускала иного ответа, кроме утвердительного.
Уловив эту обязательность, Бурлак помимо воли сразу ей воспротивился. Всколыхнулось природное упрямство. Сказал озабоченно:
— Вчерне, товарищ генерал-майор.
Генерал Санин, не ожидавший такого ответа, поднял брови. Майор Полудолин, уловивший в словах комбата открытый вызов, ожидал, что генерал вспыхнет. Но тот о виду остался спокойным, только глаза чуть сузились, стала пристально-внимательными.
— Прибедняешься? Ну-ну, — сказал он насмешливо. Они вошли в класс.
Прозвучала команда «Товарищи офицеры!».
Дружно грохнули о пол два десятка крепких ног.
— Товарищи офицеры! — сказал генерал деловито.
И снова обвально стукнули ноги, громыхнули сдвигаемые скамейки.
Генерал огляделся. Этот класс всегда нравился ему своей капитальностью. Все здесь выглядело надежным, сработанным на совесть.
Прочные столы. Тяжелые, устойчивые скамейки. На полках вдоль глухой стены образцы вооружения, используемого бандгруппами. Особенно широко представлено минно-взрывное оружие. Уж чем-чем, а этим добром радетели из НАТО снабжают душманов с несказанной щедростью.
На видном месте лежит крышка от патронной упаковка. На ней гитлеровские орлы и свастика. Какие-то доброхоты доставили подопечным душманам боеприпасы, оставшиеся на складах после крушения фашистского рейхсвера.
На стенах аккуратно вычерченные схемы типичных тактических приемов бандгрупп. Несколько плакатов, изображающих приемы разминирования и действий войск в горной местности.
Центральное место в помещении занимал ящик с песком. На нем топографы с большим тщанием воспроизвели рельеф района, в котором предстояло действовать батальону.
— Готов, комбат? — спросил генерал, но тут же, видимо вспомнив его недавний ответ, добавил: — Докладывай вчерне.
Генерал прошел к преподавательскому столу. Вынул из кармана записную книжку и сел. Подвил голову на Бурлака, который стоял рядом.
— Не жди. Начинай.
— Приготовьте карты, товарищи офицеры, — приказал комбат.
Сидевшие зашелестели листами.
Бурлак подошел к черной ученической доске в взял указку. Встал возле ящика с песком, держа указку, как карабин, к ноге.
Шелест стих.
— Готовы? — спросил Бурлак. — Найдите Дарбар.
Головы склонились к планшетам. Пальцы скользнули по бумаге, двигались и останавливались у нижнего среза листов.
— Есть Дарбар?
— Есть.
— Обратите внимание: населенный пункт разделен рекой Сафи на две части. Южная — это кишлак. Северная, горная часть — крепость. Здесь группа бандитских формирований зажала и блокировала афганский полк. Почему так произошло, выяснять не нам. Главное — полк активно действовать не может. Лимитированы боеприпасы. Не хватает продовольствия. Усложняет положение то, что в крепости укрылась часть мирного населения. Женщины. Дети. Там же активисты народной власти уезда. По всем данным, душманы готовят атаку на крепость. Афганское правительство просит оказать Дарбару срочную помощь. Нам приказано деблокировать крепость и провести туда колонну машин с продуктами и боеприпасами. Вопросы есть? Вопросов нет. Пойдем дальше. Прошу следить по картам.
Снова зашуршали листы.
— Выход на Дарбар возможен по трем параллельным ущельям. Восточное — Шинкутал и западное — Торатанги для тяжелой техники и машин практически непроходимы. По среднему ущелью — Ширгарм — проходит автомобильная дорога…
Офицеры сосредоточенно разглядывали карты. Каждый старался запечатлеть в памяти очертания незнакомой местности, запомнить названия кишлаков, урочищ, перевалов, горных проходов, уяснить хитросплетение троп и дорог.
— Именно здесь, — указка Бурлака опустилась в одну из складок ящика с песком, — в Ширгарме, душманы готовят бой. Основа их обороны — сплошное минирование. Подготовлено две линии. Они оборудованы огневыми точками. Пристреляны рубежи. Попытка прямого прорыва грозит тяжелыми потерями. Ясно я излагаю обстановку?
Офицеры слушали молча. Каждый прекрасно понимал, что означало прорвать оборонительный рубеж в узком ущелье, прикрытом с флангов непроходимыми горными кряжами. Узкая дорога, вившаяся над бурным потоком, не позволяла развернуть подразделения в боевой порядок, не давала возможности нанести удар танковой техникой.
Майор Полудолин сидел задумавшись. Еще утром он осмотрел рельеф района действий. Правда, когда он подошел к ящику с песком в первый раз, макет на него не произвел особого впечатления. Но ефрейтор, лепивший горы и долины, помог ему быстро соотнести масштабы изображения с действительностью. В складке, которую легко было перекрыть ладонью, солдат указкой шевельнул деревянный прямоугольник, размером со скорлупу семечка подсолнечника. «Это, — пояснил он, — боевая машина пехоты». И сразу песчаные грядки обрели для Полудолина присущие горным хребтам величественность и могущество.
Сейчас, следя за движениями указки комбата, майор думал о том, что даже на макете видно, что в операции им будет противостоять не только огневая сила душманов, но и дикая, совершенно дикая природа.
Та предварительная подготовка, которую майор получил в Среднеазиатском военном округе, позволяла ему понять главное: в бою в горах побеждает тот, у кого остается запас сил, после того как им побеждены сами горы.
— Товарищи офицеры, — сказал Бурлак, — поскольку район действий новый, действующие лица на нем нам незнакомы. Послушайте характеристики на некоторых главарей банд.
— Как тут у вас говорят по поводу таких характеристик? — спросил генерал Санин. — Ху есть кто?
— У нас в батальоне, товарищ генерал-майор, — ответил Бурлак серьезно, — в таких случаях говорят «кто есть ху».
Офицеры довольно хмыкнули.
— Хорошо, комбат, — сказал генерал. — Давай, кто есть ху.
Бурлак разобрал бумажки, разложил их в удобном порядке. Когда стихли шорохи, начал:
— Командует группировкой банд в районе некий Хайруллохан. Родился в 1930 году в кишлаке Уханлах. Отец землевладелец. Перед второй мировой войной разорился, влез в долги. Сын получил начальное образование. После смерти отца вел разгульную жизнь. Еще больше отяготил семью долгами. Вступление в банду открыло возможность вернуть привилегии и прижать кредиторов…
Бурлак сделал паузу. Оглядел командиров, которые что-то сосредоточенно помечали в записных книжках.
— Теперь главное. Возьмите на особую заметку. Хайруллохан патологически жесток. В его банде повиновение поддерживается репрессиями. Труслив и крайне осторожен. Не доверяет до конца даже приближенным. В нарушение догм религии в момент намаза не оставляет оружия. Объясняет это тем, что так повелел сам пророк, который явился ему во сне. Принимая во внимание эти качества, считаю, что ожидать встречи с самим Хайруллоханом на главном направлении — в ущелье Ширгарм — не приходится. Он возьмет для себя участок второстепенный и более сложный по рельефу.
— Чтобы уйти из-под огня или как? — спросил командир роты капитан Щурков.
— Или как, — за Бурлака ответил Санин. — Хайрулло всегда заранее думает об отходе. Его банду не раз зажимали, но сам он всегда уходил. Бросал всех и бежал. По имеющимся сведениям, он оставляет район боев сразу, едва запахнет керосином.
— Понял, товарищ генерал-майор, — сказал Щурков. — Разъяснение очень убедительное.
— Ну и нахалы у тебя, Бурлак, — притворно сердясь, сказал Санин. — Да что бы я ни сказал, все должно быть для вас убедительным. А меня еще и хвалят. Ну-ну!
— Разрешите продолжать? — не откликаясь на реплику, обратился Бурлак к генералу.
Тот кивнул.
— Считаю, что на главном направлении — в Ширгарме — придется встретить банду капитана Кадыра. Полное имя Мухаммад Кадыр Мир Мухаммад Ислам. Родился в 1948 году в кишлаке Насрабад, уезд Шиндан, провинция Герат. В 1954 году пошел в школу «Фулад Хосейн Кашефи». После шестого класса, в 1960 году, поступил в военный лицей. В 1966 году окончил его и был принят в военное училище. Учился на артиллерийском факультете по специальности ПВО. В 1966 году получил звание лейтенанта и назначение на должность командира взвода в семнадцатую пехотную дивизию. Позже командовал ротой. В 1977 году произведен в чин старшего капитана…
— Бурлак, — перебил комбата генерал, — ты сам-то когда училище окончил?
— В семьдесят седьмом.
Генерал встал. Прошелся по классу. Половицы поскрипывали под его ногами. Дошел до стены с доской, развернулся на каблуках. Вернулся к столу. Положил руку на погон Бурлака. Спросил:
— Не боишься встречи со старшим капитаном? Вон ведь какой стаж у него. Стреляный волк…
— Все-таки волк, товарищ генерал.
— Верно глаголешь. Волк. Но то, что зверь хитрый, учтите все.
Генерал сел.
— Продолжайте, — сказал он негромко.
— Во время службы Кадыр вступил в подпольную группу «Шоалейте джавид» («Вечный огонь»). Это авантюристы маоистского толка. Во время контрреволюционных событий в феврале 1978 года Кадыр взял на себя руководство мятежом в дивизии. Через три дня личный состав полков, поняв, что его обманули, заставили выступить против народной власти, снова встал на сторону правительства. По приказу руководства «Шоалейте» Кадыр дезертировал. Помимо того что он организовал мятеж, его вину отягощали кровавые расправы со сторонниками законной власти и партийными активистами. За время пребывания в душманских бандах Кадыр совершил сотни преступлений. Родственников на территории Афганистана не имеет. Семья проживает в Мешхеде, в Иране.
Генерал встал. Бурлак сразу замолчал, поглядывая на него.
— Скажу прямо, товарищи, оценивать эту фигуру надо правильно. Без шапкозакидательства. Бандит с военной подготовкой — явление опасное. Знания специалиста в сочетании с тактикой налетчика часто делают действия банды Кадыра непредсказуемыми. Опрометчиво кидаться на такого врага нельзя. Думайте, товарищи офицеры, над каждым своим шагом. Особенно часто Кадыр использует минно-взрывные средства и горную артиллерию. Решительный. Требует от банды быстроты маневра. Жесток. Предпочитает удары из-за угла и стремительные отходы. Пути отхода перекрывает засадами.
— Мрачная фигура, — заметил командир роты капитан Уханов. — Личные приметы известны?
— В плен взять хочешь? — спросил Санин. — Одобряю желание. Есть у тебя его приметы, Бурлак? Доложи.
— Высокий, худой. Прямой лоб. Большой нос с горбинкой. Усы. На левой щеке от уха до подбородка тонкий шрам. На правой руке нет мизинца.
— Угадаешь, Уханов? — спросил генерал.
— Так точно. Только бы встретить.
— Пошли дальше, — распорядился Санин.
— Особая бандгруппа. Командир Мухаммад Панах Сайд Муртазы. Родился в 1951 году в кишлаке Кокан провинции Парван. Отец — муллави Исмаил. Дед — Сайд Хосейи — был членом шайки грабителей, которую возглавлял известный в тех краях Хабибулла Джасур. К сведению, Джасур — в переводе значит «буйный, яростный». Панах окончил начальную и среднюю школы в уезде Души. В 1970 году поступил в школу «Зокур» уезда Поли-Хумри. В 1971 году примкнул к группировке Гульбеддина. С тех пор всеми средствами увеличивает свое богатство и влияние в движении, которое финансируют американские спецслужбы. При банде Папаха постоянно находятся два кинооператора-француза. Они снимают налеты банды на кишлаки, сцены расправ с населением. Фильмы передаются американцам. Те в свою очередь перепродают продукцию буржуазным средствам массовой информации. Именно Панаха Гульбеддин долгое время использовал в качестве начальника охраны своих плантаций в Пакистане, в зоне «золотого полумесяца».
— Ты поясни, что за плантации, — посоветовал Санин. — Или в справке этого нет?
— В справках, которые готовит ваш штаб, есть все, товарищ генерал.
— Ну-ну, Бурлак! — воскликнул Санин. — Надо же, как тонко похвалил! Далеко пойдешь, комбат!
Офицеры довольно заулыбались. В умении подковырнуть комбат и генерал стоили один другого.
— У Гульбеддина на территории Пакистана, в районе от Парачипара до Читрала, размещен ряд плантаций наркотического мака и конопли. Это сырье для наркотиков. Бизнес на этом зелье дает мафии душманских главарей миллионы долларов ежегодно. Службу безопасности мафии и обеспечивал Панах.
— Разреши пару слов, — скромно сообщил о своем желании генерал.
— Да, пожалуйста, — сказал Бурлак и обратился к аудитории: — Потише, товарищи офицеры.
— Чтобы вы яснее представляли размах бизнеса на наркотиках, — произнес генерал, — назову некоторые цифры.
Он полистал записную книжку, нашел нужную страницу.
— Вот. В зоне «золотого полумесяца» работают около двадцати предприятий, изготовляющих гашиш, марихуану и другую отраву. Они обеспечивают примерно восемьдесят пять процентов поступления героина в Западную Европу, около половины наркотиков, которые завозят в Соединенные Штаты. Гульбеддин крупный, но не единственный поставщик отравы. «Героиновым королем» в западной печати называют душманского главаря Гилани. Он контролирует огромную сеть опиумной мафии. Так что Панах не обычная пешка в бандитских акциях. Здесь, в Афганистане, он, ко всему, представляет интересы торговцев наркотиками. Это тоже имейте в виду.
Генерал отложил записную книжку, спросил Бурлака:
— У вас есть еще что сказать? Продолжайте.
— Есть еще один фигурант, — сказал комбат. — Мухаммад Сайд Падшах Мухаммад. Родился в кишлаке Сефидчахор уезда Пандшер провинции Парван. Богатый бездельник. Учился, но не окончил ни одного учебного заведения. Отец был генералом королевской армии. Сайд Падшах имеет большие связи в реакционных военных и религиозных кругах. Пользуется доверием вождей эмиграции. Является заместителем Хайруллохана по военным вопросам. Банда пополняет свой бюджет за счет жестоких поборов с населения. Налагает штрафы на кишлаки за общение с «красными». Полагаю, что Сайд Падшах может получить позиции в ущелье Торатанги.
Бурлак отложил бумаги. Оглядел офицеров.
— До обеда прошу внимательно изучить обстановку по материалам, которые выдаст начальник штаба. Детально разберитесь в рельефе и особенностях местности района. Особое внимание командира первой роты — ущелье Шинкутал. Вам ясно, капитан Уханов?
С места тяжело поднялся широкогрудый офицер с мрачным выражением лица. Ответил глухим басом:
— Так точно.
— Садитесь. Командиру второй роты освоить Торатанги. Ясно, капитан Ванин?
— Так точно, — голосом опередив вставание, доложил легкий, быстрый в движениях офицер.
— Садитесь. Капитан Щурков, вам остался Ширгарм. Главное направление. Думаю, вы уже догадались.
— Так точно, — рывком поднявшись, ответил Щурков. Худенький, жилистый, он был ростом меньше других офицеров, но все знали мнение комбата: мал золотник, да дорог.
Генерал встал и вышел из-за стола. Сказал задумчиво:
— Гляжу я на вас, товарищи, и думаю: трудно Бурлаку с вами. Верно? Все ротные — капитаны. Все — зубастые. Управу-то он на вас хоть имеет?
— Он имеет, — густо прогудел Уханов. — Он такой.
— И все же надо облегчить положение комбату. — Генерал молча оглядел аудиторию. — Короче, этот вопрос обсуждался в Москве, и там его решили. Капитану Бурлаку присвоено звание майора.
Все загудели, заулыбались. Бурлак, удивленный неожиданной и приятной для него новостью, растерянно смотрел на генерала. Тот вынул из кармана пару новеньких майорских погон и протянул комбату.
— Владей, Александр Макарович. Поздравляю!
— Тут бы не помешало и другое, — раздался чей-то озорной голос.
Генерал среагировал мгновенно:
— Тут-то как раз и помешало бы. Бурлак! Чтобы ни-ни!
Сразу все стихло. Генерал взял у комбата указку, которую тот так и не оставлял, подошел с ней к ящику с песком.
— До Дарбара, товарищи офицеры, сто двадцать километров. Прогулка для ваших машин на три часа. Верно, товарищ майор?
— Так точно, — ответил Бурлак, еще до конца не относя к себе новое звание.
— А идти вам дано три дня. Восемьдесят километров по «зеленке» — за один день. На остальное — два дня. И главная задача — дожить до Дарбара. Дожить во чтобы то ни стало.
Бурлак усмехнулся:
— А кто воевать будет, товарищ генерал-майор?
— Ты и воюй. Но помни главное — дожить до Дарбара. Других задач не ставлю. При этом советую помнить: сопровождение колонны — дело… — Генерал вдруг замолк. Улыбнулся, тряхнул головой: — Чуть не сказал «почетное». Но об этом замполит скажет. Он у вас новый. Три дня уже есть? Ну, вот и не стану у него хлеб отбивать. Только напомню: дело опасное, сложное, ответственное. Разделить всю ответственность за исход операции мне с вами не дано. Нести большую часть ответа положено единоначальнику. Остальное вам — пропорционально. Зато две другие категории зависят от вашего командирского искусства. Надо напряженно думать и чисто работать, чтобы любой риск свести до минимума. Предстоит подготовить техническое обеспечение операции. Организовать взаимодействие по времени и рубежам. Продумать мелочи. Уменьшить сложность насколько возможно. Это ваше дело, товарищи офицеры. Ваше!
* * *
Они вышли из класса втроем — Санин, Бурлак и Полудолин.
— Чаем напоишь? — спросил генерал и, закинув руку, крепко растер шею. — Жмет что-то сегодня. Одна надежда на твой чайник.
— У меня самовар, — скромно похвастался Бурлак.
— Да ну! — обрадовался генерал. — Говорил ведь кто-то — не поверил. А от самовара уезжать — просто неумно.
— Козюрин! — крикнул Бурлак. — Самовар!
Они расположились в штабе батальона. На стол вместо скатерти набросили чистую, хорошо проглаженную простыню. В глиняных плошках поставили фруктовый сахар, изюм, инжир. Появились из сусеков комбата чайные чашки Дулевского завода — широкие, веселые, расписанные золотыми цветами.
Генерал чаевничал с большим знанием дела. Он с удивительной домашностью прихлебывал чай из чашки, аккуратно брал с блюдца кусочки сахара, надкусывал, клал на место и снова прихлебывал. Лицо его, порозовевшее от удовольствия, вроде бы даже утратило часть той суровости, которая для всех делала его генералом и служила частью привычного вида, как пропыленные погоны с большой звездой.
— Кто заваривал? — спросил генерал, одновременно показывая большим пальцем, опрокинутым вниз, что просит еще налить ему чаю.
— Я, — ответил Бурлак, подвигая чашку к кранику. — Что, плохо?
— Наоборот. Так хорошо, что майора тебе можно было и раньше присвоить.
— Большим начальникам хорошо шутить, — сказал Бурлак, обращаясь к Полудолину, — им что…
Санин отставил чашку и засмеялся.
— Большой начальник? А ты их видел, больших-то? Какая у меня машина — знаешь? А больших начальников делает большая машина. Представляешь — черпая громадная бандура. Открывается дверца — как ворота.
Садишься, кладешь щеки на плечи. И повезли тебя. По асфальту. Может, забыл, как мы с тобой на Чарикаре в арыке ползали? Или такого не было? Ценю деликатность. Тактичному майору жить легче. А я забыть не могу. При генеральском-то достоинстве носом в тину…
— Не было ничего такого, товарищ генерал, — успокаивающе сказал Бурлак. — Замполит человек новый, невесть что подумать может. Плохо это.
— Я уверен, он человек думающий. Вот ты ему и подкинь материал для размышления. Пусть осмыслит привратности бытия.
— А почему я подкидывать должен? — спросил Бурлак с сомнением.
— Слыхал, что ты реалистично тот случай изображаешь.
— Треплются, — сказал комбат решительно. — Один раз как-то по свежим следам рассказал. Давно было.
— И теперь расскажи. Пусть не стареет история в памяти. Чего стесняться? Был ведь факт, как его отрицать? Все равно ведь когда-нибудь просветишь замполита. Не может быть, что умолчишь. А так при мне хоть выражения выбирать будешь. Короче, рассказывай.
— Я ведь тогда и про песню, — сказал Бурлак, бросая какой-то неизвестный Полудолину козырь.
— Все как есть, — подтвердил генерал. — Только сперва подними руку. И как там это: «Клянусь говорить правду, одну только правду…»
— Было это на чарикарской «зеленке», — сказал Бурлак, обращаясь к Полудолину. — И сложилась обстановка, что с меня генерал Санин стал снимать стружку. Не грубо, а мастерски. Тоненько. Можно сказать, этак бархатно. Для шлифовки натуры. Стояли мы под раскидистым ореховым деревом. Вдруг как жахнет! Метрах в пятнадцати…
— Будет тебе пугать, — перебил генерал ворчливо. — Я себя убедил, что метрах в восемнадцати было. Теперь ты уже ближе кладешь.
— Виноват, — сказал Бурлак. — Жахнуло, как товарищ генерал говорит, метрах в восемнадцати. Сверху на меня листья ворохом посыпались. Но стою. Меня ведь строгают. С места сойти не имею права. Вдруг гляжу, генерала нет. Не успел сообразить, где он, слышу, вторая мина подвывает. Я как был, так с ходу и нырнул вниз головой. В арык. Сверху — жах! Поднимаю голову: товарищ генерал позицию рядом держит. Вид, я скажу…
— Ты не стесняйся, не стесняйся!
— Нет, товарищ генерал, я про себя. Это не так опасно. А ваш портрет, боюсь, испорчу. Короче, я был хорош. Арык неглубокий. Воды в нем воробью по колено, а грязи — лошади по пузо. Вот и влип в эту жижу по горло. Ползаю, а поверху мины лупят. Был бы один, а то рядом начальство. Можно сказать, товарищ генерал меня отшлифовал до блеска, а я на его глазах снова в грязь.
— Но-но, Бурлак, — строго заметил Санин, — не хами. Излагай только суть событий.
— Так вот, лежим мы, значит, рядом, а генерал вдруг говорит: «Вылезу из этой ямы, отмоюсь, штаны поглажу и сажусь писать в Верховный суд заявление». Я не сразу понял и спрашиваю: «На кого и по какому поводу?» «А на тех наглецов, — это генерал говорит, — которые сочинили песенку «Как хорошо быть генералом». Я их к ответу привлеку». Я говорю: «Уже поздно. Народ ее вовсю распевает». — «Ничего не поздно. Важно справедливость восстановить. Если не засудят, то хоть слова изменить заставят». «Как?» — спрашиваю. «А пусть поют: «Как нелегко быть генералом…»
— Надо же! — смеясь, сказал Санин. — Говорили мне — не верил. Думал, присочиняет Бурлак. А он и в самом деле упомнил, как было. Ну-ну!
Санин помолчал, хитро поглядывая на комбата. Потом обратился к Полудолину:
— Слушай, замполит. Только по-честному. Не возникает ли у тебя мнение, что Бурлак немного завидует своему генералу? Впрочем, разве ты признаешься?
— Отчего же, — сказал Полудолин. — Думаю, в генералы он не прочь.
— Законное желание, Бурлак. Если без шуток — одобряю. И все же не рвись раньше времена. Выигрыш от этого невелик.
— Плохо верю, — сказал Бурлак скептически.
— Не веришь? Тогда покажу по пунктам. Во-первых, выигрыш. Получишь по сравнению с полковником двадцать рублей прибавки. Не больше, можешь поверить. Проигрыш — двухсотпроцентный рост расходов. Сам понимаешь, приходят гости к тебе — это одно. Придут к генералу Бурлаку — другое. Тут расстарайся, а себя покажи. Иначе скажут — генерал-то скряга. Во-вторых, сколько у тебя племянников? Двое? Станешь генералом — появится еще пятеро. Как пить дать. Могут найтись и внебрачные дети. Нет таких? А я разве сказал, что есть? Говорю: могут найтись. Для молодых генералов это типично. Я сам два письма получил. Почти одинаковые: «Не вы ли мой отец?» Правда, аллах миловал. Оба претендента оказались чуть постарше меня. Пойдем дальше. Впрочем, не пойдем. Ты холостой, и тебя это не заинтересует.
— Я женат, — сказал Полудолин. — Так что уж, пожалуйста, удовлетворите любопытство.
— Дальше проигрыши по жене. Одно дело — полковница. Ну, кто-то может из вредности назвать подполковницей. Ерунда! А вот когда станет генеральшей!.. Моя супруга сразу разницу уловила. Говорит: раньше благозвучней было: райская птица, полковница, секретарица. А теперь — серая мыша, парикмахерша, маникюрша…
— Почему же секретарица? — спросил Полудолин. — Секретарша.
— Э нет. Секретарица — жена секретаря. А секретарь секретаря — секретарша.
— Ясно.
— Раз ясно, поговорим о деле. На подготовку вам два дня. Используйте их с толком. Дарбар — орешек крепкий. Там, судя по всему, какие-то страсти у духов разгораются. Надо их пресечь в корне.
— Сделаем, товарищ генерал, — сказал Бурлак. — Разве вас мотострелки подводили?
— На то и надежда. Ты у нас фигура заметная. Не возгордишься, если одни факт доложу?
— Думаю, нет.
— В одном из душманских донесений о тебе писали: «Этот сипасалар только для маскировки носит знаки турэна».
— Турэн — капитан, знаю. А сипасалар?
— Это военачальник. Не командир, а именно военачальник. К примеру, меня они так еще не называли.
— Назовут. Все еще впереди.
— Смотри, какой добрый сипасалар! А может, мне хочется, чтобы назвали спасаларом?
— А это что? — спросил Полудолин.
— Это куда скромнее, просто — полководец. Все трос засмеялись.
Потом комбат и замполит проводили генерала до машины. Уже садясь в нее, Санин пожал руку Бурлаку:
— Помни, майор, главное для тебя и твоих орлов — дожить до Дарбара.
— Постараемся, — ответил Бурлак и посуровел: — Нелегко это, но приказ есть приказ.
— Ну, ни пуха!.. — И генерал захлопнул дверцу.
— Он меня удивил, — сказал Полудолин, когда машина отъехала. — Это что, задача — дожить до Дарбара? Сказано, будто пионерам на уборке картофеля: убрать отсель досель, но не перетрудиться. Чтобы животики не заболели. Я так не привык. Мы воюем, и жертвы неизбежны.
— Оставь! — сказал Бурлак строго. — Сейчас об этом некогда. После всех дел поговорим.
КИШЛАК УХАНЛАХ. РАЙОН ДЕЙСТВИЙ БАНДЫ ХАЙРУЛЛОХАНА
Красивый гнедой жеребец, тяжело переступая стройными ногами, нес на себе мрачного седока в шелковой черной чалме.
Саркарда [4] Хайруллохан, главарь душманской группировки, был с утра зол и гневался на окружающих по пустякам.
Огромный, грузный, как деревянная колода, из которой у колодцев поят баранов, он сидел на коне, разопревший от съеденного час назад мяса, и сопел, ощущая, как бродят внутри его соки и газы.
Лицо у Хайруллохана корявое, будто вылепленное скульптором, который поленился доработать свое творение до конца — убрать грубые мазки, разгладить морщины. Густые брови охватывали подлобье широкой черной дорожкой, не оставляя привычного пробела на переносице.
Низкорослый, широкогрудый, он сидел на коне, раскорячив кривые ноги, непривычные к пешему ходу. Свои короткие пальцы саркарда украшал массивными перстнями с камнями-печатками. Он любил дышать на них, потом тер о полу одежды и, отставив руку, любовался игрой камней.
Кроме пристрастия к еде и дорогим камням, все меньше оставалось у Хайруллохана радостей в жизни. По ночам ему снились кошмары, и он вспоминал тех, чью кровь пролил, как воду, кого приказал зарезать, замучить, сжечь. Но чем чаще ему вспоминались жертвы, тем более жестоко он относился к другим, кто попадался ему в руки. Так новой кровью старался он смыть с рук запекшиеся пятна старой.
Не ладилось и со здоровьем: обжорство и излишества давали о себе знать. Без того не очень опрятный, жирный и перхотливый, он пропах острым запахом мочи и пота, и люди, с которыми ему приходилось иметь дело, только из страха не отходили от него подальше и не зажимали нос.
Сейчас, въезжая в родной кишлак, где его знали и помнили с детства, Хайруллохан принял вид царственный, надменный.
Он сидел на коне вольно, слегка избоченясь. Левой рукой небрежно держал повод, правой, с плетью, опирался о бедро. Слева и справа от него гарцевали верные подкопытники, готовые по первому знаку бить, убивать, казнить своих и чужих, правых и виноватых.
Из затхлого тупичка, зажатого между дувалами, на дорогу выкатилась шаром рыжая лохматая собачонка. Заливисто лая, она бросилась наперерез лошадям. Конь Хайруллохана дернулся, фыркнул. Личный телохранитель саркарды Хамид, ехавший справа, повел рукой.
Грянул и прокатился по уличному коридору раскатистый выстрел. Собачонка, отброшенная ударом пули, ошалело взвизгнула и в последнем своем мучении опрокинулась у серого камня, что лежал вблизи дувала.
Никто не проронил ни слова.
По кишлаку ехали хозяева. Ехали карать и миловать. Каждая собака должна была знать и свято помнить об этом.
Хайруллохан признавал только силу. Да и как он мог поступать иначе?
Закон гор — сила. Значит, надо всегда быть сильным. Хочешь видеть себя первым, будь сильнее других, не уступай ни в чем никому. Он понял это раньше многих других и ушел со своими людьми к американцам.
Переговоры с ними вел открыто, не таясь. Там, в Пакистане, он сказал мистеру Каррингтону прямо: «Вот я, вот мои люди. Мы умеем многое. Дайте нам оружие. Подкиньте денег. Признайте мою самостоятельность в рамках своих планов. Не позволяйте другим бекам раздавить меня».
Всю силу мускулов он превратил в напористость. И добился своего. Мистер Каррингтон понял — другого такого подручного найти будет не просто, даже если очень пожелаешь.
Своими жестокостями Хайруллохан наводил на местное население дикий ужас. Его звали Хайрулло-Табар — Хайрулло-Топор. Узнав об этом, он втайне возгордился таким именем. Считал, что только жестоких властителей народы возводят в своей памяти на пьедестал величия.
Какой царь, шах, король, какой полководец добрый и великодушный остался в памяти людской, записан в книги истории? Нет, таких Хайрулло не знал. Правда, он и не читал многого в своей жизни, но уши его всегда были открыты. И ни одно доброе имя в них не вошло, ему не запомнилось. Врезались в память, будили чувства только воспоминания о жестоких и безжалостных. О тех, чья слава замешана на крови, кто в равной мере резал и лил без сожаления кровь врагов и тех, кто считался его друзьями. Таких вот и помнит история. От Искандера Двурогого, великого завоевателя мира, до этого… с черными усиками, звали его, кажется, Гитлер…
И все же одна только жестокость не помогла Хайруллохану воздвигнуть себе тот трои, о котором он так мечтал. Сколько ни старался — кровь из зубов! — а выбиться в лидеры душманского движения не смог. С порога, где начиналась лестница в большую политику, ступени устилал ковер из долларовых бумажек. А их в таком количестве у саркарды не имелось. Было кое-что, но не сравнить с тем, что мог затратить на свои авантюры Гульбеддин Хекматиар или Сайед Ахмат Гилани, будь прокляты имена этих пожирателей трупов! Ожиревшие на крови и наркотиках, эти богачи никому не позволяют пробиться вверх, встать с ними вровень. Те, кто хоть чем-то прогневал вождей, исчезают мгновенно и бесследно.
В окружении Гульбеддина все определяет умение плести интриги, наушничать, святошествовать и, конечно, подстилаться половиком перед вышестоящими.
Со злобой думая о тех, кто попирал его, Хайруллохан сам насаждал вокруг себя угодничество, пригревал пресмыкавшихся, безжалостно карал самовольных и самостоятельных.
Паук есть паук, и когда ему в сеть не попадаются мухи, он готов сожрать собрата, явившегося в гости.
Хайрулло был пауком думающим. Он предвидел, что его могут смять, и, размышляя о будущем, в последнее время тревожился все больше. Те, кого душманы долгое время считали мухами, все более походили на ос, защищающих родное гнездо. Их все опаснее и опаснее становилось тревожить.
Недавно в кишлаке Друнд жители встретили огнем группу людей Хайрулло. Пять человек было убито, десять ранено. Саркарда, узнав о случившемся, хотел сам пойти в Друнд, огнем и мечом покарать дерзких строптивцев, но ему доложили, что в кишлак направили отряд правительственных войск. Кару пришлось отложить.
Больше всего в этой истории Хайруллохана бесило то, что оборону против его мужахидов в Друнде организовали женщины. Это они встретили огнем и отбили его отряд.
В кишлаке Смец босяки-крестьяне задержали его разведчиков и передали царендою.
«Мухи» все больше ощущали силу и сопротивлялись. Может быть, все же верна пословица, гласящая, что Афганистан — улей, где много злых пчел и мало сладкого меда?
Раздражало, даже приводило в бешенство Хайруллохана и то, что в последнее время люди, приходившие из Пакистана и передававшие поручения из душманских центров, все меньше считались с его собственными интересами. Вчера, к примеру, прибыл с той стороны сам полковник Исмаил, человек, облеченный большим доверием американцев. Не допуская никаких возражений, он потребовал от саркарды активизировать действия и взять Дарбар.
— Вы его возьмете, — говорил полковник Исмаил. — В это верят наши американские друзья. С вашим искусством такая операция — сущий пустяк.
«Я возьму, — думал Хайрулло, — и останусь совсем один, без войска. Грош цена погонщику, который теряет свой караван».
Они долго спорили и торговались.
Полковник Исмаил обещал пополнить отряд в случае больших потерь.
Хайруллохан клялся, что ему дорог каждый его мужахид и пополнение ничем не восполнит его скорби по потерянным соратникам.
Полковник Исмаил обещал саркарде вдвое увеличить личный приз, который полагался победителю в случае успеха.
Хайрулло согласился принять пополнение, но сказал, что сомневается в успехе операции.
Тогда полковник Исмаил бросил на чашу весов еще одну гирю. Он сказал, что действия саркарды поддержит род Абдулл Кадыр Хана, который до сих пор занимал нейтральную позицию.
Хайрулло понимал, что от его согласия или несогласия мало что зависело в планах, которые излагал полковник Исмаил. Стоит лишь отказаться от подчинения, и ты человек пропащий. Гульбеддин и другие вожди найдут способ убрать ослушника.
Саркарда согласился, выторговав все возможное для себя. Но на сердце покоя не было. Будущее беспокоило Хайруллохана. Более того — пугало.
Всадники, миновав тесную улочку, выехали к дукану.
Любой дукан — не просто торговая точка в глухом кишлаке. Это прежде всего центр общения местного населения, кладезь окрестных сплетен и международной информации.
Выбираясь из домов, окруженных крепостными стенами высоких дувалов, афганцы идут прежде всего в дукан. Там встречаются знакомые со знакомыми, туда заходят приезжие, привозящие известия издалека.
Из дуканов выползают и стелются по кишлакам «миш-миш» — деревенские сплетни. Здесь рождается общественное мнение, и порой не так-то просто бывает распознать, что его формирует не кто иной, как хитрый дукандор — фигура не менее значащая в иерархии местных персон, чем сам мулла.
Духовный настрой в кишлаке во многом зависит от того, какую политику проводит дукандор, какие убеждения он исповедует.
Зариф, дукандор кишлака Уханлах, был мучеником собственной зависти и неумеренной жадности. В ином случае ему бы посочувствовали, но вряд ли можно найти змею, которая пожалела бы мышь. А Зариф был для всех истинным аспидом.
В родном кишлаке он всех опутал кольцами, всех сосал, беспощадно вытягивая последние соки. Он пользовался властью денег, которые у него водились, беззастенчиво и жестоко. Мог пустить по ветру строптивого должника, но мог и бросить подачку оказавшемуся в нужде батраку, с тем чтобы еще крепче опутать его долговой кабалой.
Но как бы ни поступил Зариф, слава о его справедливости передавалась из уст в уста. «Конечно, — говорили близкие дукандору угодники, — Зариф покарал босяка Азамата, но разве он не назвал благодетеля гиеной?»
Приходилось всем остальным, слушающим такие слова, кивать с одобрением: «Да, нехорошо поступил Азамат. Нехорошо. А Зариф справедлив!»
Попробуй не кивни при таком разговоре, не поддержи хвалу — Зарифу доложат немедленно. Стоило ли испытывать судьбу и гневить сильного, если Азамату все равно ничем не поможешь?
Дехкане-базгары не любили, но боялись Зарифа. Зариф не любил, но боялся базгаров. Боялся и не терпел он и Хайруллохана. Не терпел и в то же время понимал: сгинут душманы — ему самому конец.
О том, что саркарда со своими дарамарами [5] въехал в кишлак, Зарифу стало известно раньше, чем Хайрулло достиг дукана.
Дукандор встретил гостей у входа в свое заведение. Он низко поклонился Хайруллохану, прижимая обе руки к животу. Распрямившись, поднял круглое как блин лицо, расплылся в угодливой улыбке.
— Аллах да благословит ваше прибытие, великий сипасалар! Всякий раз, когда вы со своими воинами появляетесь в нашем кишлаке, словно месяц в свите великолепных звезд, все правоверные дышат свободно и радостно. Меч аллаха в верной руке…
Хайрулло слушал льстивые речи, не скрывая презрительной улыбки. Он слегка горячил скакуна, и дукандору приходилось крутить брюхатым телом и арбузоподобной головой, чтобы все время видеть глаза саркарды душманов.
Этих двух людей давно связывали сложные отношения. Лет десять назад вот так же заискивающе крутил головой Хайрулло, обращаясь к дукандору, который промышлял ростовщичеством. Занятие это для мусульманина запретное. Ислам не разрешает правоверному брать проценты с единоверцев. Но когда мелкому землевладельцу позарез нужны деньги, находятся любые оправдания, чтобы обратиться к ростовщику. Больше того, никто и не помыслит донести на нарушителя заповеди. В случае доноса ростовщика накажут, но его собратья сделают все, чтобы задушить доносчика долгами, пустить по ветру. А то и наймут умельца с ножом — для верности.
Вступив на путь бандитизма, Хайруллохан открыл для себя источник средств, с которых не берут процентов. И многое в его жизни переменилось. А когда он возглавил группу банд, ростовщики уже считали за честь, если им удавалось прикоснуться к носку его сапога. В своих руках саркарда нес смерть непокорным. Взяв оружие для «защиты» веры, Хайруллохан мог сам назначать ее врагов и определять им кару.
— Благослови аллах ваше прибытие, сипасалар, — славословил дукандор. — Только вы можете выжечь скверну, взошедшую в садах правоверных…
Саркарда по голосу Зарифа понял, что тот имеет в виду не скверну вообще, а кого-то конкретного, кто живет в кишлаке и чем-то досадил дукандору. Вся нечисть чувств, бродивших в душе с утра, вскипела и выплеснулась гневом, Хайрулло звонко хлестнул себя плеткой по голенищу.
— Где?! Кто?!
— К кузнецу Ассияру приехал сын из Кабула. Смутьян и вольнодумец. Я думаю…
— Не утруждай себя, Зариф. Думать буду я.
Хайрулло снова щелкнул себя плетью по сапогу. Пусть все видят, каков он в своей строгости. Пусть видят все, что тому, кто несет меч аллаха, необязательно выяснять степень вины согрешившего. Важно лишь указать грешного, а уж саркарда сам определит тяжесть наказания. Велик аллах! Ревностны его слуги!
— Хамид, — не поднимая голоса, повелел Хайрулло, — двух человек. Взять и привести сюда сына кузнеца Ассияра.
С места сорвались и поскакали галоши по тесной улице два дарамара. Ах, какие они у Хайрулло послушные и старательные! Только прикажи — враз схватят неверного, притащат, бросят к ногам. Моргни — тут же разорвут того на куски, выпотрошат кишки, затопчут в грязь!
Некоторое время спустя мужахиды вернулись. Подталкивая в спину стволами автоматов, они гнали впереди себя связанного босоногого парня.
— Он? — брезгливо спросил Хайрулло, указывая на пленника плеткой.
Арбузоголовый дукандор угодливо изогнулся тучным телом, оскалил зубы в улыбке.
— Он, великий хан! В нашем кишлаке все его знают. Он!
Приблизившись к саркарде, дукандор отер рукавом носок его сапога.
— Нурмат! — позвал Хайрулло. — Приготовь нам свой адский огонь.
— Гы, — осклабился гнилозубым ртом лохматый Нурмат и, пришпорив коня, помчался искать принадлежности для страшного обряда, которого так жаждал саркарда.
Хайрулло тронул коня и приблизился к пленнику. Парень стоял опустив голову. Руки, заложенные за спину, связывала черная волосяная веревка. Лицо украшали кровоподтеки и ссадины. Его, должно быть, протащили по каменистой земле. Босые ноги почернели от грязи.
— Ты продался неверным, сын кузнеца Ассияра? — спросил Хайруллохан. — Правда ли это?
— Я не сын кузнеца Ассияра, — ответил парень. — Я сын охотника Шахзура.
Саркарда понял — мужахиды схватили не того человека. Возможно, ошиблись, а может, просто и не искали. Считали, что можно приволочь первого, кто попадет на глаза. Наливаясь бешенством, Хайрулло повернулся к дукандору:
— Зариф! Когда ты раскрываешь рот, не закрывай глаза! Разве это сын кузнеца?!
Дукандор вскинул вверх обе руки:
— Великий хан, да благословит аллах ваши дни! Скорпион ничем не лучше тарантула. Зачем вам обременять себя ловлей обоих? Сын кузнеца — студент, а сын охотника — учитель. Разве это не одно и то же?
«В самом деле, — подумал Хайрулло, — разве не аллах пишет строки в Книге жизни? Значит, глупец, который попал мне в руки, приговорен всевышним. Будь он без вины, разве ему бы выпало попасть на глаза мужахидам? Всемилостивый сам бы отвел беду».
Чуть привстав на стременах, саркарда оглядел людей, собравшихся возле дукана. Поднял руку, призывая к вниманию. Жеребец, испуганный этим движением, заартачился, заходил на задних ногах, пытаясь встать на дыбы.
— Правоверные! — возгласил Хайруллохан, осадив коня. — Отцами нашими сказано, что хороший плод не падает далеко от родного дерева. Только семена сорняков таскает шайтан по всей земле. Разве вы видели, чтобы миндаль или гранат катался в степи, как куст колючки? Почему же ваши дети уподобляются сорнякам? Почему вы разрешаете им уходить в города, набираться там дерзости и безверия? Они уже не хотят служить вере. Они топчут зеленое знамя ислама. Но мы, стражи веры, не прощаем отступничества. Человек, съевший змею, сам становится ядовитым. Таких ждет только одно — смерть!
Произнося речь, Хайруллохан даже вспотел от напряжения. Ему и самому нравилась мудрость, которую он изрекал в последнее время.
Давая себе передышку, он повернул голову к пленнику:
— Ты меня понял, сын шайтана?
— Нет, я не понял, о чем вы говорите.
Шорох прошел по толпе. Парень не боялся страшного душмана.
Саркарда нервно дернул головой. Он почувствовал, что люди сейчас думают совсем не то, что он пытался им внушить. А раз так, непокорность надо душить. Душить! Выжигать!
— Он не понял! Да ты и понимать не должен! — вспыхивая слепой ненавистью, закричал Хайрулло. — Главное, чтобы ты знал: все люди в этом мире смертны. Час твоей кончины обозначен в Книге судеб. Чем больше ты будешь понимать, тем скорее настанет твой конец.
— Твой конец, проклятый ашрар, тоже настанет! — с ненавистью произнес пленник.
Хайруллохан дернул повод. Жеребец снова загулял, закуражился.
— Иурмат! — крикнул саркарда. — Ты готов? Начинай! Отожги поганцу язык!
Трое душманов набросились на связанного парня, повалили его и стали пеленать в белый саван. Двое других подкатили к месту казни три автомобильные покрышки. Поставили их вертикально. Внутрь каждой налили из канистры бензина. Всунули связанного парня в покрышки, как в обручи.
Пробиваясь сквозь толпу, стоявшую на улице возле дукана, к саркарде, громко стеная, подошла женщина. Это была старуха, худенькая, с лицом, потемневшим от невзгод. Она высоко поднимала в вытянутых руках книгу в потертом переплете.
— Великий хан! — упав на колени перед Хайрулло, слезно молила старуха. — Пощади сына! Помилуй! Мы все прах у твоих ног. Ты велик и светел! Пощади! Век будем помнить твою милость!
Кривоногий Хамид, горяча рыжего коня, оттеснил старуху от Хайруллохана. Потом быстрым движением ноги, обутой в сапог, выбил из ее рук книгу. От удара страницы разлетелись в стороны.
Старуха упала на землю, схватившись руками за голову.
— Вай-улей! — запричитала она в ужасе. — Эблис! Богохульник! Это Коран. Как ты посмел?!
Конь Хамида, гарцуя, втаптывал в прах одну из страниц, исписанных арабской вязью. Душман, ощерив зубы, взмахнул нагайкой и полоснул старуху сверху вниз вдоль спины.
— Шатайя! — рявкнул он. — Гулящая баба! Подстилка сатаны! Убирайся, пока я добрый! — И захохотал дикообразно.
В воздухе снова свистнула тяжелая плеть.
— Начинай! — приказал саркарда Нурмату.
— Отходи! — крикнул душман исступленно и, чиркнув спичкой по коробку, бросил огонек в шину.
Ухнуло, полыхнуло огромное пламя. Загудел, забушевал в шинах яростный костер. И сразу раздался истошно-дикий крик казнимого.
Люди, видевшие пылающее кипение огня, слышавшие нечеловеческий вой, полный ужаса, нестерпимого мучения, замерли, окаменели в шоке. Никто не двинулся, не произнес ни слова. Казалось, никто не дышал, окаменев.
Только мать несчастного ползала по земле и хватала за ноги коня саркарды. У нее уже не было сил кричать или плакать. Она только двигалась и шептала:
— Будь проклят Хайрулло — шайтан огня! Будь проклят!
Хайруллохан взял скакуна в шенкеля, подталкивая его к костру. Конь, пугаясь пламени, нервно перебирал ногами, артачился, не желая приближаться к огню. Тогда саркарда достал пистолет и, не утруждая себя прицеливанием, трижды нажал на спуск. Крик стих.
— Я милосерден, — сказал Хайрулло в наступившей тишине. — Но вы теперь знаете, как выглядит грешник, попавший в ад.
Огонь продолжал полыхать. Душманы бензина не пожалели. Казалось, вокруг горят даже камни. Смрадный дым черными лохматыми хлопьями вырывался из закрученного ветром пламени и поднимался вверх по крутому склону горы, нависавшей над кишлаком.
Хайрулло пришпорил коня, слегка отпустил повод и коротким галопом поскакал прочь. За ним последовало окружение.
* * *
Главари бандгрупп собрались на совещание. Свой дом им предоставил дукандор Зариф.
Хайрулло злился и не старался этого скрывать. На совещание в Уханлах не приехал капитан Кадыр. Не потому, что был далеко или ему не позволили обстоятельства. Просто не счел нужным встречаться с Хайруллоханом. И все. Прислал вместо себя никчемного дурачка Гапура, чтобы лишний раз подчеркнуть, во сколько он ценит тех, кто стоит над ним.
Полковник Исмаил, успокаивая Хайруллохана, пообещал сам поехать к Кадыру, сделать ему внушение и поставить задачу. Пакистанец всячески обхаживал саркарду, не скупился на посулы. Но Хайрулло все же сумел отыграться на самом пакистанце.
Полковник решил лично уточнить боевые задачи. В доме дукандора Зарифа, где готовился прием для главарей бандгрупп, он развернул карту и стал объяснять, кому, где и что надо сделать для того, чтобы задушить Дарбар и не допустить подхода помощи с севера.
Хайруллохан подошел к столу, взглянул брезгливо на карту:
— Вы мне бумажки не показывайте, уважаемый господин. Аллах дал нам живую землю, и я знаю ее такой, какой она сотворена. В бумажке пусть разбирается Кадыр Хан. А я и так скажу своим, куда идти и что делать.
Командиры покорно склонили головы. Большинство из них также ничего не понимали в бумажках, и Хайрулло, презиравший карты, казался им своим, близким, понятным.
Конечно, они выслушали все, что им пытался втолковать пакистанец, но, впуская его умные советы в одно ухо, выпускали их сквозь другое.
Когда полковник кончил говорить, слово взял Хайруллохан.
— Все поняли? — спросил он язвительно. — Так и поступайте. Наш друг очень хорошо знает войну. Его советы не имеют цены. Следуйте им в большом и малом. А теперь я скажу вам, что еще надо делать.
Саркарда оглядел своих командиров и увидел их довольные лица. Все понимали: надо будет поступать именно так, как повелит Хайруллохан.
— Уважаемый капитан Кадыр, — сказал саркарда, — занял позиции на Ширгарме и прирос там задом к камням. Я не знаю, как его оторвать от них и повести на Дарбар. Но я спокоен. Шурави не пройдут через Ширгарм. А если капитан Кадыр побежит, то угощение в Ухаилахе его ждать не будет.
Командиры одобрительно закивали. Хайрулло с удовольствием думал о том, как Гапур доложит Кадыру, что говорили о нем. На сердце стало несколько легче.
С другими главарями Хайруллохан говорил мягко, вежливо, даже ласково, всячески выказывая особое к ним расположение.
— Вы, уважаемый господин Сайд Падшах, пойдете на Дарбар со стороны западных ворот. Пусть ударит разом вся топхана [6]. Я верю, сила аллаха повергнет в прах стены, укрывшие неверных.
Сайд Падшах выступил вперед, прижал руку к животу и слегка поклонился. Вытянутое, лошадиное лицо цвета мореного дуба не выражало никаких чувств, кроме сытости. Он выпячивал толстые, чувственные губы и только кивал в такт словам саркарды. При этом его нос, висевший над черными усами, большой, как средних размеров баклажан, зыбко подрагивал.
— Вы, благородный Мухаммад Панах, с вашими храбрыми мужахидами пойдете на крепость со стороны восточных ворот…
Круглолицый Панах, заросший бородой от ушей до глаз, величественно кивнул. Он считал, что джагра [7] не будет суровой. Осада уже истомила правительственных солдат, где им устоять против его бедовых мужахидов, рвущихся к поживе.
— Я вас понял, Хайруллохан.
— Бейте их, благородный Мухаммад Панах! Никакой им пощады! Аллах да пошлет вам удачу!
Он был подчеркнуто вежлив со своими головорезами, этот атаман, который всего час назад заживо сжег человека. Сжег, не дрогнув ни одним мускулом, не испытав иных чувств, кроме сладостного расслабления вялых мышц внизу живота.
Он играл в эту непривычную для него вежливость, чтобы чертов пакистанец ощутил всю глубину невежливости, обращенной саркардой к нему, гордому полковнику.
Окончилось совещание. Дукандор Зариф пригласил душманскую знать в сад, к арыку, где уже было приготовлено угощение.
Тут саркарду ожидал неприятный сюрприз. Пакистанец, выслушав приглашение, не изобразил на лице подобающей радости.
— Уважаемый господин Хайруллохан, — сказал он сухо и официально, — я вынужден уехать. Желаю вам успехов во имя аллаха!
Полковник Исмаил держался подчеркнуто строго. Он не забыл язвительности, с которой саркарда разговаривал с ним, когда определялись боевые задачи. Теперь он мстил своим ответом. Все ясно видели, что представитель зарубежного руководства относится к Хайруллохану холодно. Значит, не ценит его. Это неизбежно приведет к тому, что саркарду перестанут ценить и те, другие, от кого зависит его судьба.
Хайруллохан мгновенно уловил перемену в поведении пакистанца. И тут же просчитал, что именно тот старается показать окружающим. Уж что-что, а просчитывать чужие ходы интриганы умеют безупречно.
Поняв, что может ему грозить, если пакистанец сейчас уедет, саркарда изменил тон и поведение.
Расплываясь в улыбке, тая злобу в показном радушии, Хайрулло сумел согнуть колодообразный стан в почтительном полупоклоне.
— Высокочтимый полковник Исмаил, — начал он медоточиво, — мы нижайше просим вас изменить принятое решение. Вожди боевых отрядов опечалены вашим скорым отъездом. Еще больше будет горечь мужахидов. Я обещал людям, что вы прочитаете проповедь. Это известие было встречено с ликованием. Мы надеемся, высокочтимый гость, на ваше сердечное согласие.
Полковника Исмаила устраивал такой ход Хайруллохана. Он сейчас больше всего заботился о том, чтобы наступление на Дарбар началось. С успехом этого дела хозяева связывали большие надежды и планы. Допустить срыв штурма никак нельзя. Поэтому, сделав вид, что меняет планы, полковник все же сумел уколоть саркарду:
— Вы, уважаемый Хайруллохан, оказывается, не только мужественный сипасалар, но и светский ширинзабан [8]. Это удивительно в наше суровое время.
Главари вышли во двор, где под большим навесом хозяева уготовили пир. Все расселись в круг, ааняв места, как обычно, по старшинству.
Рядом с Хайруллоханом справа и слева устроились командиры больших отрядов. Дальше уселись начальники групп поменьше, специалисты по разведке и минному делу, получившие подготовку в Пакистане.
Муллави, бледный, с лихорадочным румянцем на скулах, вознес хвалу аллаху. Все погладили ладонями бороды и придвинулись к дымящимся блюдам. Поначалу ели молча, только сопели, чавкали, урчали. Огромный верзила со шрамом под носом подавился и начал икать. Несколько глотков воды не помогли ему, и он, отставив чашу в сторону, снова принялся за еду: пихал в рот плов, жевал, икал и глотал, давясь.
Хайруллохан не обращал внимания на такие мелочи. Он знал, эти люди — волки, и чем больше в них сохраняется звериных инстинктов, тем спокойнее среди них ему самому. Его пугало, когда рядом появлялся умник. Такой пострашнее врага: он сразу начинал борьбу за власть, старался оттеснить всех других от вершины, которую положено занимать сильнейшему. С такими он расправлялся быстро. Этот икающий верзила и вершил суд аллаха по указанию саркарды, убирая умников и всех тех, кто просто не нравился Хайруллохану.
Сам Хайрулло хорошо знал свои достоинства. Он выскочил вверх и уселся на спине слона власти не потому, что был слишком умен или грамотен. Он взял счастье силой и жестокостью. Но ведь может найтись еще такой же удачник. Нет, лучше уж пусть у него под рукой ходят злые, голодные, но не очень умные серые волки. На таких он легко найдет управу. Люди, как стадо, послушно идут за вожаком.
Лениво шевеля губами, блестевшими от жира, пережевывал мясо чернобородый блинолицый Мухаммад Панах. Он ни на кого не смотрел, а если и бросал взгляд, то вряд ли что видел. Его красные, налитые кровью глаза бессмысленно блуждали.
«Уже согрешил», — подумал Хайрулло и отвел взгляд в сторону. Он знал — Мухаммад Панах делит душу между аллахом и алкоголем. Причем алкоголь все больше вытеснял аллаха из дел и помыслов когда-то истинного борца за веру.
О тайном пристрастии главаря крупной банды к питию спиртного знали даже в далеких кишлаках, где орудовал Мухаммад Панах. Между собой базгары называли его Шараби — пьяный, алкаш.
В иное время следовало бы сурово взыскать с пьющего как с отступника от заветов веры. Взять и отсечь ему голову. Было бы полезно это сделать для устрашения тех, кто готов променять веру в аллаха на булькающую бутылку. Но Хайрулло сохранял вид, что ничего не ведает. Мухаммад Шараби — палач, костолом, насильник — также был верным псом и ни разу не показал зубов Хайрулло. Больше того, он готов горло порвать любому, кто осмелится поднять руку на саркарду.
В стороне, словно стараясь не маячить перед глазами Хайруллохана, крутя жирными пальцами большую баранью кость, аппетитно объедал с нее мясо Мобврак Шалла — Настырный Мобарак, начальник разводки банды. В прошлом ловкий торговец, промышлявший всем чем можно — от золота до наркотиков, — он укрылся у душманов от правосудия.
Однажды в Герате, прельщенный возможностью легкой наживы, Шалла зарезал покупателя, явившегося к нему за товаром. Скрыть преступление не удалось, и Шалла бежал в Пакистан, объявив себя «борцом за веру». Там он пробился к руководству душманским движением, стал заниматься разведкой.
Поначалу дела у Шаллы шли неплохо. Используя старьте торговые связи с дукандорами, мелкими торговцами на базарах, он сплел широкую мелкоячеистую сеть. Забрасывая ее даже без специальной целя, Шалла выуживал немало информации, интересовавшей как душманов, так и мистера Каррингтона.
Одновременно Настырный наладил доставку наркотиков в Западную Европу через Афганистан. Он получал товар, поставляемый душманскими караванами, из сусеков Гульбеддина и Гилани, затем небольшими партиями перепродавал его оптовикам в Герате, Кабуле, Кандагаре. Оттуда купцы, маскируя отраву в сухофруктах, отправляли ее в ФРГ.
Однако бизнес и разведка у Настырного шли все хуже и хуже. Набиралась опыта ХАД — служба афганской госбезопасности. Был разгромлен ряд душманских банд. По кончикам нитей, тянувшихся от них, контрразведка вышла на осиные гнезда Настырного и ликвидировала многие из них.
Советские таможенники обнаружили нисколько крупных транспортов с наркотиками, переправленными на Занад Настырным. Канал, который считался надежным, оказался перекрытым.
Чтобы убрать Шаллу с глаз, душманские вожди определили его в банду Хайруллохана. И здесь Настырный понял — карьера его пошла к закату.
Самолюбивый Хайруллохан встретил назначенца, недавно бывшего в фаворе у великих вождей, с нескрываемым подозрением и пренебрежением. Боевые неудачи своих банд он списывал на счет недостатков разведки. Шалла постоянно чувствовал нож Нурмата, палача Хайрулло, на своем горле.
Вот и сейчас, обедая в званом обществе, Мобарак Шалла ощутил на себе ненавидящий взгляд саркарды и пришел оттого в гадкое настроение. Что готовит ему этот старый пес, пропахший мочой? Конечно же, ничего хорошего.
Когда трапеза подошла к концу, Хайруллохан через достархан громко обратился к Шалле:
— Уважаемый Мобарак, прошу вас, подойдите ко мне.
На предательски ослабевших ногах, похолодев от недобрых предчувствий, Настырный приблизился к саркарде. Низко поклонился.
Борода не украшала его лица, лишь обозначала мужское достоинство. На рыхлом бабьем лице с отвислыми щеками она росла клоками, жесткая, будто одежная щетка, вытертая от частого употребления.
Шалла угодливо сгибался перед Хайруллоханом и прижимал руку к груди так сильно, что побелели костяшки пальцев.
— Я все чаще думаю, Мобарак, — сказал Хайрулло, растягивая слова. Все вокруг разом притихли. Только Мухаммед Шараби что-то жевал отрешенно, погрузившись в мир пьяных грез. — Я все чаще думаю, не перекинулся ли ты к неверным.
— Будь я проклят аллахом!.. — горячо воскликнул Настырный.
— Чем же тогда объяснить, — властно перебил его Хайруллохан, — что шурави все чаще появляются внезапно, и не там, где их ждут?
— Шайтан их помощник, великий хан! Будь они прокляты, эти неверные! — заскулил Настырный.
— Сегодня, Мобарак, мы начинаем великое дело. Если твои глаза и уши подведут нас, я не стану вести пустых разговоров. Уши, которые не слышат, — зачем они псу? Глаза, которые не видят, — зачем они верблюду?
— Великий хан…
— Не дрожи, Мобарак. Я тебя не стану казнить, — сказал Хайрулло брезгливо. — Я прикажу обрить тебе бороду и отдам в жены Черному Джамалу. Он тебя в два вечера обучит бабьему делу, коли ты не можешь заниматься мужским.
Дикий хохот разорвал напряженную тишину. Все были довольны. Ах, как умеет шутить этот Хайруллохан! Даже чопорный пакистанец и тот улыбнулся. Угроза, прозвучавшая только что, понравилась ему своим поистине восточным духом.
— Ты сам, Мобарак, сам лично займись выяснением правды. Если шурави ударят мужахидам в спину, когда мы станем штурмовать Дарбар, считай себя женой Черного Джамала.
Низко кланяясь, Настырный попятился от саркарды и покинул пиршество. Надо было выполнять приказ.
После трапезы на небольшой площадке перед джуматом — кишлачной мечетью — душманы собрались на моление. Его проводил полковник Исмаил, надевший по этому случаю чалму.
— Алла, алла акбар! Арахим, арахман, маленкин, мустафир…
Полковник тянул молитву гнусаво, будто прогонял слова через нос.
— Арахим, арахман… — машинально повторяли за ним привычные славословия аллаху молящиеся и оглаживали ладонями щеки.
Окончив молитву, полковник Исмаил поднял голову и посмотрел на собравшихся. Лицо его стало благостным, умиротворенным.
— Воистину сказано, — начал он проповедь, — ничто и нигде не скроется от глаз аллаха. Он увидит во зле добро и различит зло, которое прикидывается добром. Насторожите, правоверные, уши ваших душ, и тогда добрые вести войдут в них без остатка. Перед порогом великого служения вере стоит каждый из нас в эту минуту. Борцов за веру сегодня разбудил и поставил на ноги священный призыв. Вы слыхали, должно быть, что неверные объявили о том, будто их полки уходят домой. Усмотрим суть этого дела, как велит аллах. Воистину говорю вам — дело это поганое. Это зло, которое окуталось добром, Если тебя укусила змея, то, даже умирая, ты должен убить ее, не дать уползти ей в нору. И мы должны, как молитву, принять и повторять слова: «Все неверные пусть останутся в земле, на которую приходили».
— Верно! — разом выкрикнули голоса заводил, заранее назначенных Хайруллоханом.
Они сидели в разных углах толпы и следили не столько за словами, сколько за самим проповедником. Вот он свел и приподнял брови, и верные знаку подручные завопили:
— Алла! Алла акбар!
— Верно! Алла! — подхватили нестройно остальные душманы.
— Мы смело пойдем на битву и разорим гнездо нечестивых, которое зовется Дарбар!
— Разорим! — теперь уже более свирепо и дружно гаркнули душманы.
— Аллах велик! Вера зовет на подвиг! Кровь неверных — пропуск в мир вечного блаженства для мужахидов. Пусть каждый пришелец шурави ляжет в землю, на которой стоит! Джаза! Джаза! [9]
— Джаза! Джаза! — яростно вторили сотни глоток. Молящиеся быстрыми тычками кулаков исступленно ударили, замолотили по воздуху. — Джаза!
— Важел! Убивать! — гаркнул проповедник истошно, заводясь и сам пьянея от ненависти.
— Важел! Смерть! — заревели душманы. Их кулаки снова взлетели вверх.
* * *
Час спустя банды вышли в направлении на Дарбар.
По тайным тропам понеслись гонцы собирать все наличные силы на штурм.
Со свитой выехал в горы и Хайруллохан.
В то же время из кишлака Уханлах вышел старый охотник Шахзур. Когда Хайруллохан приказал казнить его сына, старик был на площади. Он не возмущался, не кричал, не жаловался. Он верил — что ни свершается, даже самое злое, — все это по воле аллаха. Он лишь смотрел, как полыхает огонь, и молчал, стоя на коленях. По морщинистым, как кора старого дуба, щекам катились и высыхали слезы.
Когда душманы ускакали, старик так же молча, ни на кого не глядя, встал и, едва передвигая ноги, скрылся за дувалом своего двора.
Некоторое время спустя он вновь появился на улице с винтовкой за плечами, туго перепоясанный патронташем.
Тяжело ступая, он двинулся по тропе, уводившей в скалы.
Темная фигура старика с ружьем, торчащим над правым плечом, долго маячила на фоне светлого неба, потом слилась с громадой хребта.
КРЕПОСТЬ ДЭГУРВЭТИ ДЗАЛЭЙ
Майор Полудолин вошел в штаб батальона и увидел комбата. Тот сидел за столом, подперев голову руками, пристально смотрел на лежавшие перед ним бумаги и что-то шептал.
— Александр Макарович, — сказал Полудолин, несколько растерявшись, — ты что?
Бурлак поднял глаза, посмотрел на замполита отсутствующим взглядом.
— Что с тобой? — встревожился Полудолин. — Все в порядке?
— А-а, — протянул Бурлак, возвращаясь в реальность. — Это ты, комиссар? Садись.
— Что с тобой? Я, знаешь, даже опешил немного.
— Привыкай, — сказал Бурлак и усмехнулся: — Комбат тебе достался с чудинкой.
Он положил ладонь на топографическую карту и аэроснимки, аккуратно разложенные на столе.
— Долблю, как перед экзаменом.
— Как долбишь? — не поняв, спросил Полудолин.
— Изучаю карту. Точнее, зубрю. Обычным школярским методом: бу-бу-бу. Район для меня новый. Любой душман, родившийся в тех местах, знает каждую тропку, каждую осыпь, каждый провал. Чтобы не быть в дураках, стараюсь заиметь свои представления.
— Ну и как, преуспел?
— По мере сил. Кстати, можешь проверить.
Полудолин подвинул карту, нашел район, обведенный тонким синим овалом.
— Ущелье Торатанги, — сказал он. — Доложишь?
— Запросто.
— Тогда поехали.
— От «зеленки» дорога идет по ложу реки. Ширина устья ущелья около двух километров. Перепад высот на первых трех километрах от ста до трехсот метров. Это география участка. Теперь тактика. На начальном отрезке ожидать контакта с бандгруппой не приходится. Широкая долина дает нам возможность для маневра техникой, и душманы вряд ли рискнут навязать бой. При обнаружении минирования дороги можно двигаться поймой. В крайнем случае — по руслу. Здесь неглубоко, дно каменистое.
— Ну, комбат, — сказал Полудолин, — ты, я вижу, всерьез. Дальше не нужно.
— Как раз дальше и нужно, — не согласился с ним Бурлак. — Дальше все куда серьезнее. В трех километрах от горловины ущелья справа по ходу начинается глубокая складка. Она уходит к гребням отрога. Здесь можно подключить пешую разведку.
— А если в складке засада?
— Не будет, — уверенно сказал Бурлак. — Лощина слепая, с осыпями, с крутыми краями. Духи понимают — по ней мы не пойдем. Во всяком случае, главными силами. А если оставить там засаду, то достаточно вертолетной пары, чтобы всех в порошок стереть.
— Слушай, Александр Макарович, — Полудолин прихлопнул по карте ладонью, — ты весь район так знаешь?
— Странный вопрос, комиссар. Я ведь себя профессионалом считаю. Мне духам по мелочам подставляться неприлично. — Комбат собрал бумаги, отложил на край стола: — Ладно, хватит. Пора ужинать.
Он встал, прошел к тумбочке, на которой стояли чайник и миски с макаронами. Их принес недавно дежурный и прикрыл газетой.
— Давай, Валентин Фирсыч, питаться.
— Успеется, — сказал Полудолин. — Сейчас в ротах был. Кстати, хотел Уханову врезать, но отложил. Решил прежде с тобой посоветоваться.
— Мудро решил, комиссар. Что у вас там вышло?
— Зашел разговор о рейде. Слово за слово, и я посоветовал кое-что. А он огрызнулся: «Нет, так не получится».
— И ты обиделся? — спросил Бурлак, не скрывая иронии.
— Что значит «обиделся»? Порядок подчиненности пока никто не отменял.
— Садись, — сказал Бурлак и подвинул замполиту алюминиевую миску. — Давай ужинать. Заодно поговорим. Наливай чай, пусть остывает.
Бурлак хорошо понимал, что Полудолин ждет ответа, но решил не спешить. Сейчас, когда задетое начальственное самолюбие саднит, как свежий порез, замполит примет только то, что будет отвечать его представлениям о справедливости. Поэтому лучше подождать, когда эмоции поостынут.
Полудолин послушно, без видимой охоты, налил в кружку чаю, бросил туда два кусочка сахара, стал лениво помешивать ложечкой. Потом подвинул к себе миску. Начал жевать без особого аппетита.
— Что молчишь, комбат? Я ведь серьезно спросил.
— Значит, так ставишь вопрос? Тогда обращу внимание на твои собственные слова. Ты сказал: я ему посоветовал. А с каких пор советы принимаются в порядке подчиненности? Твои приказы должны выполняться. Это однозначно. Но советы? Не знаю. Например, ты мне приказать не можешь. Верно? Тем не менее твой разумный совет я всегда приму. Так то был совет или приказ?
— Совет.
— Тогда снимай вопрос. И еще вот что. Прошу запомнить, комиссар: наше благополучие держится на хороших командирах рот. Хорошие — это в первую очередь самостоятельные. Там, в Союзе, где воевать не приходится, кое-кто предпочитает удобных подчиненных. Таких, чтобы и на советы отвечали с готовностью: «Есть!» Почему-то телячье повиновение некоторым больно уж нравится. Здесь с такими пропадешь. Какой фронт у нас будет в рейде? Ты интересовался?
Полудолин пожал плечами.
— Вот видишь. А он протянется километров на двадцать. Для батальона. Удаленность роты от роты в среднем восемь-десять километров. И трудные условия радиосвязи. Ты слыхал, как Санин назвал Кадыра? Волк. Против такого телков посылать нельзя. Они и сами пропадут, и других погубят. Теперь подумай, можно ли сделать так, чтобы в разговоре с тобой или со мной Уханов не проявлял собственного мнения, а при встрече с Кадыром оно у него вдруг бы возникло? Откуда? От сырости? Да, если не секрет, какой совет ты ему давал?
— Совет пустяковый. Обращались ко мне братья Юркины…
— Знаю, — сказал Бурлак и стал сосредоточенно вытирать кусочком хлеба тарелку. — Они ко всем обращаются. Можешь не продолжать. По Юркиным я решение принимал.
— Выходит, если вы с ротным совершили несправедливость, то нельзя об этом и разговор начинать? — Голос Полудолина звучал язвительно. Он с силой отодвинул миску, так что зазвенела вилка, брошенная в нее.
— Слушай, Фирсыч, ты прокурорские нотки-то поубавь. — Бурлак не пытался скрыть неудовольствие. — Если что-то не ясно, поясню. А судить, что в моих действиях справедливо, что нет, тебе не по чину.
— Ладно, хочешь, чтобы я свои недоумения не высказывал, буду молчать. — В голосе Полудолина теперь звучала откровенная обида. — Но тогда возникнут другие конфликты. Учти, мое мнение не изменится от того, нравится оно тебе или нет. Его в политотделе узнают.
— Угрожаешь? Или ждешь извинения? — спросил Бурлак и встал из-за стола. — Не будет. Сам виноват. Кто тебя учил выносить приговоры, не выяснив обстоятельств?
— Хорошо, разъясни обстоятельства. В чем твоя правота?
Полудолин тоже поднялся. Теперь они стояли рядом. Высокие, жилистые, подогретые перепалкой, словно борцы у ковра, готовые вступить в схватку.
— С этого и надо было начинать.
Бурлак сбавил тон и стал говорить спокойно, неторопливо:
— Юркины — близнецы. Сережа и Коля. Ребята хорошие. Прибыли к нам месяца три назад. Попросились в один взвод, в одно отделение. Я отказал.
— Почему? Когда их посылали сюда, обещали, что будут служить рядом.
— Я подобных обещаний не давал. Мне, пожалуйста, такую вину не вменяй. А дураков-обещалкиных на свете немало.
— Выходит, раз я за то, чтобы братья служили рядом, значит, и меня к категории дураков относишь?
— Нет, ты просто несмыслящий. Честный, но петухом в зад не клюнутый.
— Ну, комбат, возвел ты меня в ранг достойных! Спасибо от всей души.
— Не за что, комиссар.
— Все же поясни, почему братьям не положено служить рядом?
— Положено им все. Я даже понимаю, как красиво это выглядит внешне. Представь заметку в газете: «Братья-патриоты». У нас ведь если пишут о братьях, то непременно именуют их патриотами. По отдельности каждый солдат — просто солдат, а вот если два родных в строю — тут уж иная оценка. Но ты пойми, своих патриотов мы взяли у одной матери. Обоих сразу. В один день и час. Близнецам, как известно, скидок при призыве не дают. И вот они оба попали к нам. А здесь война. Теперь подумай, могу я их обоих в одну боевую машину? Обоих в один огонь — рядом. Чтобы потом матери два квитка сразу: нет, мол, у вас больше, милая мамаша, сыновей-патриотов. И подпись.
— Всё! Убедил. Можешь не продолжать, — сдался Полудолин. — Ты прав, комбат. На сто двадцать процентов прав. Хочешь, перед тобой кепку сниму? Одно плохо — я ребятам обещал помочь. Как теперь быть?
— А так и будь, — жестко сказал Бурлак. — В другой раз не обещай, чего не можешь сделать. Это во-первых. А во-вторых — скажи мужикам правду: я, мол, за вас, да вот комбат отказывает. Ясно я излагаю обстановку?
— Ясно, только одного в толк не возьму… Почему ты ребятам не сказал правды сам? Как мне. Вот, дескать, друзья, так и так…
— Не сказал я, не скажешь и ты. — Голос Бурлака зазвучал сухо. — Нельзя ребят тревожить даже намеком на трусость. Ты им изложи мое мнение, они дружно заявят: «Мы не боимся». Они и в самом деле не боятся. Вдвоем они еще смелее будут. Только мина не станет учитывать, что в одной машине сразу два смелых одной крови. Это за них боюсь я. Ты хочешь посвятить солдат в страхи комбата? Не рекомендую.
— Вопросов нет. Только не пойму, почему Уханов не доложил, что это твое решение?
— Должно быть, из-за порядочности. Это ведь погано, когда за чужую спину прячутся. И потом, Уханов в этом деле сам первая скрипка. Мне, например, совета у него спросить тогда не хватило мудрости.
— Как это?
— А так. Пришло пополнение. Сразу ко мне являются Юркины. Вот, мол, злой ротный развел их по разным взводам. Я, правда, не обещал ничего. Сказал только — разберусь. Тогда Уханов и изложил мне все, что тебе известно.
Полудолин собрал миски, поставил их на тумбочку, прикрыл газетой. Сам сел на раскладушку, стоявшую у стены. Достал сигареты.
— Можно?
Комбат кивнул разрешающе.
— Кури. И держись во всем ровнее. К тебе люди сильно приглядываются.
— Ну и что?
— Как — что? Хочешь, честно?
— Давай.
— Так вот, ты пока не наш. Лично я не сомневаюсь в твоей смелости, в честности. Это все у тебя должно быть. По понять, что сейчас главное, а что так себе — суета сует, которая через час отлетит как ненужность, — ты еще не в состоянии. Пойми, Фирсыч, это совсем не обидно, что я говорю. Просто такова жизнь. Есть ведь различие между космонавтами, которые прошли всю подготовку, но не летали, и теми, кто уже летал. Дело в небольшом, но отбросить разницу нельзя. Одних разделяет полет. Других — бой. Один бой. Ты подожди немного. У тебя все сейчас на ходу. Есть замполиты в ротах. Они своего не упустят. Если ты им сейчас не будешь надоедать, они это поймут правильно. Они, Фирсыч, дело знают. И им, поверь, твоя сдержанность сегодня важнее, чем что-либо другое.
— Может, я в чем-то допустил ошибку? Откуда такие упреки?
— Не упрекаю — прошу. Подожди спокойно два дня. А ошибки ты допускаешь.
— Например?
— Вот представил план. В нем вроде бы все ладно. На последний день операции — митинг личного состава…
— Это что — плохо?
— Почему? Хорошо. Но есть детали. Ты уже сегодня будто бы знаешь, кто будет выступать, пофамильно. Я не суеверен, комиссар, но если именно этих фамилий мы недосчитаемся? Взял-то ты самых ударных ребят. Которые так и лезут в пекло. А в огне бывает всякое…
— Тут, верно, не учел. Но это мелочь.
— Вся жизнь из мелочей состоит. Я это окончательно здесь понял. Пошли в рейд. Сунулись в глухое ущелье. Гляжу и вдруг начинаю понимать: это ведь те же горы, те же тропы, по которым шел Александр Македонский.
Века легли на камни, а они ведь все те же. Где-то в космосе летают спутники. Где-то изучают лунную пыль. А здесь все прежнее. Все такое же дикое, как пять или десять тысяч лет назад. И победу надо брать во многом по-старинному. Не навалом огня. Не бронеударом. Чистой тактикой. Солдатской выучкой. Смелостью. Превосходством силы и духа. Выучкой и волей.
— Красиво формулируешь, комбат, — сказал Полудолин с улыбкой.
— Зря иронизируешь. Это не этюд на военную тему. Это мнение твоего командира. И твоя работа будет направлена на то, чтобы солдаты соответствовали моим представлениям.
— Строго! Так уж и должны соответствовать?
— Так и должны. Но сейчас я с тебя этого потребовать не могу. Зеленый ты еще, потому не все поймешь.
— Что так? Туп? — Полудолин не сумел скрыть обиду.
— Нет, Фирсыч. Каков арбуз, можно узнать, лишь попробовав его. Не хочу обижать тебя, но на здешней бахче ты еще не побывал.
— Побываю, — заметил мрачно Полудолин. Намеки на то, что он не прошел огонь, его больно задевали. Он всей службой, всей своей жизнью был подготовлен к бою и потому мало верил, что, выйдя из него, изменит в чем-то свои взгляды или позицию.
— Вот тогда и потолкуем, — спокойно продолжал Бурлак. — А пока приглядывайся.
— У меня, Александр Макарович, впечатление, вроде ты меня отлучить от дела хочешь. Чтобы победой не делиться в конечном счете. А она нужна не только тебе. Нужна всем.
— Ну, давай, давай! Ты мне еще эту дурацкую песню спой: «… нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим».
— Чем плохая песня?
— Тем и плохая, что хорошей кажется. Кто-то нахватается слов и будет исповедовать мысль, что за победу не стоит жалеть цены. А цена — это люди. Пора трезвее смотреть на прошлое. И уроки извлекать из него надо.
— Разве не извлекли?
— Ты не извлек.
— Почему так решил?
— По отношению к песне. Вот возьми, ради интереса, размножь ее слова и пошли родителям наших солдат.
Только припиши: эта славная песенка стала девизом нашего батальона. Для победы мы за ценой стоять не станем, ну и так далее. Они тебе выскажут свое отношение, я не позавидую.
— Война всегда остается опасной, — сказал Полудолин упрямо.
— Извини, не согласен. Но давай кое о чем договоримся. С твоим предшественником мне на эти темы беседовать не приходилось. Он сам дошел до всего в процессе крещения огоньком. Ты — человек свежий, поэтому разъяснить свою точку зрения считаю необходимым. Она моя личная. Но я здесь командир. Значит, точка зрения обязательная.
— Слушаю.
— Так вот, комиссар. Батальон для меня — это не квадратик со стрелочкой, что рисуют на штабных схемах. Для меня это солдаты — Повидло, Кулматов, Паршин, Усманов. Это офицеры — Щурков, Уханов, Мостовой, ты, наконец. Свои люди. Наши. У каждого отец, мать, у кого-то жена, дети есть. Я их всех знаю. Не могу не знать и забывать не имею права. Не тот масштаб, если хочешь, чтобы фамилии из памяти вылетали. Я ведь не великий полководец всех времен и пародов. Поэтому не отвлекаюсь от того, что люди есть, что они реальны и должны продолжать оставаться такими. С головой, руками, ногами.
— Согласен. Только почему ты советуешь мне сейчас стать в позу стороннего наблюдателя? Разве я не нужен в деле?
— Нужен. Но самое полезное, что ты можешь сделать, это постараться понять людей. Походи. Поспрошай. Послушай. Сам говори меньше. Это ведь дружеский совет.
— Выходит, если сам буду говорить, это плохо? Дослужился!
— Опять амбиция? Не сомневаюсь, говорить ты умеешь. И тебе есть что сказать. А вот слушать, точнее, прислушиваться — не научился. Правильно излагаю обстановку?
— Не очень. Я должен…
— Кончай, Фирсыч. Лично ты здесь пока никому ничего не должен. Должны мы все разом — батальон. Ты один можешь от старания раздуться, а такого долга не выплатишь. Поэтому давай думать об общем деле. Я это говорю не для того, чтобы тебя на место поставить. Мне замполит нужен. Толковый, умный. Чтобы влиял на людей, а не просто должность занимал. Чтобы над ним втихаря не похихикивали. Если невтерпеж, то говори. Но по делу. Общие лозунги, общие призывы — это ведь всегда от скудости мысли, от бездумья. Митинги хороши, когда каждому сказанному слову люди верят.
— Не понял.
— Вот видишь, а я о простом говорю. Чего ж тут неясного? У нас здесь никто не скажет: «Готов до последней капли крови…»
— Плохо. Значит, не готовы.
— Ну зачем так? Ты же умный мужик. Люди больше чем готовы. Каждый отдаст эту кровь. Но славословить об этом стесняются. И если молчат, но делают, цена таким высокая.
— Значит, без митинга?
— Мне главное, чтоб без демагогии. Вот где все это сидит. — Бурлак энергично постучал кулаком по загривку. — Погрязли в пустословии.
— Слушай, комбат, — произнес с обидой Полудолин, — ты хоть выбирай выражения.
— Я считаю, дорогой комиссар, что правда — самая лучшая точность. Особенно перед боем.
— Не уходи от темы. Говорили о демагогии. Где она?
— Вот ты о чем! Хорошо, вернемся. К сожалению, пока такой демагогии хватает. Самое печальное, что мы привыкли к трепу и уже не замечаем его.
— Кто это «мы»? — спросил Полудолин сухо. — Если о себе, я еще соглашусь. А если мы — это… — он широко развел руки, — тогда извини. Подобных обобщений я не приемлю.
— Что ж, — усмехнулся Бурлак, — я имею в виду именно всех нас… — Он точно так же развел руки.
Полудолин вздохнул безнадежно, понимая, что переубедить комбата сейчас не сможет.
— Так вот, о демагогии, — продолжил Бурлак. — Мне на некоторых наших митингах бывает неудобно, когда солдат берет слово и заявляет: «От имени всего личного состава батальона заверяю командование…»
— Что ж здесь плохого? Человек говорит от лица товарищей…
— То плохо, Фирсыч, что чаще всего наших выступающих личный состав батальона не уполномочивает на подобные заявления. Ты вот сам, в своей практике, хоть раз перед митингом обращался к людям: а дайте-ка вы право рядовому Ивану Петрову бросить от вашего лица добрый клич. И потом: кто «за» — поднимите руки. Разве не так должно быть, если мы хотим, чтобы кто-то говорил от нашего имени?
— В принципе так.
— Вот и прошу тебя, Валентин Фирсыч, надо добиться, чтобы батальонная действительность с принципами не расходилась. И главное, о чем мы с тобой всегда должны помнить, — как сделать ребят бойцами. Выбить из них… Не делай таких глаз. Именно выбить идеализм. Много в наших парнях наносного, опасного. Не для общества — для них самих. Должно быть, мы где-то утратили искусство воспитания витязей…
— Тут я с тобой совершенно согласен. Но в чем причина?
— Мирная, благополучная жизнь. Сорок с лишним лет нет войны. Стали верить, что так и будет всегда, что безмятежность продлится до бесконечности. Мирные тети в детских садах. Добрые тети и дяди в школе.
— Это неплохо, что мирные.
— Конечно, неплохо. Беда в другом. Эти тети и дяди искренне верят, что творят благо, когда воспитывают в детях миролюбие. Но ставят-то его не на тот фундамент. Одно дело, когда сильный и смелый парень не бьет другого зазря. Не потому, что трус, а потому, что добрый, великодушный. Другое — когда миролюбием прикрывается душевная хилость, слабоволие, трусость. А таких, как ни прискорбно, хватает. Вырастить труса, между прочим, значительно проще, чем смелого мужика. И растим. Потом удивляемся: откуда подлость, угодничество? Предательство, наконец. Трус не может быть благородным. Это я докажу проще простого.
— Ты знаешь, — сказал Полудолин, — здесь наши мысли совпадают. Не раз думал об этом. И пришел к выводу: грешна школьная педагогика. Она ведь оперирует обобщенными понятиями: ученик, ребенок. Учителя словно видеть не хотят, что есть мальчики, есть девочки. Для них главное — ребенок. Мало они еще всерьез занимаются тем, как воспитать мальчика, будущего защитника, человека смелого, благородного. Мне пришлось как-то в поезде беседовать с одной учительницей. Она все пыталась меня убедить в том, что военная профессия в нынешних условиях аморальна. Ни больше ни меньше. Главный ее довод — если люди откажутся стрелять друг в друга, войны исчезнут сами по себе. Я ей говорю: допустим, все откажутся, а вот один, некий Каин, не согласится бросить оружие. Всегда ведь может найтись такой. Что тогда? Она вздохнула и согласилась: да, может найтись. И все равно воевать — аморально! Представляю, какую сумятицу вносит такой воспитатель в мышление детей. Собирался по этому поводу даже написать статью в «Учительскую газету», да вот факты надо убедительные подобрать.
— Факты у нас рядом. Есть, к примеру, в роте Щуркова солдат Жуковский. Альберт Жуковский. Зовут его в роте Дитятей, хотя он мужик здоровенный, метр восемьдесят от пяток до макушки. Сапоги — сорок пятый. Голос — труба. А характер — дамский. Был активистом детского движения за мир. Нарисовал голубка. Получил премию. Стал известным миротворцем. И вот попал к нам. По призыву. В первом же деле столкнулся лицом к лицу с реальностью. С одной стороны — он, Дитятя, с другой — душман. У Дитяти автомат. У духа — нож. У кого преимущество, казалось бы, сомнений нет. Но все пошло наперекосяк. Дитятя встал и рот распахнул. Секунда, и все бы кончилось для него печально. По счастью, рядом оказался Саттар Усманов. Приглядись к нему, комиссар, между прочим. Крепкий мужик. Может, в военное училище его сагитируешь. Надежный человек. Так вот он не раздумывал. Потом у меня разговор состоялся с Дитятей. Как же, говорю, ты, здоровенный мужик с автоматом, уши-то развесил? Или жить не хочешь? Разве можно ждать, пока тебя зарежут? Молчит. Да и что тут скажешь? А ведь незадолго до боя я сам видел, как Дитятя змею прикончил. Она ползла, ему не мешала. Но то была змея. Зверь с мрачной репутацией. И Дитятя без колебаний перерубил ее лопаткой. Только за то, что у той должность змеиная. Всем укладом воспитано у Дитяти отвращение к змеям. А вот к человекам его учили относиться со священным уважением. Не делая исключений — фашист он или душман. Перед тобой сволочь, а ты ему все одно улыбайся: мир! дружба! Сколько иронии! Между тем змея никого сама не ужалит. На кой ей ты? А душман — враг, пырнет из-за угла обязательно. Больше того, выждет момент, когда ты меньше всего ждешь удара.
— Как он теперь, этот Дитятя-Жуковский?
— Нормальный солдат. Правда, после того случая ему непросто в роте оказалось.
— Поприжали ребята?
— Было немного. Война обостряет в людях жесткость. Здесь строго относятся к тем, кто хоть раз дрогнул в трудную минуту. Я видел, как доставалось тем, кто не проявил себя в первом бою. И бороться с этим трудно. Все ведь происходит в повседневности. Незаметно для других. И есть основания у людей для такой строгости, Они не могут жить спокойно без веры в надежность товарища, который от тебя справа или слева. Без уверенности в соседе в первой же переделке человеку хана. И он относится жестко к другим, пока те не станут в его представлении вполне надежными.
— Значит, попало Дитяти?
— Было дело. Но парень в основе прочный. Скоро усек, что дистанция между голубком на рисунке и духом в натуре вполне преодолима. И он прошел ее между двумя рейдами.
— Ты, Александр Макарович, вроде даже одобряешь, когда слабаков прижимают?
— Наоборот, прошу тебя постоянно следить, чтобы подобная коллективная требовательность не извращалась. Всякое может случиться.
— По-моему, в Отечественную войну такого не случалось. Во всяком случае, я не слыхал.
— У каждого времени свое лицо. У войн — тоже.
— Что в войнах разного? — спросил Полудолин. — Там убивали, здесь…
— Ну, комиссар, — усмехнулся Бурлак, — ты бы еще на позицию бабули Дуси встал. У той — раз стреляют, значит, война, а все войны одинаковы.
— Разница в масштабах, в характере…
— Вот именно. Отечественная вообще была явлением уникальным во времени и пространстве. Чтобы пробиться к миру, армии и народу потребовалось одолеть три тысячи километров и четыре года. А здесь до мира от нас всего пятьсот километров. Час полета или несколько часов езды. Есть разница?
— Все-таки бой остается боем. Он всегда одинаков, — сказал Полудолин, утверждая какую-то свою мысль. — Как ни крути.
— И крутить не надо. Разница все равно огромная. В той войне на передовой солдат жил месяцами. И все время братался с опасностью. Привыкал постепенно к ней. Тупело чувство страха. Втягивались люди в войну. А здесь — иное. Возьми прошлый месяц. Двадцать дней занимались боевой подготовкой. Строевая, огневая. Раз, два! Ногу выше! И вдруг тревога. На три дня — в горы, и встреча со смертью. Двух ребят потеряли. Потом вернулись, отоспались и опять — раз, два! Этого так просто не одолеешь. Даже офицерам подобные переломы бьют по нервам, по кишкам. Орлова вон увезли. Смелый мужик, и с виду здоровый, а вот язва открылась. Отчего?
— Что ты предлагаешь?
— Я бы и такое дело посылал добровольцев, — сказал Бурлак. — Добровольчество — это знак душевного качества. Знаешь, как добровольцев в армии называли до революции? Охотники. Понимаю, трудно иногда бросить клич охотникам. Обстоятельства не позволяют. Но бросать призыв надо. Построили полк и кликнули: желающие — шаг вперед! Хоть знать будем, сколько их, молодцов, в каждом строго.
— Думаю, одного добровольчества мало. Ко всему о деле благородном, героическом нужно доброе честное слово. А мы его словно стесняемся. Возьми прессу. Много она говорит о современном воинском героизме? Да и вообще, давно ли мы начали говорить вслух правду об Афганистане? А ведь говорить есть о чем. Ребята с детства мечтают о рыцарстве. Играют во дворах в мушкетеров. Так почему же надо молчать о том, что именно здесь, в этой стране, собрались настоящие современные рыцари и мушкетеры? Больно бывает видеть эту стыдливость. Ведь стоит только оглянуться вокруг! Сколько говорится о людях, которые растят трудный хлеб на земле. А как можно молчать о тех, кто поливает эту землю кровью? Ведь только тогда станет каждому ясно, что нет зря пролитых капель. Они распускаются цветами обновления.
— Красиво сказал, но правильно. А молчать мы привыкли издавна. Никогда интернациональной помощи не афишировали. Вспомни Испанию…
— Мне трудно вспоминать, командир. Та война за десятки лет до моего рождения состоялась. Но все же сегодняшний день с тем временем не равняй. Тогда нам приходилось протягивать руку помощи издалека. Прорывались через морскую блокаду. А здесь мы соседи. И дело наше чистое.
— Что поделаешь, — сказал Бурлак, — кто-то решил, что афишировать такое не принято.
— Принято — не принято. От кого это зависит? Не от нас ли самих? Да все вокруг звенеть должно, когда люди идут на святое дело. А потом, что значит «необъявленная война»? Что ни телевизионный выпуск, то эти слова. Разве мы во времена Святослава живем? Кто-то должен прийти и бросить перчатку: «Иду на вы»? Война в наше время определяется не только тем, что люди воюют…
— В чем-то ты прав.
— Почему не во всем? Ведь здесь идет настоящая гражданская война. Тебе известно, что такое басмачество? Так вот здесь именно эта форма гражданской войны. Назовем ее душманской. Но суть остается одна: феодалы ведут борьбу за утерянную власть. Ведут типичными военно-феодальными методами. При материальной поддержке из-за рубежа.
— Знаешь, — сказал Бурлак раздумчиво, — я тоже размышлял над этим. Но всякий раз убеждал себя, что термин «необъявленная война» удобен политикам.
— Если политика правильная, для нее удобны честные определения.
Комбат бросил быстрый взгляд на часы. Полудолин заметил это.
— Торопишься?
— Пока нет, — ответил Бурлак. — Так как запишем в коммюнике? Беседа прошла в духе откровенности и взаимопонимания?
— К чему дипломатия? Я в балете не умудрен. Поэтому, когда на сцене объяснение в любви выплясывают или, наоборот, неприязнь нижним бюстом выкручивают, я не улавливаю тонкостей. Мне словами надо. Словами, комбат.
Бурлак засмеялся:
— Видишь, какой хороший разговор получился. Пойми, я схожусь с людьми туго. Из-за характера. А когда сойдусь — это уже крепко.
— Что в твоем характере особенного? — спросил Полудолин иронически. — По виду вроде бы нормальный человек…
— Хамишь? — Бурлак как-то сразу утратил напористость и теперь выглядел усталым.
— Почему же? Просто все мы довольно однообразные. Бытие определило наши характеры. Семья. Школа. Армия. Все это шлифует в одном направлении.
— Понял, — сказал Бурлак. — Так вот, от твоей схемы у меня серьезное отклонение. Я — инкубаторский.
— Не знал, — сказал Полудолин, будто извиняясь.
— Для того и разговор, чтобы мелочи уточнить. Короче, комиссар, семью я потерял рано. Отец на стройке погиб. Мать умерла. Меня в детский дом определили. Приняли там подобающе. Обижаться не мог. Как в кино. Занавесочки. Чистота. Толстая тетя — Августина Лазаревна Пух — директор. Привяла меня в своем кабинете.
Сказала: «Мы здесь все одна семья. Ты будешь чувствовать себя как дома». Рядом был председатель пионерского отряда, Леня Бреднев. Прилизанный, красивенький, розовый. Пионер с картинки. «Добро пожаловать, Саша». Он сказал это так учтиво, что у меня сердце от радости потекло маслом. Моя беда, комиссар. Я тогда все слова считал правдой. Дома у нас лицемерия не водилось. Все было двух цветов — красное или черное. Красный — наш. Черный — значит, белый. Я даже не задумывался, что люди могут быть в клеточку или просто серые, как мыши. Знакомство с детдомовскими порядками началось с вечера, когда потянулись ребята из школы. Ко мне подошел Леня, сказал ласково: «У тебя, новенький, деньги есть?» Заметь, уже не Саша, а так, безлично — новенький. Я не понял, о каких деньгах речь. Спросил даже: «Какие деньги?» Леня улыбнулся очень ласково и шевельнул пальцами. Изобразил, будто считает купюры. Ответил: «Мани-мани. Любые деньги, любыми знаками — пиастры, тугрики». Грамотный он был, знающий. «Не, — ответил я. — Денег нет». Тут Леня посуровел. Стал строгим. Сказал жестко: «Придется доставать. Без денег нехорошо человеку. Ты вот взял в долг у Кудлатого, а отдавать, как вижу, не собираешься». Я так и отвесил челюсть: «Какой долг? Какой Кудлатый? Знать не знаю». — «Забыл, значит. Плохо, мальчик. А кто такой Кудлатый, узнаешь скоро. Ты брал три рубля. И запомни: не отдашь — пожалеешь». Сказал и отошел. Зад у него вертлявый был, как на шарнирчике. Чик-чик. Я видел, к нашему разговору прислушивались все, кто сидел рядом. Кто-то глядел хмуро, кто-то злорадно дыбился. А на подоконнике восседал Кудлатый — ветеран шестого класса по второму году службы. Тот еще дуботол! Кулак вместо башки. Сидел и смотрел на меня, как лиса на блин. До детдома, поверь, я ни с кем не дрался. Себя в этом деле не знал. Знал бы — вел себя при первом разе по-иному. А тут прокололся. Дня через два после того разговора Кудлатый меня отлупил. Проходил мимо и без всяких яких в поддых кулаком — раз! Я захлебнулся, ртом ловлю воздух, еле жив. А он мне лещей аккуратных, чтобы вывеску не подсинить: улика ведь. Навешал на шею полную связку, аж в голове звон. Раз, раз, раз! Видели все, но коллектив в детдоме был большой семьей, а в семье можно и убить ослушника, никто рта не раскроет. Папа — глава. Остальные — так себе. А там Кудлатый был папой. Когда я отдышался, слез не было. Злом их у меня изъело. Тут подошел Леня. Мило улыбается: «Ай-ай, как ты плохо упал, новенький. И глазки у тебя красные. И галстук на боку. У пионера галстук должен быть на месте». Я бы ему уже тогда врезал, но еще не очухался, силы на хороший замах не было. Он, подлец, это понял и издевался открыто: «Надо, мальчик, слушать старших. Должен Кудлатому пять рублей — отдай». В ту ночь я не спал. Весь кипел от злости. Разрабатывал планы, как проучить Кудлатого. Аж стонал от ненависти, от обиды. А утром не было никакой возможности стукнуться. Только после обеда выдался подходящий момент. Кудлатый шел мимо меня. Настроение у него было благодушное. Второй день подряд меня он бить не собирался. Дуботол, а график знал. Просто легонько шлепнул меня по затылку. А я уже был готов. И врезал ему. Не в поддых — хуже. Я его по-футбольному саданул. И пошел вкалывать с обеих. Поверь, комиссар, никогда до того в себе такой злости не ведал. Метелил я его зверски. Он так растерялся, что только икал. Потом мне стало безразлично — есть он или нет. Плюнул и отошел. Помню, только я на Кудлатого кинулся, Леня из комнаты шмыг, будто его ветром вымело. Ночь я тоже не спал. Думал, Кудлатый меня придушить попытается. Обошлось. А утром в умывальнике я, сам не знаю почему, опять озверел. Понимаешь, в глазах темно стало. Схватил швабру — и Кудлатого по спине! Крепко вломил. Он сразу дал ходу. Как потом я понял, дуботол всех силой брал, а твердости в нем не было никакой. Сопля. Вечером подошел Леня. Ласковый такой, приниженный. «Саша, — говорит, — мы решили тебя ввести в совет отряда. Я с ребятами поговорил. У тебя авторитет намечается». И пошел реверансы класть. Вижу, он, гад, от Кудлатого на мою сторону переход обозначил. Подонок! Я его послал куда подальше. Потом на собрании Лене давали рекомендацию в комсомол. А я и выложил все как было. Мол, шкурник. Гад с двойным дном. Такому бы в полицаи идти, а его в комсомол рекомендуют. Короче, наговорил вгорячах немало. Августина была в обмороке. «Ты, Бурлак, бандит! — так прямо и сказала. — Политический бандит. Хулиган. Очернитель нашего строя. Хулитель высоких достижений». И она сама рассказала всем, какой хороший человек Леня Бреднев. Какие у него чистые и высокие идеалы и дум высокое стремление. Какой он обходительный и преданный. И как все эти качества облагораживают окружающих. Потом она вывела, что некоторым — она не сказала, кому именно, но все и так должны были понять кому — не по нраву честность, прямота, преданность идеям. Если бы я был человеком со стороны, если бы видел золоченый орех только снаружи, не попробовав ядра, я бы слезу пустил от умиления над ее красивыми словами.
Бурлак замолчал. Как он ни бодрился, воспоминания заставили его разволноваться. Полудолин понял состояние комбата и решил сменить тему. Спросил:
— Как ты в армию попал? Мечта с детства?
Бурлак улыбнулся. Он понял, почему Полудолин уводит разговор в сторону, и был даже благодарен ему за это.
— Нет, — сказал он. — О военной службе в то время я не думал. Хотел стать геологом. Но все переменилось быстро. После того собрания со мной разговор завязал наш завхоз Сергей Максимович Петренко. Старик тихий, спокойный. Стулья, скамейки, сад вокруг дома — все на его попечении находилось. А потом я узнал, что в войну он батареей командовал. В кавалерийской дивизии. Орден Александра Невского имел. Таких орденов я что-то немного за свою жизнь видел. Сергей Максимович слушал мое выступление и поддерживал его на все сто. Все годы — от шестого до десятого класса — он во мне развивал интерес к офицерской службе. И преуспел. Наставил, наладил. Он же составил протекцию в военное училище. Представляешь, там его сын начальником был.
— Может, кончим вечер воспоминаний? — спросил Полудолин, взглянув на часы. — Уже отбой был. Пора отдыхать. А у меня к тебе еще один вопрос…
Беспокойство, возникшее еще днем, не оставляло Полудолина. Причина, как ему казалось, была очень серьезной.
После обеда майор зашел в роту капитана Ванина. В канцелярии командир вел «душеспасительную» беседу с солдатом. Тот стоял, на две головы возвышаясь над командиром, смотрел на все сверху вниз, но вид у него был грустный.
— О чем разговор? — спросил Полудолин.
— Извечная тема, — уныло пояснил Ванин. — Все о «неуловимых мстителях». Рядовой Остальский у нас в них прочно застрял.
— Что это значит?
— Так у нас говорят. Есть три категории бойцов. Первая — солдаты. Если скажут: «Иванов — солдат», значит, с таким в огонь и в воду. Он не подведет. Вторая — студенты. Эти поначалу сильны больше в теории. Объяснят запросто разницу между первой и второй мировыми войнами. Растолкуют устройство атомной или нейтронной бомбы. Но вот вырыть окоп полного профиля — для них дело мудреное. Однако в первую категорию переходят довольно быстро. Третьи — «неуловимые мстители». Это лапша домашнего приготовления. Жертвы, извините, дамского воспитания. Кавалеры без значка «ГТО».
— У меня есть значок, — сказал Остальский упрямо. Должно быть, не раз он утверждал это и теперь не хотел отступать.
— Не нужен мне ваш значок, Остальский, — сказал Ванин раздраженно. — Поглядите на себя. Поглядите… Ни силы у вас, ни выносливости.
Солдат хлюпнул носом.
— Бедная Лиза, да и только, — вздохнул капитан. — Вы ведь, ребята, кино смотрите. Неуловимыми мстителями восхищаетесь с раннего детства. Ах, какие они хваты! Ах, какие ловкие! А такое любование — дурман. Вроде наркомании. Видите, что бегает по экрану сопляк и взрослых вокруг пальца обводит. Ну, герой! И каждый думает, что он тоже на такое способен. А на деле? Вон, Остальский, ваш шанс стать героем. Глядите! Там. — Капитан показал рукой за окно. — Вон, за горушкой, душманы. Ми пойдем им навстречу. Жаль одного: мы еще туда не дошли, чтобы на головы духам скатиться с горы, а вы уже сникли от усталости. Разве не так?
— Не резко вы его? — спросил Полудолин спокойно. Его несколько настораживала острота, с какой Ванин бросал солдату упреки. Испытание для самолюбивого человека могло стать крайне неприятным.
— Может быть, и резко, товарищ майор, — согласился капитан. — Могу и мягонько, с извинениями. Жаль, правда, от этого мало что изменится. Даже если замолчу, истина сохранится одна. Это там, дома, слова «в гробу я тебя видел» чаще всего ничего не значат. Сотрясение воздуха, и все. А здесь у них смысл конкретный. Я действительно, и даже не раз, кое-кого в гробах видел. Хотя этого совсем не хотел. Даже наоборот. И всякий раз переживал. Дома такой «мститель» ноги таскал бы и жил минимум до семидесяти. А здесь такой фокус не проходит. В горах выживает мужик настоящий. Не сопля, извините, а гвоздь. И нужна ему крепость для самого себя. Чтобы умел в один бросок уложить всю быстроту и силу. А какая быстрота у нашего друга Остальского? Какая сила? Где они?
Ванин кивнул на солдата, стоявшего с опущенной головой, унылого, бледного.
— Юра наш ни бегать, ни груз носить. Так, ни с чем пирог. Хошь — ешь, хошь — брось. И за все это большое спасибо добрым педагогам, которые снабдили его значком «ГТО». Больше того, убедили человека, что все можно получить без труда — и значок, и удостоверение к нему. Как мы умеем печь показатели! Это фантастика! Родине нужны значкисты? Получай, Родина! Дадим каждому по значку — и немощному, и хилому. Нам для Отечества ничего не жалко. — Ванин махнул рукой обреченно. — Вы, Остальский, маме заранее письмо напишите. Я его к ящику приложу. Вот, мол, так и так. Прошу в моей кончине винить меня самого. Прошел по горам два десятка верст и умер от усталости. Что сморщились? Не нравится? А я ведь правду говорю. Голую, понимаете ли, правду. Без фигового листка, без плавок на бедрах. Здесь война.
Полудолин ушел из роты в некотором смятении. Он понимал, что капитан Ванин прав. Но как-то не вязалось со всем опытом прошлой жизни, что солдату можно вот так, прямо в глаза, сказать, что ждет человека незакаленного завтра. Ждет неизбежно, неотвратимо.
Болевая точка затаилась в душе, не давала покоя. И он решил во что бы то ни стало поговорить с Бурлаком об Остальском. Выбрав подходящий момент, сказал:
— А у меня к тебе еще один вопрос…
— Может, отложим до завтра? — предложил Бурлак, тоже поглядывая на часы.
— Давай сегодня обговорим. Спокойней спать буду.
— Ну, давай.
В это время в дверь негромко постучали.
— Войдите, — разрешил Бурлак.
В штаб вошел капитан Морякип.
— Медицина готова, — доложил он с порога. — По всем статьям.
— Хорошо, спасибо, — сказал Бурлак и предложил: — Наливай чайку. Чтобы не пропадала заварка.
— Благодарю, я уже зарядился, — сказал Морякин.
— Тогда садись. Чувствуй себя как дома, — произнес комбат и повернулся к Полудолину: — У тебя вопрос был.
— Беседовал сегодня с Ваниным. И теперь мысль как заноза в мозгу. Есть у него солдат Остальский. Юрий, кажется. Ротный считает — не выдержит он выхода. Что с таким делать? Может, в тылу оставить? Или попробовать при удобном случае в Союз отправить?
Лицо Бурлака окаменело. Глаза сузились, стали злыми.
— Еще один гуманист. — И обратился к Морякину: — Как, доктор, считаешь? Не создать ли нам общество сохранения хилых? Я — «за». Только председателем может оказаться Хайруллохан. Он на такие случаи свой взгляд имеет.
Морякин мрачно вздохнул. Обернулся к Полудолину:
— Мы, Валентин Фирсыч, на эту тему уже не раз имели беседу с комбатом. Что поделаешь? Загоняет общество себя в тупик, а где управа? Будто нарочно — чем цивилизованнее все, тем глупее поведение отдельных лиц.
— Вы о ядерной войне? — спросил Полудолин.
— При чем здесь война! — в сердцах сказал Морякин. — До нее, извините, еще дожить надо. А мы творим и видим зло каждый день. Посмотрите вокруг…
— Смотрим, — заинтересованно сказал Полудолин.
— Раньше матери рожали по десять — двенадцать детей…
— Раньше — это когда? — спросил Полудолин с подначкой.
— Когда нас не было с такими вопросами. Представляете — двенадцать ребят. Из них пять — семь умирали. Оставшиеся получали бытовую иммунизацию. Такую, что инфекция гибла, попав на любого из них. А сейчас?
— А сейчас? — переспросил Полудолин и невинными глазами посмотрел на Морякина.
— Сейчас те, кто решил завести не собачку, а ребенка в доме, заводят один экземпляр. По науке это называется уникумом. Вы небось тоже из однодетной семьи?
— Нас трое, — сказал Полудолин. — Тут у вас, доктор, промах.
— Вот! Победа разума над природой. Ваше счастье! А у тех, кто имеет по одному ребенку, и забота одна — трястись над уникумом всю остатнюю жизнь. А жизнь недоделок не прощает. Это не строительная комиссия исполкома. Да и медицина в охиление человечества вносит свою лепту. Новые снадобья. Новые методы лечения. И живет одинокое дитя еле живое. Благо если само потом решит завести собачку, чтобы не плодить опенков. Сколько матерей пролили слезы, страдая за детей! Но разве не сами они виноваты?
— Доктор прав, — сказал Бурлак. — Ты задумайся, комиссар, что комбинация «мама, папа и один сын» — отрицательное социальное явление. Родят одного. Берегут чрезмерно. Растят дохляка. Делают все, чтобы он вдруг не стал здоровым. В школе унижаются. Доказывают учителям, что дитяти физкультурой заниматься нельзя. Берегут от лыж, от бега, от лопаты. Кашку в ротик с ложечки. Смотришь, здоровый мужик. Коломенская верста без фуражки. Сердце нормальное, легкие — всё при нем. А сам хиляк и хлюпик. Ни ста метров пробежать, ни подтянуться на перекладине.
— Значит, что-то надо для таких делать, — сказал Полудолин. — Служить таким в армии…
— А ты что, — перебил его Бурлак, — хочешь, чтобы мы здесь людей поделили на две категории? Граждане первого сорта — служите в армии. Граждане второго сорта — вам постелька. Так, что ли? Нет, такое не пройдет. Каждому положено нести равную ношу общественных обязанностей. И коли не готов, все равно неси.
— Не слишком ли жесток такой подход?
— Да, это жестоко. Но предельно справедливо. Если уж говорить всерьез, я бы освободил от предстоящего выхода Кулматова.
— Почему? — спросил Полудолин с недоумением. — Он, насколько знаю, хороший солдат.
— Вот именно, хороший. А раз так, значит, на него можно валить больше, чем на других? Знаешь, как такой принцип используется бездельниками? «Чем тише везешь, том меньше кладут» — вот их девиз. И мы иногда у таких на поводу идем. Стараемся догружать тех, кто и без того везет, хорошо. Получается, что трудиться в полную силу бывает просто нерентабельно…
Полудолин стоял молча. Только пошевеливались мускулы на щеках, будто он жевал, не раскрывая рта. Когда Бурлак кончил, он сказал:
— Слушай, комбат. Только не прими за подхалимаж. Нее, что ты говорил сегодня, — для меня целый курс академии. Курс, которого там не было.
Бурлак улыбнулся и многозначительно хмыкнул:
— Если это не азиатская хитрость, звучит приятно.
Полудолина намек на хитрость задел.
— Какой еще смысл можно вложить в мои слова? Какую хитрость тут подстроишь?
— В Азии все можно, товарищ майор, — сказал Морякин многозначительно. — Если, конечно, умеешь мысль формулировать. Например, так: маленький дурак рядом с большим — великий мудрец.
— Ну, вы, профессор, даете! — покачал головой Полудолин. — Надо же! Я и додуматься не смог бы!
— Что касается Кулматова, — произнес Бурлак задумчиво, — тут дело было бы справедливым. — Комбата, должно быть, все еще беспокоила какая-то мысль. — Мужик через неделю уходит в запас. А сам на рожон лезет в любом деле.
— Оставим его, — предложил Полудолин. — И весь разговор.
— Да?! — сказал Бурлак. — Плохо ты Кулматова знаешь. Не взять его в рейд — значит оскорбить смертельно. Тут-то и начнется настоящий разговор. Оставить его. Надо же!..
Что такое восточный базар? Один европеец, побывавший в базарном кишлаке в базарный день, так излагал свои впечатления:
«О! Восточный базар! О! Симфония форм, красок, запахов, звуков! Горы арбузов. Завалы дынь. Пирамиды груш. Россыпи винограда. Ко всему, как песок на берегу реки, — кишмиш, хурма, мандарины, фейхоа. Зеленое, оранжевое, красное, желтое — все собралось рядом, все в одном месте. А над этим морем цвета — запахи перца, тмина, шафрана, гвоздики, лаванды. О! Восточный базар!»
Азиат, если он азиат по рождению (скромно скажу — вроде меня самого), лишь улыбнется подобному дилетантскому впечатлению.
В самом деле, если базар — это лишь горы фруктов и овощей, раздолье южных пряностей, что же тогда назвать бахчой?
Нет, уважаемые, нет и нет! Горы арбузов, сладко-струйные запахи, шум, гам, суета — это только внешнее, может быть, важное, но вовсе не самое главное на восточном базаре.
Если восточный базар — это только изобилие форм и цвета, что же тогда клуб новостей в этом мире под прекрасным серпом полумесяца?
Если базар всего лишь расширенное торжище, что же тогда цирк под открытым небом? Где найдешь другой такой прекрасный театр?
Если базар — гудящая толчея, в которой каждый ищет для себя свой товар, где же тогда на земле место радостных встреч, арена споров, клуб задушевных бесед?
Конечно, для человека, который приобретал торговые навыки в просторных залах универсамов, восточный базар — стихия просто непостижимая. Скованный гипнозом фиксированных цен, такой покупатель не понимает прелестей настоящего вольного торга. Да разве покупка сама по себе доставляет удовольствие понимающему человеку? Как бы не так! Очарование базара таится в самом процессе торговли.
Вот подходит европеец к продавцу гранатов. Красивые, плотные плоды, один к одному, лежат пирамидкой и буквально кричат о своих достоинствах: «Ах, как мы хороши! — и беззвучно взывают: — Купи!»
«Сколько?» — задает традиционный вопрос покупатель. А торговец — Плешивый Ахмад — так зовут его на базаре — большой шалун и шутник. Он мгновенно понял — перед ним дилетант, дитя каменных магазинов и железных универсамовских корзин. Ко всему продавец заметил, что внимание торгующих коллег уже сосредоточилось на нем. Каждый думает: «А как этот Плешивый Ахмад поведет себя с этим ференги?» Значит, есть шанс, потеряв выручку с одного граната, враз увеличить свою славу веселого остроумца.
И торговец заламывает невероятно дикую цену. Такую, что можно на нее не один гранат купить, а все остальные, лежащие рядом.
Европеец конечно же не дурак. Он понимает: цена заломлена несусветная. Но он сбит с толку серьезностью продавца, не знает, что же ответить, и отходит под веселый смех окружающих: «Ах, как этот шутник Плешивый Ахмад срезал надменного иностранца в больших умных очках! Ах, как он ему выдал!»
С человеком Востока на восточном базаре такая шутка никогда не пройдет. Допустим, Плешивый Ахмад все же рискнул и заломил невероятную цену. И тут же схлопотал бы такое, отчего весь ряд коллег-торговцев рухнул бы со смеху. «Э, уважаемый, — мог ответить покупатель, — вы, вероятно, хотите мне вместе с незрелым гранатом всучить за одну цену и вашу перезрелую тещу. Снизьте цену в сто раз, и я возьму гранат вместе с вашим ишаком».
После такого ответа появляться на базаре Плешивому Ахмаду не стоило бы вообще. Славу шутника за собой надолго сохраняет лишь тот, кто знает, где, когда и с кем можно шутить.
А как торгуются на восточном базаре! Как клянутся, доказывая, что цена на товар столь низка, что приносит продавцу одни убытки. И как ловко опровергает подобные доказательства другая сторона. И как потом обе стороны бьют по рукам, утверждая сделку!
Да только из-за одной такой минуты, когда торжествуют оба — и продавец и покупатель, стоит прийти на торжище, поспорить, поторговаться, шлепнуть ладонью о ладонь, чтобы услыхать знатный щелчок заключенного договора.
Базар — не просто площадка, отведенная кишлаком для торговли.
Базар — сам кишлак, чаще всего возникающий вокруг базара, в месте, где сталкиваются потоки караванных путей.
Взгляните на карту Азии, и вы увидите, что базары здесь — история, политэкономия, этнография, вместе взятые, помноженные одно на другое.
Вот кишлак Джумабазар.
Джума — значит народ. Джума-а — собираться. Джума — это и день недели — пятница. Время сбора для служения аллаху. Джумат — так называют мечеть.
В пятницу родился пророк Мухаммад.
В этот день мусульманам по преданию аллахом ниспослан Коран.
На пятницу назначено начало Страшного Суда.
Разве стольких событий не достаточно, чтобы объявить день праздничным?
А теперь представьте, каким бывает базар в Джума-базаре в день джумы!
Есть на картах и местечко с названием Базарджай. Джай — по-тюркски «место». По-пуштунски слово звучит мягче — дзай.
Базарджай — базарное место, торжище. Разве можно придумать более точный, более говорящий адрес для караванов, бредущих через пустыни в поисках выгодных и удобных рынков?
Возникая, новые базары сразу стараются громко о себе заявить.
Вот кишлак Янгибазар. Янги означает «новый». А слово «базар» старое, старей не бывает. Кому не захочется побывать на новом базаре! И дело сделано. В кишлаке Янгибазар уже кипит веселый торг.
Переводчик-востоковед капитан Черкашин шел по кишлачному базару. Он знал Восток с детства, понимал тонкости и традиции торга, умел отбрить язвительного на язык шутника-продавца, мог и по рукам ударить, выбрав себе что-нибудь подходящее. Короче, знал, умел, мог, но бывать на базарах в последнее время ему приходилось нечасто. А в тот день просто повезло.
На базар он попал в особый для кишлака Мегри базарный день благодаря случайности. В десять утра Черкашина вызвал начальник штаба. Спросил, будто сам не знал совершенно точно, о чем спрашивал:
— Когда едешь в крепость?
— В двенадцать тридцать.
— Отлично! До двенадцати тебя ангажируют. Приехал майор Мансур из ХАД. Просит отрядить тебя ему в помощь. Иди, он ждет у капитана Маслова.
ХАД — служба афганской государственной безопасности. Раз просят о помощи, значит, неспроста.
Майор Мансур, круглолицый крепыш лет тридцати, вечно усталый и всегда бодрый, неизменно озабоченный и постоянно веселый, встал навстречу Черкашину.
— Здравствуй, рафик Черкаш!
Майор неплохо говорил по-русски и пользовался любой возможностью, чтобы расширить языковую практику. Черкашин, в свою очередь, говорил с Мансуром только на пушту.
— Дело есть, дорогой товарищ, — продолжал майор Мансур. — Надо, чтобы ты пошел с нами на базар. Сегодня торговый день. Есть сведения, что появилась группа террористов. Разведчики. Так их просто на базаре не выявишь. Им нужен советский офицер. Тогда они сами на него выйдут.
— Кого вы конкретно ищете?
— Кривого Маруфа. Есть такой тип. Я правильно эта сказал — тип?
— Правильно. Но я такого не знаю. Каков он?
— Не знаешь — не скажу. Тебе лучше и не знать. Увидишь — забеспокоишься. Он сразу поймет. Потом, как я думаю, сам Маруф на базаре не будет. Его люди придут. Через них самого Маруфа найдем.
— Все понял, — сказал Черкашин, несколько обидевшись. — Только учти, у меня времени мало, рафик Мансур.
— Час есть? Этого хватит. Они тебя быстро найдут.
— И, как у нас говорят, «перышко в бок»?
— Нет, товарищ, не так. Им нужен живой человек. Они его увести хотят. Потому, увидят тебя, круги делать будут. Потом…
Мансур замялся, не найдя нужного слова, но на пушту все же не перешел. Он просто с шумом потянул воздух носом, показывая, что будут делать душманы.
— Обнюхают, — подсказал Черкашин.
— Точно, обнюхают. Этого будет достаточно. Мои люди все время рядом. Крепкие люди. У них глаза широко открыты. Ты не опасайся совершенно.
Слово «совершенно», должно быть, очень понравилось Мансуру, и он повторил:
— Ты совершенно не опасайся. Понимаешь?
Черкашин понял и пошел на базар.
Теперь, толкаясь в толпе, он боками ощущал, что здесь совершенно не безопасно. Его тискали, затирали, закручивали, Он внимательно вглядывался в лица, но так и не заметил ни опекунов, обещанных майором, ни подозрительных лиц, из числа тех, кто должен был его «обнюхивать».
Базар жил своей, ни с чем не сравнимой жизнью. Суетился простой люд. Всюду поспевали торговцы мелким товаром. Их кормила неуемная увертливость, умение раньше других оказаться рядом с тем, кто даже случайно забрел на торжище. Авось и подойдет кому-то их немудреное барахло. Одному зажигалка «Ронсон», бывшая в употреблении, но все еще блестящая и почти как новая. Другому — пачка лезвий «Жиллет». Третьему — батарейка к транзистору. Конечно, даты выпуска и срока годности на ней не указано, но ведь дешево продается, и, если аллаху будет угодно, батарейка эта может оказаться совсем неплохой.
Солиднее выглядели торговцы товарами, имевшие собственные лавки и мастерские. Они либо сидели у открытых дверей каморок, забитых всяческим барахлом, либо, прислонившись к косякам, стояли рядом, степенные, суровые, полные достоинства и понимания своей значимости в этом неугомонном мире.
Черкашин остановился возле мастера-медника, работавшего возле своей лавчонки. Тот сидел прямо на земле, подстелив под себя обрывок старой, потертой кошмы, и выбивал из листа металла веселую, звонкую чашку. Между ног мастера стояла толстая чурка с вырезанным углублением, которое напоминало полусферу. Полость была тщательно отполирована, и мастер — остад — вбивал в неё металлический лист. Бил он быстро и точно, резкими, внешне легкими движениями. Брал не силой, а мастерством. Молоток тюкал и тюкал, и Черкашин даже уловил нехитрый мотив, который, веселя себя, выстукивал медник: тюк, так, так, чи-чи, тюк-тюк-тюк. Под ритмичный бой молотка можно было свободно приплясывать или петь протяжную, заунывную песню. Подумалось, что, должно быть, узбеки назвали кузнеца именно из-за ритма, выбиваемого им в работе, тактакачи — слово как стук.
Пробившись сквозь водоворот толпы, Черкашин выбрался на место, где не было большой давки. Длинным рядом здесь сидели торговцы случайным товаром. Нужна одна пуговица — здесь ее наверняка найдешь. Гвоздь, винт, шайбу, порошок для крашения одежды — все можно сыскать в этом ряду, если поглядеть повнимательней.
Замурзанные мальчишки возились у арыка. Мимо проскрипела арба с ленивыми колесами. Ее тащила облезлая кобыла с длинным, никогда не подрезавшимся хвостом.
Солнце ярилось, и даже в тени деревьев не скрыться от жары.
У дувала стоял верблюд. Огромными, отрешенными от забот мира сего глазами глядел он на окружающих и лениво шевелил челюстями, что-то пережевывая.
Нищий, обтерханный, тощий, с красными слезящимися глазами, протянул к Черкашину сухую дрожащую руку. Капитан, стараясь не встречаться с просящим взглядом, положил на ладонь монету. Рука цепко сжала подачку. Нищий склонился в поклоне и пробормотал еле слышно:
— За вами, ференги, ходит нехороший человек. Очень нехороший.
Он тут же распрямился и гордо отошел. Монетка исчезла в обрывках одежды.
Черкашин огляделся, но не заметил ничего подозрительного. Почему же нищий заметил то, чего не способен распознать он сам? Стало зябко от предчувствия невидимой опасности.
Неподалеку Черкашин заметил торговца необычным товаром. Расстелив на земле изрядно вытертый, некогда цветной коврик (об этом свидетельствовали блеклые зеленые и красные пятна нитей), сидел седой старик в очках. Он выложил перед собой целую кучу старых монет — медных, в цветах от красного до черно-зеленого и просто черного; серебряных — тусклых и светящихся благородным блеском; медно-никелевых — серых, прошедших через множество рук и кошельков, и совершенно новых, сияющих своей нетронутостью.
С деланным безразличием — надо же было как-то растянуть время — Черкашин присел на корточки и начал перебирать монетки.
Продавец сидел не шевелясь, со спокойствием монумента. Он ничем не пытался помочь любопытному, будто не был заинтересован в покупателях.
Капитан взял в руку американский медный одноцентовик с профилем президента Линкольна. Новенький, с датой текущего года, битый Денверским монетным двором, о чем свидетельствовала маленькая буква «д», помещенная на блестящем поле. Откуда и какими путями, из каких душманских рук попала эта заокеанская блестка в кучу монет на кишлачном базаре? А вот большие, как пуговица от пальто, сто перуанских солей. Потускневшая в долгих странствиях, монета могла стать темой целой диссертации. Как пройден ею огромный путь от Анд до Гиндукуша? Ну, если не диссертация, то по крайней мере тема для приключенческой повести.
И вдруг Черкашин заметил тяжелый толстый кружок, покрытый густой патиной. С трепетом, хорошо знакомым первооткрывателям — археологам, геологам, коллекционерам, — он взял этот небольшой серебряный диск пальцами. Благородный металл, тронутый временем, удивительно красиво подчеркивал рисунок монеты. Весь круг занимала голова прямоносого мужчины в шлеме воина. Полутона прекрасно оттеняли малейшие детали рисунка.
Сдерживая удивление, Черкашин перевернул монету. Реверс оказался более потертым. Но все равно ясно просматривалась фигура бога или властителя, сидящего на высоком троне. В одной руке он держал жезл, на другой сидел сокол.
Черкашин понял — это эллинская тетрадрахма. Возраст, как минимум, две тысячи триста лет. Две триста! Ошибка почти исключалась. Во-первых, голова на аверсе — это Александр Македонский. Во-вторых, в этих краях нет такого потока коллекционеров, ради которых стоило бы изготовлять подделки.
Черкашин держал в руке монету, ощущая острое желание с кем-то поделиться радостью находки. И тут же, будто угадав его желание, из-за спины кто-то подал голос:
— Прекрасная вещь, уважаемый рафик шурави. Не боюсь ошибиться — это Искандер. Великий полководец и царь.
Черкашин обернулся. Перед ним стоял невысокий пожилой мужчина в поношенном сером костюме и суконной шапочке. Он смотрел на монету острым взглядом, хотя явно интересовался самим Черкашиным. Капитан лопатками ощутил опасность. И все же набрался выдержки, кивнул головой, вежливо ответил на приветствие. Вызывать подозрение незнакомца неожиданной насторожённостью он просто не имел права.
— Уважаемый Мутташокир знает толк в старых монетах, — сказал незнакомец, словно бы рекомендуя торговца. — Если вы знаток старины, обратите свой благородный интерес на эти дирхемы.
Мужчина нагнулся, взял с коврика плоский тонкий диск.
— Вы узнаете, что это?
С трудом преодолевая неприязнь, сдерживая растущее напряжение, Черкашин ответил:
— Нет, сожалею, но таких монет не знаю. Что это?
Он пытался держаться как можно естественнее. И все же невольно отодвинулся в сторону, так, чтобы не подставлять старику спину. Тот его маневр словно бы и не заметил. Приподняв монетку двумя пальцами, он оглядел ее и прочитал надписи:
— Это, уважаемый господин, дирхем династии Караханидов. 423 год хиджры. Вот надпись: «Тобгач Бугракарахан Али». — Мужчина покрутил монетку. — А вот еще имя: «Али ибн ал-Хасан. Фи вилаяти хан ал-Аджел Кутб ал-Дауда».
Черкашин слушал вполуха, а сам искоса поглядывал на майора Мансура, которого заметил шагах в трех от себя, возле торговца медными тазами. Их взгляды встретились. Всего секунду они смотрели один на другого, и тут же Мансур с безразличием отвел глаза. Черкашин понял: ему пока ничто не угрожает. Тогда он стал слушать слова, к нему обращенные, более спокойно. А мужчина говорил таким тоном, словно рекомендовал ему собственный товар.
— Красивая вещь, уважаемый. Живая история Средней Азии. Караханиды — это Бухара, Кушани, Фергана. Тюрки из племени ягма. И в то же время арабские надписи: «Ибн ал-Хасан». Обратите внимание на это движение культур. А вы знаете, что рушило в те времена великие ханства?
Черкашин, прежде чем ответить, еще раз осмотрелся. Никого подозрительного рядом не было. Ответил спокойно:
— На мой взгляд, империи и ханства всегда рушили междоусобицы.
Старик пристально взглянул на капитана поверх очков.
— Вы молоды, — сказал он с некоторой долей удивления, — но суждения ваши поистине мудры. Междоусобицы — это бич народов. Они лишают сильные нации силы, разума, живой крови. Лев, пожирающий самого себя с хвоста, — вот символ такой войны.
И тут же, будто испугавшись чего-то, старик оставил тему. Передавая Черкашину монетку, он сказал:
— Кстати, уважаемый, в мире многое бывает связано между собой теснее, чем видит непосвященный глаз. Вас не интересовало, откуда произошло название монет мусульманских стран — дирхемы?
— Нет, — сказал Черкашин. Он хотя и втягивался в разговор, но ни на секунду не терял осторожности. — Я не задумывался над этим. Впрочем, если и задумаюсь, все равно не скажу: мало знаю монеты Востока. Больше занимался русскими монетами и антикой.
— О, антика здесь как раз и нужна. Слово «дирхем», уважаемый, произошло от названия эллинской драхмы. Обратите внимание — даже звучания схожи.
— Действительно, — признал Черкашин. — Сейчас я это чувствую, но раньше не задумывался над этой связью. Непросто бывает проследить судьбу слов.
— А вы обратите внимание и на такой факт. Пути новых слов часто совпадают с путями войны или торговли. Металлические драхмы шли на Восток с фалангами Искандера Зулькарнайна — Александра Македонского. Но драхма как слово не была завоевательницей. Она поселилась в наших краях и сменила свое имя, чтобы стать местной.
Черкашин мельком взглянул на часы. Стрелки показывали — пора спешить. Немного поторговавшись, он купил тетрадрахму и дирхем Караханадов.
— Вы приобрели хорошие вещи, — сказал ему старик. — Мне было приятно поговорить с вами. И ваш пушту, уважаемый шурави, безупречен.
Они вежливо распрощались. Черкашин двинулся к выходу. На этот раз он постарался миновать толпу и пошел мимо фруктового ряда, где народу толклось поменьше. Неожиданно к нему подошел майор Мансур. Взял Черкашина за локоть, стиснул его.
— Спасибо, рафик Черкаш.
На этот раз майор Мансур говорил на пушту. Видимо, не хотел, чтобы на базаре слышали, что он знает русский.
— Успешной была охота? — спросил Черкашин.
— Очень. Спасибо тебе. Ребята взяли два следа. Ты был хорошей приманкой, рафик Черкаш.
— Скажи честно, это тот, который разговаривал со мной о монетах?
Майор Мансур засмеялся. В его смехе звучали радостные, беззаботные нотки.
— Нет, Черкаш. То был поханд [10] Абдулхан. Большой ученый. Уважаемый человек. Историк.
Черкашин почувствовал легкое разочарование. Знать бы, кто с ним беседовал, задал бы несколько давно интересующих его вопросов.
— Если хочешь, — предложил Мансур, — я тебя с ним познакомлю поближе.
— Спасибо, — поблагодарил Черкашин искренне и спросил: — Кто же все-таки были те двое?
— Рафик Черкаш, — они отошли далеко от базара, и теперь майор Мансур перешел на русский, — не берите на себя чужие заботы. Вы были совершенно безопасны. Для меня это главное. А кто те двое, я скажу потом, когда мы сами узнаем.
Черкашин понял, что продолжать этот разговор неудобно.
— Я пошел, — сказал он, протягивая майору руку.
— Вас довезут, рафик Черкаш. Вон за арыком стоит человек. Он ждет вас.
Они обменялись рукопожатием. Черкашин перепрыгнул через арык и подошел к приземистому круглоголовому крепышу, который стоял, прислонившись к двуколке.
— Здравствуйте, мир вам, — сказал возница, увидев Черкашина. — Садитесь, уважаемый, дорога нам известна. Я отвезу.
Унылый конь стоял, склонив голову и безвольно опустив уши. Жара донимала даже животное. Только хвост, живший, казалось бы, самостоятельно от недвижного тела, неутомимо мотался из стороны в сторону. Надоедливые мухи тем не менее не обращали внимания на беспокойное помело и копошились на крупе коняги густыми гроздьями.
Унылой выглядела и двуколка. Лет десять назад она, должно быть, по здешним меркам казалась шикарным экипажем и служила для перевозки людей состоятельных, привыкших не столько ходить, сколько посиживать в холодке. Но сейчас темно-бордовый бархат, которым коляска была обита, и кисти, ее украшавшие, обветшали, поистерлись.
Черкашин встал на приступочку и забрался под тент.
Возница дернул вожжи. Коняга лениво шевельнулась, напряглась немощным телом, подалась вперед. Колеса скрипнули, двуколка тронулась.
Круглоголовый возница сидел рядом с Черкашиным как монумент, не выказывая пассажиру ни особого внимания, ни любопытства.
Голосистый базар удалялся с каждым оборотом колес.
Черкашин улыбался. Как многообещающе и заманчиво было начало детективной истории! Сколько тревожных, волнующих минут он пережил, ощущая себя дичью на большой охоте душманов, и как все прошло легко, просто, без напряжения. Да и была ли история детективной? Может, майор Мансур рассказал ему о своей двойной удаче просто так, чтобы успокоить русского товарища? Мол, не зря ты тут ходил и потел, капитан. А он и впрямь там ходил не зря. Тетрадрахма Македонского, говорящий свидетель эпох более чем давних, лежала в его кармане…
У штаба Черкашина уже ждала машина. Он ехал в крепость Дэгурбэти дзалэй.
КРЕПОСТЬ ДЭГУРБЭТИ ДЗАЛЭЙ
До выхода на задание оставались сутки. Работал штаб батальона. Готовились роты. Занимался делами комбат. Провел беседы с замполитами рот Полудолин. А перед обедом к нему зашел секретарь партийной организации прапорщик Горденко. Спокойный, краснолицый от постоянного пребывания на солнце и ветру, он глядел на замполита из-под густых белесых бровей и трубным, взлелеянным на боевых командах голосом доложил:
— Коммунисты готовы, товарищ майор. С каждым я побеседовал. Настроение у людей нормальное.
— Садитесь, Павел Петрович, — предложил Полудолин.
Горденко качнул головой и выразительно повел глазами в сторону, где сидел комбат, занятый какими-то делами. Это должно было означать, что в присутствии Бурлака и без его разрешения прапорщик садиться считал неудобным.
Полудолин усмехнулся.
— Слушай, Александр Макарович, — сказал он, — тебе наше партбюро когда-нибудь поручения давало?
— Это ты к чему? — поднимая голову от бумаг, отозвался Бурлак.
— Да к тому, что пришел секретарь, причем по партийным делам, а держится перед тобой как на плацу. Боится, как бы ему комбат «Кругом!» не скомандовал.
— Не было у нас такого, — сказал прапорщик обиженно. — У нас комбат…
— Ладно, Горденко, — прервал его Вурлак, — какой у вас комбат — не надо. А что ты вправе любому из нас дать поручение, замполит верно заметил.
— Есть, давать поручения, — откликнулся прапорщик уныло и присел на предложенный табурет.
— К вам вопрос, товарищ майор.
— Давайте, — сказал Полудолин.
— В партбюро заявление поступило. От сержанта Синякова. Просит принять кандидатом в партию. Вы с ним сами побеседовать не хотите?
Полудолин взглянул на часы. Подумал.
— Хорошо, Павел Петрович, я с ним поговорю. Зайду в роту. Минут через двадцать…
Когда Горденко ушел, Полудолин подошел к комбату и присел рядом. Сказал негромко, будто боясь, что их кто-то услышит:
— Тебе не кажется, Александр Макарович, что коммунистом ты бываешь пять минут до начала собрания? Один раз в месяц садишься среди рядовых, да и то чтобы через три минуты уйти в президиум. Не избери — пожалуй, сочтешь за неуважение. Как можно — тебя и не посадить перед всеми? А сам ты, как замечаю, ни разу не предложил секретарю в своем присутствии сесть. Причем благо бы разговор у вас был как у батальонного со взводным. А то Горденко в штаб заходит только по партийным делам. Как со взводного с него ротный стружку снимает.
— Хватит! — раздраженно сказал Бурлак. — Чего взялся?
Он осознавал свою неправоту и потому не хотел выслушивать осуждение всего, что и сам понимал.
— Э нет, — сказал Полудолин. — Мы договорились об откровенности. И ты уж выслушай до конца. Я с тобой не как с комбатом, а как коммунист с коммунистом. Не на собрании же мне это людям выкладывать.
Бурлак напрягся, посуровел. Сидел молча, положив на стол руки, сжатые в кулаки.
— Пойми, Александр Макарович, мы сами избрали Горленко секретарем. И ты за него голосовал. Я даже думаю, что голосовал «за». Так давай в нем уважать самих себя. Видеть в нем наш общий авторитет. Понимать, что в чем-то он стоит над нами. Вот тебя за что-то будут с треском снимать, и ему, бедняге, вольют горячую порцию. А за что? За то, что он секретарь и отвечает в чем-то не меньше нас, лиц должностных.
Бурлак ожидал обличающих слов и приготовился их выслушать. А разговор пошел в ином ключе и оказался совсем не обидным.
— Ты прав, Фирсыч, — сказал, смягчившись, комбат, — прав. Положил меня на обе лопатки.
Через некоторое время Полудолин появился в расположении роты капитана Ванина. Вызвали сержанта Синякова. Тот прибежал, при виде майора смутился. Почему-то считал, что вызывает замполит роты, а оказалось — более высокое начальство.
— Как вас по батюшке? — спросил Полудолин, протягивая руку. — Николай…
— Алексеевич, — подсказал Синяков. — Николай Алексеевич.
Они отошли в сторону и сели на пустые снарядные ящики.
— Вы подали заявление в партию? — спросил Полудолин.
— Так точно, — ответил Синяков и внутренне напрягся — к чему это клонит замполит?
— Поймите меня правильно, Николай Алексеевич, — продолжал между тем Полудолин, стараясь говорить как можно мягче и спокойнее, однако помимо его желания в голосе прозвучали нотки резкие, раздраженные. — Нам надо поговорить как можно откровеннее. В партию много подают заявлений. Много. Но далеко не каждый, кого принимают в ее ряды, обогащает нас своим вступлением…
— Я… — начал было Синяков дрогнувшим голосом, но майор остановил его:
— Да погодите! Не о вас речь. Это моя точка зрения на общее положение дел. А оно далеко не всегда радостное. Нередко поступающие несут заявления в простом расчете на то, что с партбилетом легче сделать карьеру. У иных другие соображения. Причем каждый такой вступающий имеет в виду только свой личный интерес. В результате развелось немало жулья с партбилетами. Взяточники, карьеристы, растратчики. Внутренние душманы. Честного человека это возмущает. А подумаешь трезво — кого винить? Ведь не сама эта публика вползла в партию. Кто-то ведь рекомендовал каждого из них. Кто-то голосовал за их принятие. Поднимал руку в добром здравии и хорошей памяти. Конечно, вам такие вещи слушать не очень приятно, однако это необходимо. Чтобы не сложилось впечатления, будто партия нечто вроде клуба для искателей легкой жизни. Во всяком случае, в батальоне мы из парторганизации такого клуба не сделаем. С коммуниста спрос будет двойной.
— Я понимаю, — сказал Синяков, не сумев скрыть растерянности. Да и как было не растеряться. До этого у него все шло нормально. Дававшие рекомендации пожимали руку. Говорили добрые слова. Просили: «Не подведи». Он заверял: «Не подведу». Как-то все вроде бы само собой вставало на нужные рельсы и катилось по ним ровно, спокойно. Вопрос упирался лишь в срок собрания. Сам Синяков был уверен: товарищи проголосуют «за». Очевидных причин для иного решения у них не было. И вдруг этот разговор…
— Хорошо, если понимаете, — сказал Полудолин. — И не обижайтесь, если мои вопросы будут вас задевать.
— Да, пожалуйста, — сказал Синяков все так же растерянно.
— Партия у нас, Николай Алексеевич, огромная. Девятнадцать миллионов членов. Но все ли они партийцы? Как вы думаете? Только без дипломатии.
— Думаю, далеко не все.
— Кто же вам не по душе? Причем не называйте откровенных взяточников, жуликов, хапуг. За них уже взялись, и, кажется, серьезно. Кто нам не нравится из лиц, еще не заклейменных общественным мнением?
— Приспособленцы, товарищ майор. Угодники. Такие, которые готовы без мыла… услужить тем, кто чуть выше их. Хвалебное слово произнести. Восхищение публично выразить. Руку двумя руками потрясти. Ковры для начальства расстелить. Пляски при его приезде организовать как знак всеобщего ликования…
— Согласен с вами, все, что сказано, — гнусно. А теперь объясните, что вас позвало в партию. Вы ее своим присутствием улучшить надеетесь или что-то от нее получить хотите?
Синяков обиделся. Сказал угрюмо:
— Что же я здесь могу получить? Завтра, к примеру, идем в бой.
— Коля! — сказал Полудолин укоризненно. — В бой пойдут и беспартийные. А меня интересует, что ты хочешь отстаивать, став коммунистом, всю жизнь — и в бою и после него. Зачем тебе партбилет?
Тут Синяков взорвался. Заговорил взволнованно:
— Если хотите всю правду, могу сказать. Еще год назад мне многое было до фонаря. Жил законно, ни забот особенных, ни камня на душе. Дискотека. Друзья. Подружки. День прожил — и алло! К чему теории — социализм, капитализм, борьба за мир, укрепление обороноспособности? Кому надо, те пусть и занимаются. Все ведь казалось книжным, неживым. В школе обществовед нам что-то бубнил, сам по учебнику изучал преимущества социализма — от и до. Зачет сдал, и плевать на все теории. Вдруг сюда попал. Двух дней на боевом выходе хватило, чтобы всю политграмоту переосмыслить. Вы видели, товарищ майор, по каким учебникам духи детей учат? Я себе книжку по арифметике припас. Домой отвезу. Покажу. Там по всем страничкам рисунки впечатляющие. Складывай, вычитай. Только не яблоко к яблоку, как у нас. Не птичка к птичке. Автомат к автомату. Граната к двум другим гранатам. Две бомбы к двум бомбам. Считай — и получишь: два, три, четыре. Такое у духов сложение. Затем другие правила. Три солдата, два из них убитые. Два бронетранспортера — один сгоревший. Таково вычитание: один, два. Кто же детям так набекрень мозги ставит? Гадать не пришлось. Стоило увидеть двух первых душманов, понял — не они. Этим громилам грамота неведома. У банд в горах нет больших типографий, а учебники отпечатаны на машинах. Делают их те, кто содержит и самих бандитов. Вот и вся политика, будто в зеркале. Социализм и капитализм. Мир и война. Труд и грабеж. Все как в жизни. И я хочу быть защитником правды не по воле случая, а по собственному выбору.
— Спасибо, Николай Алексеевич. Я понял. Меня вы, во всяком случае, убедили. Теперь вопрос из чистого любопытства. Слыхал, как один парень, работавший на Афгане, сказал: «Там молодые не взрослеют, а стареют». Как вы по себе чувствуете — повзрослели или постарели?
— Знаю таких, товарищ майор, которые постарели. Но это не со всяким случается. Тем больше бывает жаль таких. Был у нас Валя Максаков. Сейчас отслужил и уволился. Хороший домашний мальчик. От хорошей доброй мамы. Сосунок, извините. Лирические стихи. Музыкальная школа. Все нежное, плавное. Потом вдруг с высоты лирики в грубое, жестокое дело. Вы никогда не видели человека, с которого содрали кожу? Я видел. И повзрослел. Валя тоже видел и — постарел. Я его буквально узнать не мог. Вроде сломалось в мальчике что-то. Я стал злее. Он — сгорбился…
Полудолин сидел потрясенный. Обняв колено ладонями, он покачивался взад и вперед, как маятник, даже не замечая, что делает.
Синяков замолчал.
Словно проснувшись, майор посмотрел на сержанта как-то по-новому. Протянул ему руку:
— Счастливо, Николай! Желаю успеха.
Они обменялись крепким рукопожатием.
— Кто вас рекомендует? — спросил Полудолин.
— Комсомольская организация. Секретарь у нас Вахтанг Гогиашвили. Потом ефрейтор Галкин и капитан Ванин.
Ефрейтора Галкина майор нашел в автопарке. Из-под открытого капота ЗИЛа, как из пасти чудовища, торчали ноги солдата. Обычная поза водителя, знакомая каждому, кто сжимал в руках баранку.
Полудолин извлек солдата наружу. Сели рядом. Майор протянул руку к груди Галкина и приподнял круглый тяжелый диск медали. Увидел контур танка, так непохожего на современные, и надпись «За отвагу». Осторожно опустил награду. Спросил:
— За что?
Солдат улыбнулся:
— О таких вещах, товарищ майор, только дома рассказывать положено. Там можно с беллетристикой. А вам что скажу? Представили, наградили.
Полудолин тоже улыбнулся. Он почувствовал доверие к этому открытому парню.
— Тогда расскажите о бое, после которого вас представили.
— Неудобно, — смущенно пожал плечами Галкин. — Все мы тут в одинаковом положении.
— Далеко не все, — сказал майор. — Я сам еще не крещеный. Или как тут у вас говорят — не обрезанный?
— Для офицера бой принять — без всякой заботы. Наблюдал за новыми. У офицеров никакой реакции. Солдату труднее дается. С мандражем.
— Вам лично трудно было?
— Да ничего вроде. Меня в дело вовлекло так быстро, что ахнуть не успел. Влип я, товарищ майор, ни взад ни вперед. Оставалось одно — либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Правда, кустов там не было.
— Где это произошло?
— У Гаранта. Есть такое ущелье и река. Мы с Вахтангом Гогиашвили подъехали, но в ущелье сразу не полезли. Я остановил машину и говорю: схожу поразведаю. Взял автомат. Машинально в карман сунул зеркало заднего вида. Шоферская привычка. У нас в городе было так — не снял зеркало, а сам отошел, значит, видел себя в том зеркале в последний раз. Уведут запросто.
— Ладно, вернемся к Гарангу. Значит, сняли зеркало и пошли…
— Так точно. Без разведки в Гаранг соваться не стоило. Ущелье с поворотами. Если духи прихватят — всё. Там быстро не развернешься. Вот и пошел взглянуть. Всего метров сто протопал. Автомат на изготовку. Вокруг вроде тихо. А впереди первый поворот. Его из-за скал не видно. И вот только я подошел к углу скалы, как по мне шуганули из автомата. То ли я быстро присел, то ли дух взял не так, пули резанули поверху. Я и сообразить не успел, а уже оказался в яме. В том место кто-то ее в камнях продолбил. То ли столб ставить собирались, то ли опору для мостика. Туда я и сиганул. Как потом понял — вовремя. Яма глубокая. Ко всему, страшно узкая. Я в нее с ходу влетел, и тут же духи пошли из миномета садить. Первая мина прошла с перелетом. Где-то сзади меня ухнула. Сразу злорадство в душе возникло. Ну, думаю, мазила. Вторая над самой головой прокарябалась со свистом. Злорадства поменьше стало. Третью они положили прямо по брустверу. Ох и долбануло! По ушам будто ладонью бабахнули. Сыпануло на меня щебенкой. В животе пропороло со страху, будто желудок лопнул. Вот честно, не вру! Потом отошло. Слышу, тихо стало. Сразу подумал: поднимусь, а оно опять жахнет. И конец! Не поднимусь — через две-три минуты меня духи возьмут тепленьким. Тут осенило. Взял и по-тихому пристроил зеркало на бруствер. Сижу и вижу: прут два духа на меня. Учить таких надо. Приподнялся. Прицелился по-хорошему. Бояться — не боюсь: не дурак. Мину, понимаю, они уже не кинут. Не бить же им своих. И положил я тех, как в тире. Минометчик после этого прямо озверел. Только успел я присесть, как он пулять пошел. Восемь груш положил. И он, гад, точно бросал. Все рядом легли. Только яма и спасала. Оглох начисто! Щебнем засыпало. В брюхе — февральская революция. Ну, думаю, промахнется дух и влепит ко мне в яму. Даже не опознают потом, кто был. И отпишут батьке — пропал, мол, без вести. В наш-то век! А? Короче, подурачился дух и опять утих. Я — зеркальце на место. Гляжу — прут уже четверо. Знаем, этому в школе учили. Называется прогрессия. Ответ известен. Поднялся и врезал порцию. Ох и взвинтились духи! Ну, дали по мозгам! Все, думаю, отлетался Галкин. Быть тебе цыпленком табака или, на удачный случай, Глухаревым. Так и сидел для профилактики с открытым ртом. Думал, не оглохнуть бы. На зубах песок скрипит. Дым горло дерет. А я губы круглю. Десять мин жахнул дух. Одну в одну клал. Мою дырку только наука и берегла. Когда потом лейтенант сказал, что палатка Эйлера прикрывала, я смеялся.
— Какая палатка? — переспросил Полудолин.
— Математический график, товарищ майор. Теория вероятности. Но я ее не знал и со страху маялся. Как будто все зубы разом болели и пупок в придачу. Когда все стихло, опять за зеркальце взялся. Вижу, прут. Трое. Не прогрессия, но на одного контуженого вполне хватает. Целился я хорошо. И все дрожал заранее. Думал, сниму этих, они меня и сковырнут минометом. И на том мнении промахнулся. Духи после того, как эти трое легли, дело по-тихому бросили и ушли. Почему — не знаю. То ли мины у них кончились, то ли решили, что меня им не проколупать. Вот такая была история.
— Сколько вы их положили? — спросил Полудолин, не скрывая любопытства.
— Кто знает? Говорили, шестерых.
— Почему «говорили»? — удивился майор.
— А потому что я их не считал. И не видел.
— Как — не видел?!
— Не пошел смотреть, и все. Чтобы ужас на всю остатнюю жизнь не носить в себе.
— Что же вы, убитых здесь не видели?
— Много видел. Но не своих. Свои мне не интересны. Я им счет вести не намерен.
— В партии вы давно?
— Давно, товарищ майор.
— Когда же успели?
— Еще дома, на заводе.
— Расскажите, почему вы за сержанта Синякова ручаетесь.
— Как — почему? — удивился Галкин. — Он мой товарищ.
Полудолин улыбнулся:
— Аргумент неотразимый! Как ваши автоматные очереди. Жаль, это Синякова никак не характеризует. У меня дома товарищ есть. Парень добрый, честный. Душа мужик. Но пьет. Я его люблю, а вот попросил бы он рекомендацию в партию — не дал бы. Дружба — одно, партийность — другое. Вы меня понимаете?
— Куда яснее.
— Вот и проясните.
Галкин взлохматил ежик волос, потер щеку, размышляя. Полудолин его не торопил.
— Я знаю много членов партии, товарищ майор. А коммунистов среди них, на мой взгляд, всего пятеро.
— Что так мало? — не пряча иронии, спросил Полудолин.
— Требования у меня такие.
— Себя в пятерку включаете?
— Не дотягиваю. Это точно.
— Самокритично. А Синяков у вас дотягивает?
— Синяков будет шестым в моем главном списке.
— Кто же там еще, если не секрет?
— Не секрет. Из рядовых там Вахтанг Гогиашвили.
— С Гогиашвили обязательно познакомлюсь. Не против?
— Наоборот.
— Где он сейчас может быть?
— Здесь, в автопарке…
Найти Гогиашвили оказалось делом нетрудным. Еще издали Полудолин заметил симпатичного грузина с пышными усами. Тот сидел на канистре, поставленной на ребро, и чем-то сосредоточенно занимался.
Полудолин подошел поближе и остановился за спиной солдата. Тот, не заметив офицера, увлеченно продолжал свое дело. Теперь Полудолин видел — солдат большим ножом точит деревянные колышки. У его ног лежала кучка нарезанных пилой чурбачков, а рядом груда поменьше, по всему видно — готовая продукция. Для чего нужны в военном деле такие колышки, майор не имел понятия, но подумал, что человек этот вряд ли стал бы заниматься делом бесполезным.
Ничего не говоря, Полудолин взял вторую канистру и сел рядом с солдатом. Тот, увидев наконец майора, хотел вскочить, но Полудолин придавил его плечо ладонью: «Сиди!»
— Здравия желаю! — сказал солдат с заметным грузинским акцентом, и лицо его осветила приветливая улыбка. — Совсем не успеваю.
— Зачем они? — с любопытством спросил Полудолин. Он достал из кармана складной нож, взял чурочку и стал ее обстругивать.
— Для рябой бочки, товарищ майор.
— Для рябой бочки? А что это такое?
— Виноват, товарищ майор, — смущенно сказал солдат. — Вы у нас новенький. Я забыл. Рябую бочку только старые знают.
Он произнес слово «новенький» с изрядной долей снисходительности, с какой в школах обращаются к новичкам, появляющимся в классе в середине учебного года. Но Полудолина это не задело. В беседах с комбатом он уже сделал вывод, что звездочки на погонах пока предоставляли ему здесь только право старшинства, но о его боевой зрелости нисколько не свидетельствовали.
Солдат тем временем поднялся с места и, как положено по уставу, церемонно представился:
— Рядовой Гогиашвили. Вахтанг Георгиевич. Водитель спецмашины. По-простому — водовоз. Здесь без своей воды жить трудно. Моя спецмашина и есть «рябая бочка».
Полудолин тоже встал. Только теперь увидел он на груди солдата медаль «За отвагу». Судя по цвету ленты, носил ее Гогиашвили не первый месяц.
Полудолин пожал солдату руку. Сказал подобающие слова.
— Теперь прошу мою машину посмотреть, — предложил Вахтанг.
— Рябую бочку? — спросил Полудолин, с удовольствием произнося понравившееся название и не представляя, что увидит.
— Так точно, ее.
Они прошли под легкий навес, где стояла цистерна с надписью на борту: «Питьевая вода». Замполит сразу обратил внимание на то, что бочка была и в самом деле рябой. Бока цистерны, покрытые серой краской, испещряло множество бурых точек.
Полудолин подошел поближе и разглядел, что это гайки, замазанные охрой.
— Откуда это? — спросил он, не догадываясь о причинах их появления.
— Моя беда, — ответил Гогиашвили серьезно. — Горе прямо. Космос освоили — бочку бронебойную сделать не хотим.
— Почему бронебойную? — спросил Полудолин и вдруг сообразил: — Так это от пуль?!
Он тронул пальцем нижнюю гайку, посаженную на резиновой шайбе и туго затянутую.
— Так точно, — подтвердил Гогиашвили. — Сил бороться нет. Уже восемьдесят две дырки заделали.
— Все ваши? — спросил Полудолин, и морозные пупырышки тронули кожу на руках.
— Двенадцать до меня было. Остальные мои.
— Сами-то не ранены?
— Вероятность невелика в меня попасть, — сказал Гогиашвили серьезно. — Бочка большая, а я не такой большой.
Гогиашвили не сказал «я маленький». Он был человеком гордым. И даже случайным словом не позволял себе задеть собственную гордость.
— Что-то вы часто попадаете в переделки, — заметил Полудолин.
— Обязанность такая, — ответил солдат. — В рейд без танков ходим запросто. Без рябой бочки — никогда. Наверное, помните фильм, где поют: «Если в бочке нет воды, не туда и не сюда».
— «Потому что без воды и ни туды и ни сюды», — поправил Полудолин. — Без нее действительно туго.
— Нет, товарищ майор, — возразил Гогиашвили. — Не туго. Без нее здесь просто дня не проживешь. Я иногда два-три раза подвожу. И не хватает. Нужна модернизация. — Вахтанг выговорил это слово как-то по-особому, перекатывая звуки во рту, будто смаковал их.
— Что предлагаете?
— Надо на военные бочки ставить борта из броневых листов. Это главное. И кабину немного усилить. Много раз просил сделать — не делают.
— Добьемся! — заверил его Полудолин. — Модернизируем.
Он хотел произнести слово так же, как и Гогиашвили, но у него не получилось.
Почувствовав, что замполит поддерживает его, солдат обратился к нему еще с одной просьбой.
— Рябая бочка — нехорошо, — сказал он. — Разрешите мне на ней надпись сделать.
— Какую?
— «Амирани» хочу написать. По-русски и по-грузински.
— Что значит — Амирани?
— Вы не знаете, кто такой Амирани?! — искренне удивился солдат.
Полудолин улыбнулся. Знал бы Гогиашвили, сколько еще есть на свете неведомого их майору. Если б только знал!
— Амирани — это герой. Наш, грузинский, Прометей. Научил людей железо ковать. Сам был огромный, смелый. Глаза — как целое сито. Силой обладал — будто дюжина быков и буйволов. Мне так приятно назвать машину.
Полудолин, глядя на восторженное лицо солдата, хотел было дать согласие, но вдруг подумал, что Гогиашвили, наверное, кому-то уже излагал свою идею. Почему ему не разрешили? Подумав, сам нашел ответ.
— Нет, — сказал он солдату. — Никаких надписей.
— Почему, товарищ майор? — спросил тот разочарованно.
— Очень просто, Гогиашвили. Представьте, вы сидите в засаде. Идет колонна. В ней три наливные машины. На одной — большая надпись. На двух других — нет. Какую вы сами постараетесь поразить первой, если смысл надписи вам неясен?
Солдат думал недолго. Изумленно качнул головой:
— Мощная психология! У меня самая большая надпись! Может, потому так часто стреляют?
— Может, и так, — сказал Полудолин. — Давайте попробуем бочку перекрасить. Надпись сделаем поменьше. Слово «Амирани» напишите на крышке капота изнутри. Устроит?
— Ва! — Солдат стоял и широко улыбался. Потом на радостях стукнул кулаком по цистерне. — Мы еще поживем! Салют, Амирани!
— Один вопрос, Вахтанг. Как вы относитесь к Синякову?
— Товарищ майор! — воскликнул Гогиашвили. — Этот человек очень настоящий. Очень!..
Последним, с кем беседовал Полудолин о Синяково, был капитан Ванин.
— Синяков? — переспросил он майора. — Никаких вопросов! Две государственные награды: медаль «За боевые заслуги» и представлен к ордену Красного Знамени.
— Вы говорите о представлении как о состоявшемся награждении, — заметил Полудолин. — По-моему, это все же вещи разные.
— У нас в роте, — ответил Ванин с некоторым вызовом, — само представление можно рассматривать как награду. Такую мы ввели систему.
— Каюсь, с вашей системой не знаком. Просветите, Тимофей Кириллович.
— Это мне, видимо, каяться следует, потому как допускаю самовольство. Дело в том, что от существующей системы наград я лично не в восторге.
— Интересно! — произнес Полудолин с иронией. — Претензии у вас, как вижу, с большим размахом. Чем же эта система вам не угодила?
— Коли спрашиваете, отвечу прямо: мало в ней по нынешним временам демократичности. Что вы так на меня смотрите? Не то говорю? Только разве годна ко всему одна мерка: если мы живем в демократическом государстве, то все, что вокруг делается, демократично.
— Разве не так?
— Я вижу, вам не очень нравится слушать, поэтому давайте не будем продолжать.
— Почему? Раз уж начали — говорите.
— Тогда лучше по порядку, товарищ майор. Так вот, на мой взгляд, в нашей наградной системе два недостатка. Во-первых, нет в ней системности. Во-вторых, в ней должно быть больше демократичности.
— В системе нет системности. Забавно.
— Не забавно, скорее, печально. Вообще-то, орденов, медалей, почетных званий у нас хватает. Да вот появлялись они в разное время и не укрепляли систему наград, а, наоборот, вносили в нее хаос. Возьмем орден «За службу Родине в Вооруженных Силах». По статуту награжденный таким орденом трех степеней имеет право на бесплатный проезд в любом транспорте по стране раз в году. В городах он не обязан платить за проезд в метро, трамвае, троллейбусе. Ежегодно ему дают бесплатную путевку в санаторий. Хорошо? Думаю, даже очень. Я не против: награда есть награда. Но вот у нас в Нижнем живет Иван Егорович Маслов. Ветеран. Гвардии капитан Отечественной войны. Летчик-истребитель. У него орден Ленина, Красного Знамени и два — Красной Звезды. К сорокалетию Победы наградили «Отечественной войной». Итого — пять высших орденов страны у старика. Орден Ленина! А ни права на бесплатный проезд, ни путевки льготной не предусмотрено. Это что — система?
— В принципе нет, — согласился Полудолин.
— А не в принципе? Почему три ордена Славы выше, чем два ордена Ленина?
— Согласен, есть над чем подумать. А что со вторым пунктом?
— Думаю, так же. Нужно демократизировать систему наград. Вот такой пример. Тот же орден «3а службу Родине в Вооруженных Силах». По статуту им награждаются военнослужащие вне зависимости от рангов. Но видели ли вы хоть одного солдата или сержанта с этим орденом? Нет. Как-то само собой его сделали офицерским. Больше того — старшеофицерским, я бы сказал. Затем, товарищ майор, о порядке награждения. Вы где-нибудь видели, чтобы представления обсуждались личным составом?
— На это есть командиры и политработники. Какие основания не доверять их мнению?
— Оснований нет, но вот у меня есть интересная выписка.
Папин достал из кармана записную книжку и развернул ее.
— Послушайте, товарищ майор, как царский вельможа Григорий Потемкин советовал Суворову награждать медалями особо отличившихся солдат. Вот: «За исключением одной, девятнадцать медалей серебряных для нижних чинов, отличившихся в сражении. Разделите по шести в пехоту, кавалерию и казакам; а одну дайте тому артиллеристу, который выстрелом подорвал шебеку. Я думаю, не худо б было призвать к себе по нескольку или спросить, кого солдаты удостоят между собой к получению медали». Не кажется ли вам, товарищ майор, что вельможа ценил солдатское мнение? Вдуматься только: «кого солдаты удостоят между собой»! За конкретный подвиг светлейший князь наградил одного сам. Подбил шебеку — тебе медаль. А за храбрость в бою награждение велел отдать в руки однополчан. Между прочим, до последних дней империи, насколько я знаю, солдат в бою награждали по приговору товарищей.
— Зерно в этом есть, — сказал раздумчиво Полудолин. — И звучит красиво: «наградная демократия». Но в чем ее преимущества? Вы, к примеру, считаете себя справедливым командиром?
— При чем тут, что я считаю?
— При том, Тимофей Кириллович. Если подходить к людям справедливо, то почему мы не должны доверять вам их награждение?
— Хотя бы потому, что коллективное мнение всегда выше.
— Если только это…
— Не только. Сократится предвзятость при назначении наград. Меня до сих пор совесть мучает, как вспомню о лейтенанте Косогове.
— Кто это?
— Взводный был у меня. Как его представлю, на ум приходит слово «витязь». Честный, открытый, прямой, смелый, добрый. Всё при нем. Но горячий. Отличился на Синем перевале. Трое суток без тепла и еды держал банду. Представили его к Красной Звезде. По заслугам. Пришли награды. Трем сержантам — ордена, а ему, взводному, — медаль. Интересуемся — почему? Из штаба отвечают: такой-то вычеркнул Косогова. Он у вас, дескать, спорить горазд. Оказывается, припомнили случай, когда Косогов возразил майору из штаба. Возразил резко, но по делу. И тот запомнил. Теперь вопрос: мы что, хотим иметь ежей без колючек? Чтобы они в бою ничего не боялись, а при виде своего начальника штанишки орошали?
— Ну, ну, капитан! Опять вы в крайности. Лучше расскажите, что вы добавили в наградную систему от себя.
— Общественное мнение, товарищ майор. После одного боя собрал роту. Говорю: работали хорошо все. Даже затрудняюсь выделить лучших. Но они есть. Вот прошу в каждом взводе назвать наиболее достойных. Причем первый, кого назовете, получит высшую награду. Второй — поменьше. Смотрю, молчат.
— Вот видите, — не без иронии заметил Полудолин. — Такое решение принимать непросто. И себя обидеть не хочется. И друга возвысить жалко.
— Не надо, товарищ майор, — сказал Ванин, — несолидно это. Молчали люди оттого, что не привыкли к подобным вопросам. Тогда я попросил офицеров уйти вместе со мной. И предупредил, что солдатский суд будет для меня решающим. Через полчаса мне доложили решение. И вот, скажу, лейтенант Максимов из своего взвода назвал лучших: сержант Синяков, рядовые Васяев и Кольцов. Взвод, посовещавшись, назвал Синякова, Кольцова и Васяева.
— Что же вы доказали? — спросил Полудолин. — По-моему, ничего. Лишний раз стало ясно — хороший командир сам в состоянии рассудить справедливо, кому награды положены.
— Я ничего не доказывал. Просто у меня солдаты знают — их мнение чего-то стоит для командира. И петому на ваш вопрос о Синякове я отвечаю твердо: его не только я — его рота дважды выше других ставила. Кто еще таким может похвастаться?..
* * *
Вечером, когда в небе зажглись звезды, Полудолин прошел к солдатскому костру. Под самой крепостной стеной, под сварным железным навесом, прикрывавшим пламя, разрешалось разжигать огонь. Трудно объяснить почему, но в вечернее время он с неодолимой силой притягивает людей. На лавочках вокруг очага сидело человек двадцать.
— Не, братва, — рассуждал солдат, сидевший спиной к майору, — как ни убеждайте, а баба и женщина — это разные понятия. Лично мне в жены только женщина подходит.
— Все ясно, — сказал Полудолин с улыбкой, подойдя поближе. — Тема знакомая. Можно присесть?
Солдаты сдвинулись, освободив место. Майор втиснулся между ними.
— Значит, все о ней?
— О ей, — засмеялись солдаты, и все замолчали.
— Тогда продолжайте. Дело житейское. Никогда и никуда от ёй нам не уйти.
— Вы так думаете? — откликнулся высоким чистым тенорком белокурый солдат.
Полудолин поначалу хотел спросить его фамилию, но вдруг подумал, что это сразу придаст беседе ненужную официальность.
— Почему — думаю? — ответил он. — Знаю точно. Да вы сами-то женаты?
— Нет, — ответил солдат весело. — Обошелся и рад тому. Подобную роскошь только после службы можно себе позволить.
— Не верите в женскую верность?
— Взаимно, товарищ майор. Как они не верят в нашу, в солдатскую. И между прочим, правильно делают. За два года у ребят мозги ох как перекручиваются! Взгляды на мир меняются.
— И в какую же сторону? — поинтересовался Полудолин.
— Чаще всего в обратную, — глухим басом ответил черноусый солдат и представился: — Рядовой Шильников.
— Не совсем ясно, что значит «в обратную»?
— Очень просто, товарищ майор. За всю Читу утверждать не стану, скажу о себе лично. Что мне до Афгана нравилось в девчатах? Джинсочки в обтяжечку. Блузочка прозрачная. Чтобы здесь и здесь побольше, — солдат выразительно показал руками, где именно, — а здесь, — он стукнул себя по макушке, — поменьше. Казалось, на кой бес девчонке ум, серьезность? Веселость и легкость — вот главное в хорошей подруге. Серьезности и без нее хватает…
— Верно Шильников трактует? — обратился Полудолин к солдатам, пытаясь привлечь их к разговору.
— Точно, — первым отозвался белокурый.
И тут Полудолин вспомнил его фамилию — Моторин. Гранатометчик из роты Уханова.
— Излагает Шило, как пишет, — выдал кто-то свою оценку Шильникову из-за спины майора.
Полудолин отметил, что его появление у костра не прошло незамеченным. Сюда сразу подтянулись еще человек десять. Видимо, было интересно приглядеться к новому замполиту, услыхать его голос, понять, что он собой представляет.
— А теперь что же? — спросил Шильникова майор. — В какую сторону ваши взгляды повернулись?
— Я уже сказал, — ответил солдат, — в обратную. Раньше мать говорила: главное в человеке — душа. А ее слова отлетали. Слушать слушал, а думал свое. Потом вот на Афган попал. Два рейда, товарищ майор, обучили как в университете за пять лет. Поглядел на всю забитость и нищету вокруг. На кровавую жестокость, с какой душманы стараются удержать людей в состоянии бараньего стада. И мир уже выглядит для меня по-иному.
— А я, товарищ майор, — выставился вновь Моторин, — по другой причине к женитьбе не поспешал.
— По какой же?
— Просто в силу оценки реальной обстановки. Есть у меня дома одна. Только как ей можно довериться? Представьте, она там — я здесь. Мне еще год служить. А ей дома по нынешним меркам — год за два. Вокруг в городе столько соблазнов. Как в квартире усидеть? Сдуреешь! Пойдет на танцы — раз. В Дом культуры — два. В дискотеку — три. В кафе или там в молочный бар — четыре. Найдется какой-нибудь плясун и любитель молочных коктейлей больше, чем я. Как пить дать уведет!
— Умудренно рассуждаете, — сказал Полудолин, — будто старик какой.
— Просто у меня характер современный, — ответил Моторин. — В духе электронного века.
— А я на все проще смотрю, товарищ майор, — вступил в разговор вертлявый остроносый ефрейтор. — Сейчас продолжительность жизни растянулась на такой срок, что одной любви человеку мало.
Полудолин напряг память и вспомнил уже слышанную фамилию — Лаптев.
— А вы уже любили? — спросил он, не сдерживая насмешливости.
— Еще как! — охотно признался Лаптев. — Первый раз у меня любовь до гроба длилась три месяца. Думал, никогда больше не полюблю. Целые каникулы парил на крыльях. Потом, уже в шестом классе, появилась другая. И мое «никогда не полюблю» сразу кончилось…
— Кто что вспоминает, — сказал сидевший напротив майора широкоплечий, крепкий солдат, — а я вот, когда дом далеко, все чаще вспоминаю маму…
Никто не хихикнул, не перебил его, но хмыкнул. Только багровые отблески костра играли на удивительно похожих в своей суровости и строгости лицах. Все словно замерли.
Полудолин с удивлением подумал, что вряд ли в других условиях кто-то из ребят в солдатском кругу рискнул бы сказать о чувствах к матери с такой откровенностью. Здесь скорее позволили бы признаться в тоске по любимой девушке, подруге. Но вот на грани, отделявшей людей от неизвестности завтрашнего дня, само собой отпало деланное бодрячество, ушла показная рисовка — открылись истинные, глубокие чувства.
И никто — никто из полусотни лихих шутников, зубоскалов, охальников даже, готовых вышутить в человеке малейшую слабость, поднять на смех пустяковый промах, — никто не усмехнулся…
— Да, мама…
К костру подошел дежурный по батальону. Нагнулся к Полудолину.
— Товарищ майор, комбат просит вас прийти.
— В штаб?
— Нет, на контрольно-пропускной пункт. Я провожу.
* * *
— Входи, — сказал комбат, увидев Полудолина. Он кивнул в сторону чернобородого скуластого афганца. Тот сидел за столом, отрешенно глядя на руки, которые держал перед собой. — У нас гость.
Рядом с афганцем устроился батальонный знаток дари сержант Буриханов.
— Знакомься, — предложил Бурлак. — Только не пугайся и руки не отдергивай. Это дух. Зовут Исахель.
Афганец встал, протянул открытую ладонь Полудолину. Тот сжал ее, понимая, что исполняет неприятную, но обязательную по важности процедуру.
— Товарищ Буриханов, — сказал комбат, — теперь все здесь. Пусть наш гость изложит, что его привело сюда.
Буриханов стал переводить слова комбата, и афганец закивал головой, подтверждая, что понимает. Потом заговорил сам. Быстро, напористо. При этом руки его, лежавшие на столе, совсем не двигались, ничем не отражали горячности слов.
— Он говорит, — переводил Буриханов, — что пришел сюда с покаянием. Он уже получил прощение от афганских властей, но не мог не прийти к шурави, которым тоже причинил зло. Он говорит, что свет доброты шурави — да будут продлены их дни аллахом! — растопил лед предубеждения, испарил недоверие. Он сознает вину и искренне раскаивается…
— Буриханов, — сказал Бурлак, — передай нашему гостю благодарность за его высокую похвалу и уважение. И все такое, как ты умеешь. Передай, а сам дальше переводи, только без рахат-лукума. К вечеру я не способен воспринимать суть дела, если оно к тому же посыпано сахаром. Давай существо. Понял?
— Хорошо, — сказал Буриханов и перевел благодарность комбата гостю.
Тот торжественно кивнул и продолжил разговор. Но теперь перевод стал звучать короче.
— Исахель говорит, что пять лет состоял в банде Исфендиара. Он верил, что шурави — слуги дьявола. Он думал, что они идут с мечом на ислам, хотят затоптать в прах зеленое знамя пророка. Он переносил лишения, скитался в горах вместе с бандой. Думал искренне, что служит вере и правому делу. Но жизнь даже осла научит отличать кнут от сена. Сколько ни говори «сахар», во рту не станет слаще, а словом «перец» не приправишь похлебки. Он потом понял, что шурави — люди хорошие. Это души добрые, мудрые. Можете сказать мне, говорит Исахель, голова, голова, о чем ты думала раньше. Да, пал на нее позор, не скрыть под чалмой. Сын его Сулейман разбудил сомнения. Мальчика ранила мина. Он потерял много крови и умер бы. Но кровь ему дали шурави. Сулейман здоров. Он веселый. Он не стал слугой сатаны. Он сын отца, как и прежде, его надежда… Ему надоела война…
Полудолин слушал исповедь душмана со смешанным чувством недоверия и удовлетворения. С одной стороны, не доставляло большого удовольствия общение с человеком, который, но его собственным словам, «причинял зло» шурави. С другой — майор понимал, что каждая такая победа над прошлым, достигнутая без стрельбы, без огневого противодействия сторон, свидетельствует о крепости и доходчивости той правды, которую они здесь защищают. Он старался понять, в какой мере искренен этот чернобородый скуластый воин, которого сейчас трудно заподозрить в мягкосердии и доброте. Темные, сверкающие из-под густых бровей глаза, хищный нос со слегка загнутым кончиком — все выдавало в Исахеле натуру порывистую, горячую. В то же время его голос, особенно когда речь шла о здоровье сына, неуловимой теплотой свидетельствовал об искренности произносимых слов.
Буриханов переводил деловито, спокойно. Должно быть, речь афганца не представляла для него трудностей.
— Хочу смыть с себя кровь. Хочу упасть в ноги к вам, шурави. Решите мою судьбу. Если скажете — смерть, приму безропотно. Если простите, буду жить искуплением. И еще хочу назвать своего сына именем Шурави. Если вы разрешите.
— Сына его зовут Сулейман, — заметил Полудолин. — Зачем ему второе имя?
— Исахель говорит, — перевел Буриханов, — у него родился еще один сын. Совсем маленький. Хочет назвать его Шурави. Вопреки всем, кому это может не понравиться.
— Тогда не Шурави. Пусть назовет просто Шура, — предложил Полудолин. — Есть у нас такое имя.
— Погодите, Буриханов, — сказал Бурлак, — не переводите. Давать советы с ходу — это по-нашенски. Здесь так не годится. Скажите Исахелю, что мы поздравляем его с рождением сына. Желаем малышу доброго здоровья и счастья. Затем добавьте, что вопрос, как назвать мальчика, решают только родители.
Буриханов перевел. Исахель с важным видом качал головой.
— Он понимает, товарищ майор, — сказал переводчик, — и принял решение сам. Старики в кишлаке тоже считают, что так назвать хорошо.
— В таком случае, Буриханов, скажите, что нам очень приятно решение отца. И вот теперь только переведите, что майор предлагает назвать мальчика не просто Шурави, а Шура.
— Шу-ра, — произнес Исахель, вслушиваясь в звуки имени. — Да будет так. Хорошо. Шура.
Они расстались, довольные друг другом. Возвращаясь в штаб, Полудолин спросил комбата, что собой представляет Гогиашвили.
— Вахтанг? — Глаза Бурлака засветились по-доброму. — Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Человек чести и долга. Таких поискать. Помню, нас перехватила засада в «зеленке» у Чарикара. Шла колонна, а духи весь огонь на рябую бочку обрушили. Я думаю, приняли за автозаправку. Мол, если ее поджечь, колонна вмиг распадется. Они били, вода хлестала. А Вахтанг по бочке лазит со своими колышками. Как дырка — он ее затыкает. За автомат взяться так и не успел. Зато больше полцистерны воды сберег. В тот день двадцать две дырки в цистерне пробили. Тогда я его представил к награде…
— Радостно сознавать, командир, — сказал Полудолин, — когда видишь, что такие люди не переводятся.
— А почему они должны переводиться? Нет причин. Важно, чтобы как можно больше молодых понимало: шурави — это слово гордое.
Полудолин поморщился.
— Как подумаю, что мальчишка у душмана тоже будет Шурави… И руку его жать было малоприятно. Как подумаю, что он смотрел на нас сквозь прорезь прицела…
— Ну, ну, — успокаивающе сказал Бурлак, — не развивай темы. Кому-кому, а тебе не к лицу такие переживания. Сколько раз на семинарах повторял, что война — продолжение политики? И вот появилась возможность ударить по противнику не военными, а политическими средствами. Тебя это пугает?
— Какой же тут ты увидел удар? — спросил Полудолин, не скрывая пренебрежения. — Так, щипок. Ушел, видите ли, Исахель.
— Удар очень сильный, комиссар. Исахель привел с собой еще девять духов. А каждый из них стоит десяти. Сам читал на Исахеля ориентировку: хитер, умен, свиреп, сметлив. И вдруг сложил оружие, пришел домой. Да не просто явился. Принес важную разведку. О тайных складах, о минных полях. Казалось бы, кто должен оценить первым такое? Политработа. А ты перед собой руку несешь, как зараженную.
— А самому приятно было? Только честно.
— При чем тут честно или нечестно? Мне и воевать не очень приятно, а я воюю. Впрочем, если на то пошло, я бы всем духам руку пожал при условии, что они начнут складывать оружие. Такое тебя устраивает?
— Такое — вполне!
ПАКИСТАН. УРОЧИЩЕ ЛЭВЭКАПДА. АФГАНИСТАН. РАЙОН ДАРБАРА
Машад Рахим, главарь группы «медведей», получил документы на имя Наби Иналовича Рузиова, старшего лейтенанта Советской Армии. Удостоверение личности, старательно скопированное в мастерских американских спецслужб, должно было стать свидетельством «зверств», которые чинят в Афганистане советские войска. Заполнял графы бланка некий неведомый миру «умелец», провокатор из вскормленного еще гитлеровскими фашистами Национально-трудового союза — НТС.
Липу, несмотря на похожесть, установить было бы нетрудно. Но она и не предназначалась для предъявления советским военным властям. Ее готовили для демонстрации в других местах. После уничтожения группы террористов «честными мужахидами» их документы планировалось передать в руки западных журналисток. И тогда, как ни старайся доказать, что старшего лейтенанта Рузиева ни сном ни духом в Советской Армии не бывало, вряд ли кто в мире поверил бы опровержениям. Вот почему эксперты нечистых дел дали «медведям» «добро» на выход из их «берлоги».
Когда Машад Рахиму, до того командовавшему боевой десяткой в банде Фарахутдина, объяснили, что он теперь по документам и положению старший лейтенант, что на нем офицерские погоны, тот сразу почувствовал себя человеком важным, распушил походившие на крысиный хвост усы и врезал в морду длинному Муфти Мангалу. Без всякой нужды и причины. Просто так, для утверждения своего авторитета.
Мангал скрипнул зубами и проглотил обиду, не закрывая глаз. Таков уж порядок: полировать морды подчиненных душманов не просто право их шефа — это его обязанность.
К пониманию своего положения в душманском мире Машад Рахим шел через годы.
Сельский батрак, сын батрака, до восемнадцати лет он горбатил спину на полях крупного маллака — помещика. Чистил арыки, окучивал огородные посадки, поливал землю. Всюду, где нужно было гнуться и потеть, побывал хилый, тщедушный базгар.
За недолгую жизнь зажатого нуждой человека он не выучил ни одной буквы, не мог ни написать своего имени, ни прочитать его, если напишут другие.
Темный, как беспросветная южная ночь, Машад Рахим был добрым и богобоязненным парнем. Он исправно творил пятикратный намаз и был уверен, что его молитвы непременно доходят до аллаха. Не могли они не доходить, если к всемогущему и всемилостивейшему обращался не столько язык правоверного, сколько его горячая вера.
В восемнадцать лет судьба Машад Рахима круто изменилась. В его родной кишлак ворвались душманы из банды Фарахутдина. В тот раз они не грабили, не убивали, не жгли. Только согнали на базарную площадь мужчин — старых и молодых — и стали отбирать годных для службы в банде.
Главным аргументом вербовки были два пулемета, установленные на плоских крышах крестьянских хибар.
Машад Рахима — хиляка и доходягу — признали годным по всем статьям и поставили в строй.
Мулла прочитал вслед уходившим проповедь. Потрясая сухоньким кулачком, брызгая слюной, он угрожал тем, кто хотел бы отказаться от участия в «святом бое за веру».
— Поистине тех, кто не верит в наши знамения, мы сожжем в огне! — выкрикивал мулла. — Всякий раз, как сготовится их кожа, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили наказание!
Рекрутов угнали подальше от дома, в горный лагерь, и начали готовить к роли безжалостных убийц.
Машад Рахим попал в группу яростного фанатика, который не знал ни своего рода, ни племени и, судя по всему, был когда-то профессиональным палачом. Не исполнителем смертных приговоров, а именно палачом — истязателем людей.
Никто в банде не знал истинного имени головореза, и звали его просто — Махмуд Шамат — Махмуд Беда.
Однажды в лагерь пригнали группу «пленных». Банда Фарахутдина налетела на мирный кишлак, признавший кабульское правительство, и учинила там кровавую расправу. Душманы сожгли школу, взорвали мечеть. Оставшихся в живых увели с собой в горы. Тех, кто согласился служить в банде, назвали мужахидами. Нескольких пожилых мужчин, пытавшихся отпроситься домой, передали Шамату. Тот собрал своих подчиненных на занятие.
Не раз потом в кошмарных снах являлся тот день Машад Рахиму.
Стояло время осенней теплыни. Солнце, расплескавшее огневую ярость в летние месяцы, лишь ласково согревало землю. Молодые, жившие впроголодь душманы, измотанные ко всему вылазкой, собрались отдыхать. Шамат не дал им покоя.
Он выбрал наиболее хлипких рекрутов и приказал им связать пятерых пленников. Опутанных волосяными веревками стариков повалили на землю.
— А теперь, — объявил Шамат, — я покажу, как свежуют упрямых козлов, не желающих служить вере.
Он сел на живот кряжистому седовласому крестьянину и вытащил из ножен стальной клинок.
— Может, кто хочет сам? — спросил Шамат, гнусно посмеиваясь. — Ну?!
Никто из молодых душманов не отозвался. Тогда Шамат вонзил нож в живот старика. Рывком распорол его от пупка до грудины.
Машад Рахим, окостенев от ужаса, смотрел широко раскрытыми глазами на происходившее. Старик не кричал, не стонал. Он, видимо, сразу потерял сознание, хотя был еще жив. Его ноги мелко подрагивали, царапая пятками каменистую землю.
Шамат, отбросив нож, с диким гоготом сунул руку в разрез и стал выворачивать наружу внутренности. Потом снова взял нож и загнал его в брюшину. Поковырялся, запуская волосатую свою лапу по локоть в кровавую полость, и с торжествующим звериным криком вытащил оттуда наружу зажатое в пригоршню сердце.
— Вот! — заорал он. — Смотрите, какое поганое оно у безбожников!
Отшвырнув судорожно подрагивавший мускул жизни, Шамат встал. Он покачивался, как пьяный. Глаза его широко раскрылись, грудь тяжело вздымалась. Палач переживал садистский восторг, никого не стесняясь.
Отдышавшись, повернулся к подчиненным.
— Ты! Ты! Ты! — торкая пальцем, указал он тех, кому предстояло стать палачами. — Возьмите ножи!
— Не могу, уважаемый господин, — задыхаясь от тошноты, прохрипел Машад Рахим. — Не могу!
— Слушай, теленок, — сказал Шамат, взяв мальчишку за горло, и сжал так, что у того хрустнула шея. — Я ведь могу и твои кишки накрутить на руку. Тот, кто оберегает жизнь отступника от веры, сам достоин такой же казни.
В тот день Машад Рахим впервые зарезал человека. Зарезал, дрожа от отвращения и страха. Потом, как учили, сунул руку в теплую скользкую глубину живота и вытащил оттуда внутренности.
А сзади стоил Шамат и громко хохотал:
— Так его, теленок! Так! Не жалей неверных! Они тебя никогда жалеть не станут. Аллах вознаградит твое усердие!
В тот же вечер Машад Рахим впервые попробовал наркотик. Он и раньше знал, что бородатый мрачный командир душманской десятки Фагтых тайком приторговывал снадобьем, но не обращался к нему. Опасался. Пережитый ужас помог одолеть страх перед греховной отравой. О том, что она помогает уходить от реальности в мир иллюзий, Машад знал из рассказов тех, кто раньше него начал искать забвения после кровавых дел.
Шамата убили в одной из бандитских операций. Душманы по обычаю подошли к горному кишлаку с видом хозяев. А их встретили пулеметным огнем. Оставшиеся в живых отступили. Фарахутдин бесновался, но ничего не смог поделать с отважным кишлаком.
Позже выяснилось — туда из армии вернулся раненый сержант. Он убедил земляков, что охранять свои очаги от незваных гостей — их собственная обязанность. Организовал дружину самообороны. Получил у властей оружие и боеприпасы. И банде был дан отпор.
Гибель Шамата возвысила Машад Рахима. Главарь банды — мэшр Фарахутдин приблизил Машада, поручив ему роль палача при собственной персоне. Вчерашний батрак, обученный искусству живодерства, ощутил себя человеком, который вправо распоряжаться жизнями других по личному усмотрению. То, что еще недавно пугало его в облике Шамата, теперь он сам старательно копировал, чтобы нагонять страх на своих и чужих.
Угрызения совести больше не мучили Машада. Он окончательно усвоил мысль о своей неподсудности и таким образом переступил черту, отделяющую человека от хищного зверя…
Минувшим летом банда Фарахутдина ворвалась в маленький горный кишлак. Душманы первой линии прочесывали дворы в поисках красных. А Машад, свободный от боевых обязанностей, ждал, когда ему предстоит приступить к исполнению роли палача. Он забрел в чужой сад и стал срывать плоды мандэты — абрикосы. И вдруг увидел девушку, прятавшуюся в кустах. Кто знает, какие обстоятельства вынудили ее оставить дом и укрыться в саду. Может быть, посягательства какого-нибудь душмана.
При виде перепуганной девчонки у Машада взыграли темные страсти. Он наставил на нее пистолет, подошел к ней вплотную.
Девушка, от испуга потерявшая дар речи, смотрела на Машада глазами, полными ужаса и слез. Ее испуг еще больше распалил бандита. Он схватил свою жертву за шею, сунул пистолет в кобуру и стал срывать с девушки одежду.
Ветхая ткань — откуда в бедной семье ей быть прочной — поддавалась без особого сопротивления.
Притягивая девушку к себе, Машад шептал ей на ухо: «Не кричи, глупая! Убью! Раздавлю, как лягушку!»
Он намотал ее косы на руку, что было сил рванул на себя. Девушка не устояла на ногах. Вскрикнув, она упала на спину. Машад Рахим всей тяжестью рухнул на нее.
Девушка сопротивлялась. Она кусалась, отчаянно билась, царапалась, кричала. Тогда душман схватил ее за горло и стал душить. Он давил шею своей жертвы до тех пор, пока та не перестала хрипеть и биться.
Когда, добившись своего, он встал, то понял — девушка мертва.
Постоял над ней, махнул рукой — кисмат — судьба! — и пошел.
Отойдя несколько тагов от жертвы, он заметил, что у его гнусности был свидетель. У пролома в старом дувале стоял седобородый высокий базгар.
«Твое несчастье, старик, — подумал Машад с тупым безразличием. — Видимо, аллах начертал в твоей книге судьбы слово «смерть».
Он перезарядил автомат и подошел к старику.
— Сынок! — вдруг воскликнул тот, узнавая. — Машад!
Бандит замер и опустил автомат. Он тоже узнал старика. Это был его родной дядя по матери — Кохат. Постаревший, ссутулившийся с той поры, как они виделись в последний раз, дядя смотрел на племянника с удивлением и нескрываемым осуждением. Да и мог ли простой крестьянин, чье отношение к людям определяли его мозоли, благословить убийство?
— Как живете, дядя? — спросил Машад, повинуясь почти забытым правилам сельского приличия. — Здоровы ли? Как мои братья?
— Ты давно не был дома, — сказал старик Кохат. — Там многое изменилось. У нас народная власть. Базгары получили землю. Должно быть, это тебя интересует?
— Значит, вы тоже продались неверным? — спросил Машад с презрением. — И чужая земля не застряла у вас костью в горле?
— О каких неверных ты говоришь, сынок? — Дядя не скрывал удивления. — Все у нас по-старому. Мы молимся аллаху, как требует Книга. Единственное — нет теперь шакала маллака. Зато у каждого базгара — надел земли. Вернулся бы ты, сынок, домой. Власть прощает тех, кто сложил оружие.
Машад недовольно скривился. Этот старик словно забыл, с кем имеет дело. Другому мужахиду он не осмелился бы делать такие предложения. Выказывать раздражение и гнев Машад, однако, не стал. Спокойно, стараясь говорить как можно ласковее, сказал:
— Идите, дядя, своей дорогой. Лучше, если вас здесь не увидит никто другой.
— Я тоже так думаю. — Старый Кохат поднял с земли перекидную суму, забросил ее на плечо. — Спасибо, сынок. Прощай.
Тяжело ступая, старик двинулся через сад. Шел, не оглядываясь, словно не хотел больше видеть племянника.
Машад, немного выждав, привычно вскинул автомат, чуть прикрыл глаз, дважды подряд нажал на спуск.
Тот, кто был его дядей, кто когда-то держал его на коленях и гладил рукой вихрастую головку, упал вниз лицом, тяжело ударился о землю. Машад подошел к убитому. Ногой небрежно отшвырнул от него переметную суму.
В сад, держа автоматы наготове, вбежали два душмана. Остановились, увидев Машада. Тот, закидывая автомат за плечо, кивнул в сторону убитого:
— Посмотрите, что старый пес сделал с девчонкой. Проверьте у него хурджин. Может, что-нибудь найдете себе.
Автоматчики бросились к переметной суме. Обстоятельства сулили поживу.
Машад отошел в сторону, тряхнул ветку дерева. Абрикосы, спелые, мягкие, дробно посыпались на землю. Он набрал их в полу затерханного пиджачка и, с аппетитом обсасывая косточки, двинулся своей дорогой. Ушел из сада, даже не обернувшись…
Когда год спустя при личной встрече с мэшром Фарахутдином полковник Исмаил попросил дать ему трех надежных парней в лагерь спецподготовки, мэшр колебался недолго. Он считал, что самые верные и падежные — Машад Рахим, Муфти Мангал и Мирзахан. Три волка — злые, безжалостные. Он даже не знал, что из волков будут готовить «медведей», но выбрал для полковника Исмаила готовых зверей.
В «Баглэбе» троица попала в твердые руки американских инструкторов. Тем было что преподать недоучкам.
Машад Рахим выпускал кишки людям безоружным, стреноженным путами, парализованным страхом. Его предстояло научить нападать на вооруженных, способных к сопротивлению людей. Заодно приучить и к дисциплине.
В первый же день пребывания в «Баглэбе» Машаду был преподан жестокий урок послушания.
В барак, где обитала троица, вошел сержант Барри Фултон, краснолицый бугай с бицепсами профессионального борца. При его появлении Машад Рахим не счел нужным встать, не принял подобающей стойки.
Барри молча приблизился к нему, сгреб его лапищами, поднял с постели, на которой Машад сидел, скрестив ноги, и швырнул в угол.
Машад пролетел по воздуху метра три, ударился о стену и хлопнулся на пол.
Он еще не успел сообразить, что произошло, а Барри уже стоял над ним.
— Встать! — скомандовал он на хорошем пушту. — Ты привык, сын упрямого осла, чтобы тебя вразумляли палкой? Она найдется!
Машад, охая и кривясь от боли в боку, вскочил и вытянулся перед сержантом.
— Собирайся, скотина! — рявкнул тот. — Через час я тебя отправлю к полковнику Исмаилу. Пусть он лично открутит тебе дурную башку.
Ничто другое так не испугало бы Машада, как это предупреждение. Он сам видел, как гнулся его несгибаемый мэшр Фарахутдин перед пакистанским полковником. Не приведи аллах, если ему доложат о прегрешении ничтожного мужахида. Сколько их исчезло среди бела дня только потому, что начальство высказало им свое неудовольствие. Не приведи аллах!..
С тех пор Машад уже твердо представлял строение сфер Вселенной. Внизу, под ногами, — земля. На ней тупые базгары — дехкане и грязные каргары — рабочие. Все равно, правоверные они или неверные, над ними стоят слуги господни — мужахиды. Они несут меч аллаха, сеют по земле его справедливость и волю. Заметно выше — мэшры, главари банд. Еще выше — богатые беки, муллы, военные, живущие за границей. Совсем высоко — американцы. И уже только над ними — аллах, непогрешимый, всевластный, всевидящий.
В «Баглэбе» Машад прошел испытание и заслужил похвалу сержанта Фултона.
Неподалеку от спецлагеря раскинулся большой табор беженцев из Афганистана. Люди там бедствовали, маялись и наконец решили вернуться домой. Вождям эмиграции такое решение таборной джирги пришлось не по нраву. Было решено проучить строптивых.
Провести экзекуцию полковник Исмаил поручил Машад Рахиму и его коллегам. Те уж расстарались! Крови пустили вволю, кишок намотали на кулаки без счета. Словом, отвели душу.
Когда сержанту Фултону доложили об исходе операции, а потом показали фотографии учиненных Машадом расправ, американец совсем по-другому взглянул на своих подопечных. Во всяком случае, даже Машад заметил, что янки стал его опасаться.
Освоившись в «Баглэбе», Машад Рахим довольно быстро понял, что его готовят к забавной роли. Он и его ребята должны появиться в Афганистане в советской военной форме, наделать там шороху, погромче поколотить посуду, чтобы было слышно повсюду, и убраться восвояси. За такие штуки обычно хорошо платили, и это особенно устраивало Машада. В последнее время он решил копить деньгу на черный день.
И вот настала пора, когда ворота «Баглэба», прикрытые стволами пулеметов, выпустили «медведей» на волю. Теперь Машаду предстояло действовать самостоятельно.
Быстроходный автомобиль-вездеход покатил туда, где группе Машада надлежало наделать побольше шума.
Машад не пытался сдерживать своего радостного настроения. Он сидел рядом с водителем Мирзаханом и напевал веселую песенку.
Колея, накатанная рядом с тысячелетней верблюжьей тропой, напоминала русло высохшего потока. Машина шла ходко, то и дело подпрыгивала на камнях, которые никто и никогда не убирал с дороги.
Машад одной рукой держался за скобу, приделанную к передней панели, другой сжимал автомат.
Он знал — дело, порученное ему в этот раз, сулит немалые выгоды. Особо радовало то, что перед самым выводом на операцию в лагере появился новый, совсем глупый американец. Ни полковник Исмаил, ни сержант Фултон, ни мистер Каррингтон никогда бы не уступили Машаду так легко, как это сделал новый ослиноухий мистер Томпсон.
Когда речь зашла о вознаграждении за операцию, Машад попросил американца переговорить об этом наедине. Пусть не думает, решил Машад, что имеет дело с дураками. Он понимал, его услуги нужны. Может быть, даже очень нужны. А чем нужнее ты и твое умение, тем больше тебе должны заплатить.
Тогда-то, оставшись наедине, он и выпалил этому самоуверенному янки:
— Мало!
У полковника Томпсона округлились глаза. Чуть растягивая слова, чтобы скрыть вспыхнувшую ярость, он спросил:
— Ско-ль-ко не ма-ло?
— Семьсот мне. По пятьсот двум другим.
— О'кей! — Янки даже не стал раздумывать над предложением, и это подсказало Машад Рахиму, что торг прекращать слишком рано.
«Еще не о'кей», — подумал он злорадно. Знал, теперь американец в его руках.
— Есть одно условие, — сказал Машад.
— Какое? — спросил полковник и сжал зубы. Он с трудом сдерживался от того, чтобы не врезать этому мозгляку, занюханному душманскому подонку. — Говори.
— Деньги погибших получаю я.
Американец усмехнулся:
— Забито. Деньги погибших переходят к тебе. Немалый куш, не правда ли?..
Теперь, вспоминая тот разговор, Машад с гордостью думал о своей предусмотрительности. Что поделаешь, если аллах подсказал ему, как надо распорядиться судьбой его спутников. Они падут после того, как будет сделано дело. Убьет их он, Машад Рахим. Этим круторогим деревенским козлам незачем иметь такие большие деньги, которые им подваливают. Да и ему, Машаду, будет опасно жить на свете, если хоть кто-то узнает о том, что за американские деньги он убивал правоверных из рода Абдул Кадыр Хана. За такие делишки его отыщут и под землей, и в райских кущах Джанны. Отыщут и покарают. Абдул Кадыр Хан — человек серьезный. Тогда никакой платой не откупишься. Поэтому два осла, которые повезут его вьюк с деньгами, должны закрыть глаза, едва сделают дело. Он их поставит рядом и… Нет, не зря красномордый Фултон учил его кое-чему. Не зря…
«Аллах да придаст мне твердости», — помолился Машад. Без его воли ни один волос не может упасть с головы правоверного. А если целых двое разом падут замертво, то кто, кроме всевышнего, уготовил им такую судьбу? Не сам же он, Машад Рахим, червь земляной у ступней всевластного и всевидящего? Разве это не правда из всех правд, доступных пониманию правоверных?..
Машина катилась ровно и мягко.
Мирзахан — хороший водитель. Он любит машину. Возится с ней, будто это его собственный ишак. Может, что-то задумал сам и машина нужна ему очень? Надо к нему приглядеться, чтобы не сделать промашки. В самом деле, почему он так заботлив и старателен? Только ли за те пятьсот баков, которые обещал им мистер Томпсон?
Подозрения подтачивали спокойствие Машад Рахима. Он понимал — надо начинать действовать, чтобы поскорее выполнить задачу и вовремя избавиться от тех, кто может избавиться от него.
К дороге все ближе подступали горы. В этих местах Машад знал все — каждое ущелье с его тайными тропами, любой перевал, скрытые в горах пещеры. Сделав дело, он сумеет уйти так, что потом ни один следопыт не распутает следов.
На одном из поворотов Машад приказал Мирзахану остановиться и загнать машину в лощину, уходившую к востоку. Сам в это время выбрался на крутое взлобье горы и тщательно осмотрелся.
Как он и предполагал, место оказалось очень удобным для засады.
Метрах в ста за языком отрога три дороги, шедшие с разных сторон, сливались в одну. Это втрое повышало шансы на то, что они подстерегут хорошую дичь. Три пути — не один.
Резко пересеченный рельеф давал возможность остаться незамеченным, если вдруг пойдут военные машины.
Машад сам расставил людей у перекрестка. Уроки, преподанные сержантом Фултоном, не пропали даром. Душманы четко представляли, что будут делать при захвате и как им следует уходить в случае внезапной опасности.
Ждать долго не пришлось. Со своего наблюдательного пункта Машад заметил приближавшийся автобус и подал знак сообщникам.
Муфти Мангал и Мирзахан, выйдя на обочину, взяли под прицел подъехавшую машину. Это был старый, скрипучий, облезлый рыдван, которому давно уже было положено лежать на свалке. Только неутомимые руки мастера-хитреца изловчались сохранять жизнь этой железной рухляди, давно помеченной знаком смерти.
Всякий раз, когда двигатель автобуса застывал в очередном инфаркте или систему зажигания разбивал инсульт, трудяга мастер, постигший в совершенстве искусство реанимации железа, заставлял мотор вновь действовать, а машину ехать.
Кузов автобуса был раскрашен всеми мыслимыми цветами. Видимо, хозяин имел пристрастие к разноцветью радуги.
Машад, выскочивший на проезжую часть, вскинул автомат и дал очередь в воздух.
Замотавшись из стороны в сторону, автобус выпустил сизую волну вонючего дыма, заскрипел всеми сочленениями и остановился.
Машад махнул автоматом, показывая пассажирам, чтобы они выходили на дорогу.
Со скрежетом распахнулась дверца. Из машины один за другим вылезли пять человек. Шестым был шофер.
Бандиты прижали всех к стенке автобуса и начали обыск. Чему-чему, а уж этому «ремеслу» американцы обучали их со всей старательностью.
Подходя к намеченной жертве, душманы заставляли человека повернуться лицом к автобусу, поднять руки и расставить ноги. Один держал пассажиров под прицелом, другой — им был сам Машад — ощупывал одежду обыскиваемого. Делая гнусное дело, душманы переговаривались «по-русски».
— Давай, Иван, — говорил Машад.
— Давай, Иван, — отвечал Мирзахан.
На большее оба были не способны. Сколько ни бились инструкторы «Баглэба», их подопечные не сумели увеличить хоть сколько-нибудь свой славянский словарь.
Организаторы провокации в конце концов махнули на эту мелочь рукой. Важно, что ученики твердо и верно произносят слово «Иван». Его-то уж наверняка запомнят свидетели бесчинств бандитов в советской форме.
Обыскивая благообразного старика в белой нарядной чалме, Машад нащупал во внутреннем кармане его халата тугой кошелек. Он запустил руку за отворот и извлек оттуда добычу.
Старик, не повышая голоса, сказал с укоризной:
— Я мулла, господин. И эти деньги предназначены на святое дело…
Машад не сумел скрыть мгновенной растерянности и лишь усилием воли удержался от ответа мулле. Он лишь сказал Мирзахану свирепо:
— Давай, Иван! — и после некоторой заминки сунул кошелек в свой карман.
Таким же образом в карман душмана перекочевал кошелек из крестьянской сумы, которую держал худолицый, должно быть, не очень здоровый человек. На какое-то мгновение они встретились глазами. Машад буквально обжегся о ту жгучую, непримиримую ненависть, которую источал взгляд этого молчаливого и покорного на вид человека. Его сбережения, добытые трудом и экономией, с такой легкостью исчезали в чужом кармане, но он смолчал, считая, что жизнь все же дороже денег.
Маптада не смутила ненависть, которую он ощущал почти физически. Пусть, злорадно думал он, гнев этих людей теперь падет на головы шурави — советских солдат. Значит, все правильно; значит, дело, за которое ему платят так щедро, идет успешно.
Закрепляя достигнутое, он крикнул:
— Давай, Иван! Болшой!
Что означало последнее слово, он не знал. Оно совершенно случайно выплыло в сознании. Тем не менее Машад обрадовался: он произнес это на языке шурави без особых усилий.
Следующей была женщина. Машад приблизился к ней. Остановился, оглядел со вниманием изголодавшегося зверя. Еще раз прошелся вдоль ряда людей. И опять вернулся к худенькой, до смерти перепуганной афганке. Облизал губы, протянул левую, свободную от автомата руку и пятерней пощупал упругую грудь.
Мужчина, стоявший рядом, с диким выкриком проклятия выхватил из-под полы нож и взмахнул им.
Это было последним его движением в жизни.
Конелицый Мирзахан буквально перерезал смельчака пополам длинной автоматной очередью.
Остальные пленники попадали на землю, прикрывая головы руками.
Машад по-шакальи громко и противно захохотал.
Наивный дурак, решивший на него покуситься, верил, что нож — оружие. Нет, оружие — автомат. Не зря сержант Фултон столько раз заставлял их отрабатывать подобные ситуации. Вот ведь пригодилось!
— Карош, Иван! — сказал Машад Мирзахану. Тут же схватив за руку помертвевшую, лишившуюся дара речи женщину, потащил ее в сторону. Далеко идти не хватило терпения. Резко толкнув жертву, он повалил ее на землю…
Некоторое время спустя Машад вернулся к автобусу и просипел Мирзахану:
— Иван, давай!
Тот, закинув ремень автомата на шею, стал судорожно нащупывать пуговицы на штанах…
Женщина, оставленная на время без присмотра, вскочила и, как подбитая птица, откинув в сторону неестественно прямую, должно быть вывихнутую, руку, стала карабкаться вверх по склону.
Мирзахан, бросившийся за нею, споткнулся и упал. Автомат его отлетел в сторону.
Муфти Мангал хладнокровно, не сдвигаясь с места, поднял автомат. Первая очередь искрошила камни, не долетев до беглянки. Вторая угодила в цель.
Женщина упала лицом вниз, дернулась, словно пытаясь приподняться, и замерла.
Машад Рахим, наблюдая эту сцену, весело реготал. Вместо удовольствия, на которое рассчитывал Мирзахан, тот заработал лишь ссадину на колене. К тому же хвастливый Муфти Мангал так нещадно промазал с первой очереди. За такую стрельбу следовало бы врезать по роже, но он этого делать не станет. Зачем наказывать человека, которому и без того осталось недолго жить?
Движением руки Машад Рахим показал пленникам, чтобы они отошли от автобуса подальше. Те, видимо боясь выстрелов в спину, стали пятиться, тесно прижимаясь друг к другу.
Машад несколько раз махал им рукой: дальше, дальше!
Убивать оставшуюся четверку он не собирался. Ему нужны были живые свидетели бесчинств «медведей».
Без них операция теряла смысл. А вот уничтожить автобус требовали обстоятельства. Свидетелям не следовало позволять слишком быстро добраться до своих кишлаков. Так во всех смыслах будет спокойнее для всей операции.
Когда люди отошли на достаточное расстояние, Машад вынул из-за пояса парабеллум и выстрелил в бензобак. Струя горючего полилась на дорогу. Тогда он достал коробок, чиркнул спичкой. Прозрачный огонек с легким шорохом пробежал по мокрому следу. Бензобак гулко пыхнул, лютое пламя охватило автобус.
Отчаявшийся водитель опустился на землю, обхватил голову руками и горестно запричитал:
— Вай-улей! Ой-ваяй!
Сарвис, его автобус, старую, латаную-перелатаную колымагу, единственную опору и кормилицу, с хрустом, со звоном и треском пожирало гудящее пламя.
— Вай-улей! Ой-ваяй!
Кого он должен проклинать и ненавидеть, этот несчастный? Конечно яш, шурави — советских солдат, так казалось Машад Рахиму. И он был доволен.
Как все-таки просто управлять этим быдлом, нацеливать его ненависть на ненавистных тебе!
Подойдя к Мирзахану, Машад приказал пригнать машину.
Автобус догорал, и они объехали стороной нежаркое уже кострище.
На горе среди камней виднелось пятнистое платье.
У обочины, как куль, сброшенный наземь нерадивым возчиком, лежало тело базгара.
В стороне робкой кучкой стояли четверо мужчин, вряд ли всерьез веривших в свое освобождение.
Проезжая мимо них, Машад Рахим махнул рукой, подавая знак, чтобы шли на все четыре стороны, и крикнул:
— Иван! Болшой!
В последний раз он оглянулся на крутом повороте. Черные клубы дыма ползли по земле. Догорали шины автобуса…
После полудня «медведи» подъехали к кишлаку, заранее обозначенному на карте мистером Томпсоном, Прежде чем въехать в кишлак, долго и внимательно наблюдали за происходившим в населенном пункте. Надо было установить, что там нет ни военных, ни дружины самообороны. О том, что их здесь нет, им говорили в «Баглэбе», но Машад предпочел лишний раз оглядеться.
Они ожидали не зря. Удобный момент возник как бы сам собой.
С невысокого минарета служка прокричал призыв к молитве.
Правоверные, оставив житейские дела недоделанными, покорно потянулись к джумату — мечети.
«Медведи» прошли по кишлаку, никем не замеченные.
— Громим мечеть! — приказал своим Машад.
Муфти Мангал и Мирзахан были ревностными борцами «за дело аллаха». Они несли веру в сердцах, боясь запятнать ее греховными помыслами. С утра, выполняя нерушимый завет пророка, они в религиозном старании отбили четыре обязательных намаза из пяти.
Они шли по кишлачным улицам, готовые наказать любого ференги — неверного — только за то, что он иноверец, хотя знали — таких в кишлаке нет. Раз так, то право выискивать неверных и тех, кого предстояло карать, в их группе принадлежало старшему — Машад Рахиму. Вот почему, когда тот отдал приказ совершить величайшее для правоверного святотатство, оба «медведя» согласно кивнули.
Растянувшись в цепочку, они миновали небольшую утоптанную площадь перед джуматом. Поднялись по истертым ступеням к входу. С безразличием взглянули на затейливую надпись над порталом. О чем она гласила, ни один из них не мог бы сказать. Грамота для каждого из троих была делом неведомым, да и ненужным.
Из мечети доносились слова молитвы. Мулла произносил их громко, распевно.
«Медведи» расшвыряли ногами обувь, оставленную молящимися у входа, и вошли в мечеть, громко разговаривая.
Машад Рахим прошел вперед к мулле. Муфти Мангал и Мирзахан взяли под прицел прихожан, стоявших на коленях.
Увидев вооруженных людей, мулла в гневе выкрикнул:
— Вон! Вон, богохульники! Да покарает аллах вашу дерзость и бесстыдство!
— Иван! — выкрикнул Машад Рахим. — Давай! Давай! — И первым потянул спусковой крючок.
Автомат застучал оглушительно громко, зло. Мечеть наполнилась запахом гари.
Мулла рухнул на пол, покрытый ковром, заливал его кровью.
— Иван, давай! — заходился в истошном крике Мираахан. — Стирляй!
В момент, когда сила была на их стороне, «медведи» не думали об опасности. Но тут произошло неожиданное.
Не всегда можно держать в страхе людей и издеваться над ними бесконечно. Бывает предел, после которого самый боязливый человек перестает бояться. Именно так произошло в этот раз.
На Машад Рахима набросились сразу несколько человек, сбили его с ног, прижали к полу.
Душман, еще не успев испугаться, пытался вырваться. Но это ему не удавалось. Четверо дюжих освирепевших базгаров будто тяжелым прессом придавили его, распяли. Чьи-то проворные руки обыскали, обшарили одежду. Из-за пояса вытащили парабеллум, содрали с ремня плечевую кобуру с кольтом. Нашли в потайном кармане и два тугих кошелька.
Каждая находка обсуждалась в несколько голосов. Люди понимали — перед ними проклятые дарамары — бандиты. И что главное — ни разу под сводами мечети не прозвучало слово «шурави», которое так жаждал услышать Машад Рахим.
Мирзахана схватили так же быстро и ловко. Он даже не успел полоснуть по толпе молящихся из автомата. Кто-то резким толчком вздыбил автомат вверх, и пули, раздолбав штукатурку, осыпали с потолка желтое пылящее крошево.
Рядом с Муфти Мангалом не оказалось молодых крепких парней. Поэтому предначертание, внесенное в книгу судеб душмана самим аллахом, исполнил старый базгар Гулям. Он размахнулся и опустил тяжелый посох на голову «медведя».
Палка оказалась значительно крепче головы. Бандит рухнул и больше не поднялся, потеряв сознание.
Двух его сообщников, изрядно помятых, вывели из мечети. На площади собралась толпа. Пришли женщины, прибежали дети. Кто-то причитал, проклиная неверных. Люди потрясали кулаками, выкрикивали в гневе:
— Убить неверных!
— Зарезать собак!
— Разорвать их, окаянных!
Трудно сказать, что ожидало бы «медведей», если б на ступени перед мечетью не поднялся тот благообразный старик в нарядной чалме, у которого возле автобуса Машад отобрал кошелек.
Старик вскинул руки вверх, призывая ко вниманию. Толпа постепенно стихла. В кишлаке знали — это мулла соборной мечети Дарбара. Человек, известный в округе своей святостью и честностью.
— Эти двое поганых, — сказал мулла хорошо поставленным голосом священнослужителя, умевшего говорить с толпой, — осквернили святую мечеть. Они пролили кровь служителя аллаха. Но они не должны пасть жертвами вашего слепого гнева. Их грех не просто велик. Он неизмерим и безбрежен. Это не просто ваши враги, правоверные! Это враги самого аллаха. Тайные посланники Йаджуджа и Маджуджа. Из-за стены, которую поставил Зулькарнайн на востоке, через дыру, которую прогрызли черными зубами, они вошли на земли наши и устремились с возвышенности… Дай им волю — такие покорят всю землю, выпьют воду из рек и потоков. Они поубивают людей. Потом станут стрелять отравленными стрелами в небо…
Правоверные слушали муллу, как пророка, снизошедшего к ним с небес. Каждое его слово, излагавшее каноническую легенду о Йаджудже и Маджудже — мусульманских Гоге и Магоге, — напоминало им события дня, делало факты еще более осязаемыми, зримыми.
Черные убийцы пришли с востока — факт. Они устремились на кишлак с возвышенности. Тоже неопровержимый факт.
Они убивали людей. Стреляли в небо — свидетельство тому разбитый потолок в мечети. Все это верно и неопровержимо.
Все, как сказано и написано. Значит, только мулла может определять судьбу нечестивцев.
— Джаханнам — кипелище огненное, — продолжал мулла, — вот место, которое предназначено им. Там придет к грешникам смерть со всех сторон. Но они не сразу станут мертвы. Их удел — мука долгая. Их будет ждать суровое наказание. Назначьте, правоверные, хороший конвой. Надо доставить этих черных злодеев к Абдул Кадыр Хану.
Хитрым и умным считал себя мистер Каррингтон. Решительным и деловым мнил себя полковник Томпсон.
Предусмотрительным и искушенным в тайных делах был полковник Исмаил.
Ловким и циничным убийцей зарекомендовал себя Машад Рахим. Не менее безжалостными и грязными выглядели и его приспешники.
Черные люди шли вершить черные дела, надеясь, что о них станет известно всем, но главное все же останется тайной, что гнев падет на головы невинных, а их, виновных, обойдет стороной.
Только жизнь рассудила по-своему.
Бандитам связали руки и ноги, бросили их в скрипучую коробку арбы и повезли в кишлак Сарачину. Там жил почтенный и уважаемый, суровый и справедливый глава большого рода Абдул Кадыр Хан, от его решения теперь зависела судьба «шатунов-медведей». Повелит он снять с них шкуру и бросить себе под ноги — так будет сделано, и точка.
Таков здесь обычай.
КРЕПОСТЬ ДЭГУРВЭТИ ДЗАЛЭЙ
Давайте знакомиться, капитан, — сказал Бурлак, протягивая руку Черкашину. — О вашем прибытии нас предупредили вчера. Вы прямо к обеду.
— Благодарю, — ответил гость. — Насколько понимаю, такое вступление означает приглашение к столу. Обед мне подходит. И все же сперва доложу о рекомендациях штаба на выход.
— Прошу ко мне, — предложил Бурлак, раскрывая дверь. — Здесь будет удобнее.
Они устроились за столом комбата. Вошел Полудолин. Поздоровался, сел за свой стол.
— Слушаю вас, — сказал Бурлак. — Не будем терять время.
— Прежде всего, — начал Черкашин, — на завтра в расчет маршрута должен войти кишлак Мабда. От крепости сперва пойдете туда.
— Это отклонит нас от маршрута на десять километров к западу, — заметил Бурлак. — Надо ли?
— Таково указание, — ответил Черкашин.
— Странное указание, — сказал Полудолин, включаясь в разговор. — Смысл совершенно неясен.
— Я тоже не знаю смысла, — признался капитан. — Но, думаю, догадаться о нем можно. В Мабде у духов пункт наблюдения. Вот и требуется пройти мимо, чтобы они вас засекли.
— Давить эту сволочь надо, — сказал Полудолин, не скрывая злости. — А мы перед ними демонстрацию хотим устроить.
— Верно, комиссар, — успокаивающе заметил Бурлак. — Давить надо. Но мы здесь гости. Помимо нас в доме есть хозяева. Они не сочли нужным трогать агентуру. Больше того, считают, что нас надо ей показать. Вот и думай — зачем.
— Мне кажется, — сказал Черкашин, — суть проста. ХАД располагает данными, что несколько банд в ближайшее время пойдут на штурм Дарбара. Поселок невелик, но они хотят его взять. Видимо, эмигрантское руководство старается громче заявить о своем присутствии на территории Афгана. Если хотите, пытаются создать некое подобие временной власти. В Дарбаре, а он раньше был городком, есть соборная мечеть. Объявить там о победе тоже кое-что значит…
— При чем тут наш маршрут и планы духов? — спросил Полудолин.
— Связь прямая, — ответил Бурлак. — Мы идем на Дарбар. Значит, перед духами альтернатива — либо штурм, либо оборона проходов. Чтобы штурм не состоялся, надо их оповестить о наших намерениях. Так, капитан?
— Думаю, так…
Разговор о делах длился минут двадцать. И только потом офицеры сели за стол.
— Повар наш — маг и волшебник, — сказал Бурлак капитану. — Попробуйте щи. Всякий раз, когда они на столе, у меня праздник души.
Щи и в самом деле были отменные: в меру кислые, с приятным ароматом зеленой свежести.
— У меня жена щи отлично готовит, — произнес Черкашин задумчиво. — Пока питаюсь обычно — вроде спокоен. А стоит попробовать что-нибудь вкусное, как у вас, — сразу в тоску вгоняет.
— Значит, посредственный харч обеспечивает максимум душевного спокойствия? — спросил Бурлак. — Интересная зависимость. Никогда не наблюдал такого.
— А у вас как? — поинтересовался Черкашин.
— Я не женат, — ответил комбат. — Не до того было. Все служба. Переезды.
— Выходит, на гражданке лучше? Во всяком случае, есть время на женитьбу?
— Не знаю, как на гражданке. Я профессионал. Сам себе выбрал дело и буду заниматься им от и до…
— До пенсии? — спросил Черкашин, не придавая значения двусмысленности вопроса. Просто хотел выяснить, нет ли у Бурлака желания уйти со службы до истечения выслуги лет.
— Эка хватили, — спокойно отреагировал комбат. — Тут уж, капитан, как повезет. У меня в прошлый месяц комиссара убило. Хороший был мужик. Миша Купченко. Честный партиец. В бой шел легко. Люди ему верили. А убило дико. Работали в «зеленке». Прихватили с марша бандгруппу. Разнесли в клочья. Пять убитых, тринадцать пленных. У самих потерь не было. Стояли вместе. Толковали. Потом Купченко отошел в сторону. И вдруг выстрел. Остался, оказывается, один гад незамеченным. Ребята его даже брать не стали. Три гранаты в печь — танур, где тот скрывался, — и конец. Любили Мишу здорово. Вот уже три наших парня своих сыновей Михаилами наречь решили. А есть у нас такой Рахимов, так он даже хотел своего сына назвать Замполитом. Еле убедил не давать мальчику такого имени.
— Зачем отговаривал? — спросил Полудолин с улыбкой.
— А затем, что нельзя детям наобум имена давать, — ответил Бурлак серьезно. — У нас деваха одна в школе была. Умный папа ее Победой назвал. Послушал бы кто, сколько бедная вытерпела. Так вот, капитан, Купченко тоже был профессионал. Его убило. Думаю, понятно, что значит от и до?
— Сурово, — сказал Черкашин. — Я о таком как-то и не думал.
— А у самого разве не так? — спросил Бурлак.
— Пока так, но, думаю, не навсегда. Я ведь историк, языковед.
— И давно языком занимаетесь? — спросил Полудолин.
— Давно. Не думайте, что хвалюсь. Но ко мне слова липли с детства, как репьи. Родился в Фергане. К десяти годам свободно говорил по-узбекски и по-киргизски. В пятнадцать знал таджикский. Ну как с таким багажом не увлечься востоковедением? Занялся фарси. Поступил в институт на восточный факультет. Изучил английский, дари, пушту. Быть военным никогда не собирался. Просто вышел такой расклад в силу обстоятельств. Когда начались здесь события, меня пригласили в военкомат и предложили пойти в армию. Назвали место — Афганистан. Я сразу понял — может, это и есть тот шанс, за которым востоковед в других условиях сам должен охотиться. Дал согласие…
Внешний вид нередко характеризует человека больше, чем он сам того желал бы. Глядя на Бурлака, мало кто мог усомниться в том, что этот прокаленный до кирпичного цвета офицер может оказаться интендантом или юристом. Резкий в движениях, быстрый, с лицом сухим, жестким, властным, он всем своим обликом утверждал: я командир. Боевой командир.
Разглядывая Черкашина, Бурлак пытался по его виду представить, к чему того готовила природа, и приходил к неутешительному для себя выводу — ничего военного в человеке. Ровным счетом ничего. А кем же он видится? Размышляя, Бурлак определял облик востоковеда одним словом: профессор… Высокий, заметно увеличенный залысинами лоб, прямой нос, небольшие, аккуратно подстриженные усы щеточкой, благородная бородка клинышком придавали ему вид преуспевающего врачевателя или книгочея. Встретив такого на улице даже одетым в военную форму, Бурлак никогда бы не усомнился — это не командир.
— Слушаю и немного завидую, — сказал комбат.
— Чему? — удивился Черкашин.
— Интересам твоим, капитан. Я ведь что — деструктивная сила. Все эти красоты вокруг для меня поле возможного боя. Ты увидел могильник, и для тебя это ценность тысячелетней давности. А для меня только ориентир на местности или укрытие для засады духов. Улавливаешь разницу?
— Брось, комбат. Завидовать — никудышное дело. Я тоже смотрю на тебя и думаю: пройдет время, выйдут книги, станет Бурлак личностью исторической.
— Не сей во мне напрасных надежд.
— Почему же? Ты, комбат, мужик целеустремленный.
— Одна звездочка и два просвета — для истории такой погон маловат. Подобных чинов она не признает.
— А какие же признает?
— Как минимум — генерал армии.
— Оптимист, комбат! Истории, между нами, чихать на чины с большой колокольни. Можно и маршальский чин себе выхлопотать, на грудь большие звезды пристроить, мундир золотом расшить, — все одно этим историю не проведешь. Она на внешний блеск, на показуху не падкая.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Бурлак.
— Историю, комбат. Всего лишь историю. Знаешь, кто такой Антон Брауншвейгский?
— Нет, а кто он?
— Вот те раз! Генералиссимус земли русской. Вот кто!
— Не слыхал, — смущенно признался Бурлак. — Удивляет?
— Нисколько. Просто доказывает, что чины для истории не играют особой роли. Она ценит исключительно реальные заслуги.
— Меня другое волнует. Вот про Антона не знаю. Ну, извини, бог с ним. Не менее печально, что мы вообще свою историю знаем из рук вон плохо. У нас в Москве мусорщик на грузовике каждый день по утрам к дому приезжает. На лобовом стекле машины у него портрет генералиссимуса. Фамилию знаю, а больше почти ничего. «Фаворита» Пикуля прочитал недавно, теперь о Потемкине имею представление. А о своих, так сказать, послереволюционных, вот тут — пробел. И главное, талантливых историков не вижу. Кандидатов наук — тьма-тьмущая, но самые способные из них на временах дяди Вани Грозного замкнулись. Ближе вроде и подходить боятся.
— Ладно, мужики, — сказал Полудолин. — Прерву я вашу дискуссию. Верну в день сегодняшний. Осталось десять минут до лекции. Вы ведь готовы, товарищ капитан?
* * *
После обеда Черкашин выступал перед личным составом. Знакомить солдат с обычаями, традициями и бытом народов Афганистана было для капитана и обязанностью и любимым делом. Как правило, на такие беседы приходили все, кто бывал свободен от неотложных служебных дел. В этот раз на спортивной площадке собралось около двух рот. Привычные к неудобствам, а если следовать официальному определению — привычные к полевым удобствам, люди расселись прямо на земле. В первом ряду, на привилегированных местах, устроились офицеры.
Черкашин оглядел с высоты своего немалого роста аудиторию. Взглянул на Бурлака. Спросил: «Начнем, пожалуй?» Комбат кивнул разрешающе: «Начинайте».
— Мне собрали ваши записки, товарищи. — В подтверждение сказанного Черкашин вынул из кармана плотную пачку листков, перехваченных аптекарской резинкой. Потряс ею и снова спрятал. — Нового, такого, с чем бы не сталкивался я в других подразделениях, не нашлось. И это понятно. Круг явлений, с которыми мы имеем дело, приблизительно одинаков. Поэтому не стану отвечать на записки, а расскажу обо всем, что считаю нужным. Можете задавать вопросы по ходу разговора. Так даже лучше будет. Договорились?
— Договорились, — за всех ответил комбат.
— Для начала условимся вот о чем. В нескольких записках авторы употребляют обобщающее понятие «мусульмане». Например, спрашивают, какие особенности отличают мусульманский мир от всего остального. Чтобы не ошибаться самим, не обрекать на ошибки других, советую не употреблять слово «мусульмане» как понятие, объединяющее народы разных стран, официально исповедующих ислам. Такие обобщения внешне удобны, но на деле несостоятельны. К ним прибегают те, кому выгодно классовые противоречия подменять религиозными. Если, к примеру, сказать, что Ольстер населяют христиане, то вы никогда не поймете, почему там не утихают конфликты на религиозной основе. Если сказать, что Иран и Ирак — мусульманские страны, то попробуйте объяснить, что заставляет их воевать друг против друга.
— Хорошо, — сказал лейтенант из второго ряда, — только почему же тогда часто употребляются слова «мусульманский мир», «панисламизм»?
— А вы проанализируйте, кто употребляет эти слова. Тогда легче заметить — они из арсеналов буржуазных радиостанций. Тем выгодно создавать иллюзию, будто существует какой-то единый мир мусульман, не зависящий от политики, от форм социального строя, вида собственности. На деле же такого мусульманского мира нет и не будет.
— Скажите, товарищ капитан, — задал вопрос Полудолин, — отличается ли религиозная обстановка в странах, исповедующих ислам? В частности, чем она характерна в Афганистане?
— Вопрос, товарищ майор, и легкий и сложный. Легкий потому, что могу назвать две-три приметы ярких различий, и все вроде бы станет понятным. А сложный он потому, что вся система ислама переживает большие подвижки. И в разных странах эти подвижки имеют разную глубину.
— Это интересно, — подал голос Бурлак. — Можно подробнее?
— Можно, — сказал, улыбаясь, Черкашин. — Всегда интересно быть носителем новостей. Верно? Так вот, представьте — учение ислама родилось в седьмом веке. Оно отражало родообщинный уклад жизни арабов. Обслуживало нужды общества, не так давно вышедшего из предшествовавшего ему строя. Главный догмат ислама — единство бога-аллаха, который, по Корану, «не родил и не рожден и никогда не было ему равного». Довольно туманная формулировка, но именно ей мусульмане обязаны тем, что не знают изображений аллаха. Христианский бог — этакий добрый дедушка, сидящий на подушках из облаков. И ручку держит благословляюще. Подобных изображений аллаха не сыщете. Тем не менее, если поговорить с мусульманами, они наделяют аллаха чертами человека, причем сурового владыки, которому необходимо подчиняться беспрекословно, проявляя покорность и терпение. Имущественное и социальное неравенство, наличие богатства и бедности представлены в Коране как результат божественных установлений. Так вот, подвижки в религиозных воззрениях происходят быстрее в тех странах, где ислам начинает серьезно сдерживать экономическое развитие. Там богословы стараются расширить рамки запретов, с тем чтобы они меньше мешали развитию экономики. Показательно в этом плане отношение к космосу. Что, к примеру, знает муллави Насреддин из кишлака Дарваз о космических полетах? Практически ничего, верно? Его прихожане и того меньше. Проблема вторжения человека во владения аллаха их мало волнует. Но есть страны, исповедующие ислам, которым уже пришлось столкнуться с космосом. И здесь в первую очередь стали решать вопрос: можно ли мусульманину стать космонавтом или это тяжкий грех? Дать точный ответ на такую проблему вправе только мусульманские богословы. Правительство, к примеру, может приказать военному летчику-мусульманину стать космонавтом, но объявить его безгрешным оно не в силах. Вот почему именно богословам предстояло решить теоретический вопрос: не нарушится ли чистота божественного бытия, если в космос — вместилище тайн аллаха — проникнут люди?..
Солдаты засмеялись. Они открывали для себя мир новый, неведомый, отличающий страну, где они служили, за свободу которой сражались. И у каждого, может быть, впервые рождалось понимание удивительности событий, к которым они причастны.
Они жили в разных измерениях времени — коренные жители и пришедшие в их страну друзья. Они видели друг друга, общались между собой, но часто, сами того не осознавая, не могли понять, как же можно жить так, как живут другие.
— Обычная реакция, — удовлетворенно сказал Черкашин, пережидая, пока утихнет веселье. — Вам смешно. Теперь вдумайтесь, что вопрос решали не весельчаки и не шутники, а крайне серьезные дяди в чалмах. А от того, как вопрос решался, зависела ни много ни мало судьба космических исследований на Востоке.
— Неужели могли задробить? — спросил рядовой Повидло, громоздкий, сосредоточенный. — Взять и закрыть науку?
— До этого не дошло. Богословы взялись за дело серьезно. Они проревизовали Коран и не нашли прямых запретов на полеты во внеземное пространство. Больше того, специалисты по писанию пришли к заключению, что семнадцатая сура Корана, рассказывающая о ночном вознесении пророка Мухаммада, не что иное, как описание космического полета. Если вам интересно, могу чуть подробнее.
— Интересно, — раздались голоса. Солдаты оживились.
Черкашин взглянул на часы, есть ли время.
— Можно подробнее, — сказал Бурлак. Его самого захватил рассказ, и он вдруг понял, насколько смутно знает предмет, о котором рассказывает капитан.
— Так вот, в семнадцатой суре Корана есть такой текст: «Хвала тому, кто перебросил ночью своего раба из неприкосновенной мечети в мечеть отдаленную, вокруг которой мы благословили, чтобы показать ему одно из наших знамений». Все ясно по тексту?
— Не очень, — раздался чей-то голос.
— Вообще непонятно, — признался Полудолин.
— Мусульманам тоже не очень ясно, — объяснил Черкашин. — Поэтому богословы им говорят, что описание показывает, как аллах своей силой перебросил Мухаммада из Мекки в Иерусалим, откуда вознес его на небеса и затем вернул обратно. Все это совершилось так быстро, что по возвращении пророк обнаружил свою неостывшую постель, из которой вознесся, а из кувшина, который упал в момент старта, даже не пролилась вода. В свете последних достижений науки богословы ислама объявляют, что речь идет только о космическом полете. Кстати, у мусульман в честь этого события есть специальный праздник — мирадж. Он посвящен «ночи вознесения». Своего рода день космонавтики.
— Если можно, в чем разница между Кораном и шариатом? — спросил капитан Ванин. — Слышим эти слова часто, а ясности полной нет.
— Коран, товарищи, главная книга ислама, мусульманское священное писание. Оно состоит из ста четырнадцати сур. Сура — это глава. Содержание Корана включает в себя самые разные тексты. Это заклинания, проклятия, предписания и постановления, которые регулируют имущественные, общественные и семейные отношения мусульман. Здесь же изложены правила соблюдения обрядов. Есть немало материалов из иудейской и христианской религиозной мифологии, из древнеарабского фольклора. Зато никакого действительно исторического материала — дат, имен исторических деятелей. Читать Коран человеку неподготовленному трудно. В тексте масса неясностей. Много намеков, недомолвок. Поэтому многие толкования Корана, которые делают богословы, не столько разъясняют, сколько затуманивают смысл. Из Корана вытекают еще два источника религии — сунна и шариат. О сунне вопроса не было, но скажу, что это собрание мусульманских преданий.
Что касается шариата, то так называется божественный закон ислама. Его статьи определяют все поведение мусульман буквально на каждом шагу их жизни. При этом все поступки закон делит на пять разрядов. Строго обязательные — фард и ваджиб. Рекомендуемые — мандуб и мустахабб. Дозволенные — мубах. Неодобряемые, но ненаказуемые — макрух. Запрещенные и строго наказуемые — махзур и харам. В частности, к разряду обязательных норм относится ежедневный пятикратный намаз — молитва. С другой стороны, вы знаете слово «гарем». Оно произошло от искаженного слова «харам» — грех. Причем грех наказуемый. Так называют на Востоке место обитания жен мусульманина, проникновение в которое посторонним запрещено и строго караемо. Неисполнение норм шариата без уважительных причин равносильно вероотступничеству. В ряде стран, достигших более высокого уровня развития цивилизации, шариат заменен гражданским законодательством. Но в быту шариат сохраняет свои позиции прочно. Поскольку ислам исповедуют на огромных территориях Азии и Африки, то различия во влиянии религии на жизнь общества огромны. Сирия стоит на пороге космических полетов. В Иране все безоговорочно подчинено шариату. Религиозные законы насаждаются там жестоко и упорно. Все завоевания прогресса задавлены. Страна переживает в полном смысле слова период инквизиции. Религиозные войны, подавление мысли, казни еретиков… Точно так же на шариате строят всю жизнь своих банд руководители душманства. Они воскрешают все самое мрачное, что есть в религиозных канонах. Следят, чтобы каждый шаг людей контролировался исламом. К проблеме, о которой мы сейчас говорим, примыкает один из ваших вопросов. В записке меня спрашивали: «Было ли у христиан что-то вроде шариата?» Без особых рассуждений обратимся к Библии. На память я ее не знаю, потому позвольте воспользоваться записями.
Капитан достал записную книжку, полистал ее.
— Вот, читаю. «Когда появится на коже тела опухоль, или лишаи, или пятно и на коже тела сделается как бы язва проказы, то должно привести его к священнику». Далее следуют рекомендации, как должен поступать священник, к которому привели человека с язвой на коже. Инструкция состоит из пятидесяти девяти пунктов. Последний пункт звучит так: «Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе, или на утоке, или на какой-либо кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою». Проказа была грозой в странах юга. Она свирепо поражала древних иудеев, и в священном писании есть еще одна глава. В ней описаны правила профилактики проказы. Вплоть до таких подробностей…
Черкашин снова полистал книжку.
— «Дом внутри пусть весь оскоблят и обмазку, которую оскоблят, высыплют вне города на место нечистое». Обратите внимание, во Владимирском княжестве проказы никогда не знали, но рекомендации, родившиеся в Древней Иудее, были обязательны и для владимирцев. Поскольку Библия — писание для всех христиан. Сегодня, если у вас расстроится желудок, вы знаете причину — скорее всего, сработали микробы. Есть немало болезней немытых рук. Но в древние времена о микробах не знали, и болезни объявлялись божьей карой. Отвлекаясь, скажу — обратите внимание, как много жестокостей верующие приписывали своему богу — чуму, холеру, наводнения, налеты саранчи, неурожаи. Казалось бы, все эти напасти стоило приписывать проискам нечистого — дьявола, черта, шайтана, — но этого не делали. Почему? Как вы думаете?
Никто не отозвался. Черкашин предвидел такую реакцию.
— Ладно, не ломайте головы, — сказал Черкашин. — Весь фокус в том, что черту теологи приписывают только стремление завладеть душами верующих, сбить их с пути истинного. Не больше. Если же черта наделить способностями обрушивать на человечество кары небесные, то люди станут молиться не богу, а дьяволу. Бог сразу потеряет вес и авторитет. Что это за всевышний, который творит только добро? Он должен и карать. Только угрозами ужасных наказаний в обществе утверждались нормы религиозных запретов и разрешений. Вот, к примеру, еще одна из таких норм христианской религии. Читаю: «Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое». Это, как вы догадываетесь, совет воину в походе. И записан он в Ветхом завете в книге Второзаконие. Глава 23, стих 13. Сейчас православная церковь не очень часто обращается к Ветхому завету. Слишком уж он выглядит ветхим в свете достижений науки и культуры. Тем не менее в давние времена подобные нормы и были для христиан своеобразным шариатом. Сегодня мы умываемся потому, что гигиена прочно вошла в наши привычки. Мусульманин совершает омовение по религиозному предписанию. Верующий афганец может мыться и в силу привычки к чистоте, но в омовении он все равно видит и ритуал. Весь образ жизни у мусульман построен так, чтобы поддерживать в них уверенность в незыблемости норм шариата.
— Разрешите вопрос? — прозвучал голос. — Рядовой Шурыгин.
— Давайте, Шурыгин. А то нам уже я закругляться пора.
— Можно ли считать, что христианство прогрессивней ислама?
Спросив, солдат оглядел товарищей хитро сверкавшими глазами. Вот, мол, забил вопросик. Как на него ответить?
— Вы знаете, товарищ Шурыгин, как ни странно, такой вопрос задают довольно часто. Между тем ответ каждый может легко дать сам. — Черкашин умышленно сделал паузу. — Вы помните определение: религия — опиум для народа? Теперь попробуйте решить: какой дурман прогрессивнее — опиум или марихуана? Иногда настойчивые искатели истины обостряют проблему и спрашивают: что реакционнее — ислам или христианство? Тогда подумайте: где ислам прогрессивнее — в Сирии или Иране? Найдя ответ, вы поймете — там, где ислам более терпим к прогрессу, его терпимость вытекает не из догматов Корана, а из уступок духовенства достижениям цивилизации. Там, где религия нетерпима, там реальной властью в обществе пользуются круги реакционного духовенства. Небольшой пример. Вы знаете, какой вред наносит здоровью людей мусульманский пост — ураза. Целый день верующие не имеют права ни есть, ни пить. Насыщаться можно только во тьме ночной. Конечно, служитель культа или человек богатый, которым не надо работать в поле, на жаре, могут пересидеть день, не поев. А каково человеку работающему? Практически вопрос о вреде уразы в мусульманском мире остро встал в период строительства Ассуанской плотины. Пост подрывал все графики работы, снижал производительность. И тогда правительство попросило богословов обосновать с точки зрения Корана право рабочих Ассуана на отказ от уразы. Теологи нашли компромисс. Учитывая огромное значение Ассуана для экономики Египта, его строительство приравняли к священной войне. Если учесть, что воинам, ведущим такую войну, разрешается не поститься, вы легко поймете, в чем дело. Но это решение вызвало осуждение реакционного духовенства.
— Товарищ капитан, у христиан есть священные реликвии, которые они боготворят. Есть ли что-то подобное у мусульман? — спросил Полудолин.
— Реликвии есть у всякого культа. У мусульман это Черный камень в Каабе — так называется храм в Мекке. Это священный источник Земзем. Да и вообще, на мой взгляд, ислам щедрее христианства в создании святых мест. Что, к примеру, христианские мощи? Где-то хранят волос с головы святого, где-то гвоздь, которым якобы прибивали Христа. У мусульман в этом размах куда больше. Вот пример. Пророк Али был двоюродным братом и приемным сыном пророка Мухаммеда. Шииты почитают Али как святого. Его называют «львом аллаха», «царем святых». Ему приписывают многие подвиги, которые он совершил с помощью зульфакара — меча аллаха. Предание гласит, что у Али сразу семь могил. И в каждой погребен он сам, целиком. А появились эти могилы так. В тот день, когда тело Али положили на верблюда, чтобы отвезти на кладбище, верблюдов в один миг стало семь. И на каждом — по телу святого. И пошли верблюды в разные стороны. Одна могила Али находится якобы в Неджефе. Это в Иране. Другая — в Мазари-Шерифе. Это здесь, в Афганистане. Еще одна — в Шахимардане. То есть в Советском Узбекистане. Теперь это город Хамзаабад. Как видите, мусульмане не мелочились в гвоздях.
— Последний вопрос, — сказал Бурлак и, будто извиняясь, добавил: — Время у нас уходит быстро. Объясните нам суть местного календаря. Он многим нашим кажется не очень понятным.
— Очень просто, товарищи, — начал Черкашин. Как и всякий знающий дело человек, он был убежден, что все на самом деле крайне несложно. — В мусульманском летосчислении нулевая точка календаря относится к 622 году нашей эры. Это был год, когда по преданию пророк Мухаммед переехал из Мекки в Медину. Этот переезд по-арабски называется «хиджра», то есть исход. Отсюда и система летосчисления именуется хиджрой. Есть хиджра лунная и солнечная. У афганцев в основе календаря последняя. Перевести в нее годы европейского календаря очень просто. Достаточно из нашей даты вычесть 622. Чтобы привести афганский год к нашему календарю — прибавьте 622 к году по хиджре. Только и всего.
— Почему же афганцы не переделают календарь? — задал вопрос кто-то из солдат.
— А какой смысл? — спросил в свою очередь капитан. — Наш календарь тоже религиозный. Счет дней в нем идет от рождества Христова. Чем такое допущение лучше других? Кстати, в мире существует много календарей. В Эфиопии, например, цифра, определяющая дату, на семь лет и шесть месяцев больше нашей. Свой календарь в Израиле. Там ведется счет дней от даты сотворения мира. Иудейские богословы считают, что это событие случилось 7 октября 3761 года до нашей эры. Видите, какая точность?
— В каком же году мы живем по-израильски? — спросил Бурлак и подсчитал в уме. — В пять тысяч семьсот тридцать седьмом?
— Точно, — подтвердил Черкашин. — Кстати, на Руси тоже счет дней велся от сотворения мира. Поскольку эту дату вычислили христианские богословы, то цифра отличалась от иудейской. Мир господь бог для христиан сотворил за пять тысяч пятьсот девять лет до рождества Христова. И мы сейчас живем в семь тысяч четыреста девяносто пятом году по календарю наших далеких предков. Реформу провел Петр Первый, объявив указом, что вслед за тридцать первым декабря семь тысяч двести восьмого года наступает первое января тысяча семисотого года. А теперь… — Черкашин собрал свои бумажки, убрал их и повернулся к комбату: — А теперь несколько слов в заключение. Имейте в виду, товарищи, местное население живет в сугубо религиозной среде. Она не может быть иной здесь в настоящее время. Надо всегда помнить, общаясь с афганцами, особенно в дальних кишлаках, что они живут по шариату. А эта штука почище воинского устава. Шариат всех выстроил в шеренгу, определил каждому свое место и не разрешает с него сойти. И это в представлении большинства верующих есть тот порядок, который определил аллах. Без такого порядка у мироздания нет целостности. Здесь, как в кирпичной кладке, каждый камень занимает свое место, только ему присущее. Вынь один, поменяй два других местами, и уже стена не стена, крепость не крепость. Причем каждый камень старается остаться на месте по своей воле. Поддерживая такой порядок, люди не совершают над собой насилия. Скажи человек верблюду, что он верблюд, разве горбатый обидится? Быть верблюдом для него не оскорбление, а естественное состояние. Так разве может оскорбить человека упоминание о том, что он рожден и живет в бедности? Естественность бытия предопределена священными законами шариата, и скажи кому-то, что законы эти несправедливы, тебя убьют. Без раздумий и рассуждений. Каждый не просто стоит на своем месте в родовой шеренге, он блюдет это место, гордится им, радуется, что есть другие, стоящие ниже его. Сказано, аллах — это истина. Для истины не жалей ничего. Погибнуть за веру, потерпеть, получить увечье — значит обеспечить себе пропуск в рай. У мусульман есть свои герои, вроде Увейс Карали — сподвижника Мухаммеда. Рассказывают, что этот человек услышал, будто у Мухаммеда в битве выбит зуб. А сподвижник во всем хотел походить на пророка. Только какой зуб выбит у святого, он не знал. Потому взял и высадил себе все зубы сразу. Короче, превзошел пророка. Или другой святой — Сад Ваккас. У него попросили пиалу крови его сына. И Ваккас заколол мальчишку. Оказалось, это только проверка на веру. По молитве Мухаммеда аллах воскресил сына Сад Ваккаса. Видите, как все хорошо кончилось. В особой когорте у мусульман святые мученики — шахид. Это те, кто пострадал за веру. Войти в категорию шахид — вот стремление многих фанатиков. Помните об этом, всегда имейте в виду…
— Что теперь в ваших планах? — спросил Полудолин Черкашина после лекции. — В штаб?
— Нет, товарищ майор. Вместе с батальоном я иду до урочища Жердахт. Оттуда уже своим ходом — в кишлак Сарачину. Это центр рода, который возглавляет некий Абдул Кадыр Хан. В сложившейся ситуации род занял нейтральную позицию. Несколько раз с ним уже вели переговоры представители власти, но пока толку мало. Что-то сдерживает вождей. Теперь вот из Сарачины намекнули, что неплохо, если бы туда приехал советский человек, Они сами посмотрят и другим покажут, каков он есть. Странно для непосвященных, но то, что я вам рассказывал, помогает понять, какие там можно встретить взгляды. Вот и пойду туда.
— Это небезопасно, — заметил Бурлак раздумчиво.
— Деликатничаешь? — сказал Полудолин. — По-моему, это просто опасно.
— Один черт! Небезопасно — опасно. Что сову об пень, что пень об сову — все равно сове больно. Может, капитан, тебе подмога нужна? Дам двух ребят, знающих афганский, и с автоматами.
— Автомат — аргумент веский, — сказал Черкашин. — Но не всегда. Он действен, когда перед тобой враг. С таким другого языка и не найдешь. Здесь дело иное. С людьми нужен предметный разговор. Представьте, большинство тех, кто живет в Сарачине, не видели велосипеда. Два колеса, седло, педали — для них чудо. Они не знают ничего о пароходах и поездах. Страна без железных дорог. Только вдуматься, товарищ майор. Поэтому, как говорят, сойдите со скакуна своих представлений в грязь проезжей дороги бытия.
— Ну, допустим, сошел, — сыронизировал Бурлак.
— Тогда вспомните, о чем мы только что беседовали. Путы, которыми опутаны люди, нужно срезать осторожно, чтобы никто из них не подумал, будто кто-то собирается зарезать и самого человека. Он, хоть велосипеда не видел, оружием владеет с детства.
— Сколько же времени вам потребуется, чтобы срезать путы с жителей Сарачины? Осторожно. Ножом. Пятилетка?
— Мне отпущено два дня. На встречу. А путы будет снимать прогресс.
— Ученый, а нахал, — усмехнулся Бурлак. — Два дня у него. Я бы и на два года не согласился.
Черкашин склонил голову в церемонном поклоне.
— Благодарю вас, великодушный воин, за щедрость, с какой вы бросили вечность в прах под мои ноги.
— Все же сколько солдат надо? — повторил вопрос Бурлак. Он все еще не верил, что капитан на такое дело пойдет один.
— Они здесь, мои солдаты. — Капитан коснулся пальцем своего лба.
— Шарики у всех есть, — заметил Полудолин.
— У всех, — согласился Черкашин. — Но давайте считать так: это у всех шарики, а у меня — солдаты. Идет?..
Сутра в степи разгулялся ветер. Запели тонкими свирелями кусты верблюжьей колючки. Закурились струйки пыли на взгорках. Повернулись овцы навстречу дураке [11], побрели, опуская голову к земле, потекли по лощинкам и ровностям в поисках съедобных клочков травы.
Шпун Захир взошел на лобастый увал, оперся на посох и застыл неподвижно, поглядывая за овцами. Вдруг его внимание привлекло облако пыли, которое плотной завесой поднялось над дальней дорогой. Там, невидимые издалека, шли машины.
Заметили бегущую пыль и ребята, ходившие вместе с пастухом.
— Что там? — спросил быстроглазый, верткий Расул.
— Это, сынок, идут шурави, — ответил шпун Захир.
— А куда? — задал вопрос любопытный Рахмат.
— Пастух, — сказал шпун Захир строго, — должен знать, куда он ведет своих овец. Куда и по каким делам идут остальные — ему спрашивать не пристало. Если сами проходящие скажут — это одно, а спрашивать не будем.
Дети замолчали. Молчал и Захир. Вместе они глядели, как вьется вдалеке пыль, как тянется над дорогой серый хвост, как ветер треплет и разметывает его над степью.
Много времени у пастуха: если глаза открыты, он может увидеть всякую разность. И пастух смотрел.
Наконец степь снова стала такой, как была всегда, — светлой от горизонта до горизонта, ни дымки на небе, ни пыли вдали.
Только ветер пел в кустах и в сухой траве.
— Прошли охотники, — сказал шпун Захир ребятам. — Пастухам на радость, волкам на горе. Но вы, дети мои, да поможет вам аллах, ничего не видели, ничего не слышали.
— Как это так, плар [12]? — спросил верткий, быстроглазый Расул.
— Очень просто, сынок. Спросит тебя кто, шли ли здесь мимо шурави, ты скажи: не видел, не слышал, не знаю. И вы все остальные так же должны сказать.
— Почему так надо нам говорить? — поинтересовался любопытный Рахмат.
— Мы пастухи? — спросил шпун Захир.
— Да, — ответили ребята. — Мы пастухи.
— Тогда запомните, дети, да поможет нам всем аллах. Нельзя с волками есть овцу, а с хозяином плакать о ее потере. Это пастуха недостойно.
— Кто же серые волки, плар? — спросил быстроглазый Расул. — Укажи нам на них.
— Вы со мной долгое время, ребята. Расул — поменьше, а вы все давно. Шурави проходили здесь уже не раз и не два. Скажите мне, как перед самим аллахом, они выгнали хоть одну овцу из отары? Увели с собой? Они стреляли здесь, чтобы напугать наше стадо?
Дети молчали.
— А разве вы забыли, как ашрары отбивали у нас овец? Как они ударили старого шпуна Мансура, когда тот просил не обижать правоверных и не трогать их овец?
Дети молчали.
— У вас есть глаза и уши. Думайте теперь, кто на стороне пастухов, а кто походит на волчью стаю.
— Мы подумали, плар, — ответил за всех Рахмат.
— Вот потому и говорите всем, что вы не видели охотников. Никто мимо нас не шел, не ехал. Волки не должны знать, где их ждет засада. Они не должны оставлять логово раньше, чем их поднимут выстрелы. Так будет лучше для пастухов и их овец. Кто поступит иначе, будет проклят, как был проклят алчный и злой Бизо Хан.
— А как был проклят Бизо Хан? — спросил Рахмат.
— Об этом я расскажу вечером, у костра, — пообещал шпун Захир.
Вечером дети узнали от него новую сказку.
— Было это давно, даже горы забыли когда. Солнце светило тогда чистым светом. Земля полнилась живыми соками, как снежный поток водою.
Там, где сейчас лежат пески, все было прекрасным и зеленым. Цвели богатые сады. Кишлаки людей полнились радостью.
На богатой земле жило племя высоких красивых людей. Славились они трудолюбием, верностью, добротой.
Люди пахали, сеяли, пасли скот. А рядом с людьми жило племя обезьян — бизо [13]. Жили они мирно и дружно. Обезьяны скакали по деревьям, собирали плоды. Когда приближались к кишлакам и пастбищам волки, бизо предупреждали пастухов и охотников об опасности.
Но вот, да будет священна воля аллаха, старый правитель обезьян умер. И на его место сел молодой Бизо Хан. Был он большой, хитрый, жадный. Когда выпадала возможность запустить лапу в чужой хурджин, он не только себе живот набивал, но еще и за щеки прятал, и в лапах зажимал, сколько мог. С другими обезьянами Бизо Хан добычей не делился, зато всех заставлял отдавать ему часть добытого. И никто не смел роптать, противиться ему.
Люди много работали и богатели. Больше фруктов созревало в их садах. Росли и тучнели их стада. Люди не жалели подарков даже друзьям бизо, и те тоже стали жить сыто, безбедно.
Один Бизо Хан скучнел от зависти — да будет проклято его имя во веки веков! От жадности он начал воровать у людей всякие вещи, но все ему было мало. И тогда решил Бизо Хан завести дружбу с волками. Захотел, чтобы те делились с ним своей добычей.
Волки никогда не работали, только грабили. Объевшись, спали на солнцепеке. Они очень любили мясо, потому постоянно выходили на промысел. Как ашрары.
Волчий раис [14] мигом понял выгоду, которую ему сулил союз с жадным Бизо Ханом. Он сказал: «Теперь мы нападем на самое большое стадо и угоним его. Ваше обезьянье дело сказать нам, когда охотники уйдут из кишлака. Потом добычу мы поделим поровну. Часть нам, часть тебе одному, Бизо Хан». Слюни потекли у жадного властителя обезьян. Он сразу согласился с планом волчьего раиса.
Как они сговорились, так и сделали.
Однажды охотники ушли из кишлака в леса отогнать могучих тигров подальше от жилых мест. Бизо Хан сразу подал тайный знак раису волков.
Огромная стая серых разбойников понеслась к пастбищу. Туда, где гуляли тучные стада овец. Но охотники недалеко отошли. Когда пастухи подняли шум, они успели вернуться.
Полетели в серых грабителей каленые меткие стрелы. Каждая пробивала волка насквозь.
Засверкали боевые мечи. Каждый удар перерубал зубастого ашрара пополам.
Но все же разбойникам удалось отбить часть отары. Они угнали ее в дальнюю степь, к логову своего раиса. Там был задуман большой пир победы. Но вышло так, что править пришлось тризну.
Бизо Хан появился в логове раиса волков, когда там скорбели об убитых разбойниках. Ничто не волновало в тот миг пузатого вонючего Бизо Хана, кроме своей доли добычи. «Отдай мне мое!» — сказал он раису волков.
Раис махнул хвостом и знак своим слугам подал. Те сразу расселись так, чтобы хан обезьян оказался в кольце.
Тогда раис волков оскалил зубы. «Как ты, вонючий бизо, — прорычал он, — посмел прийти ко мне за какой-то долей?! Ты, не выполнивший своего обещания, ублюдок! Кто говорил, что поможет мне угнать все стадо? Ты! А что вышло? Охотники нас чуть всех не перебили. Много моих славных серых слуг осталось лежать в поле. О какой доле ты здесь ведешь речь?! Лучше подумай, как заплатить мне свой долг».
Тут кинулись волки на Бизо Хана. Бежать было некуда. Кругом сверкали острые зубы. Оставалось заскочить на дерево, под которым сидел раис волков. Это бизо и сделал.
Раис волков успел ухватить его за хвост и оторвал его вместе с частью шкуры.
Бизо просидел на дереве целую ночь. Волки его долго караулили, но так и ушли ни с чем.
С тех пор бизо живет с красным, кровянистым задом. Волков боится. Людей обходит стороной. Никому не хан. Никому не друг.
Вот почему сказано: если ты пастух, то твои друзья — охотники. Держись от волков и разбойников в стороне.
— Мы с вами пастухи? — спросил шпун Захир притихших детей.
— Да, — ответили те.
— Вот и знайте, наши друзья охотники — шурави, а не волки — агарары. Помните — да придаст вам аллах памяти! — Хайруллохан — это раис волков. Он рвет добычу не для того, чтобы сожрать, а для того, чтобы убивать. Он не щадит ни своих, ни чужих. Только охотники могут спасти пастухов от ашраров. Да поможет аллах тем, кто бережет стада. Да поможет он каждому, кто защищает пастухов.
УЩЕЛЬЕ ШИПКУТАЛ. ЗОНА ДЕЙСТВИЙ БАНДЫ МУХАММАДА ПАНАХА
На одной из развилок тракта, ведущего на Дарбар через ущелье Ширгарм, рота капитана Уханова свернула на юго-восток и взяла курс на Шинкутал. Первое время машины споро шли по плотно укатанному большаку. На обочинах вдоль магистрального арыка росли толстые гладкокорые платаны. Они стояли нескончаемыми рядами, как почетный караул, встречающий высоких гостей, и размахивали ветвями на знойном, иссушающем землю и кожу людей ветру.
Капитан Уханов сидел на броне транспортера со спокойным, ничего не выражавшим лицом. Только глава, сосредоточенно вглядывавшиеся в даль, выдавали его внутреннее напряжение.
Слева, тесня «зеленку», к дороге жались гололобые рыжие бугры. Еще издалека завидев их, Уханов стал прикидывать, как лучше пройти участок, не подставляя роту под удар с фланга. Он прикидывал и то, каким образом развернуть взводы в боевой порядок, чтобы сразу включить в действие всю их огневую мощь.
Однако команд при проезде бугров подавать не пришлось. Засады не обнаружилось.
Увалистые «лбы» откатились от дороги, и долина снова распахнула перед ними зеленую ширь. Густые массивы садов там и сям пересекались стенами дувалов. За каждым из них могла таиться опасность. И снова Уханов подбирал варианты действий, таких, чтобы засада не захватила роту врасплох.
Они благополучно миновали маленький кишлак, в котором, как оказалось, их ожидал проводник. Он вышел из ворот какого-то двора навстречу колонне и поднял руку.
Первые две машины проскочили мимо, чтобы на всякий случай растянуть боевой порядок. Третья, на которой сидел Уханов, затормозила.
— Дарбар! — назвал пароль человек и отдал капитану честь, выворачивая ладонь вперед.
Уханов соскочил с брони. Сразу же рядом оказался ефрейтор Темир Кулматов, казах, сносно владевший афганским. Он лихо использовал для общения с местными жителями смесь слов на дари и пушту, и его всегда понимали.
— Уханов. — Капитан протянул руку проводнику.
— Муташаккир, — в свою очередь назвался афганец.
— Кто он, узнай, — попросил капитан Кулматова.
Муташаккир, оказалось, понял вопрос и так, без переводчика.
— Я? — переспросил он, выразительно подняв брови и наставил указательный палец себе на грудь.
— Да, — подтвердил Уханов. — Вы.
— Я — пропагандчи, — сказал Муташаккир. Подумал немного, наморщив лоб. Вспомнил ускользавшие слова, улыбнулся. Снова наставил палец на грудь и торжественно объявил: — Агитатор. Дэ мубалифино.
— Он работал в агитбригаде, — пояснил Кулматов.
— Все, — сказал Уханов, — вопросов нет. В агитбригаде кое-какие не просуществуют. Там железные ребята выдерживают. Значит, можно положиться.
— Хорошо думаете, — поддержал Кулматов. — Муташаккир не только агитатор. Он машиндарчи высшего разряда. Пулеметчик-снайпер.
— Отлично! — Уханов широко улыбнулся. — Рад знакомству, Муташаккир. Пулемет мы тебе найдем. Та-та-та! — Он повел пальцем в сторону гор и засмеялся.
Миновав кишлак, колонна ушла из «зеленки». Дальше тянулись унылые предгорья — красный бесплодный марсианский ландшафт.
— Не спешить! — подал команду Уханов. — Идти вдумчиво, осмотрительно!
Машины сбавили ход, увеличили дистанцию.
Горы по сторонам дороги постепенно набирали высоту, хотя вершины их еще выглядели круглыми, сглаженными, а выходов коренных скальных пород нигде не проглядывало.
Наконец километрах в двух замаячили первые скалы. Одна из них нависала над проходом многометровым крутым обрывом, а со стороны степи горбилась удобным для подъема плечом.
Над самой пропастью — черт, должно быть, занес — виднелось полуразвалившееся каменное строение, то ли сторожевой домик, то ли древняя крепостная башня.
— Стой! — подал команду Уханов. — Командиры взводов, ко мне!
Совещались недолго. Мнение офицеров не расходилось: на девяносто девять процентов на скале затаилась огневая точка. Засада.
— Будем брать. С корнем, — сказал Уханов. — Лейтенант Мостовой!
— Я, — ответил невысокий офицер. С виду совсем мальчишка, розовощекий, с золотистым пушком на подбородке, но взгляд суровый, стальной. На войне души взрослеют куда быстрее, чем бренная оболочка, в которую облечено мужество.
— Саша, пойдешь вперед с одной машиной. Будь готов ко всему. Опасность у тебя справа, жмись поближе к стенке. Там должна быть мертвая зона. Пройдешь — придержи. Вроде сам испугался своей смелости. Думаешь, не повернуть ли назад. Хочешь и боишься. Поинтригуй. Нам нужно минут двадцать чистого времени. Будем брать засаду.
— Понял. Можно работать?
— Валяй! И не торопись. Все с умом делай. Нам надо еще уйти в сторону.
— Я поехал?
— Не сразу. Сперва выйди в поле зрения засады. Постой немного, как бы оценивая обстановку. Минут через десять — вперед! Мы сейчас начнем отваливать вправо. Зайдем с пологого склона.
Машина Мостового резко тронулась. Вышла на ровное место. Сбавила скорость. Сошла с дороги на обочину. Остановилась. Солдаты, получившие передышку, высыпали на дорогу горохом и занялись делом, знакомым воинам всех времен и народов.
«Нашли время, будто войны нет», — подумал капитан Уханов, наблюдавший за действиями Мостового, и вдруг понял, что точно так же должны подумать и те, кто там, наверху.
Уханов был твердо уверен, что духи там сидят. Не могли не сидеть. Если они хитрые и умные, то должны расположиться именно там. Он и сам избрал бы это место для засады, приведись ему подобные обстоятельства. Уж больно много преимуществ для нападающих. И если духи полагают, что и впрямь преимущество на их стороне, значит, все идет как надо. Пусть думают, что застанут беспечную машину врасплох.
Минуты через три, оправляя обмундирование, солдаты вернулись к бэтээру. Последним вспрыгнул на броню лейтенант.
— Теперь пошли! — приказал Уханов. — Забираем вправо, идем лощиной.
Он надеялся, что все внимание засады уже сосредоточено на одинокой машине, которая не спеша, словно выглядывая дорогу, неумолимо приближалась к скале.
Лейтенант Мостовой склонился к водителю Саттару Усманову:
— Саттар, все у тебя в руках. Понял?
— У меня всегда все в руках, — ответил солдат с достоинством. — И жизнь, и слезы, и любовь. Так говорят. Верно?
— Оставь только жизнь и любовь. Слез не надо. Как подойдем на выстрел, рывком добавляй скорость. И жмись к стене. Там мертвое пространство погуще.
— Мертвое для живых — это хорошо, — откликнулся солдат и замолчал, сосредоточенно глядя вперед.
Бэтээр бежал ровно, ничем не выдавая напряжения, в каком билось мощное сердце машины, изготовившейся к броску через зону смерти.
Стиснув зубы, Саттар внимательно смотрел на дорогу. На обочине он заметил камень и решил, что именно от него сделает рывок. Он даже стал считать: один, два, три, — словно вел стартовый отсчет.
Камень!
Полный газ. Бэтээр, будто прыгнув, ощутил свободу сил и понесся, с хрустом расшвыривая, разминая каменную крошку.
У стены Саттар повел рулем вправо, так что воздух запел напряженной струной, пролетая между грудью скалы и стальным бортом машины.
Сделано это было умело и вовремя. С вершины скалы бухнул выстрел гранатомета. Снаряд взорвался метрах в двух слева и несколько сзади машины.
Маневр по скорости и направлению сбил душману прицел.
Тень скалы прикрыла бэтээр от прямых попаданий.
Сверху яростно ударили автоматы.
Пули ложились кучно, но — мимо.
Готовя засаду, духи совсем не учли мертвого клина, прикрытого отвесом скалы.
Второй выстрел гранатомета положил снаряд за бэтээром.
— Всё, — с облегчением сказал Мостовой. — Всё, Саттар! Пронесло!
Он похлопал водителя по плечу, подавая сигнал к остановке. Машина замедлила ход и остановилась.
Теперь им надлежало сыграть попытку возвращения.
— Саттар, развернись! — приказал лейтенант и спрыгнул на землю.
Дорога здесь была достаточно широкой, и машина развернулась без труда. Подъехав к лейтенанту, Усманов затормозил.
Мостовой стоял подняв голову и глядел на скалу, с которой по ним только что стреляли.
Было жарко. Впрочем, может быть, это только казалось. Напряжение, испытанное, когда машина неслась под скалой, спало. Лейтенант переживал радостное облегчение от одной мысли, что им так ловко удалось проскочить мимо смертельной ловушки. В то же время он знал, что не смог бы сейчас с такой же бездумной легкостью, как пять минут назад, сесть в бэтээр и подать команду: «Саттар, вперед!» Одно лишь воспоминание о минувшем обдавало его волнами сухого внутреннего жара. По вискам струился пот.
Мостовой положил ладонь на лист брони, будто хотел ощутить ее стальную надежность, но тут же отнял руку. Металл разогрелся, как алюминиевая солдатская кружка, пить из которой горячий чай одно наказание.
«Сейчас бы кружечку кваску», — подумал лейтенант и улыбнулся такой дикой мысли.
Прогоняя ненужные желания, Мостовой покрутил головой. Обожженная кожа на шее, там, где ее касался воротничок, надсадно ныла, будто ее посыпали перцем.
Душманы, не выдавая своего присутствия, наблюдали за одинокой машиной. По тому, как вел себя командир, вышедший на дорогу, главарь засады Данияр понял — машина собирается рвануть назад. И он со злорадством отдал распоряжение. Теперь-то уж промаха не будет.
Воспользовавшись тем, что Мостовой отвлек на себя внимание засады, капитан Уханов узкой извилистой лощиной вывел роту в тыл душманам. Здесь гора, обрывавшаяся к дороге утесом, полого уходила вверх.
Развернувшись в широкую цепь, рота охватила склон и начала подъем.
Два отделения из взвода Мостового капитан оставил в резерве.
Когда с вершины скалы раздались хлопки гранатомета и расплескался сухой треск автоматов, рота уже одолела половину горы.
Солдаты уверенно продвигались вверх. Ходить по склонам они умели. Главным в этом искусстве было умение не сбить дыхание, не задохнуться, сохранить как можно больше сил для решающего броска.
Взглянув на правый фланг, Уханов заметил, что цепь слегка искривилась, забирая вперед. Значит, взвод лейтенанта Климова дошел до откоса, и теперь вся ширина склона перехвачена автоматчиками.
Уханов напряженно ожидал, что каждый миг могут раздаться выстрелы. Однако душманы молчали. Что это? Поджидают, когда рота приблизится на кинжальный удар огня, или так здорово там, на дороге, играет Мостовой, что все внимание засады теперь сосредоточилось на нем одном?
Да, Мостовой играл хорошо. В один из моментов он вскочил на броню, и машина осторожно пошла вперед. Проехав метров двадцать, она вдруг остановилась и стала сдавать назад, встав на прежнее место.
Радость Данияра, следившего за шурави в бинокль, перешла в приступ злости. Скрипя зубами, он стал ругать шайтана и все нечистое, что в битве — джагре — стоит на стороне неверных.
Плевались и ругались остальные душманы. То, что происходило в тылу засады, их сейчас не занимало.
Тем временем рота достигла плато. Взмахом руки Уханов приказал всем залечь. Предстояло осмотреться, обдумать, как лучше действовать дальше.
Каменное строение, стоявшее на вершине, отсюда выглядело совсем иначе, чем снизу. На макушке полуразвалившейся квадратной башни на большой треноге высился пулемет. Сам пулеметчик стоял спиной к своему оружию и смотрел на дорогу. «Молодец Мостовой», — подумал Уханов и рукой поманил гранатометчика.
— По левому флангу, ползком, — сказал он ему тихо. — Давай! Твой выстрел — сигнал для всех. Две гранаты. Снимешь?
— Снесу с одной, — заверил солдат.
— Гранатомет — сигнал, — стали передавать по цепи солдаты.
Внизу бронетранспортер снова повторил маневр — двинулся с места, набрал скорость и резко затормозил. Потом задом отъехал на прежнее место.
Данияр кипел от злости:
— Проклятые трусы! Да падет меч аллаха на ваши дурные головы! Не мужчины, а толстозадые бабы в брюках! Дети шайтана, пропади вы все пропадом!
И в этот момент сзади раздался выстрел. Его звук совпал со взрывом.
Граната, попавшая в верхнюю кромку квадратной дозорной башни, вздыбила вековую кладку. Пулеметчик, отброшенный волной, упал вниз, покатился по камням и рухнул со скалы на дорогу. Пулемет, словно вырванный ветром из тенет паук, взлетел в воздух, размахивая прямыми ногами.
— Вперед! — подал команду Уханов и первым вскочил, поднимая людей.
Забились смертельным стрекотом акаэмы [15]. Автоматы душманов огрызнулись ответной яростью. Пробежав несколько шагов, Уханов увидел рядового Сучкова. Тот присел за огромный камень и заливисто хохотал.
— Ну, дают! Ну, дают! — выкрикивал Сучков сквозь приступы рыдающего смеха. — Во дают!
Хохотал и не мог остановиться.
— Прекратить! — гаркнул Уханов, поняв, в чем дело. — Прекратить истерику! Приведите себя в порядок, солдат!
Сучков перестал хохотать, но тут же на него напала икота.
— Вперед! — скомандовал Уханов, — За мной! И не отставать!
В глазах солдата мелькнуло осмысленное возвращение к действительности. Он торопливо поднялся и побежал вперед.
Лейтенант Климов вел взвод на правом фланге роты. Преодолев крутой длинный подъем — тягун, он на миг задержался. Встал, привалившись к скале, стараясь унять сбитое дыхание. Сердце стучало в виски гулкими толчками. Воздуха не хватало. Климов широко раскрывал рот, стараясь набрать его в легкие как можно больше.
В шаге от него, неожиданно вынырнув из-за крутого ребра скалы, словно призрак, возник душман. Климов увидел глаза врага, несколько растерянные, расширившиеся, и понял — медлить нельзя. Без раздумий оттолкнулся от камней, рывком кинул тело вперед, стараясь ударить бандита головой в живот. Но выполнить до конца маневр не сумел. Душман, тяжеловесный на вид, ловко увернулся, будто только того и ждал. Климов пролетел мимо, задел бандита плечом и упал, на лету успев перевернуться на спину.
Тут же душман придавил его всей тяжестью жилистого тела. В нос ударил тяжелый чужой запах. Жесткие, будто железные, пальцы сомкнулись на шее Климова.
Он попытался втянуть голову в плечи, но цепкие пальцы вытягивали шею и все сильнее сжимали ее.
Стало темнеть в глазах. Климов вдруг понял, что оторвать от себя этого здоровенного битюга не сможет.
Тогда, дернув коленями, он попытался повернуться на бок. Это удалось. Рука ухватила рукоятку ножа.
Почти теряя ощущение реальности, Климов взмахнул рукой, пустив ее полукругом справа налево. Сталь вошла в чужое тело. И сразу стало легче дышать. Это позволило лейтенанту удвоить напряжение. Он повернул нож вокруг оси, налегая на него изо всех сил.
Липкая густая жижа плеснула в лицо. Климов оттолкнул душмана и встал, качаясь.
К нему подбежал рядовой Яснов.
— Вы ранены? — спросил с тревогой.
— Нисколько, Яснов, — ответил офицер, чувствуя, как заплетается язык.
— У вас все лицо в крови.
— Не моя, — ответил Климов. — Со мной порядок. Ножом пришлось. — Он подтолкнул плечом солдата: — Вперед, Яснов! Только вперед!
А сам с отвращением поглядел на свои руки, перепачканные кровью. Сорвал пучок сухой, ломкой травы, поплевал на нее и стал жестко тереть ладони. Тер старательно, все время ощущая брезгливость.
Яснов рванулся к домику, ориентируясь по макушке башни. И тут же замер, присев за камень. Из-за ближайшей скалы, должно быть уверенный, что хитро избрал позицию, выглянул бородатый дух в черной чалме.
Убедившись, что ему ничто не угрожает, он стал деловито вытаскивать чеку из гранаты. В кого ее пытался метнуть бандит, Яснову не было видно, но медлить нельзя. И он нажал на спусковой крючок. Нажал плавно, без рывка, как учили на занятиях по стрелковой подготовке.
Поначалу он не мог понять, почему видит все будто в замедленном кино.
Голова духа медленно запрокинулась, словно его ударили кулаком в подбородок. Чалма слетела. Ноги в стоптанных башмаках оторвались от земли, и Яснов даже углядел проношенные подметки. Потом дух всем телом с высоты немалого роста плюхнулся наземь. Раздался глухой удар, будто на камни сбросили мешок с зерном. И все стихло.
Яснов ринулся вперед, легко преодолевая метры, отделявшие его от укрытия, за которым лежал враг.
Бандит лежал, уткнувшись лицом в камень, неестественно подогнув под плечо бритую голову. «Как же так? — подумал Яснов. — Падал на спину. Не притворяется ли?» Но нет, безжизненная поза бандита была явным признаком того, что душа его уже отбыла из бренного тела в кущи мусульманского рая.
Яснов поднял чужой автомат. Срезал полевую сумку, оказавшуюся под животом убитого. Вытянул ее на свет.
Вместе с лейтенантом Климовым они подбежали к сторожевой башне, когда там все уже было кончено. В засаде находилось около тридцати бандитов. В живых осталось пятеро.
Уханов построил роту. Потерь не было. Только ефрейтор Максимов, споткнувшись на подъеме, ударился лицом о землю и ссадил кожу на скуле. Он стоял потный, разгоряченный и морщился от боли и обиды.
Яснов подал ротному трофейную сумку. Капитан отщелкнул кнопки и вынул карту. Развернул. Стал проглядывать, читая надписи на английском:
— «Ситьюэйшн мэп». Карта обстановки. Американская. Масштаб — двухсотпятидесятитысячный. Система индийская. Эллипсоид Эвереста. Начальный пункт Каланпур. Интересная бумага, скажу тебе, — обратился он попутно к Яснову. — Интересная. Видать, ты крупную птицу подшиб. Стоило бы взять ее за крылышки. Впрочем, не до жиру. Верно? Хорошо, хоть бумага осталась. С тобой ведь, малыш, только повстречайся!
Капитан снова вернулся к карте.
— Хорошая картинка. Красивая. Маршруты караванов Джульетта, Лима, Майк и Юниформ. Интересно. Очень. Точки приема грузов — Танго, Виски и Зулу. Тоже неплохо. Ты хоть понимаешь, что заудил? Нет, думаю, не понимаешь. Эта дубина несла золотое яичко. Отлично, даже очень! Стоит подумать, как эти бумажки перекинуть по назначению. Думаю, маршруты будут работать.
К Уханову подошел Муташаккир. От начала боя до этой минуты капитан его не видел.
— Карош! — сказал афганец и широко улыбнулся.
— Кулматов, — попросил ротный, — пусть Муташаккир узнает, кто командует бандгруппой.
Ефрейтор сказал несколько слов афганцу, выслушал ответ и доложил:
— Товарищ Муташаккир уже допросил пленного. Шинкутал перекрывает банда Мухаммада Панаха.
— Как с другими направлениями?
Теперь ефрейтор и проводник беседовали дольше. Потом Кулматов сообщил:
— На Ширгарме банда капитана Кадыра. Оборона там крепкая, долго ее готовили, В Торатанги стал Сайд Падшах. Всей группировкой командует Хайруллохан. Где он сам, душманы не знают.
Рота спустилась к машинам. Солдаты шли с грузом. Несли душманские автоматы, упаковки с патронами.
Трофеи — это свидетели боевых успехов, и бросать их никогда не считалось возможным.
Колонна вернулась на дорогу. Через десять минут увидели бэтээр Мостового. Закричали «ура». Никто не подавал команды — клич сам вырвался у людей, которые ясно представляли, какое мужество потребовалось ребятам, чтобы маневрировать возле смертельно опасного утеса.
Капитан Уханов остановил машины. Объявил перекур на пятнадцать минут. Собрал офицеров на небольшой совет.
Неподалеку под присмотром автоматчика стояли пленные душманы. Кроме охранника, на них никто не обращал внимания: незачем. Отработанный материал.
Молодой тощий душман с гривой сальных густых волос, безвольно опустив голову, стоял, прислонившись к скале. Казалось, он безразличен ко всему, что происходит вокруг. Вдруг, резко оттолкнувшись, он прыгнул. В руке его сверкнул клыч — боевой нож с костяной рукояткой. Звонкая сталь была нацелена в спину Уханова.
Допрыгнуть духу не удалось. Он вдруг упал как подкошенный вниз лицом. Нож отлетел в сторону, звякнул о камни.
— Виноват, — сказал растерянно Саттар Усманов. — По-другому не мог.
Он держал в руке монтажную лопатку, которой обстукивал колеса бронетранспортера. Удар был таким сильным, что даже городская медицина вряд ли смогла бы вернуть душу в это бренное тело.
— Спасибо, — сказал капитан и протянул руку Саттару. — Как ты его углядел?
— Я не знаю, как точно сказать по-русски.
— Валяй по-своему. Кулматов переведет.
— У нас говорят: иланын яхши-яманы олмаз. Душман — тоже.
— Он говорит, — пояснил Кулматов, — змея не бывает плохая или хорошая. Змея — это змея. Душман — тоже. Он за ними все время следил.
— Кулматов точно сказал, — подтвердил Саттар. — Душман есть — за ним смотреть надо.
— Урок нам наглядный. — Уханов повернулся к солдату, охранявшему пленных: — Как же ты прозевал, Петрухин?
Тот смотрел на командира роты растерянно.
— Я его пресечь не мог, товарищ капитан. Он на вас бросился, тут автомат не помог бы…
Пленных отвели в сторону, так, чтобы у них не появлялось греховных соблазнов. Еще раз обыскали. Нашли нож за голенищем сапога спокойного, на вид безучастного ко всему душмана. Доложили Уханову.
— Вот так, — сокрушенно сказал тот. — Видно, прав Саттар. Как это — иланын яхши-яманы олмаз? Я не ошибся?
Саттар, слышавший эти слова, довольно улыбнулся. Тут же Уханов уточнил последующие задачи.
— Дальше, — сказал он, — идем ущельем. Через три километра технику придется оставить. Она не пройдет. Сейчас высылаем на хребет разведгруппу. Лейтенант Климов, назначьте семерых, самых крепких.
— Одно отделение? — спросил лейтенант.
— Нет, сборную группу. Самых крепких и ловких.
— Есть! — И лейтенант назвал фамилии: — Пойдут рядовые Мальчиков, Кузин, Монахов, Ясиов, Лапин, Паршин и Возников.
— Позовите Кулматова, — приказал Уханов.
Через минуту солдат подошел к офицерам. Доложил о прибытии.
— Товарищ ефрейтор, — произнес Уханов официальным тоном, — назначаю вас командиром разведгруппы.
— Есть! — ответил солдат, как положено по уставу. Растерянно улыбнулся и уже от себя сказал: — Не смогу я. — Зачем-то посмотрел на свои широкие мозолистые ладони и качнул головой: — Точно, не смогу.
— Что не сможете? — спросил капитан чуть удивленно.
— Команды подавать. Не учился я.
— Главное, не волнуйся. — Голос Уханова заметно потеплел. — Мне не подаватель команд нужен, а командир. Каким он должен быть, надеюсь, ты знаешь?
— Так точно, знаю.
— Вот и действуй, как представляешь.
— Понял.
— Теперь о задаче. Смотри сюда.
Капитан раскрыл планшетку, в которой чуть пожелтевший целлулоид покрывал топографическую карту. Карта была новой, планшетка — старой. Ее, увольняясь в запас, подарил Уханову офицер-фронтовик. С тех пор она продолжает военную службу.
— Мы здесь, — сказал Уханов и острием карандаша указал на карте точку. — Дальше ущелье плавно поворачивает на юго-запад. — Карандаш скользнул по целлулоиду. — Разведгруппа должна уйти на хребет. Не думаю, что там есть большие силы. Скорее всего, могут оказаться один или два дозора. По хребту, сбив душманов, если надо, пройдете к перевалу. Главное для нас — не дать возможности духам выйти через хребет в тыл роте. Ясно?
— Так точно.
— Тогда отправляйтесь. — Капитан подал руку Кулматову и крепко сжал его ладонь. — Будь осторожен, командир!
Горы безжалостны к хилым. Они не знают снисхождения, не жалуют милостью. Каждому, кто вышел на каменистые кручи, нужно быть готовым к борьбе. К борьбе с высотой, с крутизной, с переменами погоды, с самим собой, со своими слабостями.
Разведгруппа, получив задание, отправилась на штурм крутого склона, уходившего к гребню хребта.
Они шли по узкой стежке, проторенной дикими животными. Впереди шагали два разведчика. Двигались осторожно, размеренно. Один уходил вперед, другой, выбрав укрытие, был готов прикрыть товарища огнем. Дойдя до удобной позиции, тот, кто был впереди, ложился и брал под прицел тропу. Второй шел дальше.
За разведчиками продвигалось ядро группы.
— Любишь горы? — спросил Кулматова Виктор Паршин, лучший пулеметчик роты.
— Я стенной человек, — ответил Кулматов. — Степь очень люблю.
— Мне степь не нравится. Все равно что женщина без рельефа. Одно уныние.
— Нет, не скажи. Степь всегда живая. Можно час сидеть. Два сидеть. Сколько хочешь — не надоест. У степи своя песня. Сиди слушай. Всегда приятно.
— Не-е, — возразил Паршин. — Не уговаривай.
— Значит, горы любишь.
— Люблю, — Паршин улыбнулся, — только в кино. А так они меня уже до печенок проняли.
— Что же тогда тебе надо?
— Лес, — произнес Паршин мечтательно. — Лес — наше богатство. Правильно так на плакатах пишут.
Часа два с небольшими передышками они царапались вверх по глухой крутизне. И вот уже гребень рядом. Кулматов двигался первым. В некоторых местах он ловко прыгал с камня на камень. Свежий ветер вершин тугой струей холодил лицо.
С этих высот открывался вид на огромные горные пространства. Массивные кряжи лежали словно чешуйчатые ящеры, ленивые и злые.
Тропа пересекала хребет, уходила за него на западный склон. С востока крутизна набирала градусы, превращая откос в крепостную стену. Куда ни обращался взор, всюду виднелись следы суровой борьбы стихий. Изъеденные трещинами безжизненные камни боролись за место под солнцем с ветром, жарой, морозами.
— Карта не знала, — сказал Кулматов, разглядев окрестности, — душманы здесь держать заслон не будут. Дико тут.
Они двинулись на юго-запад, к далекому, невидимому отсюда перевалу. Горы громоздились, пугая своей могучей первозданностью.
Сколько дикости и непонятной силы таят в себе эти махины, вырвавшиеся на свет из недр земли, взметнувшиеся отвесами к самому небу! Их мрачные стены, отутюженные вековыми ветрами, нависали над узкими щелями, и тот, кто проходил здесь, ощущал на своих плечах неимоверную тяжесть камня.
Шагать по хребту куда легче, чем одолевать грудь кряжа. Глаза слепила пронзительная синева, по краям свода ее припудривала легкая, прозрачная дымка. Но свет уже не обманывал людей.
— Надо искать место, — сказал Кулматов.
На востоке он уже приметил первые признаки уходящего дня. Идти дальше, не подумав о ночлеге, было бы опрометчиво.
Темнота наползала с Гиндукуша, двигая перед собой тяжелые тучи. За хребтом недовольно бурчали громовые раскаты, будто там ворочался и урчал огромный невидимый зверь. Ветер посвежел, стал порывистым.
Кулматов еще раз взглянул на небо.
— Дождь близко, ребята, — предупредил он и зябко повел плечами. — Автоматы держать сухо. Надо ночевку делать.
Они отыскали широкую щель под громадным щитом скалы, нависавшей над пологой площадкой. Сюда не так сильно задувал ветер, и оттого казалось значительно уютнее и теплее, чем на хребте.
Втиснувшись в щель, они полагали, что обрели вполне надежное укрытие.
Буря ворвалась в горы шквалом воды и ветра. От внезапного мощного удара словно лопнул, раскололся на части небесный свод. Яркая вспышка электросварки осветила природу, и мир окрасился в два цвета — белый и черный.
Скала прикрывала солдат от буйства стихии, но не настолько, насколько это было нужно. Вода, раздробленная и направляемая ветром, врывалась в незащищенную щель то с одной, то с другой стороны. Укрыться от этого напористого холодного душа не было никакой возможности.
Пронизывающая сырость вползала под одежду. Тело коченело, пальцы стыли, и, будто злые муравьи, что-то противно копошилось под кожей.
Холод одолевал даже мысли. Ни о чем не хотелось думать. И невольно из глубины души поднималось все черное, что таилось на самом дне, — раздражение, беспричинная злость, безудержная ярость.
Трудно сказать, как вели бы себя здесь под дождем, словно под расстрелом, эти усталые, изнуренные люди, если бы не было слов, емких, звучных, презренных, но всем известных, всеми употребляемых и сберегаемых на особый, черный, случай, как спички, нужные в житейские невзгоды больше, чем самые светлые и звонко-парадные слова.
Более стойко держался Темир Кулматов. Он сидел, нахохлившись, опустив голову, и молчал. По лицу его текли струи воды. Он молчал. Смотрел в темноту расширившимися зрачками, почти не мигая, вглядывался в даль, туда, где вспышки яростного света вырывали из мрака черные зубья пик. И молчал.
Устав ругаться, выплеснув накопившуюся злость и душевную ярость ковшами слов, солдаты притиснулись друг к другу, опустошенные неравной, бесплодной борьбой с разбушевавшейся стихией.
Дождь прекратился внезапно, словно чья-то невидимая рука завернула некий таинственный кран. Стало тише. Вода тысячами струй еще продолжала стекать вниз по склонам. В отдалении стихали последние звуки обессиленной грозы.
В начисто промытом холодном небе вспыхнули льдинки вечных звезд.
Солдаты оживились, задвигались.
— Вот зараза! — сказал Дима Лапин. — Словно душман прошел.
Темнота растворялась медленно, будто неохотно.
Туман отяжелел, отмок, и ему не удавалось зацепиться за кручи. Он лениво, как бы помимо своего желания, сползал вниз, постепенно теряя высоту. Темное колышущееся варево уходило в глубины ущелий, обнажая колючке черные ножи одиночных скал, мрачные складки гребней, извилистые тени провалов.
Скалы, выступая из мрака, словно приближались. Они выстраивались в линию, занимая места по ранжиру — одна выше другой и круче всех остальных.
За острыми зубьями хребтов появилось легкое серебристое сияние. Сперва оно только подсвечивало пики, оттеняя мрачную остроконечность от синевы неба, потом синева разлилась прозрачностью, и мир словно раздвинулся, стал шире, просторнее. Заблестели призрачным хрусталем ледники. Явственнее обозначились глубокие тени ущелий.
Вставало улыбчивое солнце.
Наскоро перекусив, разведгруппа двинулась в путь.
Во второй половине дня случилось непредвиденное. Неожиданно соскользнул с тропы и упал Паршин. Кулматов подал ему руку, пытаясь поднять. И сразу заметил, как побледнело в жутком страхе лицо товарища. Он помог Паршину сесть.
— Что с тобой? — спросил встревоженно.
— Нога… — ответил солдат, морщась от боли.
Кулматов помог ему разуться. Открылась белая, подопревшая ступня. Голеностоп вздулся огромной опухолью.
— Это не сейчас, — сразу определил Кулматов.
— Да, — сказал Паршин. — Наверное, минут сорок назад.
— Как же ты шел?
— Да так, сам не знаю. Шел, и все. Только больше не могу. Ни шагу. Скорее, околею.
Кулматов достал индивидуальный пакет. Сунул Паршину:
— Бинтуй. Очень туго. Очень!
Наложив повязку, постанывая и ворча, солдат с трудом обулся.
— Вставай. Опирайся на меня, — предложил Кулматов.
Паршин встал. Держась за плечо товарища, сделал несколько шагов и вдруг, словно сломавшись, подогнул ноги, рухнул на колени.
Сквозь спекшиеся, кровоточащие губы выдавил:
— Бросьте меня, ребята, к едрене фене. Всё! Спекся.
Кулматов сдвинул брови.
— Встать! — сказал он сурово. — А ну встать!
Невольно повинуясь рефлексу, воспитанному службой, солдат поднялся и выпрямился. Лицо его казалось вылепленным из некрашеного алебастра. На щеках рыжел негустой юношеский пушок.
— Рядовой Паршин, — произнес Кулматов уже мягче, — нам приказано дойти до Дарбара. Ты помнишь? Стоять на месте приказа не было. Людей оставлять мы не можем. И ты пойдешь. Даже если ноги не будет. А у тебя нога целая. Пошли! — Он полуобнял товарища, подхватив его рукой. — Пошли, нам твой автомат тоже нужен.
Качнувшись, Паршин сделал неуверенный шаг.
Так они и двигались рядом — двое на трех ногах. Шли, не очень-то веря, что дойдут.
К седловине перевала — крайней точке маршрута по хребту — группа пришла, вымотанная до крайности. Лица у ребят посерели. Все осунулись до неузнаваемости. Под глазами обозначились синие тени. Носы заострились. В глазах блуждало безразличие.
— Час отдыхаем, — сказал Кулматов и стал распределять, кому где занять позицию. Отдых отдыхом, но быть готовыми к неожиданностям вынуждала обстановка. — Дремать по пятнадцать минут, — разрешил он.
— По полчаса, — пытался утвердить свой распорядок Коля Кузин.
— По пятнадцать, — твердо повторил Кулматов.
— Почему? — не унимался Кузин.
— Ты отдохнешь полчаса, а другие не дождутся, если душман пойдет.
Достали фляги. Пополоскали рты. Драгоценную влагу никто не выплевывал. Настроение у всех по нулям.
Паршин вымотался до изнеможения. Это определялось с первого взгляда.
То вытягивая, то подбирая поврежденную ногу, которой не находил удобного места, он морщился от нестерпимой боли и глухо стонал. Ему все время хотелось завыть от отчаяния, и он завыл бы, если б не товарищи. Их присутствие помогало сдерживаться. Он стонал, а иногда скулил, произнося сквозь зубы слова, которым в школе не учат.
Кулматов не знал, как быть. Он понимал — бой будет свирепый. Душманы пойдут на удар, это точно. Не могут не пойти. Для них открытый перевал — единственный шанс. И ради этого бандгруппа будет драться отчаянно.
Паршин заметил колебания ефрейтора. Сказал, едва шевеля языком:
— На ме-ня… не гля-ди. Назна-чай… ме-сто. Бу-ду дер-жать…
— Ты лежи, лежи, — сказал рядовой Мальчиков с сочувствием. — Мы и без тебя перебьемся.
— У ме-ня авто-мат и ру-ки, — озлился вдруг Паршин. — Пока-жи мес-то, еф-рей-тор! Ну!
Пока люди отдыхали, Кулматов осмотрел всю зону седловины. Выбрал позицию так, чтобы держать круговую оборону. Духи могли появиться с обеих сторон перевала. Их надо было сдержать, не давая возможности пересечь гребень перегиба.
Осматривая скалы, Кулматов обнаружил пещеру. На четвереньках он пролез внутрь. Узкая горловина тянулась метра два, а за ней открывалась огромная каверна. Зажженная спичка не высвечивала высокого свода.
Через вход в грот пробивалась узкая полоска серого света. Приглядевшись, Кулматов увидел у стены большой штабель ящиков и мешков. По форме и длине понял: запас душманского оружия и боеприпасов.
— Ребята! — крикнул он. — Оружие!
Крик эхом отозвался и замер в темной глубине подземного лабиринта.
— Не трогай! — предупредил снаружи Ясное. — Могут быть мины!
В эти минуты Кулматов испытывал тягостное чувство ответственности, которую не мог разделить ни с кем. Прошли сутки, а им так и не удалось связаться с ротой. Барахлила ли рация или связи мешали скалы, отделявшие ущелье от перевала, они не знали. Принимать решение на бой предстояло вслепую. О силах врага, о месте его расположения им ничего не было известно.
После короткого отдыха солдаты стали готовить оборону. Таскали плитняк, выкладывали стрелковые ячейки. Устало переговаривались. Ходили, едва поднимая ноги.
Возников и Мальчиков выложили ячейку Паршину. Тот занял ее и сказал:
— Все, братцы. До победы не встану.
— Ребята, — уныло возвестил Лева Монахов, остановившись с огромной булыгой на краю склона, — как оружие? Сгодится?
— Особенно если львов семеро, — съязвил Лапин.
— Как понять? — поинтересовался Монахов.
— Историю о львах вспомнил, — пояснил Лапин серьезно. — Нас было пятеро, противников — двое. Мы дрались как львы. Когда силы сравнялись, мы побежали.
— Дима, заткнись! — в сердцах сказал Яснов. — Чем трепаться, проверь акаэм. Осечешься — я сегодня в стороне.
Лапин засопел обиженно и занялся делом: стал обкладывать ячейку глыбами плитняка.
Осечку он помнил. Она однажды едва не стоила ему жизни.
Работали они тогда в «зеленке». Лапин выскочил из-за дувала и столкнулся с нечесаным громилой. Нажал на спуск автомата, ствол которого почти упирался в живот противника. Выстрела не последовало. Оцепенение страха сковало движения Лапина. Он понимал: на то, чтобы взвести затвор, выбросить предавший его патрон, нет ни секунды.
Громила, приходя от неожиданности в себя, тягуче долго, во всяком случае, так казалось Лапину, замахивался ножом.
Ударить душман не успел.
Над ухом Лапина пугающе громко прогрохотала очередь.
Утробно охнув, дух повалился на Лапина, и тот, оттолкнув его рукой, отвел падение в сторону.
Страх отошел, оставив лишь легкую дрожь в ногах и царапающую сухость во рту.
Лапин передернул затвор, нажал на спуск. Выстрела не было. Оказалось, он израсходовал весь рожок и не догадался его сменить вовремя. Только потом он оглянулся: кто же ему помог? То был Яснов. Он бежал сзади и, когда понял, что происходит, долго не раздумывал. Вскинул автомат и через плечо Лапина в упор ударил по душману.
Позже, когда горячка боя ушла и чувства остыли, страшное стало казаться уже смешным.
— Жму, — рассказывал Лапин, — аж пальцы мокрые. А он — молчит…
— Он, ребята, не на спуск жал, а на скобу, — серьезно пояснял товарищам Яснов. — Посмотрите, аж согнул…
За трудным делом разведгруппу застал второй вечер. Когда окончательно стемнело, солдаты стали греться. Они топтались на месте, махали руками, колотили себя ладонями по бокам.
Такой обогрев давался недешево. Дневная усталость заявляла о себе гудом в ногах, тупым звоном в голове. Силы у людей сдавали. Рождалось безразличие ко всему, что происходило вокруг. Даже холод многим стал казаться не таким страшным, как раньше. Ложились прямо на камни. Прижимались друг к другу, проваливались в тяжкий, мучительный, как безвоздушная яма, сон.
Не спали двое.
Положив перед собой автоматы, у перевального гребня бодрствовали Кулматов и Мальчиков. Напрягая зрение, вглядывались они в глухую тьму, вслушивались в пустоту горной тишины.
— Молчат. — Таинственность ночи передалась Кулматову, и он говорил шепотом.
— Не подошли, видать.
Кулматов шевельнулся. Звякнул автомат, передвинутый поудобнее.
— Не, Ваня. Боюсь, они где-то рядом.
Он понимал: темнота наверняка задержала душманов и сейчас работает против них. Но произнести утешительные слова, особенно если сам в них не верил, он просто не мог.
— Это плохо, — отозвался Мальчиков. — Мы уже чуть дышим.
— Они тоже, — возразил Кулматов. — Потому, Ваня, коркма. Не боись, по-нашему.
— Я не боюсь. Просто жрать хочу.
— Терпи.
— Сколько?
— Много, наверное. Сколько точно, я не знаю.
— Давай по очереди отдыхать, — предложил Мальчиков. — Покемарь сначала ты.
— Нет, Ваня. Мне спать нельзя. Очень нехорошо.
— Ты устал, Темир. Я меньше устал. Не засну. Веришь?
— Тебе очень верю. Ты не заснешь. Но я тоже не могу. Семь ребят — моя совесть. За них отвечаю. Один.
— Так нельзя, — укоризненно заметил Мальчиков. И было трудно понять, говорит ли в нем обида на недоверие или он на самом деле осуждает упрямство командира.
— Так можно, Ваня. Если помогать хочешь, давай говорить. Я много говорить стану, чтобы не спать. Ты слушай и говори: «Да, да». Чтобы сам не спал.
Кулматов замолчал и прислушался. Успокоился, ничего не услышав. Придвинулся к Мальчикову, прижался спиной к его спине. Обоим стало теплее и спокойнее.
— Скоро домой возвращаться, — сказал задумчиво Мальчиков. — Я даже забыл, как там, на Родине. Другой мир. Светлый…
— Вернусь, — откликнулся Кулматов, — в школу пойду. Медаль надену. Пусть военрук Иван Митрофанович меня увидит.
— Не видал медалей твой военрук…
— Он видел. У самого «За отвагу» есть. Только он ее получил под Будапештом. В сорок пятом году. И хотел, чтобы мы умели делать солдатское дело не хуже. У меня дед на войне погиб. В панфиловской дивизии. Отец рано умер. Пусть военрук посмотрит.
— А я к Зинке пойду.
— Подруга?
— Была. Сейчас замужем.
— Зачем к ней идти?
— Пусть увидит. У нее муженек давно алкашом стал. Деловой был. Ей и понравилось — все достать может.
— Не переживай. Главное, мать и отец будут рады.
— Будут. А у тебя родные есть?
— Есть. В Алма-Ате. Дядя и тетя. Только к ним не пойду.
— Чего так сурово?
— Не люблю их. Если бы жил раньше не с ними, может, любил. А так — нет. Я в колхозе жил раньше. Там сперва отец умер. Потом мама. Один остался. Так и хотел жить. Потом дядя Рахимбай приехал. Сказал: одному нельзя. Что будут говорить в ауле? Если один брат умер, другой брат должен стать его детям отцом. Пришлось в Алма-Ату переехать. Жили у дяди в доме. Там свой порядок был. Главный человек — сам дядя. За ним шел самовар. Этот самовар стоял в доме как бог. Его чистили каждый день. Зубной пастой. Зубы Рахимбай не чистил. Для самовара покупал. Дорого, но он не жалел. Это был большой самовар. Пузатый. На целое ведро. Старая работа. До революции делали. И на пузе медали. Три там или четыре. Нарисован царь. Рахимбай, когда веселый бывал или гости приходили, всегда говорил: я человек маленький, но служит мне самовар-генерал. С наградами. И все головами качали, повторяли удивленно: «Ой-баяй! Рахимбай — человек совсем не простой, не маленький, если ему самовар-генерал служит». Дядя всегда улыбался, гладил себя по животу. Еще он любил спор заводить, был ли у царского генерал-губернатора в Верном такой самовар, с наградами. Я лично думаю, что был и получше. Губернатор — это ведь, наверное, как генерал армии. Но все говорили, что такого самовара у генерала быть не могло. Только наш Рахимбай сумел достать. Может, его из самого Петербурга вывезли вместе с царем в революцию. Царь пропал, самовар нашелся. Когда я подрос, самовар мне поручили. Я его чистил пастой и тряпкой. Я наливал в него воду. Я разжигал. Только носил к столу сам Рахимбай. Мне такой здоровый трудно было поднять. Потом в моей жизни все пошло не очень нормально. Начал я восьмой класс. Уже крепким стал. Спортом занимался. Борьбой. У нас учитель физкультуры Калишвили был. Очень к ребятам хороший. Кандидат в мастера по борьбе. Он мне сказал: «Надо, Темир, бороться. Мужчина всегда должен уметь бороться. Борьба все дает». Я начал. Хорошо пошло.
— Я тоже в школе занимался, — сказал Мальчиков так, словно речь шла о временах далеких. — Только боксом.
— К тому времени Рахимбай совсем сильно пить стал. Его часто привозили домой. Приходить уже сам не мог. Привезут, вытащат из машины за руки, за ноги — и на раскладушку. А утром он пораньше из дому уходил. Мне его пьянство не нравилось. Да что я сделать мог? Работал дома много, как прежде. Ложился поздно. Спал крепко, как неживой. Упал — лежу до света. Нет меня. Но вот один раз ночью сплю, меня кто-то толкает, будит. Сперва долго глаза открыть не мог. Потом проснулся. Смотрю, рядом тетя Айша лежит. Совсем голая. Меня руками трогает, даже где не надо. Целует. Я испугался. Она вся духами пахнет, а борода колючая. Думал, она с ума сошла. Потом понял — нет. Совсем другое. Она мне шепчет: «Я вся твоя, Темирчик. Вся твоя». Мои руки себе на грудь кладет, куда не надо.
Кулматов замолчал, задумался.
— Не жизнь у тебя была, — сказал Мальчиков. — Эстрадный концерт.
— Ты смеешься, Ваня, мне не до смеха было. Я ее мужем стал. Стыдно мне, а ей ничего.
— Вот зараза старая! — в сердцах ругнулся Мальчиков и сплюнул.
— Так пошло каждую ночь. Только засну, она приходит. Я ей говорю: «Ты старая, бессовестная, что делаешь?» Она только смеялась. Мне нехорошо было. Ей хорошо. Потом я сказал: «Все!» И не пришел домой на ночь. Утром она мне сказала: «Ты дурак, Темир! — И ткнула меня кулаком в лоб. — В башке у тебя пусто. Вот я скажу Рахимбаю, что ты меня руками хватаешь. Вот здесь. Вот здесь. — Она показала, где я хватаю, И стала смеяться. — Тебя Рахимбай убьет, как собаку. Не будешь меня хватать. Вот здесь и вот здесь». Сказала так и ушла.
— А ты? — спросил Мальчиков.
— Я опять не пришел домой на ночь. На другой день она со мной не говорила. Ни одного слова. К вечеру я самовар почистил, налил воды, разжег и пошел по делу. Вернулся — самовар пропал. Воды в нем нет, огонь горит. Труба расплавилась. И сразу тут пришел Рахимбай. Он бил меня, как зверь. Я еле живой остался. Потом понял — Айша воду выпустила.
— Ну, зараза! — возмутился Мальчиков. — Не баба — сатана! Ты-то что?
— Я ушел от дяди. Собрал весь самовар и ушел. К дяде Удодову. У нас рядом такой старик жил. Одинокий. Русский. Добрый. Я когда-то его очень боялся. Он чистый шайтан, черт. С войны пришел хромой. Очень хромой. Нога у него «хр-хр». Потом узнал — это протез. На лице шрам. Страшный. Это его осколок царапал. Под Варшавой. Один глаз пошире открыт, другой будто спит. На голове волос нет. Только блестит она. Детей Удодов не обижал. И мы все к нему привыкли. Он на кузнице работал. Там ребята всегда играли. Он им все разрешал — молоток, железо брать. Стучи. Работай. Дядя Удодов пустил меня к себе. Все синяки мазью смазал. Потом самовар посмотрел. Сказал: «Э, Темирчик, такое поправим. Беда-вода!» Так он всегда говорил. И все поправил. Отнес я самовар Рахимбаю я стал сам жить у дяди Удодова. Как у отца. Он мне родной стал.
— Дядя не звал? — спросил Мальчиков.
— Айша приходила. Плакала. Сказала, что она меня любит и потому с самоваром такое сделала. Я не пошел к ним…
Кулматов вдруг замолчал. Прислушался.
— Ничего не слышишь? — спросил он и стал вглядываться в темень. — Вроде шевелятся.
— Не слышу, — ответил Мальчиков. — Нет, постой. Вроде звякнуло. Да, есть…
— Подними ближних. Троих. На всякий случай. Только тихо. Очень тихо. Нам войну сейчас начинать рано.
Подползли полусонные Яснов, Монахов и Кузин.
— Что? — спросил Яснов сипло.
— Подбираются, — произнес Кулматов еле слышно. — Идти будут по краю. Так я думаю. Бить только в упор. Когда увидим. Я и Ваня — слева. Вы оба — справа.
— Понял, — шепотом ответил Яснов.
— Подними остальных по-тихому, — приказал Кулматов. — Пусть тыл прикроют.
Яснов быстро отполз.
Все застыли в немоте, каждый по-своему переживал минуты ожидания начала.
Черные тени возникли на перевале внезапно. И сразу в упор грянули автоматы. Светляки трассеров, искря, понеслись над камнями.
Атаку отбить не удалось. Душманы не прекращали натиска. С той стороны по разведгруппе густо садили пулеметы. На позиции стоял скрежет, будто тысячи молотков крошили камень, прикрывавший оборону. Несколько позже ударили гранатометы. Полыхнули багрово-дымные языки. Запахло поганой вонью. Взлетели вверх и заколотили со стуком по скалам обломки камней.
Сплевывая песок, забивший рот, сопровождая каждый плевок художественным разноцветьем крепких слов, выжимал из автомата ровные строчки Виктор Паршин.
— Э! — крикнул ему Кулматов. — Зачем такие слова произносишь? Легче, да?
— Пить хочу! — откликнулся Паршин со злостью. — Пить!
Он опять сплюнул и мотнул головой. Губы, обсохшие, потрескавшиеся, болели нестерпимо и кровоточили.
— Коля, держи их сбоку! Держи! — кричал Кулматов Кузину.
— Ваня, цель ниже! — подсказал Яснов Мальчикову.
— Ребята, справа!..
И когда находили время на такие советы люди — ни понять, ни объяснить.
— Мальчики! — Кулматова взяло отчаяние. — Не боись! Им нет выхода! Нет! Они на нас давить будут!
И опять стрекот выстрелов, треск короткий и длинный, пульсирующий и надсадный. И длинные сполохи, сопровождаемые оглушительным гулом.
— Возников! Давай сюда! — охрипшим голосом позвал Кулматов. — Нас мало!
Плотная, тяжелая масса душманов (человек сто — сто двадцать, как определил на глаз Кулматов) упорно надвигалась на их позицию из глубины ущелья.
— Алла! Алла акбар! — Надсадный крик приближался и становился все злее.
«Конец, — подумал с удивительным равнодушием Кулматов. — Четыре автомата — не забор для такой орды. Всё…»
Возников подбежал, слегка пригибаясь. У гребня упал, не успев расслабиться. Ощутил боль в колене. Быстрота спасла его. По стене, в то место, где он только что был, дробно сыпанул рой автоматных пуль. Тупо звеня, они осыпали спину Возникова колючей каменной крошкой.
Едва взглянув перед собой, Возников стал быстро отползать к пещере.
— Куда! — не поворачивая головы, крикнул Кулматов. — Вернись!
Но солдат уже вскочил на ноги.
— Я сейчас!
Через минуту он вернулся, таща в охапке, будто вязанку поленьев, четыре ручных гранатомета.
— Вот, — прохрипел Возников и подполз к Кулматову.
Тот сразу понял.
— Хорошо! — крикнул он. — Быстро, ребята! Целить первый рубеж! Под ноги!
Минутное замешательство шурави не прошло незамеченным.
Банда, подтянув свежие силы, ринулась на таранный бросок.
Шли, налитые кровавой ненавистью, распаленные жаром ярости. Орали свирепо:
— Алла! Алла акбар!
Они привыкли, что их боялись. Они знали — им уступают, особенно если их большинство. Здесь им не уступали. Здесь их, может быть, и боялись, но виду не показывали. И это направляло мысли на жестокую расправу.
Они еще яростнее вопили:
— Алла-а-а!..
Бежали, утопая в автоматном треске, рассеивая перед собой черные зерна смерти. Автоматы шурави молчали.
Орда убыстрила бег. Нарастала сила живого удара. Тридцать метров… Двадцать…
— Огонь! — прохрипел Кулматов.
Волнение перехватило горло, и он еле выдавил эту команду.
Четыре гранатомета ухнули разом.
Оранжевое пламя плеснулось над тропой, молотом тяжкого грохота обрушилось на хребты.
Стонущий рев волной спрессованного воздуха покатился над горами.
В этот миг удар сотряс под Кулматовым землю. Отлетев в сторону, он прикусил язык. Слова, которые надлежало сказать для облегчения, остались невысказанными. Рот наполнился солоноватой слюной.
Ему показалось, будто взорвался он сам. Во всяком случае, удар обрушился не на него, а вырвался откуда-то изнутри. Вроде его сперва раздуло, расперло воздухом во все стороны, потом тело не выдержало и оглушительно лопнуло.
Опустошенный, словно став меньше объемом, он слетел на камни и лежал на них жалкий, беспомощный.
— Жив? — пропищал кто-то, склоняясь над ним.
Кулматов с неодолимой, противной для него самого ленью приоткрыл глаза. Увидел закопченное лицо Вани Мальчикова, который широко разевал рот. «Ну зачем, — подумал ефрейтор, — так широко драть рот, если можешь только пищать?»
— Жив? — снова тонко прозвенело в ушах.
«Да», — хотел сказать он, но не смог открыть рот. Мальчиков понял ответ по его шевельнувшимся губам. И сам Кулматов почувствовал, что туман в голове стал рассеиваться. Горы вокруг начали видеться четкими, многоцветными.
Не раздумывая, цел ли, Кулматов перевернулся на живот, со стоном развернул ноги и выкинул автомат перед собой. Акаэм заработал азартно и голосисто.
Внезапно что-то изменилось в движениях банды. Солдаты прислушались и поняли. Это рота сбила сопротивление и сжала группу, придавив ее к перевалу. «Теперь они пойдут еще злее», — решил Кулматов.
Но не угадал.
Банда сдавалась. И, как назло, сдавалась не им, державшим рубеж здесь, на перевале, измотанным, злым, голодным, а тем, кто пришел по их пятам, — свежим, азартным.
Все вокруг стало до крайности безразличным, ненужным. Уши будто заложило ватой — звуки живого мира откатились куда-то далеко-далеко, сделались глуховатыми, неясными.
Солнце уже согревало землю. Сырые потеки, оставленные туманом в скальных чашах, быстро просыхали.
Кулматов выбрал место под скалой и лег на камни, подложив автомат под голову. Через минуту он уже спал.
Подошли капитан Уханов и лейтенант Мостовой.
— Что с ним? — спросил Уханов стоявшего рядом, как на посту, Мальчикова.
— Сморился, — ответил солдат, тяжело моргая красными от бессонницы и дыма глазами. — Я бы тоже полежал… Все, кончился порох…
В своей ячейке за глыбами плитняка, поцарапанного пулями, лежал на боку и стонал Паршин. Только сейчас в ногу вернулась нестерпимая боль, и он готов был орать, когда она пронзала опухший сустав.
— Санинструктора! Сюда! Живо! — распорядился Уханов.
Воздух на перевале свежел. Ветер отгонял запахи пороха и вонючей взрывчатки.
Даль прояснялась. В легкой дымке вдалеке угадывалась долина реки, где лежал долгожданный Дарбар.
АФГАНИСТАН. КИШЛАК САРАЧИНА
Колонна шла на юг, втягиваясь в широкую котловину Жердахта, где под охраной подразделения народной афганской милиции — царендоя — собирался караван машин. Их было уже свыше двухсот — цистерны с керосином и маслом; грузовики с зерном, мукой и солью; самосвалы с цементом. Все это батальону Бурлака предстояло в полной сохранности провезти в уезд Дарбар. У развилки дорог — одна вела на Ширгарм, другая в горный район к кишлаку Сарачина — бронетранспортер комбата сошел на обочину и притормозил. Рядом с регулировщиком в форме царендоя стоял мужчина в неброской крестьянской одежде — чалме, потертом пиджачке и латаных брюках. Он поднял руку, приветствуя Черкашина.
— Мир вам, рафик Черкаш, — сказал он на пушту, и это обращение прозвучало для капитана как пароль: человек представлял майора Мансура.
— Здравствуйте, уважаемый. — Черкашин протянул ему руку.
— Я Абдул Кудуз, — представился человек. — У меня для вас кагаз [16] от майора Мансура.
Абдул Кудуз снял чалму и из ее складок вынул свернутую в несколько раз бумажку.
— Это радио, рафик Черкаш. Майор сказал, оно для вас и ваших друзей очень ценно. Я торопился.
— Спасибо, — поблагодарил Черкашин. — Вас надо куда-то подвезти, уважаемый Абдул Кудуз?
— Нет, не надо. Мой сарвис — мои ноги. Я ухожу.
Они попрощались, и афганец двинулся в обратный путь.
— Что? — спросил Бурлак, наблюдавший всю сцену. — Хорошие новости?
— Не знаю. Передал радиограмму. Разведка духов.
— Читай, это полезно знать.
Черкашин развернул смятую бумажку, разгладил ее на ладонях. Пробежал молча глазами. Начал читать вслух:
— «Аллах акбар. Дорога́ его победа. Кяферы выступили. Быстро идут на Дарбар через трое горных ворот. Ведет всех сипасалар турэн Бур. Верблюжий хан свернул на восток. Китаец пошел на запад. Бур ходит прямо через Ширгарм. Аминь. Дан».
— Спасибо, капитан. Теперь скромная просьба, — Бурлак улыбнулся, — переведи все это на русский. У меня получилось полное затемнение мозгов. Что за верблюжий хан?
— А черт его знает, — признался Черкашин. — Здесь так написано: верблюд хан… или какая-то неточность. Вроде верблюжий хан.
— Мура какая-то. Но меня эта неясность волнует. Что они знают о нас такого, чего мы сами не знаем? А? Как там точно написано?
Черкашин стал заводиться. Он делал привычное дело и переводил точно. Мало ли какой шифр у духов! Он не обязан отвечать за это. Взглянул на листок с некоторым раздражением:
— Так и написано: «ух хан». «Ух» на пушту — верблюд. Что такое хан — зайцы знают.
Бурлак весело засмеялся.
— Ты что? — спросил Черкашин.
— Насмешил, а теперь «ты что». «Ух хан» — это капитан Уханов. Первая рота.
Теперь засмеялся и Черкашин.
— Действительно, иного толкования нет.
— Давай китайца, — сказал Бурлак. — Не может такого быть.
— Ты меня, майор, все-таки за мальчика не держи, — обиделся Черкашин. — Вот гляди. Черным по белому, справа налево — ч и н а й. Китаец. Слово известное. Других значений нет. А что оно здесь означает — извини, знать не знаю.
— Не торопись, — предложил Бурлак. — Нам ясно: донесение не шифрованное. А дешевый клер мы разберем. И китайца вычислим.
— Постой, постой. Кто у вас на Торатанги пошел?
— Вторая рота. Капитан Ванин.
Черкашин задумался и вдруг хлопнул ладонью по бумажке:
— Он же и есть китаец! Ван Ин!
— Ну, дают духи! Забавники! А что значит «дан»?
— Знаток. Должно быть, псевдоним агента. Теперь все ясно?
— Все. А в целом агентура у них хреновая. Во-первых, мы свои намерения, как ты знаешь, им сами обозначили со всей четкостью. И не зря, выходит. Думаю, теперь они Дарбар оставят в покое. Во-вторых, главного они все же не знают. Как на пушту «майор»?
— Джегрен.
— Так вот, дорогой. Я уже несколько дней джегрен, а они меня турэном именуют. За такое незнание взыскивать следует. Но это не к спеху. Взыщем. А пока вот в чем помоги, капитан. Ясно, что мы раскрыты. Хочу знать, что могут духи извлечь из такой информации. Что бы ты лично решил, получив такие сведения?
— Я? — Черкашин на какое-то время задумался. — Я приказал бы прикрыть все трое ворот. Иначе нельзя: идет сипасалар!
Последние слова он произнес не без заметной доли подначки. Бурлак будто ничего и не заметил.
— Хорошо, решение мудрое. Его мы и добивались. Значит, атака на Дарбар откладывается. А дальше? Как удержишь ворота? На каждом участке расставишь равные силы или…
— Вопроса нет. Сильнее всего должен быть центр.
— Почему так считаешь?
— Мне известно — по центру идет сам сипасалар Бур. Здесь главный удар.
— Так ставишь вопрос? Тогда скажи, зачем Бурлак пустил своих еще по двум направлениям сразу?
— Это не загадка. Неужели он рискнет оставить свой зад голым? Тогда ему из тех двух проходов быстро шайбу закинут.
— А что, — произнес Бурлак раздумчиво, — есть в твоих оценках сермяжная правда. Поверю.
— Куда денешься, — определил Черкашин уверенно. — Выбора у тебя нет.
— Это тоже правда. Только теперь скажи, могу я на твои выводы опираться, как на близкие к истине?
— Для этого надо знать, какой у тебя замысел на самом деле. Ты-то что решил?
— Капита-ан! — разочарованно протянул Бурлак. — Разве свои замыслы военачальники обнародуют до победы? Это же аксиома!
Черкашин понял, что допустил бестактность, и смущенно улыбнулся:
— Не пойми неправильно…
— Здесь никто ничего не понял, — сказал Бурлак. — Мы непонятливые…
Он с легким, едва уловимым чувством горечи посмотрел на Черкашина. Сейчас они расстанутся. И кто знает, свидятся ли еще когда-нибудь. В службе, которую они несут, расставаясь, люди не должны загадывать далеко. Им всегда надо быть готовыми к самому неожиданному и неприятному. Так уж ведется — военные, уходя, не всегда возвращаются…
И Бурлаку захотелось хоть как-то передать частицу своего расположения и доверия к капитану, уходившему на дело, которое он, комбат, уже не единожды побывавший в огне, не рискнул бы добровольно взвалить на свои плечи.
Черкашин думал почти о том же. Он смотрел на Бурлака и представлял, что строки душманского донесения «Бур ходит прямо через Ширгарм» ни в коей мере не рисуют тех трудностей, которые комбату предстоит преодолеть на пути до Дарбара.
Прямая пуля в грудь, внезапный взрыв мины у ног — это, конечно, ужасно, но чаще всего мгновенно. Куда труднее другое — идти вперед, идти уверенно, напористо; идти и вести за собой людей, когда ты знаешь, что где-то есть пуля, нацеленная в твою грудь, а под ногами таится мина, готовая взорваться в любой момент.
Черкашин не думал о том, что сам идет не на прогулку, что каждый его шаг будет сопряжен с опасностью. Вступая на землю рода Абдул Кадыр Хана, он оставался один на один с непредвиденным. Он начинал игру, имея в руке всего лишь единственный козырь — знание законов восточного гостеприимства. Но разве это больше, чем рядовая семерка, вытянутая наугад из колоды житейских карт? И тем не менее он делал на нее ставку.
Гостеприимство — атрибут Востока.
Гость, приходящий нежданно, — подарок аллаха, случайная радость. Заполучить такой подарок все равно что найти неожиданный клад.
В афганском языке есть специальное слово, обозначающее отношение хозяина к гостю. Если мизбани — гостеприимство, то мизбан — гостеприимец, счастливый хозяин, к которому пожаловал дорогой гость.
Гость на Востоке — персона священная. Кровный враг, оказавшийся гостем в доме семьи мстителя, может спать спокойно. По закону чести ему под крышей мизбана не должно угрожать ничто.
Конечно, это лишь идеальная схема, далекая от реальной жизни.
Чем выше место, занимаемое мизбаном на лестнице социальной иерархии, тем больше у него возможностей для нарушения законов гостеприимства.
Коронованные или венчанные владыки Востока с ласковой теплотой во взгляде были во власти поднести гостю отраву в кубке шербета.
Сиятельные беки также способны нанять убийцу, который зарежет вас в гостеприимной постели.
Как всегда, любые обязанности в этом многосложном мире, обязанности самые трудные и порой не очень приятные, честнее других выполняют люди простые, лишенные сановной знатности, а оттого честные и сердечные.
Для кочевника-пастуха добрый гость, который случайно набрел на степную кибитку, действительно нежданная радость. Свежий, начиненный всяческими новостями человек — разве это не подарок аллаха тому, кто не слышал чужого голоса уже несколько недель подряд?
Правила гостеприимства сложны и стройны. Они вроде бы одинаковы для всех, но в то же время далеки от подлинного равенства.
Бек на дорогом скакуне не сочтет за унижение остановиться и погостить в бедном стане пастуха. И тот, памятуя обычай, на ушах будет стоять, разорится начисто, но покажет вельможе, что такое мизбани по-пастушески.
Пастух, попав в город, никогда не рискнет объявить себя гостем бека. Непонятливого чудака вытурят от сиятельных дверей с таким треском, что бедняга гость долго будет потирать затылок ниже поясницы.
Тем не менее мы все верим, что законы гостеприимства на Востоке универсальны. И что больше всего потрясает — Восток сам верит в эту истину.
Черкашин, расставшись с мотострелками, отправился в гости.
Никто не присылал ему приглашения посетить стан Абдул Кадыр Хана. А он пошел.
Никто не ждал его появления, не расстилал достархана, не мыл котлов, не резал баранов, чтобы с почестями встретить гостя. А он шел.
Решиться на такое давало право восточного гостеприимства. И он шел.
Дорога ползла в гору долгим, неторопливым тягуном, который выматывал силы идущего свирепей, чем более крутые, но короткие подъемы.
На щебенке, густо усыпавшей путь, подвертывались ступни. Приходилось каждый шаг делать с большой осторожностью.
По краям дороги росли какие-то неведомые Черкашину деревья, похожие на истертые дворничьи метлы. Под ними теснились заросли колючего кустарника, пыльного и поникшего.
Отшагав в одиночестве более часа, Черкашин решил отдохнуть. Он стал уже присматривать место, чтобы присесть поудобнее, как вдруг раздался властный окрик:
— Стой!
Он остановился, не поворачиваясь назад, откуда раздался голос. Сама мысль о том, что он не видит того, кто сзади, родила мерзкое ощущение липкого страха, но Черкашин сумел сдержать себя и не оглянулся, только широко вздохнул.
Между лопаток в его спину что-то больно уперлось. Он понял — ствол винтовки или автомата.
На дорогу из-за кустов вышли два пуштуна, вооруженные автоматами и гранатами.
— Кто такой? — спросил угрюмый одноглазый мужчина неопределенного возраста.
— Советский капитан, — ответил Черкашин.
Голос его не дрогнул, а на лице не отразилось ни чувства растерянности, ни тени боязни. Он знал: одно из качеств, которое особо ценится в мужчине на Востоке, — умение не выдавать настроения, когда попадаешь в трудные обстоятельства, что называется, в переплет.
— Сбились с пути? — продолжал выяснять одноглазый. Он, видимо, был в группе старшим.
Второй пуштун, в полувоенном френче английского сукна и шапочке, сшитой из коврового материала, стоял в двух шагах сзади, не выказывая ни ненависти, пи любопытства.
— Нет, я не заблудился, — ответил Черкашин, не принимая подсказанного ему варианта. — Шел в Сарачину.
— С миром или недоброй вестью?
— С миром. — Черкашин поднял обе руки вверх ладонями вперед. — Как видите, совсем один и руки мои пусты.
— Зачем вы шли? — снова задал вопрос одноглазый. — Что вам здесь надо?
— Трудно поверить, уважаемый, — отвечал спокойно Черкашин, — но пришел я только из любопытства. Хотел проверить один слух. В Кабуле на базаре в лавке медника Амануллы мне сказали, что самые гостеприимные люди живут в кишлаке Сарачина. Но я до этого слыхал, что гостеприимство куда более свойственно кишлаку Пуза. Воистину говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я так и поступил, уважаемый. Я все теперь увидел своими глазами и могу судить о слухах сам. Я удаляюсь.
— Э-э! Так не годится, уважаемый! — Одноглазый впервые в разговоре употребил это слово. — Вы нас обидите, если уйдете, не ступив в кишлак. Проделать такой путь, чтобы уйти сразу, — это нехорошо. Будьте моим гостем.
— Нехорошо, нехорошо, — заговорил стоявший позади одноглазого воин. Он покачал головой, затряс бородой, будто укорял в чем-то пришельца.
— Надо ли нарушать ваши строгости? — спросил Черкашин с сомнением. — Я не хочу кого-то обидеть. Но в то же время не собираюсь навлекать на кишлак опасность. Говорят, Хайруллохан всюду имеет свои уши. Донесет до них ветер весть, что гостит у вас шурави турэн, быть кишлаку наказанным.
— Пусть вас не волнуют ветры наших гор, — сказал одноглазый. — Они могут носить новости куда хотят и вносить их в любые уши. Мы не боимся Хайруллохана.
— Такие вести, уважаемый, бывает приятно слушать. На земле истерзанной, среди людей измученных и напуганных встреча с кишлаком, где знают себе цену, где умеют за себя постоять, поистине подарок, который путнику дарит провидение.
— Вы говорите слова, которые приятны для ушей каждого человека нашего рода. — Это произнес мужчина в полувоенном френче. Он теперь выступил вперед, и Черкашин понял — командир здесь совсем не одноглазый.
— Мы приглашаем вас в Сарачину, — приветливо сказал обладатель ковровой шапочки.
И сразу оружие от спины Черкашина убрали.
— Благодарю вас, уважаемый, — поблагодарил Черкашин и прижал руку к груди. — Теперь позвольте поставить вас в известность. У меня есть с собой оружие. Пистолет.
Человек в ковровой шапочке улыбнулся:
— Сказано: не убивай змей чужими руками. А как может убить змею мужчина, не имеющий оружия? Ваше пусть остается с вами. Таков закон гостеприимства.
Итак, Черкашин набился в гости. В Сарачине это понимали. Но закон есть закон — гостю не требуется приглашение. Он пришел, и все теперь для него — внимание, уважение, достойный прием. А прием в самом деле был достойный.
Своим гостем Черкашина объявил арбаб — глава рода Абдул Кадыр Хан.
Этот человек был известен в Кабуле тем, что долгое время род, им возглавляемый, твердо держался нейтралитета в изнурительной войне. Абдул Кадыр Хан не поддерживал душманов, не давал им ни пополнения, ни мест для дислокации в своих кишлаках. Несколько попыток душманов принудить джиргу рода встать на сторону душманства было решительно пресечено вооруженной силой. Род умело сопротивлялся. И тогда Хайруллохан предпочел признать нейтралитет Абдул Кадыр Хана.
В то же время род не вставал и на сторону правительства. Ничто не вынуждало его к этому. Род располагался в далеком от городов районе и отличался своей изолированностью.
Несколько раз представители властей были у Абдул Кадыр Хана, подолгу вели с ним беседы, но он оставался непреклонным: «Мы сами за себя». Лишь однажды высказал мысль: «Пусть придет русский офицер. Я соглашусь, если он убедит меня». Именно поэтому товарищи из Кабула попросили советское командование выделить человека для переговоров с Абдул Кадыром. Выбор пал на Черкашина.
И вот русский офицер пришел. Даст ли это какой-то толк, Черкашин не знал.
Абдул Кадыр Хан встретил гостя на ступенях айвана своего обширного дома. Он церемонно поздоровался, выслушал ответные слова, не выразив ни удовольствия, ни раздражения.
Черкашин взглянул на Абдул Кадыра и поразился его удивительной мужской красоте. Высокий лоб, орлиный нос, седая, ухоженная заботливой рукой борода, проницательный, острый взгляд. Худощавый, стройный, без грамма лишнего веса, он выглядел намного моложе шестидесяти. Двигался легко, быстро, голову держал прямо, с достоинством кадрового военного.
Он протянул Черкашину тонкую крепкую руку, и тот увидел на кисти изящные четки, резанные из слоновой кости.
— Гостю не задают вопросов, — произнес Абдул Кадыр Хан. — Но, если позволите, я нарушу обычай. Вы, европейцы, — он не сказал «неверные», и это свидетельствовало о многом, — люди деловые.
— Спрашивайте. У меня чистые помыслы, и я их не хочу скрывать.
Арбаб одобряюще кивнул:
— Скажите, вы пришли меня и всех нас уговаривать?
Черкашин сразу понял — прямолинейный ответ может загубить дело, которого он еще и не начинал. Следовало сказать правду, но так, чтобы она не давала возможности хозяевам сразу закрыть дверь серьезному разговору.
— Я хотел бы ответить на все вопросы, которые мне задают, уважаемый Абдул Кадыр Хан. Если вы найдете мои ответы справедливыми, буду рад служить вам.
Хозяин выслушал гостя с непроницаемым лицом. Однако в душе он был крайне доволен.
Долгое время наблюдая за событиями, Абдул Кадыр Хан стал склоняться к принятию предложений правительства. И в то же время опасался, как бы кто не подумал, будто он уступает давлению, пасует. Решение, которое арбаб объявит джирге, должно свидетельствовать о его мудрости и твердости, а не о неуверенности.
Теперь глава рода видел: русский капитан не поставит его в неловкое положение грубым навязыванием чьей-то чужой точки ирония. Он человек мудрый и гибкий. Это показал его ответ, которого арбаб не мог предугадать.
Абдул Кадыр гостеприимно распахнул руки в приглашении:
— У меня сегодня счастливый день. Приехало много гостей. Это старейшины кишлаков. Думаю, вам будет приятно в таком обществе.
Он провел гостя в сад.
Стояла удивительно глубокая, безмятежная тишина. Ветер стих, и листья на деревьях сонно застыли. Запад розовел широкой полосой заката.
Они подошли к беседке, перевитой лозой. На помосте был расстелен ковер и выставлены угощения.
Провожаемый хозяином — мизбаном, — Черкашин первым вошел в беседку.
— Прошу, — сказал Абдул Кадыр. — Добро пожаловать, высокий гость.
Он приложил руку к груди, предоставляя гостю право выбрать место.
Черкашин оглядел беседку и увидел, что свободно только одно место, которое положено занимать хозяину. Понял: все ждут, как он, гость, поступит.
По существующему этикету в такой ситуации он был волен выбрать место по собственному усмотрению. Но куда более разумно поступает тот, кто чтит хозяина и понимает, что гостеприимство исходит именно от него.
Черкашин благодарно склонил голову и произнес:
— Счастье мое будет полным, если уважаемый Абдул Кадыр Хан займет подобающее место, а мне укажет мое. Прошу вас, хан, сесть первым.
Абдул Кадыр торжественно опустился на приготовленные ему подушки и огладил бороду.
Черкашин присел рядом на освобожденное для него место. Он заметил, с каким пристальным вниманием следили за ним приближенные главы рода. Сесть, подогнув под себя ноги, а особенно просидеть в такой позе какое-то время, для европейца нелегкое испытание. Черкашин был к нему готов.
Легкость, с которой он устроился на ковре, произвела благоприятное впечатление. Что ни говори, а всегда доставляет удовольствие ощущать, что сидишь рядом не с притворщиком и лицемером, а с человеком, который понимает, что сидеть подогнув ноги на полу куда приятнее, чем развалиться на шатком стуле и болтать пятками, не достающими пола.
Черкашин огляделся. Беседка была сделана из досок карагача — плотных и крепких. Под полом дремотно плескался арык. Из широких дверей открывался вид на сад. Его, должно быть, растили и выхаживали опытные садовники. Гранат, стоявший у входа в беседку, склонил ветви под грузом крупных краснокожих плодов. Рядом росла раскидистая слива. Зелень ее листьев была едва заметна на сине-сизом фоне богатого урожая.
— Нашего гостя, — сказал Абдул Кадыр Хан, — привело в Сарачину желание узнать, почему наш благословенный аллахом кишлак славится гостеприимством. Наш гость — человек ученый. Он отмечен даром говорить на благородном языке пуштунов.
Собравшиеся, а их было более полутора десятков, удовлетворенно закивали.
— Уважаемый… э-э… — протянул старик, сидевший неподалеку от арбаба.
Сухолицый, горбоносый, с густыми черными бровями и седой клинообразной бородой, он выглядел энергичным и властным. «Хаджи Ахмад», — догадался Черкашин, которому заранее описали облик этого влиятельного в Сарачине человека.
— Алексей, — подсказал Черкашин свое имя, произнесения которого, судя по всему, от него добивался Хаджи Ахмад.
Тот ничем не выразил своего отношения к подсказке и, как ни в чем не бывало, продолжал:
— Уважаемый Алексей хан, вы наш гость, и мы рады вам. Только скажите правду. Мы знаем, что множество шурави проследовало к горам. Вы в самом деле шли в Сарачину или случайно выпали из военной машины и потом решили зайти к нам?
Вопрос был оскорбительным. Гостю такие обычно не задают. Обидевшись, он мог встать, назвать хозяев людьми негостеприимными и уйти. Пятно, павшее на дом, в таком случае сохраняется надолго. Скорее всего, подобной реакции и добивался Хаджи Ахмад. Поддаваться ему Черкашин не собирался. Он знал: унизить можно лишь того, кто сам позволяет себя унижать.
— Не хочу вас обидеть невежливостью, — обратился Черкашин к Хаджи Ахмаду, — но я отвечу на ваш вопрос не сразу. Я хорошо понял течение вашей мысли, вдохновленной аллахом, и знаю свой ответ. Однако сначала позвольте мне осведомиться о здоровье уважаемого хозяина Абдул Кадыр Хана, да благословит аллах его славный род.
Черкашин оглядел собравшихся и понял: его ответ воспринят с не меньшим удовольствием, чем предшествовавший вопрос. На Востоке любят словесные сшибки такого рода.
Абдул Кадыр Хан улыбался в ухоженную бороду. Хаджи Ахмад, напротив, раздраженно поджал губы. На лицах многих гостей, до того напряженных, появилось выражение спокойного созерцания.
Взгляд Черкашина остановился на одном мужчине, сидевшем в тени и державшемся подчеркнуто незаметно. Он иронически улыбался, но, когда их глаза встретились, одобряюще кивнул.
Где же Черкашин его встречал? Знакомый овал лица, глаза… Нет, вспомнить трудно. И вдруг как озарение: да это же поханд Абдулхан с базара в Мабде! Он самый. Только одет сейчас совсем по-другому.
Черкашин вежливо наклонил голову, давая понять профессору, что узнал его.
Теперь заговорил Абдул Кадыр Хан. Он поблагодарил гостя за внимание к его делам, за пожелания роду добра. И в свою очередь спросил, где гость так хорошо изучил пушту. В Москве или другом городе?
— Я азиат по рождению, — ответил Черкашин с подчеркнутой гордостью. — И язык вашего доброго народа учил на родине — в Средней Азии.
— Прошу простить нашего друга Хаджи Ахмада, — сказал Абдул Кадыр, — но вы посмотрите, он горит от нетерпения. Прошу вас, ответьте на его вопрос.
Черкашин повернул голову к Хаджи:
— Готов удовлетворить ваше любопытство, унижаемый.
Хаджи надменно кивнул.
— Сюда, в Сарачину, меня привел интерес к людям и кишлаку…
— Хитрый вор, — сказал Хаджи Ахмад, обращаясь не столько к Черкашину, сколько к Абдул Кадыр Хану, — если хочет что-то украсть, то сперва изучает, как устроен замок и где стоит стража.
— Мой интерес иного толка, — возразил Черкашин спокойно. — Меня мало интересует, где стоит ваша стража и где хранятся ваши богатства. Больше того, скажу, что охраняете эти богатства вы плохо. Потому что истинная ценность народа — в памятниках его прошлого и делах настоящего. Ваша страна древняя, и я знаю ее историю неплохо. Например, могу рассказать, где стояла стража в Сарачине, когда сюда впервые пришли ангризи. Но еще интереснее для меня самое древнее — храмы огня, письмена на скалах, старые книги. Богатство культуры, которую создал ваш народ, не упрячешь в мешок. Она обогащает ум и чувства людей, прикоснувшихся к ней. Человек, который видел мавзолей Ходжи Абу Наср Парса или девятикупольную мечеть Ну-Гумбед, становится богаче, не взяв даже пылинки с порога этих чудесных творений гения. А разве не восхитят понимающего миниатюры Шах-Музаффара, Мирак Наккоша, Камалетдина Бехзада?
— Таким путникам мы рады, — сказал Хаджи Ахмад с понимающим видом. — Но мы, пуштуны, народ гордый. Мы стреляем, когда видим, что идут чужие солдаты.
— Да, я знаю. Неделю назад у кишлака Пуза обстреляли нашу машину. Сделали это совсем не душманы…
— Мы не попадали.
— Зачем же тогда стрелять?
— Если человек пришел с товарами — мы знаем, он купец. Если у него ружье и пулемет — значит, пришел воевать. Купцу — деньги, солдату — война. Все у нас есть для всех. Кто придет, тот свое и получит. Мы не привыкли подставлять левую щеку, если ударили по правой. Здесь мы бьем сразу, а потом выясняем, по какой щеке нас хотели ударить. Если шел с оружием, значит, собирался стрелять.
— Вы очень понятно мне объяснили, — сказал Черкашин. — Спасибо.
— Объясните мне так же понятно: зачем пошла на Дарбар такая сила? Чтобы принести новое горе пуштунам? — Хаджи Ахмад произнес эти слова зло. Очень зло. Было ясно — хочет разозлить Черкашина, вынудить его на ответную грубость.
Абдул Кадыр Хан мог легко прекратить эту пикировку, пользуясь правом хозяина, но он выжидал. Шурави турэн держался уверенно, чем выигрывал в глазах окружающих. А от этого выигрывал и сам арбаб. Именно Хаджи Ахмад сейчас противостоял сильнее других новым веяниям и противился тому, чтобы род объявил конец нейтралитету.
Черкашин уже достаточно ясно представлял расстановку сил и потому также понимал, кому будет на пользу его небольшая победа в споре. Однако для этого она должна быть не только убедительной по логике, но и красивой по словесному облачению.
Восток любит слово, умеет ценить его внутренние достоинства — звонкость, образность, окрыленность. Искусство плести слова — сладкоречие — считается здесь даром, лежащим на грани возможного. За сладкоречием следует поэзия — искусство, на которое поэтов вдохновляет сам шайтан.
Сохраняя бесстрастность голоса, чтобы не выдать свое торжество — уж слишком открыто подставился ему Хаджи Ахмад, — Черкашин ответил:
— Рассказывают, уважаемый Хаджи, что некий человек, никогда не видевший коровы, повстречал ее в поле. Заметил он большие острые рога и страшно перепугался. Взял и убежал подальше. Потом, когда ему объяснили, что бояться нечего, что корова совсем иначе выглядит с хвоста, он удивился: коли все ее добро в вымени, то зачем животному рога? Мне кажется, уважаемый Хаджи Ахмад, те люди, которые принесли весть о том, что шурави пошли на Дарбар, также никогда не видели хорошей коровы. За войсками, в которых они узрели рога, в уезд тянется большое доброе вымя. Это триста машин с керосином, крупой, мукой. С цементом…
Шорох одобрения встретил его слова. Хаджи помрачнел. Этот русский не назвал его слепцом. Но все поняли, что он, Хаджи, видит лишь то, что захочет. Он различает рога, но не признает, что это рога коровы, которой аллах дал такое оружие для защиты своего молока.
Теперь Абдул Кадыр Хан счел нужным вмешаться. Кто знает, сумеет ли русский еще так же убедительно приложить Хаджи Ахмада или нет. Поэтому пусть в памяти людей он останется победителем. Это полезно для дела.
— Я хотел бы, уважаемый гость, выслушать ваш совет. Правительство предлагает нам переговоры. Но есть уважаемые люди, которые выступают против них. Что вы посоветуете Сарачине?
Арбаб внимательно посмотрел на Черкашина. Тот не успел ответить, как в разговор снова вмешался Хаджи Ахмад:
— Вести переговоры, когда дело касается чистоты веры, недостойно, противно аллаху.
— Мне трудно с вами спорить, достопочтенный, — сказал Черкашин, обращаясь к Хаджи. — Для вас страницы священной книги — Корана открыты и не таят неожиданностей. Тем не менее осмелюсь возразить. Если аллах предопределяет судьбы людей, то и переговоры им предначертаны. Более того, любые переговоры, даже если они о чистоте веры и ее догматов, перед лицом аллаха возможны и угодны.
— Две причины толкают людей на спор — самоуверенность и безрассудство, — сказал Хаджи Ахмад с укоризной. В душе он торжествовал. Кяфер сам встал на почву, где его легко сбить с ног. В богословии Хаджи чувствовал себя прочно. — Мудреца не украшает ни то, ни другое.
— Как говорят, уважаемый, курицу оценишь только на блюде. А вы не хотите даже взглянуть на яйцо, которое может принести цыпленка.
Абдул Кадыр Хан хлопнул в ладоши. Ответ турэна ему понравился.
— Прошу, говорите, — сказал он разрешающе. — Мизбани позволяет гостю сказать все, что он пожелает. Близится время намаза, и аллах отпустит вину того, кто услышит греховное.
— Благодарю, хан, — сказал Черкашин. Он приложил правую руку к груди и слегка поклонился. — Ваш гость не собирается ввергать в грех слушающих его. Я лишь осмелюсь напомнить правоверным случай, когда пророк Мухаммед оспорил решение самого аллаха. Если буду не прав, поднимите руку, уважаемый Хаджи, и я умолкну.
— Мы принимаем условие, — одобрительно кивнул Абдул Кадыр. — Говорите. Мы слушаем.
— Сказано в Книге, что это случилось, когда пророк предстал перед всемилостивым и тот повелел мусульманам совершать намаз пятьдесят раз в день. Тогда пророк Муса дал Мухаммаду совет оспорить предопределение. Было так или я не прав?
— Писание знает это, — сказал Хаджи Ахмад, — гость не ошибся.
— Аллах выслушал пророка Мухаммеда и уменьшил число обязательных намазов до пяти в день. Только потому, что состоялись переговоры по одной из фундаментальных основ ислама. Более того, пророк Муса рекомендовал Мухаммаду поспорить с аллахом еще раз. Он считал, что и пять намазов много. Но Мухаммад счел, что этого достаточно, и больше не просил аллаха о снижении числа молитв. Разве отсюда вытекает, что переговоры, которые сулят мусульманам благо и выгоду, не угодны аллаху?
И снова, выручая Хаджи Ахмада, в разговор вмешался Абдул Кадыр Хан.
— Дорогой наш гость, — сказал он раздумчиво и погладил бороду, — вы смотрите только в одну сторону, где лежит Кабул. Но здесь, рядом с нами, ходит Хайруллохан. За его спиной тоже немалая сила. Мои люди о ней знают, ее видели. Может, нам все же лучше не портить отношения с теми, кто силен и находится рядом?
— Ваша правда, уважаемый хан, — ответил Черкашин. — Хайрулло — душман сильный. Только умные советуют: не хвались силой — найдется более сильный; не хвались умом — придет более умный.
— Кто же сильнее Хайрулло, по-вашему? — спросил Хаджи Ахмад. — Уж не те ли ваши, которые со стороны Кабула пришли в наши места? Так их совсем немного.
— Нет, уважаемый Хаджи Ахмад. Я не тех, кто пошел на Дарбар, имею в виду. Умный сказал, что хозяин в своем доме всегда сильнее врага. Здесь, в этих горах, — Черкашин плавно повел рукой в сторону вершин, — и в этих долинах, — он указал вниз, где зеленели квадраты садов и полей, прорезанные арыками, — здесь хозяева афганцы. Пуштуны. В том числе и ваш род, уважаемый Хаджи. Поэтому Хайрулло — извините, во рту горчит от такого имени — не сильнее вас. Он слабее. Ибо его сила — те же афганцы. Только обманутые саркардой. И когда они поймут обман, то отшатнутся от душманства. У других со временем спадет сила испуга, который на них нагнал Хайрулло. Они увидят, кто истинный хозяин на родной земле. Тогда всем ашрарам придется туго.
— Вы все время говорите «вас», — неожиданно вмешался в разговор Абдул Кадыр Хан. — К чему это? Наш род стоит в стороне от всего, что происходит вокруг. А вы словно нас всех объединяете с теми, кто против Хайруллохана.
— Я не ошибаюсь, когда говорю «вы». Да, сегодня род ваш стоит в стороне. Сам вижу. Но это сегодня. У нас говорят: утро вечера мудренее. Я не знаю, что будет завтра. И потом, когда с гор падает бурный поток, озеро в долине может некоторое время стоять в стороне. Но только некоторое время. Потом в него все равно вольется поток. Вода — везде вода. Озеро вашего рода еще не затронуто общим движением племен. Но от этого движения нельзя укрыться за крепостными стенами или за горами.
— Вы нам будто бы угрожаете? — спросил Абдул Кадыр Хан с какой-то леностью в голосе.
Стало тихо. Приближенные знали, что именно эта леность выдавала напряжение, за которым у хана неизбежно следовала вспышка гнева.
— Я только рассказываю о том, что вижу, — сказал Черкашин спокойно. — И разве угроза, если поток, о котором я говорю, — это народ Афганистана? Это гильзаи и момаиды, вардаки и африди. Это шиявари, вазиры, попользаи. А озеро — ваш род. Такие же афганцы, такие же смелые, гордые люди, как и те, которых я вижу вокруг.
Арбаб расслабил пальцы, сжавшие подушку, на которой сидел.
— Ваши слова, уважаемый шурави, — сказал он твердо, — мне нравятся. Я вижу в них немало смысла.
Тут снова в разговор вмешался Хаджи Ахмад. Обращаясь к гостю, он сказал с подозрением:
— Вы, шурави, говорите горячо, будто примирение сулит вам личную выгоду. Она есть?
— Да, — ответил Черкашин уверенно. — Без сомнения, такая выгода у меня есть.
Сидевшие вокруг зашевелились. Откровение русского офицера было крайне неожиданным. На Востоке, когда купцы о чем-то торгуются, каждый держит свою выгоду в уме и, убей его, разорви на части, никогда не признается, в чем она. Шурави сказал о своем интересе прямо. Что он, хитрит или просто не в своем уме?
— В чем же ваша выгода? — спросил Хаджи Ахмад вкрадчиво.
— Когда наступит замирение, — ответил Черкашин, — и снова в стране пуштунов станут править те, кто заинтересован, чтобы в арыках текла вода, а не кровь, когда коровы смогут сохранять свое молоко, не угрожая рогами, мы, шурави, вернемся домой. Мы ждем этого дня. Торопим его. Верим, что он не за горами. Вот моя и моих товарищей выгода.
Пока шел серьезный разговор, бесшумные слуги расставили перед беседующими угощение. Абдул Кадыр Хан внимательно следил за приготовлениями к трапезе, лишь изредка движением руки подавая своим людям какие-то знаки. И вот, сочтя, что все готово, он приподнял вверх обе ладони:
— Аллах да благословит нашу пищу, уважаемые гости.
Он прикрыл лицо руками и пробормотал молитву. Все последовали его примеру.
— Угощайтесь, — сказал мизбан Черкашину. — Мне крайне приятно видеть вас в числе гостей. Ваша искренность была многим уроком. Угощайтесь!
Он подвинул к капитану блюдо с красным мясистым перцем. Сам взял стручок, ловко отправил его в рот и с видимым наслаждением закрыл глаза. Руки остальных гостей тоже потянулись к перцу.
Черкашин выбрал стручок помясистей, положил в рот, раскусил без всякой опаски. Сразу полыхнуло в глазах, будто в рот плеснули кипятком. Поперхнувшись от неожиданной горечи, он перестал на мгновение жевать и поглядел на хозяев. Никто не обращал на него никакого внимания. Все тянули руки к блюдам и сосредоточенно разжигали в желудках огонь, подкидывая туда стручок за стручком.
Давясь и скверно обзывая себя, Черкашин с трудом, уже не жуя, проглотил пламя, бушевавшее во рту, и протянул руку к пиале с напитком. Пил, не чувствуя облегчения. Все внутри горело, словно обожженное красным углем.
«О аллах, — подумал Черкашин с улыбкой, — ты поистине велик, если творишь сладкое в больших сосудах в виде дынь и арбузов, а горькое вливаешь в маленькие вместилища в виде перечных стручков и горошин, красивых, но жгучих».
Занятый собой, он не заметил, как появился посыльный и вызвал куда-то Хаджи Ахмада. Тот встал и мягкими шагами горного барса вышел из беседки через боковой вход.
Некоторое время спустя он вернулся и подошел к арбабу. Нагнулся, стал что-то горячо шептать ему на ухо. Абдул Кадыр Хан нахмурился, помрачнел. Потом поднялся, извиняясь, сказал гостям:
— Прошу снисхождения, но неотложные дела вынуждают меня на некоторое время оставить вас. Угощайтесь, дорогие гости. Окажите честь этому дому…
Черкашин понял — случилось нечто серьезное, и невольная тревога охватила его.
Предчувствие не обмануло.
Абдул Кадыр Хан вернулся минут через пятнадцать. Темный как туча, он прошел и сел на свое место. Хлопнул в ладоши, прося внимания. Сказал сухим, жестким голосом:
— Наши люди привели двух проклятых дарамаров. Третий убит ими. Эти кровавые гиены стреляли в мечети. Убили муллави Сайда. Убили базгара Музаффара. Надругались над его женой. Убили трех молящихся в мечети. Тяжкие преступления грязных собак заслуживают строгой кары. Я бы сейчас назначил ее. Но есть обстоятельство. Эти дарамары — шурави. Может ли наш гость дать такому преступлению объяснение?
Черкашин встал. Одернул китель.
— Пусть их приведут, — сказал он твердо, тоном таким же, каким сам арбаб произнес обвинение. — Если все то, что было сказано, правда, я сниму с вас бремя гостеприимства, уважаемый хан. Поступайте со мной по своему усмотрению.
Уверенный тон и спокойствие гостя понравились Абдул Кадыр Хану. Выражение лица его смягчилось. Повернувшись к выходу, он хлопнул в ладоши.
В беседку, подталкиваемые прикладами, вошли двое. Они тяжело волочили ноги. Это были Матад Рахим и Мирзахан. Их вид свидетельствовал о том, что они в полной мере вкусили плодов крестьянской «любви» к бандитам, попробовали кулаков и палок.
Черкашину одного взгляда хватило, чтобы распознать коварный маскарад. Но он все же подошел к пленным.
— Что, шпана? Чем объясните свое здесь появление?
Оба дарамара тупо молчали.
— Уважаемый Абдул Кадыр Хан, — сказал Черкашин, — мне кажется, что в вашем присутствии эти подлые трусы забыли совсем русский язык. Но я надеюсь, что они быстро вспомнят пушту, если вы сами зададите им вопрос.
Абдул Кадыр поднял руку. К нему подошел молодой пуштун, перепоясанный патронташем.
— Исмаил, уберите их! — приказал арбаб. — И обоих повесьте.
Он запустил руку в карман, достал оттуда три удостоверения личности. Протянул Черкашину:
— Возьмите это. Нам не нужны такие бумаги. Может, вам пригодятся.
Заметил, что бандиты еще не уведены.
— Исмаил, почему дарамары еще не висят? — И снова повернулся к Черкашину: — Души повешенных недостойны рая.
Машад Рахим, словно очнувшись, наконец понял, что судьба его решена.
— Ты продался! — закричал он визгливо на арбаба. — Продался красным! Ты заодно с кяферами! Аллах тебя покарает, старый верблюд!
В исступлении он кинулся на землю, стал колотить ее руками, кусать. Перекошенное лицо почернело. Борода перемазалась в грязи.
— Будь ты проклят, кяфер! Будь ты проклят!
Зрелище было отвратительным.
Абдул Кадыр Хан не спешил его прерывать. И только когда дарамар стих, расплескав остатки сил, арбаб подошел и брезгливо пнул его в бок ногой.
— Посмотрите на эту падаль, уважаемый Хаджи Ахмад, — сказал он раздумчиво. — Этот сын змеи и шакала — пуштун. Его опознал Сайд Шахамат. Он назвал его Машад Рахимом, который служил у Фарахутдина. Об этом палаче наши люди тоже наслышаны.
Хаджи Ахмад слушал молча, кусая тонкие, злые губы.
— С такими поганцами нам не по пути. Мы соберем джиргу и обсудим предложения правительства.
Арбаб повернулся к Исмаилу:
— Уберите эту падаль.
Черкашин выступил вперед:
— Не стану вмешиваться в ваши распоряжения, высокочтимый хан. И все же разрешите сказать.
— Милостиво прошу, уважаемый шурави. Гостю в моем доме первое слово. Гость — выше хозяина.
— Мне кажется, что вместе с душами дарамаров может уйти в иной мир великая тайна. Мы никогда не узнаем, как зовут тех, кто послал сюда этих шакалов. Не узнаем, кто одел их в форму солдат шурави. Кто приказал им убивать братьев. Почему они ворвались в храм? Прошу, сохраните им жизнь до суда.
— Быть посему, — сказал арбаб, — да благословит аллах нашего гостя!
К Черкашину подошел поханд Абдулхап. Как старому знакомому церемонно протянул ладонь. Они обменялись рукопожатием.
— Вас удивляет мое появление здесь? — спросил профессор. — Все очень просто. С одной стороны, Абдул Кадыр Хан мой двоюродный брат, а Сарачина — родной кишлак. С другой — я здесь как представитель народной власти. Приехал убедить брата, что с глупым нейтралитетом пора кончать. Но вам это удалось сделать лучше. — Спасибо, — поблагодарил Черкашин. — Боюсь, вы преувеличили мою роль. После больших дождей даже семя, которое бросит в землю младенец, и то всходит.
* * *
Вечером, провожая Черкашина в комнату, отведенную для отдыха, Абдул Кадыр задержался у него.
— Прошу вас, уважаемый друг, — сказал он, повинно склоняя голову, — во имя аллаха великого, простите мое лукавство и неверие. Эту игру с двумя грязными дарамарами мне не надо было вести. Только поймите правильно. Приобретая новый клинок, воин пробует его остроту в ударе. Слепец, прежде чем опереться на новый посох, проверяет его прочность. Когда человек желает удостовериться, можно ли назвать кого-то другом, он старается убедиться в его искренности.
— Я вас прекрасно понимаю, — ответил Черкашин. — Во мне нет чувства обиды. Вы правы, Абдул Кадыр Хан. В такое время, бурное и опасное, на друга надо крепко надеяться. Иначе какой же он друг?
Утром они прощались.
С гор, омытых ночной грозой, тянул пронизывающий ветер. Абдул Кадыр Хан вышел проводить Черкашина, закутавшись в черную шерстяную накидку.
— Как вы пойдете на Дарбар? — спросил он, и Черкашин понял, что лукавить в ответе нельзя.
В горах хозяин знал все и легко мог представить, как можно и как нужно идти. Он был способен подсказать верные и безопасные тропы, предупредить о всяческих неожиданностях.
— Не хочу от вас ничего утаивать, уважаемый. Дарбар не в степи лежит. Путей к нему не так уж много. Пойдем по тем, которые есть.
— Сразу по всем трем дорогам? — спросил Абдул Кадыр. — Я так понял?
— Да, хан. По всем трем. Посмотрим, какая из них будет короче и удобнее.
— Кто командует шурави в этом походе?
— Джегрен Бурлак командует, — сказал Черкашин и по инерции, вполне естественной для обстоятельств, чуть не добавил: «Да благослови его победы аллах». Но вовремя сдержался.
— Мы слыхали о таком, — сказал Абдул Кадыр Хан. — Люди говорят о нем хорошо. Он справедливый. Душманы зовут его Бур. Есть такое ружье у пуштунов. Друзья называют его «сто тысяч ружей».
Черкашин замер от удивления. В самом деле, «лак» — по-афгански «сто тысяч». Как он сам не догадался до такого толкования фамилии! Вот бы мог подзадорить комбата!
— Пусть аллах не оставит вас в деле, которое угодно пуштунам, — напутствовал его Абдул Кадыр. — Человек в пустыне — песчинка, подвластная ветру. Но она хранит свою твердость и противостоит стихии. Человек в скалах — слезинка, зависящая от дыхания шайтана. Нам бы не хотелось терять друзей, едва их приобретя. Поэтому обещаю вам: не остерегайтесь со спины в правом проходе. Смотрите вперед. Наш род не причинит вам зла и закроет спину. Сегодня мы собираем джиргу.
Молодой мужчина, с лицом строгим и гордым, подвел к арбабу двух коней — вороного, тонконогого скакуна и гнедого, широкогрудого дальнохода.
— Исмаил проводит вас до Жердахта, — сказал Абдул Кадыр. — Мы ждем вас в гости после возвращения из Дарбара.
Они скупо, по-мужски обнялись.
Черкашин поставил ногу в стремя, легко сел в седло. Конь, играя, норовисто вскинулся на дыбы, будто пытался проверить способности всадника. Алексей взял его бока в шенкеля, осадил поводом и рывком послал вперед. Вороной с радостью принял посыл и резво взял коротким галопом. Черкашин ослабил повод и перевел коня на широкую рысь.
Сарачина быстро удалялась…
УЩЕЛЬЕ ТОРАТАНГИ. ЗОНА ДЕЙСТВИЙ БАНДЫ ПАДШАХА
От «зеленки» предгорья крутыми ступенями уходили на юг и вытягивались огромным острогорбым хребтом. С востока и запада спину застывшего гиганта расчленяли, но нигде не прорезали насквозь многочисленные лощины и ущелья, звон воды в которых слышался в период дождей и таяния снегов. Зато по ущелью, залегшему вдоль главного хребта, постоянно текла река. Она мелела в сушь и набирала силу при избытке влаги. В такие периоды ущелье становилось непроходимым, а все, что разлив захватывал на своем пути, исчезало навеки.
Черное ущелье — так называли в народе опасное, гиблое место.
Выбегая в долину, река умеряла напор и разливалась по множеству больших и малых арыков. «Зеленка» — богатый оазис, раскинувшийся на глинистых землях, — была обязана своим существованием только потоку.
Рота капитана Ванина шла на Торатанги. Рядом с капитаном сидел на броне бэтээра пуштун проводник сержант афганской армии Рашид. До призыва он работал водителем на трассе, связывающей Кабул с Советским Союзом, и потому сносно говорил по-русски.
С противоположной стороны устроился майор Полудолин. Он впервые наблюдал за людьми, которые ожидали боя. И удивлялся своим маленьким открытиям.
Разговорчивый и общительный в обычных условиях, рядовой Шильников сейчас молчал. Остановившийся взгляд его ничего не выражал. Солдат сидел, сжимая автомат, положенный на колени. Наоборот, молчаливый Костин, из которого в иное время слова клещами не вытянешь, держался возбужденно, дергано. Он примостился рядом с Рашидом и буквально терзал его вопросами.
— Давай, друг, скажи. Как по-вашему сестра?
— Хор.
— Брат?
— Врор.
— Хор — врор. Запомнил. Теперь — мать.
— Мор.
Костин с подозрением взглянул на Рашида: не разыгрывает ли? Спросил с подковыркой:
— Слушай, а слово «вор» у вас есть?
— Есть, — сказал Рашид и опустил ладонь к колену, отмеряя метр роста. — Вор — это такой. Маленький. Совсем небольшой.
— Ну, братцы, — удивился Костин. — Вор врор. Или врор вор — блеск!
Вдоль дороги тянулись безрадостные каменистые осыпи. Казалось, колонна идет по одному и тому же пути, даже не пытаясь сойти с круга. Сухой, колючий ветер обдувал крутолобые взгорья. Их вершины курились красноватой пылью. Она оседала на лицах, припорошивала броню, забивала воздушные фильтры двигателей.
Справа по ходу колонны лежало гладкое, покрытое трещинами глинистое пространство. Палящее солнце перекалило землю, и она угнетала взор свой мертвенностью. Ни птица не пролетала здесь, ни полевая мышь не пробегала.
В расчетное время пришли к «воротам» — устью мрачного ущелья Торатанги. Здесь надлежало ждать приезда майора Бурлака из урочища Жердахт.
Капитан Ванин рассредоточил «броню» — бэтээры — и стал готовить разведку. Для этой цели он выделил взвод лейтенанта Хабалова — прочно сбитого, ладно скроенного осетина. В быту хмурый, неразговорчивый, он преображался в бою: светлел лицом, горячился, становился остроумным и веселым.
Построив взвод, Хабалов оглядел солдат. Заметил одного, не надевшего боевой жилет. Предупредил в меру строго:
— «Слюнявчики» надеть всем!
Кто-то невидимый, изменив голос, спросил из второй шеренги:
— А подгузники дадут?
— Сержант Безухов, — поинтересовался Хабалов деловым тоном, — подгузники захватили?
— Никак нет, — серьезно ответил Безухов, не уловив юмора.
— Тогда, Смоленцев, если опасаетесь, снимите перед боем штаники. На всякий случай.
Строй качнуло взрывом смеха.
— Не очень он грубо? — спросил Ванина Полудолин, слышавший весь разговор.
— Вы о чем? — не сразу понял вопрос Ванин.
— О штанцах.
— А, это… Нет, товарищ майор. Шутка сейчас нужна, чтобы сбить напряжение. Люди в дело идут. Хочешь не хочешь, некоторые чувства у них заторможены. Причем накрепко. Расскажи им сейчас анекдот с намеками — не улыбнутся. Грубая опасность и мягкий юмор — несовместимы. Для понимания намеков нужно спокойное восприятие жизни. Намеки как бы дополняют удовольствия быта удовольствиями остроумия. А грубость, что бы там ни доказывали диссертанты об эстетическом воспитании воина, в боевой обстановке утверждает волю к жизни. Я не могу объяснить почему. Но скажу точно: в грубом деле проще тому, кто сам грубоват. Не раз и не два видел, как в пылу боя люди сами подбадривают себя крепкими выражениями.
— Есть над чем подумать.
— Да и думать уж некогда. — Ванин окликнул взводного: — Лейтенант Хабалов! Кто у вас в головном дозоре?
— Рядовые Максюта и Морозов, — доложил офицер.
— Пусть подойдут ко мне.
Солдаты, выйдя из строя, приблизились к ротному.
— По вашему приказанию…
— Вижу, — махнув рукой, сказал Ванин. — Прибыли. — И обратился к Полудолину: — Разрешите, товарищ майор, поговорить с разведкой?
— Меня здесь нет, — ответил Полудолин недовольно. Ему и самому сейчас хотелось что-нибудь сказать солдатам, но положение, в которое он себя поставил, подсказывало — лучше предоставить ротному полную свободу действий. И поучиться, если можно. — Действуйте, как считаете нужным.
Ванин полуобнял рядового Максюту и отвел его на несколько шагов в сторону.
— Задание представляешь?
— Так точно.
— Не боишься?
— Не-е. — Максюта смотрел на командира широко открытыми светлыми глазами. Рыжеватые брови его выгорели до соломенного отлива, их почти не было заметно, и оттого лицо казалось безбровым.
— Нормальный человек должен что-то чувствовать, — сказал Ванин.
Солдат понял, что лукавство ни к чему. Игра (если то, что они собирались делать, можно назвать игрой) предстояла серьезная: или — или. Обманывать себя и других, выставлять мраморное спокойствие напоказ вряд ли стоило.
— Если честно — не знаю. — Максюта опять открыто посмотрел на ротного. — Боюсь или нет — как узнать?
— Здесь, — капитан прижал руку к сердцу и провел ее легким движением по дуге поперек живота, — здесь западает?
— Свербит, когда подумаю, — ответил солдат, но зная, как точно определить ощущение неясной пустоты, в которую временами окупалось сердце.
— Ладно! — Капитан похлопал солдата по спине. — Ни пуха тебе, ни пера, рядовой Максюта.
— Иду к черту, — усмехаясь, ответил солдат. — Куда денешься. Иду к духам.
Ванин подошел к Морозову:
— Ну а ты как?
Солдат смущенно замялся:
— Не знаю, товарищ капитан, что сказать.
— Скажи самое главное.
— Я?.. Я побаиваюсь.
— Я тоже, — признался капитан. Встретил недоверчивый взгляд солдата. — Не веришь? Нет? Зря! Только мне труднее, чем тебе, Морозов. Ты посетовал ротному, а я кому?
— Вы шутите.
— Какие уж тут шутки! Знаешь, музыку перед делом слушать не могу. Заиграет радио, а у меня вот здесь, — капитан подсунул свой большой кулак под подбородок, — комок. Не проглочу.
Солдат смотрел на ротного с нескрываемым удивлением. Не потому, что не верил, будто у того могут быть чувства. А потому, что тот так свободно говорил о вещах, которые не принято открывать другим. Обычно каждый со своими страхами предпочитает оставаться один на один, стараясь не выдать их товарищам, если они сами вдруг не выплеснутся наружу срамными поступками.
— Что же вы делаете?
— Готовлюсь, мой друг. Ночью посты проверяю. Все равно сна нет. Как подумаю, что может быть, — аж пот прошибает.
— А в бою?
— Э, Морозов! В бою я уже ни о чем не думаю, кроме дела. Тут по-нашенски: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Еще отец так учил. Он у меня в погранвойсках служил. С бандами тоже дело имел. Что такое долг и честь, в нашей семье мужики знают крепко.
— Можете надеяться, — сказал солдат с упрямой ноткой в голосе, — Морозовы тоже знают.
— Вот и договорились. Главное, ребята, работайте с разумом. Думайте, прежде чем шевельнуться. Ясно?
Через пять минут, получив последние наставления, дозор направился под черные стены ущелья.
Река и дорога здесь соседствовали с незапамятных пор. Они то сближались, то, вроде бы надоев друг другу, разбегались. И опять-таки лишь для того, чтобы вновь сблизиться.
Там, где скалы сдвигали крутые плечи, дорога подходила к самому краю потока, и ветер, срывавший с гребней брызги, забрасывал их на солдат.
На скалах лепились пятна лишайников. Местами поток перекрывали могучие глыбы, сорвавшиеся с круч. Большинство этих глыб вода обработала, обкатала до блеска, но были и свежие, остроугольные, оторвавшиеся от массивов каких-нибудь двадцать — тридцать лет назад. Они пугали своей необтесанностью и ненужностью. Вода возле них вела особенно свирепую игру, бушевала с утроенной силой. Она билась о камни, расплескивалась яростно во все стороны и даже на дороге оставляла непросыхающие лужи.
Разведчики продвигались шагах в двух один от другого, держа автоматы на изготовку.
Тропа тянулась под скальным навесом, то скрываясь за камнями, то снова выбегая из-за них. Под ногами шуршали угловатые ломкие камни. Идти было тяжело. У крутого поворота, не выходя из-за уступа скалы, Морозов поднял бинокль. Взору открылась картина дали, полная дикой первозданности. Над речным потоком громоздились мрачные кряжи, пересыпанные огромными обломками скал. Темный провал ущелья курился светлой дымкой. Справа от дороги, словно бастион, высилась каменная пирамида. Очертания искусственного оборонительного сооружения ни с чем нельзя было спутать.
— Пульни-ка, — сказал Морозов Максюте. — Что-то не нравится мне эта картинка.
Грохнул выстрел. В безбрежности гор он не казался оглушительным. Эхо, отраженное от ближайшей скалы, возвратилось негромким хлопком.
И вмиг каменная пирамида замерцала белым огнем.
— Точно. Пулемет, — сделал вывод Максюта. — Сидит, гад.
Он снова поднял автомат и послал еще одну пулю вдоль дороги. И опять клепальным стуком ответил душман.
— Похоже, один, — предположил Морозов.
— А на кой шут здесь лишний народ, — изрек Максюта. — Тут и один дух справится, будет год роты держать. Абы патроны да харчи были.
— Надо его выкурить, — сказал Морозов. — Пока наши не подошли.
— Может, все же подождем?
— Пока ждать будем, духи могут тоже подойти. Надо брать, пока там один.
Пулеметчик занял позицию — лучше не выбрать. Он примостился в груде валунов, и теперь вся узкая тропинка простреливалась насквозь. Побеги по ней крыса, и ту снять выстрелом не составит труда.
Зная свои преимущества, душман всячески их демонстрировал. Пустит по дороге две-три пули, сметет пыль и замолчит. Потом для острастки кинет очередь по воздуху, в полуметре над дорогой, и опять умолкнет.
— Здесь мы с тобой и ляжем, — сказал Максюта мрачно. — Против лома нет приема.
Короткая очередь и свист пуль подтвердили его правоту.
— Смолит, зараза, — сквозь зубы произнес Максюта. — Упорный, гад.
— Ничего, Коля, я его сделаю. Как в кине.
В голосе Морозова прозвучала такая веселая отчаянность, что Максюта неожиданно подумал: «А ведь сделает, если возьмется. Не может не сделать, коли так накалился». И все же вслух сказал:
— Погоди, не спеши. Мой батя говорил: переть против рожна — сноровка нужна.
— Э, друг! Сноровка есть. Ты только отвлекай духа. Прямо по часам стриги: минута прошла — три пульки отдай. Еще минута — еще три пульки. Причем старайся прицельно, чтобы он не высовывался. По его куче бей. Пусть верит, будто ты его прямым попаданием сколупнуть собрался, да все не можешь.
— А ты? — задал вопрос Максюта, признавая, что замысел приятеля ему непонятен.
— Я его сделаю, — сказал Морозов. — Нас двое, но мы в тельняшках. Так?
Минуту спустя, прихватив три гранаты и упаковав их в полиэтиленовый пакет, оставив автомат, солдат сполз в поток.
Максюта, прицелившись, пустил первую очередь. Душман немедленно ответил ему.
Перестрелка продолжалась пятнадцать минут. Максюта держал часы перед глазами и нажимал на спуск, едва стрелка обегала круг.
Душман принял правила предложенной ему игры. Он не следил за часами, лишь отвечал на выстрелы.
По тому, как небрежно клал пули противник, все чаще пускавший их поверху, Максюта понял — пулеметчик оставлен на дороге только для прикрытия. Его задача — не пропустить по тропе никого до подхода главных сил. А раз шурави залегли и не движутся, значит, дело сделано. Пусть сидят. И враг вел себя спокойно, ничего не опасаясь.
Внезапно, совпав по звуку с душманской очередью, впереди хлопнула граната.
Максюта осторожно выглянул из укрытия и увидел Морозова, который стоял над грудой камней и махал рукой.
Подхватив автомат, Максюта бросился вперед.
Подбежав, он взглянул на товарища и захохотал. И было отчего. Морозов, промокший до нитки, с губами цвета зрелого баклажана, приплясывал на камнях, выстукивая зубами дробь.
— Кот Леопольд! — сквозь смех сказал Максюта. — Вылитый!
— Кончай! — свирепо рявкнул на него Морозов. — Я те дам Леопольд! Я герой, понял? Я такого духа сделал!
Только теперь Максюта взглянул на пулеметное гнездо и тут же отвернулся. Картина даже для солдатского взора была ужасающей…
— Раздевайся! — Максюта стал стягивать с себя куртку. — Будешь греться, герой! Как это ты его, а?
Как он? Разве ответишь на такой вопрос однозначно? И расскажешь ли вообще об этом, чтобы все выглядело так именно, как было на самом деле?
А было так.
Едва Морозов опустился в воду, ледяная волна захлестнула его с головой, сбила дыхание, ослепила.
Он привскочил, с минуту испуганно отфыркивался и плевался. Тряс головой, стараясь выбить глухую пробку из левого уха. Усиленно моргал и ругался по-черному.
Очухавшись, понял, что замерз так, что вряд ли сможет лезть по воде на расстояние, которое отделяло его от позиции пулеметчика, А лезть дальше было просто необходимо.
Махнуть рукой на неудачную попытку, пошутить, посмеяться над самим собой, вылезти на берег, начать сушиться не позволяла гордость. Понимал — презирать его не станут, но, как говорят в таких случаях, смеху будет полные штаны и через ремешок.
Стиснув зубы, Морозов снова опустился на живот и пополз по прибрежной мелкоте. Волны, набегая, перекатывались через него, но он уже знал, когда его накроет очередным валом, и не задыхался.
По его расчетам, он пробирался минут пять, когда простучала первая очередь, пущенная Максютой. Тот всегда отличался точностью. Значит, прошло всего две минуты. В ответ стукнул пулемет душмана.
Морозов со злости рассмеялся, перемежая смех со слезами. Было до отчаяния жаль себя.
Под ним скрежетала галька, едва он передвигался вперед, бешеная вода начинала выминать из-под него камни. Они шевелились, уползая, а он телом ощущал безостановочное их движение.
Противостоять напору воды удавалось с большим трудом. Тугие струи сбивали с ног, захлестывали солдата. Морозов теперь ясно понимал — только случай позволит ему осуществить задуманное. Поток в месте, но которому он полз, описывал пологую дугу. Вся могучая ударная сила воды обрушивалась на противоположный берег. Там струя с ревом и кипением билась о выглаженную до лоска грудь скалы, а здесь, у дороги, вода лишь резвилась, не растрачивая буйной удали на борьбу с твердью.
Прислушиваясь к перестрелке, Морозов понял, что, экономя патроны, Максюта стал бить одиночными выстрелами. Но, должно быть, прицеливался более тщательно. Во всяком случае, душман на каждый выстрел отвечал яростными длинными очередями, Он явно не испытывал недостатка в патронах и верил, что шурави старается покончить с ним одним метким выстрелом.
Когда пулемет прогремел почти над самой головой, Морозов понял — он у цели.
Хотелось сразу вскочить, но он удержал себя усилием воли.
Преодолевая противную трясучку, раскрыл пакет, приготовил гранаты. Потом терпеливо ждал, когда дух в очередной раз нажмет на спусковой крючок. И только тогда приподнялся, накатом пустил гранату к гнезду пулеметчика. Ее взрыв слился с последними выстрелами.
И всё…
Морозов выскочил из потока и замахал руками, призыва я Максюту.
* * *
Комбат приехал в рогу за минуту до условленного срока. Оп спрыгнул с брони, крепкий, похожий на мельника, весь припорошенный пылью с головы до ног. Серый слой лежал на погонах, на спине, и только на груди, где портупея сдвинулась в сторону, выделялась полоса яркого защитного цвета. Пыль лежала даже на его бровях, делая их седыми.
Над ними, мельтеша роторами, прошла и стала с разворота заходить на посадку вертолетная пара. Если смотреть вверх, можно было заметить над машинами сверкающие круги стальных лопастей. По земле бежали скользящие тени.
— Как тут у вас дела? — спросил комбат.
— Выслал разведку по ущелью, — доложил Ванин. — Пока донесений нет. Значит, все нормально. Ждали вас.
От приземлившегося вертолета, придерживая планшетку, к комбату скорым шагом направился старший лейтенант — офицер связи из штаба Санина.
— Майор Бурлак?
— Я. Слушаю вас.
— В долине Сухой, — доложил офицер и показал на карте, — здесь, обнаружен караван с оружием. Состав — пять машин. Охрана на одном грузовике. Генерал Санин приказал ликвидировать. К месту и назад группу доставим вертолетами.
— Капитан Ванин, — приказал Бурлак, — выделяйте взвод!
— Лейтенант Жарков! — подал команду ротный. — Взвод в ружье! На погрузку!
Бренча оружием, к вертолетам побежали солдаты.
Лейтенант Жарков, совсем еще юный, выслушивал боевую задачу, не скрывая нетерпения. Он нервно переступал с ноги на ногу, словно готовился к забегу на длинную дистанцию.
— Жарков, — сказал комбат негромко, — спокойнее. Сосчитай до десяти.
Лейтенант взглянул на Бурлака и широко улыбнулся:
— Боюсь опоздать, товарищ майор. А так я спокоен.
— Тогда — вперед!
Вертолеты, забрав десант, ушли.
— Ванин! Два отделения и броню, — распорядился Бурлак, — подвинь поближе к долине Сухой. Здесь рукой подать. Если там пять машин, Жарков справится. А если больше?
— Есть! — понимающе ответил Ванин. — Высылаю.
И почти сразу два бэтээра, пыля по сухой целине, покатили на запад.
— Товарищ майор! — закричал от машины рядовой Козюрин. — Рация!
Бурлак подошел, взял наушники, надел их. Слушал молча, заметно мрачнея. Снял гарнитуру, отрешенно уставился вдаль.
— Что там? — спросил подошедший Полудолин.
— Щуркова зажали!
— Комбат, давай людей! Я пойду к Щуркову.
На сборы потребовалось пятнадцать минут.
Отправив замполита, Бурлак посмотрел на Ванина. Тот и без вопросов понял, чего ожидает комбат.
— Разведка по ущелью идет спокойно. Сняли пулеметную точку. Дальше — чисто. Идут осторожно, опасаются сюрпризов.
— Как Жарков?
— Прибыл на место. Занял позицию.
— Добро, — сказал Бурлак озабоченно. — Закончит Жарков дело — роту вперед. До вечера хорошо бы проскочить ущелье до Уханлаха.
— Пожалуй, проскочишь, — скептически заметил Ванин. — Как говорят, все шло хорошо, пока не вмешался генеральный штаб. Жди теперь, когда Жарков раскопается.
— Ты эту моду оставь, — отрезал комбат сурово. — Военному кивать на штаб все одно что сельхознику жаловаться на погоду. Суть боя — стихия. Разберешься в хаосе, найдешь закономерность — победил. Запутаешься — сливай воду. — И без всякого перехода жестко спросил: — На Жаркова надеешься?
— Командир толковый, — заверил Ванин. Он даже удивился вопросу — будто комбат сам не знает взводных.
— Ну-ну…
Бурлака одолевала тревога. Осложнение на Щиргарме. Непонятный караван в долине Сухой. Все это не вязалось с тем планом, который он выносил и собирался выполнить с наименьшими тратами.
Вертолеты доставили взвод Жаркова на небольшое каменистое плато. Отсюда до водораздела, с которого открывалась долина Сухая, рукой подать.
Жарков взбежал по склону. У гребня упал и несколько метров полз, пока не увидел противоположную сторону горы. Первым, кого он заметил, был удод — пестроперый хохлатый красавец. Он вышагивал среди камней неторопливо и важно. То и дело торкал тонким изогнутым клювом землю. Ткнет, поднимет голову, оглядится вокруг и, будто танцуя, сделает еще несколько шагов.
Удод, должно быть, очень гордился собой. Он то распушал рыжеватый хохолок с черными подпалинами на кончиках перьев, то собирал его в кисточку.
Случайно он встретился взглядом с лейтенантом и замер, удивленный. Скорее всего, не испугался, а только рассердился на чужака, проникшего в его владения. Посмотрел, шевельнул крыльями, зашипел и вдруг сорвался с места. Оттуда, куда он улетел, до лейтенанта донесся глухой протестующий крик «ху-дуду! уп-уп!».
Проводив птицу взглядом, Жарков приложил к глазам бинокль. Далекие скалы теперь стали хорошо видны. И то, что еще минуту назад казалось обычным кряжем, приобрело очертания неприступных крепостных стен. От подножия, усыпанного нагромождением камней, сорвавшихся с высоты, вверх поднималась крутая стена, вдоль и поперек перечеркнутая глубокими темными трещинами. Внизу, у ее основания, едва заметные на темном фоне, ползли несколько машин.
Жарков посмотрел на часы. Минут через пятнадцать колонна будет здесь.
Караван предстояло брать одним ударом. Вступать в длительный бой не позволяла обстановка.
— Работаем на уничтожение! — предупредил Жарков. — Целить по бензобакам. Огонь только по команде. Залпом.
Он расположил солдат вдоль гребня. Указал ориентиры. Определил сектора обстрела. Предупредил о сигналах и командах.
Стали ждать.
Лейтенант то и дело поглядывал вдаль, следя за приближающимся хвостом пыли, который полз по долине.
Отдавали последние распоряжения отделенные.
Сержант Бородин, ворчливый дядька, не раз отличившийся в сшибках, воспитывал упрямого новичка.
— Слушай, Борцов, — говорил он вразумляюще, слегка растягивая слова, — предупреждаю последний раз: с заплющенными глазами не пали. Заруби себе: в городе надо экономить электроэнергию, здесь — боеприпасы.
— Гы-ы, — осклабился Борцов беспечно. — Уж чего-чего, а электры я потратил немало. Приходил домой из школы и сразу телик — щелк! — и гонял до вечера.
— На все подряд лупился? — спросил лежавший неподалеку ефрейтор Романов.
— Спрашиваешь! Исключительно на все!
— И чего ради?
— Для противодействия скуке.
— С тобой все ясно, Борцов, — сказал сержант. — Гонял ты ящик со скуки, а на выходах со страху палишь. Пора нам с тобой прощаться.
— Как это?
— А так, друг. Как в песне: «Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года». Думаю, больше не увидимся.
— Ты что? — Борцов всерьез встревожился. — Ты что?!
— А то. Будешь жать на спуск, закрыв глаза, с тобой всё. Сперва немного попугаешь духов, а потом они тебя голыми руками прищучат.
— Ты что? — повторял свое Борцов, вконец расстроенный.
— Значит, не нравится? Тогда слушай. Без патронов много не навоюешь. Значит, их надо беречь. Клади строчку не более трех звуков — та-та-та. И отсек. Поглядел, прицелился, и опять три звука. Только прицельно. Как учили. Тогда мы с тобой еще компоту выпьем. После Дарбара. Понял?
Уныло подвывая утомленными моторами, к месту засады приближались пять машин. Над кузовами, захлопнутыми выгоревшим брезентом, высился какой-то груз. В середине колонны шла машина, в которой сидело около пятнадцати вооруженных духов. Езда изрядно утомила их, и они выглядели безразличными, отрешенными. Сидели, поставив между ног автоматы и пулеметы, покачивались на выбоинах, кивали головами, как китайские фарфоровые болванчики.
Лейтенант Жарков уже собирался подать команду, как вдруг из-за поворота появились еще две машины, полные духов. И откуда они вывернулись? Соотношение сил резко изменилось. Что делать? Атаковать или отложить удар, запросив подкрепление? Дополнительный взвод сразу облегчил бы дело. Но за это время колонна уйдет в сторону широкой долины, где внезапность атаки утрачивала весь эффект.
Вслух высказав несколько слов, облегчающих душу, Жарков переместил двух гранатометчиков и пулемет навстречу внезапно появившемуся усилению.
Поднял руку, подавая сигнал «Приготовились». Ощущая, как растет внутреннее напряжение, терпеливо ждал, пока машины выберутся на прямую, вытянутся вдоль хребта, подставят борта под огонь.
Понимая, что маскироваться уже незачем, громко, во весь голос, скомандовал:
— Залпом, огонь!
Грохот гранатометов, треск автоматов и пулеметов слились со взрывами. Меткий выстрел поразил первую машину, и она занялась огнем, запылала, превратившись в огромный костер. Вторая машина ткнулась в первую и тоже вспыхнула с треском и гулом.
Средняя машина ахнула сильнее всех остальных. Лейтенант еще не услышал взрыва, но уже увидел, как огромный багрово-дымный шар, клубясь, взвился над грузовиком. И только затем рвануло резко, оглушающе. Все вокруг заиграло кровавыми сполохами, подсвечивая склоны хребта.
Вскочив на ноги, стоя во весь рост, Жарков взял на себя грузовик с ашрарами. Сжав челюсти — аж зубы хрустнули, — он пустил длинную разящую очередь. От борта в стороны полетели щепки. Несколько духов, нелепо взмахивая руками, повалились в кузов. Один, молодой, в кокетливой красной шапочке из сукна, выронил автомат и упал вниз головой под колеса машины. Жарков лишь отметил, как тяжело плюхнулось на землю тело, и сразу перенес огонь.
В тот же миг метко брошенная граната вдрызг разметала кабину, и грузовик охватило оранжевое пламя.
— А, шпана! — азартно закричал Жарков. — Припухли?!
Он кричал, не думая, что тем самым старался подбодрить и себя самого.
С бандгруппой, передвигавшейся в хвосте каравана, пришлось повозиться. Оба гранатометчика промахнулись. Одна граната взорвалась с недолетом, другая — пролетела перед капотом и упала далеко в стороне.
Тупорылые грузовики валко сползли с дороги и остановились. Из кузовов, словно из лопнувших стручков, горохом посыпались душманы.
Они разбегались в стороны, образуя цепь.
Тяжелый дым цеплялся за кусты, заползал в складки местности и прилипал к ним, похожий на клочья грязной ваты.
Как красиво, в добром ключе приключенческих фильмов, можно было поднять взвод в атаку. Только взмахни рукой, скомандуй — и пошли! С высоты склона. Бегом. Поливая пространство огнем. Набирая скорость удара.
Жарков не поддался соблазну. Он уже знал, чем пахнет порох в горах. Представлял, что не атака, а огневой бой в этих условиях обеспечит ему перевес. Он на глаз успел прикинуть — духов набиралось десятка четыре.
Опомнившись от первого потрясения, бандиты перегруппировали силы. Главарь разбил людей на три части. Два отряда по полтора десятка человек он двинул так, чтобы охватить фланги взводной позиции. Оставшиеся в долине растянулись по фронту.
— Сержанты, ко мне! — скомандовал Жарков.
Пригибаясь, к нему подбежали Бородин, Толкунов и Салимов.
— Бородин — влево, Салимов — вправо! — приказал лейтенант. — Идти за гребнем. Наблюдать. Духам для охвата нужно взять подъем. Встретите в упор. Ясно?
— Ясно, — ответили сержанты.
Подняв свои отделения, они начали смещаться вдоль гребня. Позволить душманам выйти по склону к водоразделу было нельзя.
Группа, пытавшаяся охватить левый фланг взвода, отошла километра на полтора вдоль долины и только тогда повернула к горам.
Главарь в этой группе оказался бандитом дошлым. Он не послал на подъем всех сразу. Он выслал трех духов — в разведку. Они растянулись по склону с интервалами метров по двадцать.
Когда снизу донесся едва уловимый шум, Бородин подобрался к гребню и, прячась за камнями, оглядел склон. Он скорее угадывал, чем слышал, что там внизу кто-то движется.
Только приглядевшись, увидел душманов. Они шагали цепочкой, нисколько не таясь. Камни, потревоженные ногами, глухо перестукивались.
Солнце уже давно выкатилось в зенит. Небо, удивительно чистое, почти бесцветное, казалось, выгорело от летнего зноя.
Бородин скрипнул зубами. Он понял замысел духов. Теперь их группу уже не возьмешь с одного удара. Если трое выйдут на гребень без осложнений, наверх двинутся все остальные. Нет — не заманишь и калачом. Значит, обречены только первые трое. Правда, и их без шума не возьмешь. Придется брать с шумом.
Сержант пристально следил за каждым шагом душманов.
Первый, держа автомат в правой руке, вышагивал, широко выбрасывая ноги. Они работали ритмично, как маховики мотовила. Каждое движение толкало тело вперед. Казалось, у такой живой машины не может возникнуть ни усталости, ни сбоев.
Слева, чуть отставая, двигался невысокий толстенький колобок. Он суетливо семенил, выбрасывая легкие ноги вперед, и двигал задом, будто старался подтолкнуть тело на несколько лишних сантиметров вперед. Растрачивал силы и сам того не подозревал.
Третий душман шел вдалеке, и Бородин не мог разглядеть его хорошо.
— Кучкин, Борцов, — сказал сержант негромко, — принимайте крайних. Я беру среднего. Борцов, глаза не закрывай!
Солдаты сдвинулись вправо и влево, чтобы выйти на места, к которым приближались духи.
Основная группа бандитов ждала результатов разведки. Душманы спокойно уселись на землю и наблюдали за тем, как дозорные одолевали склон.
Три очереди прозвучали с интервалом — одна за другой.
Три разведчика попадали на склоне — один за другим.
Выстрелы встревожили бандитов. Они вскочили, о чем-то посовещались, размахивая руками и оружием. Потом, не оборачиваясь, двинулись в глубь долины.
— Вот гады! — в сердцах выпалил Кучкин. — Плюнули на все и подались!
— А что ты хочешь? — спросил Бородин. — Банда, она и есть банда. Удалось — шуруют. Застопорило — сразу удирать.
На правом фланге успех решила броня, посланная Бурлаком на всякий случай. Когда бэтээры вылетели в долину на полном ходу, ощетинившись яростным пламенем, душманы прекратили сопротивление.
Мрачные, удрученные поражением, бандиты со злостью швыряли оружие на камни и отходили в сторону. Лица их, угрюмые, серые, не выражали ничего, кроме покорности судьбе. Лишь глаза, затравленно зыркавшие по сторонам, выдавали их душевное состояние — люди эти смирились перед чужой силой, однако не стали ни добрее, ни покладистее.
В бою чаще выигрывает тот, кто в переплетениях бестолковщины умеет разгадать определенную закономерность, понять ее смысл.
Человека, далекого от военных дел, очаровывают схемы боевых операций, помещаемые в учебниках истории и энциклопедиях.
Вот на карте стрела синего цвета, как меч, вскинутый сильной рукой, разрубает, раздваивает красное поле. Это значит — враг нанес удар. А вот другая стрела, на этот раз цвета алого, бьет в середину синей и ломает вражеский меч пополам. Это наши, свои, родные, нанесли сокрушающий контрудар.
Поразительно ясная, убеждающая схема.
Все в ней обозначено четко и понятно. Нужен ли какой-то особый военный гений, чтобы в этом разобраться и оценить обстоятельства?
Должно быть, разглядывая схемы минувших сшибок, нарисованные на песке ветеранами, — персы шли отсюда, а мы их сюда — вдоль и поперек спины! — великий Шота Руставели изрек удивительно вечную мудрость: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».
Исторические схемы, рисующие прошедшие бои, — это необъяснимый обман зрения. Нет на поле боя ни стрел, ни пунктиров.
Представим — на каком-то пространстве идет бой. Рота мотострелков атакует позицию духов. Стрелу на карте в штабе нарисуют потом. А пока идут люди по полю. И не взвод бьется со взводом как монолитные единицы. Бой ведут люди. Из плоти и нервов состоящие.
У каждого свой враг. Перед каждым — своя цель. И каждый ведет собственный бой.
Сбил солдат душмана, пробился вперед — и сразу полегче его товарищам. Замешкался, отстал, дрогнул, попытался отсидеться за камушком — и тяжелее стало всем остальным.
Бой роты складывается из десятков личных бросков и ударов солдат. Они почти все на виду у ротного. Он способен подбодрить отставших, поддержать ушедших вперед.
Бой, который ведет батальон, уже не подвластен взору комбата. Не видел его и Бурлак.
Где-то далеко на востоке шла через ущелье и кручи Шинкутала рота Уханова. Засел в минных тюлях с ротой капитан Щурков. Завязли в малых стычках взводы роты Ванина. И вот еще одна новость, сообщенная сверху, — духи оставили Торатанги на попечение аллаха, предпочтя бою быстрый отход.
Планы, продуманные, пережитые в ночном бдении, трещали, ломались, требовали немедленной переделки.
В бестолковщине обстановки был свой, скрытый смысл, и Бурлак его вышелушивал из мелких фактов, как орех из скорлупы.
— Ванин! — крикнул комбат. — Ко мне!
Ротный подбежал, понимая, что произошло что-то неожиданное.
— Слушаю, товарищ майор!
— Разведка идет?
— Так точно. Сняли пулеметную точку. Дальше — чисто.
— Отзывай разведку! — приказал Бурлак. — Духи ушли из ущелья. Из Дарбарской крепости гарнизон выделил ударный батальон добровольцев. Они ударили на Уханлах. Духи снялись и отходят к Ширгарму. Сейчас будут вертушки. Перебрасываем личный состав в зону Дарбара по воздуху. Броню гони на Жердахт. Пусть соединится с колонной. Оттуда прямиком — на Дарбар.
— Понял, товарищ майор!
— Ну-ну, китаец, — сказал Бурлак негромко.
— Что? — спросил капитан, явно не поняв.
— Так, ничего, — усмехаясь, ответил комбат. — После операции расскажу, товарищ Ван Ин. Обязательно.
С севера, словно большие сверкающие стрекозы, к расположению роты шли вертолеты.
ДОЛИНА ШИРГАРМ
В котловине Жердахт торная дорога делилась. Одна, проходимая для машин, шла на Дарбар через Ширгарм, другая, удобная только для людей и вьючных лошадей, вела туда же через узкую щель Торатанги над бурной горной рекой.
Простившись с Черкашиным, майор Бурлак поставил задачу капитану Щуркову:
— Идешь на Ширгарм. В ущелье глубоко не втягивайся. Обозначь свое прибытие и стой.
— А если там небольшая застава? Может, стоит ее сбить сразу?
— Повторяю: подойдешь и стой. Пусть они думают, что ты ждешь подхода подкрепления, что ты неуверен. Короче, пусть думают, что хотят, но ты — ни с места. Начнут провоцировать, вызывать на действия — отвечай огнем, а движения не начинай. Нам нужно, чтобы ты их сковал. В Ширгарме у них главные силы. Только через эту долину мы можем провести караван. А драться с духами в лобовую — значит пустить себе кровь. Все пойдет иначе, когда мы пробьем проходы через Шинкутал и Торатанги. Тогда силами двух рот ударим по капитану Кадыру с тыла. Сожмем с двух сторон и смелем.
— Понял, — сказал Щурков. — Замысел ясный.
— Повтори.
— В долину не втягиваюсь. Обозначаю присутствие и жду команды. На провокации не поддаюсь. Буду стоять, и все.
— Точно. — Бурлак протянул комбату руку: — Бывай, Игорь.
Они, будто решив бороться, обнялись.
— Ты — прямо, — уточнил на прощание комбат. — Я — вдогонку за Ваниным. Пойду с ним через Торатанги.
— Есть! — ответил Щурков. — Мы пошли, комбат.
Он легко вскочил на броню, поднял правую руку вверх и резко опустил ее на уровень плеча, указав на дорогу.
Взревев, стальная вереница машин понеслась вперед.
От Жердахта до горизонта, насколько хватал глаз, тянулась красная, будто посыпанная толченым кирпичом, равнина. С востока ее замыкала унылая череда холмов, таких же ржаво-бурых, безжизненных, неприветливых.
На западе параллельно дороге, извиваясь, тянулось сухое русло некогда протекавшей здесь реки. Куда делась вода, в какие века она исчезла, знали только легенды. Но кто их помнит, эти легенды? Куда ни глянь — полное безлюдье.
Машины, едва выкатившись на коричневую дорогу, вздыбили клубы красной пыли, и ветер потянул ее над каменистой пустыней, будто разматывал легкую, колеблющуюся занавеску.
— «Чибис», — обращаясь к капитану Щуркову, передал по рации командир взвода старший лейтенант Мирошкин, — я, пожалуй, отойду вправо. Не нравится мне это русло.
— А мне холмы не нравятся, — ответил Щурков. — Но ты прав. Русло похуже. Давай прикрывай справа.
Три бэтээра, свернув с дороги, понеслись по целине. Пройдя вдоль сухого русла километра два, они опять вернулись к колонне. Опасностью справа русло не угрожало. Оно отвернуло на запад и ушло к горам.
Прошли еще километра два. С машины, шедшей в головном дозоре, сообщили коротко:
— «Чибис», на холме дом и сад. На карте они не обозначены.
— А что здесь вообще обозначено, на карте-то?! — вспылил Щурков и приказал: — Проверьте, но осторожно.
Дом оказался пустым, полуразрушенным. Везде следы разгрома и огня: когда-то здесь явно похозяйничали душманы.
С высоты холма открывался широкий обзор. Внизу, среди квадратов возделанных полей, лежал хорошо видимый кишлак. Он выглядел скопищем унылых плоских крыш, перемежавшихся пыльными пустырями. Глухие глинобитные стены превращали улицы в мрачные, полутемные проходы. В небо упирался убогий, как фабричная труба, минарет. Ленивое солнце освещало покрытый трещинами, похожий на луковицу купол старой мечети.
Откуда-то с дальней окраины доносились выстрелы. Упруго секли воздух автоматы. Гукал тяжелый пулемет. Искристые просверки трасс, промелькнув, гасли в небе.
— Самооборона, — сказал Щурков, прислушавшись. — Дерутся.
— Похоже, — поддержал старший лейтенант Мирошкин. — Что прикажете?
— Взвод Лупола и взвод танков, — отдал распоряжение командир роты, — обходят справа по целине. Выйти на южную окраину. Все остальные прочесывают кишлак.
Они подскочили к населенному пункту и развернулись в цепь.
Черный, удивительно вонючий дым полз по улице, почти не поднимаясь вверх. Солдаты бежали, утопая в его клубах по пояс. Вся эта картина казалась со стороны фантастическим представлением.
— Поглядывай! — крикнул Щурков сержанту Алексееву, бежавшему на полшага впереди. — И не зарывайся!
Впереди раздражающе часто стучал автоматчик. Где-то рядом, за дувалом, а может, в ближайшем переулке, работал крупнокалиберный пулемет.
— Митя! Гранату вперед себя! Только за гранатой! — предостерег Щурков сержанта Кудашкина.
Тот, не отвечая, рванулся к дувалу и, прижимаясь к нему спиной, боком двинулся в клубах дыма к переулку. Метрах в трех от угла лег на землю и пополз. Горло драл вонючий запах незнакомой взрывчатки. Из переулка тянуло горелым кизяком.
Осторожно, не поднимая головы, Кудашкин утюжил животом мелкую, как пудра, пыль дороги и метр за метром продвигался к цели.
У самого угла поглядел, приподняв голову, и в двух саженях от себя увидел пулемет на треноге. Два духа, тощий дикомордый верзила и парнишка, совсем зеленый, безусый, разворачивали его стволом в сторону поля.
Выдернув зубами чеку, Кудашкин размашистым движением баскетболиста, который пальцами чувствует дистанцию до кольца, метнул гранату точно под треногу. Взрыв прозвучал негромко, будто что-то хлопнуло. Пулемет, опрокинутый ударом, раскорячил ноги. Душманы, словно осенние листья, поддетые порывом ветра, разлетелись в стороны.
Кудашкин хотел было подняться, как справа от него раздалось несколько глухих щелчков: пух-пух-пух… Он скосил глаза и увидел вздыбившуюся легкими смерчами дорожную пыль. Невидимый ему дух пристреливался. «Вот гад», — подумал солдат и вжался в землю. В нос ударил запах сухого навоза и горелой травы.
Сзади надсадно ахнул гранатомет. Над Кудашкиным, ввинчиваясь со звоном в тугой воздух, пронеслась граната. Пыльный султан взвился над крышей хибары, стоявшей неподалеку за обшелушенным дувалом.
— Копец им! — раздался сзади ободряющий крик рядового Ивана Повидло. Его голос Кудашкин узнал бы из тысячи. — Двигай, Митя! Я его снял!
Кудашкин поднялся и побежал к месту, где недавно стоял пулемет. Его догнал Повидло. Он тяжело топал, будто тащил на себе большой груз. Но бежать таким образом мог долго, хоть пять километров.
— Кто — пулеметчиков? Ты? — спросил Повидло.
— Пришлось, — стараясь унять сбившееся дыхание, ответил Кудашкин. Он взглянул на молодого безусого паренька, недвижимо лежавшего на спине, и отвернулся. Спросил у Повидло: — Куда нам дальше?
В это время от небольшого дома, стоявшего на краю поросшего бурьяном пустыря, дробно ударил автомат.
— Туда! — махнул рукой в сторону выстрелов Повидло. — Я первый, ты прикрывай!
Боком, вжимаясь спиной в остатки стены сгоревшего дома, солдат шаг за шагом приближался к пустырю. У распахнутого оконного проема задержался. Молча наблюдал за кем-то, потом вскинул автомат и выпустил очередь.
Выстрелил и опять заглянул в проем. Повернулся к Кудашкину:
— Все, Митя, он спекся! Вперед!
Для ясности Повидло опять взмахнул рукой, обозначая направление движения, и выскочил на пустырь.
Пробежал метров десять, и тут из дома напротив раздался выстрел. Пуля прошла так близко, что Повидло ощутил ее сверлящий посвист даже не ухом, а всей щекой.
Он упал на твердую землю, — как на ней только трава растет? — быстро отодвинулся вправо. Осторожно поднял глаза и увидел врага в упор. Душман устроился у выбитого окна и держал его под прицелом.
Повидло лежал, чувствуя себя так, будто его голым выкинули на снег. Он видел, как медленно перемещался черный зрачок пустого дула, угадывая направление, куда должна была попасть пуля. Видел злые глаза душмана, его плотно сжатые губы, чуб, грязной прядью свисавший из-под сбитой набок шапочки.
Повидло с удивительной ясностью понимал: если он быстро оттолкнется и перекатом уйдет на новое место, душман может промахнуться. А может и нет. Как ни старайся быть быстрым и ловким — пуля все равно быстрее тебя.
Он не стал закрывать глаза. Он готов был умереть не прячась. Только страха унять все равно не мог. Зубы начали противно постукивать. Повидло стиснул челюсти, а они всё стучали. И удержать эту противную зябкую дрожь не было никаких сил.
Он видел, как смертельный зрак нацелился ему в грудь, и понял — теперь уже все! Сколько может везти в таком деле? Раз? Два? Но не все пять, как везло ему до сих пор.
Выстрела Повидло не слышал. Только видел, как дернулась вдруг голова душмана. Короткоствольный карабин выпал наружу. Звякнул о камни металл.
Это Кудашкин сумел опередить противника.
Еще не придя в себя полностью от пережитого, Повидло оттолкнулся от земли, рывком перемахнул отделявшее его от стены расстояние. Взмахнул рукой. Граната влетела в окно, ахнула внутри дома.
Не ожидая, солдат подпрыгнул, ухватился за подоконник, перебросил тело внутрь помещения.
В доме, наполненном горькой синевой дыма, валялся убитый душман. Мельком глянув на него, Повидло бросился дальше.
На бегу со всего маха, ударом мастера-футболиста, пнул левой ногой дверь. Та легко отлетела в сторону, открыв сумрачный провал другой комнаты. Он полоснул очередью и помчался дальше. Сверху на него сыпалась труха, растревоженная взрывом гранаты.
Еще одна комната, как ему показалось, была пустой. Сквозь тряпицу, прикрывавшую окно, в нее врывался узкой полоской пучок света. Он падал на пол, усыпанный битыми глиняными черепками.
Повидло подскочил к окну и сдернул с гвоздей обрывок старого одеяла. Стало светло. Оглядевшись, он увидел в дальнем углу сбившихся в кучу ребятишек. Они сидели как стая серых куропаток — кекликов. Шесть маленьких человечков в водовороте боя.
Дом горел. Где-то за стеной сухо трещало пламя. Дым, едкий, колючий, быстро стелясь по полу, заполнял комнату.
Дети с глазами, полными слез, сидели молча. Не плакали, не кричали. Только жались друг к другу.
Повидло удивился, почему дети молчат. Почему, увидев его, никто не вскрикнул ни от радости, ни от страха. Лишь сдвигались потеснее, словно старались забиться в самый угол. Так и сидели, закостенев от ужаса, который светился в широко открытых, покрасневших от дыма глазах.
Подпрыгнув, Повидло долбанул ногой в середину маленького оконного переплета. Стекло с тупым звоном плеснулось наружу.
Свежий воздух ворвался в комнату. И сразу буйное пламя полыхнуло за спиной солдата, забушевало с жадным хрипом.
Языка огня лизнули двери, бросились в комнату.
Повидло взглянул во двор и увидел Кудашкина, который стоял у проема ворот с автоматом на изготовку.
— Митя! — крикнул Повидло. — Приймай ребят!
Он подхватил на руки замершую от страха девочку лет десяти. Подхватил и ужаснулся, почти не почувствовав в щуплом тельце никакого веса. Тогда он поднял еще и мальчишку, такого же испуганного и невесомого. Метнулся к окну и выбросил ношу на руки Кудашкину.
Снова рванулся к тесной кучке ребят. Но те, едва поняв, что их спасают, что этот шурави — рыжий от пыли, черный от копоти, с блестящими глазами — только с виду такой страшный, уже сами подбежали к окну.
Только когда все дети были выкинуты из дома на руки Кудашкину, Повидло, подгоняемый огнем, выпрыгнул в окно и сам.
Во дворе уже был капитан Щурков.
— Откуда дети? — спросил он.
— Из пожара, — ответил Кудашкин. — Повидло выволок.
— Молодцы! — похвалил Щурков и осекся.
Он внезапно осознал страшную истину. И содрогнулся. Плач — это сигнал тревоги, который малыши подают взрослым. Дитя не плачет — мать не разумеет. Но если дитя плачет, а взрослые не хотят разуметь, вникать в его беды, ребенок постепенно перестает искать спасение в крике.
Кишлачные дети знают — в этом мире плачем никого не проймешь, не заденешь. Больше того, молчаливого взрослые могут не заметить, пройдут мимо. Попробуй пискни, заплачь — чего доброго, получишь лишнюю оплеуху или пинок.
И дети молчали.
Щурков взял за плечи и подвинул к себе худенького мальца. Тот едва дотягивался ему до колен. Черноголовый, волосы ежиком, личико с кулачок. Глаза большие, полные недетской серьезности и печали.
Щурков положил ладонь ему на голову, ощутив колкую твердость стрижки.
Не ожидавший прикосновения, мальчонка сперва испуганно отшатнулся от капитана, потом вдруг припал к его ноге всем телом, прижался, обхватил ее руками. И тут Щурков увидел, что у мальца на левой руке нет кисти, а на правой — двух пальчиков.
На память невольно пришли слова песни: «Дитя не может быть красивым, — оно прекрасно…»
Капитан смотрел на мальчика, и ощущение близости слез подкатилось к горлу, защемило у переносицы.
Щурков посмотрел на других ребятишек, и жалость его вспыхнула тяжким гневом. Как можно назвать людей, которые довели детей до такого ужаса? Да и можно ли вообще назвать их людьми?
Широко открытые, блестящие лихорадочно глаза. Не испуганные, не любопытные, но все в чем-то одинаковые. Щурков понял — голод, невидимый, но всевластный, сделал взгляды этих ребят одинаковыми, это он отметил их невыразимой печатью страдания.
Дрогнуло сердце. Щурков ощутимо представил своего Вадьку, вдруг вот так оголодавшего, потерявшего вору в доброту и надежность мира, в справедливость людей.
Он судорожно сунул руку в карман, но не нащупал там ничего, кроме табачной крошки. Полез в полевую сумку и там не нашел ничего подходящего. Крикнул громко, почти отчаянно:
— Повидло!
— Шо? — гукнуло в ответ.
— Не «шо», а «я». Понял?
— Так точно.
— Повидло!
— Шо я? — ответил неунывающий голос.
Продолжать воспитание было бесполезно, да и не это было сейчас важно.
— Хлиб е? — спросил Щурков. — Да что там у тебя есть? Сахар? Сухари?
Солдат сразу все понял, и лицо его вмиг озарилось радостью.
— Е! Е! — воскликнул он. — Зараз будэ! Володя, давай!
Из-за бэтээра, стоявшего у дувала, выскочил ефрейтор Толпегин. Он тащил злополучный мешок, который Щурков уже дважды приказывал убрать с его глаз. Мешок все время казался ему лишним, ненужным в машине, только мешался под ногами. Не интересуясь, что в нем, Щурков тогда предупредил их: «Дождетесь, выкину!»
Повидло принял ношу, прижал мешок к животу и распустил завязку.
В мешке лежала еда. Разная. Удивительная. Сухари. Несколько пачек быстрорастворимого сахара. Леденцы.
Ребятишки даже не сдвинулись с места при виде неизмеримого богатства, открывшегося их взору. Они не обрадовались, не загомонили по-детски беззаботно и весело, как это бывает среди детей, ожидающих раздачи новогодних подарков.
Тяжелая печать бедности, отверженности давно легла на их души. С первыми проблесками сознания они твердо усвоили, что самый маленький кусочек лепешки до тех пор не твой и не может стать твоим, пока он не зажат в кулаке, пока он не во рту.
Каждый из них привык к тому, что не его голод, не его страдания волнуют мир взрослых, заставляют чьи-то сердца сжиматься ненавистью или распахиваться от доброты. Только мать роняла ненароком горькую слезу на голову сына, отдавая ему кусок очерствевшей лепешки. Или отец украдкой совал в ладошку мальчишки игрушку — блестящий патрон, выражая тем самым свою любовь.
Как тут сдвинешься с места, как поверишь, что какая-то часть удивительных богатств из мешка шурави предназначена вдруг тебе! Предназначена просто так, от щедрости сердца.
Вынимая из мешка невиданное богатство, Повидло раздавал его детям.
— Откуда у вас это? — спросил Щурков Толпегина.
Тот смущенно признался:
— До выхода ребята скинулись. Для детишек. Знали, что встретим таких. Иначе им в глаза смотреть стыдно.
Щурков отошел в сторону вконец расстроенный. Что он, собственно, знал о людях, которых считал своими подчиненными? Верил, что они подвластны ему, что он влияет на их характеры и интересы, формирует их взгляды на жизнь? И не больше. Оказалось, что эти люди в не меньшей мере формируют взгляды самостоятельно и даже влияют на него самого.
Он считал, что это лишь смелые и лихие в первом ударе хлопцы, бесшабашные в сшибке, нерасчетливые в быту, но вот вдруг такой простой случай высветил в них то, чего раньше он не видел, не замечал.
Стрельба в кишлаке улеглась. С разных сторон к месту, где сосредоточилась боевая техника роты, стали подходить афганцы. Кланялись Щуркову, что-то объясняли. Ротный позвал рядового Акбарова, который охотно исполнял обязанности переводчика.
Постепенно обстановка прояснилась. Местный учитель Назымбек рассказал, что в последнее время душманы, занявшие Ширгарм, стали налетать на их стадо и захватывать скот. Крестьяне угнали овец в места, расположенные подальше от душманских стоянок. Бандиты, озлобившись, заявились в кишлак. Они захватили группу детей, посадили их под охраной в школе и заявили, что каждого можно выкупить только за барана.
Тогда крестьяне схватили двух душманов и заперли их тоже. Остальные бандиты бросились на выручку. Завязалась перестрелка.
— Если бы не шурави, — говорили крестьяне, — быть большой беде. А теперь целы и бараны и дети.
Щуркова поразил такой поистине крестьянский счет — скот и дети проходили в нем в одной значимости.
Распрощавшись с кишлачниками, рота пошла к Ширгарму.
На подходе к устью горной долины стала слышна яростная стрельба. В глубине Ширгарма, где-то за условной линией, которую Бурлак до поры до времени не разрешил роте пересекать, шел ожесточенный бой. Автоматы и пулеметы обеих сторон перекликались яростно и напористо.
Щурков подал команду развернуться в линию. Надо было на всякий случай прикрыть всю ширину долины. Сам соскочил с брони и прошел к речке. Вгляделся в узкую полоску песка, нанесенную водой в излучине.
На мокром грунте отпечаталась широкая колея. По следу протектора Щурков определил — здесь прошел бэтээр.
Походив немного, капитан обнаружил еще один след. Здесь тоже прошла машина. Совсем недавно. Откуда они? Своих в этой долине быть не должно. Душманские? Тогда дело осложняется.
Он еще раз осмотрел следы, потом прислушался к трещоточному перестуку автоматов. Звуки стрельбы теперь перемежались с ухающими взрывами гранат. Там, в долине, кто-то бился с духами. Бился не на жизнь, а на смерть.
— Лейтенант Климов! — крикнул Щурков. — Разведку! И быстро! Выясни, что там. Только не увлекись.
Бэтээр, с силой расшвыряв мелкую гальку, понесся вперед. Солдаты изладили оружие к бою.
Не прошло и десяти минут, как Климов уже докладывал:
— «Чибис», тут бой. До роты духов ужали три бэтээра народной армии. Ребята встали к скалам и держатся. Но им туго. Я бы помог.
— Откуда там афганцы? — спросил Щурков и тут же понял неуместность вопроса. Решил уточнить: — Откуда нам лучше ударить?
— «Чибис», справа от скал. Удобнее всего.
— Ясно. Будем помогать. Ты подожди. Прижмись к самому правому флангу. Там и пойдешь.
Щурков махнул рукой, стараясь обратить на себя внимание.
— Старший лейтенант Мирошкин, прапорщик Горленко! Ко мне!
Командиры взводов подбежали с двух сторон и остановились в ожидании приказаний.
— В долине духи прижали афганцев, — сообщил обстановку Щурков. — Будем помогать. Вы, Мирошкин, останетесь здесь. Как резерв. Прикроете тыл. Горденко идет на удар. Место — на левом фланге.
Рота втянулась в долину.
* * *
Ровно через час в эфир ушло донесение, адресованное Бурлаку. Вспомогательная рация в Жердахте приняла его и послала дальше.
Радист Бурлака рядовой Козюрин услыхал вызов и доложил комбату. Тот взял наушники.
Донесение звучало крайне тревожно:
— «Чибис» ведет бой в долине Теплой. Окружен. Обстановка чрезвычайно сложная.
Резким движением майор снял гарнитуру рации с головы и задумчиво уставился вдаль.
За каменистой равниной дыбились горные кряжи. Снизу красноватые, как и все вокруг, а чем выше, тем более темными становятся их бока.
— Что там? — спросил Полудолин, заметив мрачную озабоченность комбата.
— Щуркова зажали, — ответил Бурлак. — Он глубоко втянулся в Ширгарм, и духи его обложили. Короче, сделал то, о чем его не просили.
— В той бутылке, — высказался стоявший рядом капитан Ванин, — закупорить любого из нас труда не составило бы. Хоть дивизию, хоть армию можно зажать.
Он явно пытался выгородить Щуркова или хоть чем-то смягчить его вину.
Комбат промолчал, будто не придал словам Ванина никакого значения.
— Удивлен, как это Щурков попался, — задумчиво произнес Полудолин. — Командир он толковый.
— Вышло то, чего я больше всего боялся, — сокрушенно сказал Бурлак. — Несколько раз долбил: дальше устья не ходи. Дошел — и стой.
— Почему? — спросил Полудолин.
— Слева по ходу ущелья есть двурогая лощина. Горловина ее от устья не просматривается. В порыве — а Щурков, я тебе уже докладывал, живет порывами, — так вот, в порыве он проскочил щель. И его замкнули. Как пить дать, замкнули.
— Не думаю, что там все настолько просто.
— Почему не думаешь? — спросил Бурлак. Было бы легче, если б кто убедил его в безосновательности тревоги.
— Сколько у тебя Щурков служит? Год? За это время, комбат, он чему-то у тебя да научился. Если зажали, дело не в порыве. Там что-то другое.
— Другое не другое, а он в клещах. Нам от этого не легче. Ясно излагаю обстановку?
— Там, наверное, произошло что-нибудь непредвиденное.
— Значит, не все учли. — Бурлак в сердцах стукнул кулаком по броне транспортера. Металл глухо ответил ему.
— Комбат, — сказал Полудолин, — давай людей. Я пойду к Щуркову. Сам.
Бурлак внимательно посмотрел на замполита, кивнул:
— Дело говоришь, комиссар. Дело.
Тут же он обратился к Ванину, отдал скорые распоряжения:
— Собирайте команду. Пятнадцать человек своих наберите. Еще пятнадцать — в спецподразделениях. Три бэтээра. Лейтенанта Максимова дайте. Он крепкий. Только живо!
Чрезвычайность обстоятельств действует на людей возбуждающе. Забегали сержанты, выстраивая солдат. Засуетились водители у машин.
— Слушай, Фирсыч, — просительно обратился комбат к Полудолину, — мне не стоило бы тебя туда посылать. Но это сейчас тебе самому нужно. Не приказываю — прошу: будь рассудителен. Воюй головой. Сперва разберись, что к чему, потом действуй. Отличай, что смело, а что безрассудно. — Он протянул Полудолину руку: — Больше ничего говорить не буду. Давай!
* * *
Всю дорогу до Ширгарма Полудолин держал в руках карту. Работал по методе комбата. Старался понять главные особенности долины, чтобы топография не преподнесла неожиданных препятствий.
На подходе к Ширгарму майор развернул машины в линию. По рации связался с Щурковым.
Горы теперь нисколько не мешали, и слышимость была отличной.
— Почему влезли в дело? — спросил Полудолин. — Был же ведь уговор.
Он хотел сказать «приказ», но подумал, что слово может придать совсем иной смысл вопросу. Приказ — это приказ, и его следует выполнять. Не выполнил — отвечай по всей строгости. А здесь с кого требовать ответа? Ведь не из боя ушел Щурков, а влез в него, втянулся. Может, иного выхода не было. Значит, до выяснения деталей вспоминать о приказе не следует.
— Не мог иначе, — ответил Щурков. — Не могу я объяснять. Мне кажется, у духов большие уши. У вас Мартиросян далеко?
— Здесь. — Полудолин еще не догадывался, в чем дело.
— Я дам микрофон Авакяну. Пусть родной язык вспомнят.
Теперь Полудолин все понял.
— Рядовой Мартиросян, к рации! Будете говорить.
Эфир зазвучал армянскими голосами. Мартиросян едва успевал переводить.
— Капитан Щурков докладывает, — говорил он, — когда рота подошла к рубежу, там вел бой взвод афганской армии. Его крепко прижали. Пришлось выручать.
— Откуда же взялись афганцы? — спросил Полудолин недоуменно. — Их здесь быть не должно.
— Капитан Щурков говорит: ему некогда было выяснять.
— Пусть доложит, как его зажали.
— Говорит, обложили плотно. Но рота сидит крепко. Он оставил в резерве взвод и не разрешил ему втягиваться в долину. Когда рота вошла в бой, на нее из лощины обрушилась засада. Взвод Мирошкина ударил по духам сзади. Сейчас, говорит капитан Щурков… Не знаю, как это перевести… Ну, наверное, шашлык: одно мясо, один помидор, опять одно мясо…
— Слоеный пирог, — подсказал Полудолин.
— Верно, пирог, — согласился Мартиросян. — Сейчас у них так: афганцы, рота, духи, опять наши. Пирог.
— Потери есть?
— Два ранения.
— Степень?
— Касательное в бедро. Лейтенант Климов. Сквозное в предплечье. Рядовой Совко. Оба легкие. А вот противник…
— Все, Мартиросян. Мне статистика ни к чему.
— Пусть бы доложили, товарищ майор, — сказал лейтенант Максимов, стоявший рядом. Ему не терпелось узнать, что же там настрогали щурковцы. — Для дела.
— Не надо. Цыплят по осени считают. Летний подсчет — статистика, не больше.
— Не понял, — признался Максимов. — Что это значит?
— Знаешь, лейтенант, как из стограммового апельсина надавить сто двадцать граммов соку? Обычными методами нельзя. Методами статистики — можно.
Полудолин повернулся к Мартиросяну:
— Передайте, пусть держатся. Через час-полтора мы духов вычистим с тыла. Предупредите, чтобы меня не вызывали. Категорически! Радиомолчание до начала нашей атаки. Передал? Добро.
Полудолин расстелил карту на большом плоском камне, как на столе, и придавил ее углы бурыми булыгами. Взглянул на карту, потом осмотрелся, стараясь увидеть главные ориентиры на местности и увязать план с действительностью.
Долина, как ему показалось, напоминала лунный пейзаж из приключенческого фильма. Со всех сторон ее окружали высокие, почти отвесные стены, образованные черными, блестевшими как стекло скалами. Река, вытекавшая из прогала, бурлила и гневалась, встречая малейшее сопротивление. Ее пенистая струя слепо билась о берега, в заводях кружились густые хлопья пены. Все внутреннее пространство между рекой и скалами по правому берегу было завалено огромными камнями. Словно буйный великан понакидал их туда в порыве отчаяния или гнева.
Дорога, вившаяся по левому берегу, обходила слоистую и сыпучую, как торт «наполеон», горушку, делала пологий вираж.
— Как думаете, Максимов, оставили духи кого-нибудь в лощине, из которой вышла засада?
— Думаю, не оставили, — ответил лейтенант без колебаний.
— Почему так считаете?
— Духи в горах — как вода. Рванулись, ударили скопом — и растеклись. Банда, одним словом. Им надо было роту взять в клещи. Они и взяли. Зачем в таком деле резерв держать? Они любят действовать лавой.
— Тогда иного выхода у нас нет, кроме как царапаться в скалы. Потом выйдем во фланг духам через ту же лощину, что и они.
Максимов задрал голову, оглядывая громоздившийся над ними кряж. Сказал оценивающе:
— Час ползти. Если одолеем, конечно.
— Взгромоздимся. Здесь нам никто не помешает. Будем лезть, как на учениях. Важно, чтобы Щурков продержался.
Оставив бронегруппу внизу, они двинулись в гору.
Поначалу вверх вели плоские ступени — плиты. Идти пришлось с осторожностью. Ступени только на первый взгляд казались удобными и надежными. Камень давно источили ветер, жара, холод. В плитах затаились коварные трещины. Они были насквозь изъедены имя. Едва ступишь, раздавался пугающий хруст, будто под ноги попал осколок лампочки.
Местами крутой откос перехлестывали колючие языки осыпей. Они казались живыми, хотя стекали медленно и беззвучно. Стоило наступить на эти клыки ногами, и они начинали глухо звенеть. Потревоженные камни с хрустом выжимали друг друга с занятых мест. Осыпь быстро начинала ползти, увлекая за собой неосторожных. Поток гравия наливался яростью, которую дотоле хранил в себе, срывался с утесов с тяжелым гулом.
— Осторожно, — предупредил Максимов солдат. — Нельзя тревожить. Увлечет к чертовой матери!
— Не увлечет! — беспечно сказал рядовой Слюньков и прицелился ногой в середину очередного на его пути языка. — Я быстро.
— Отставить! — приказал лейтенант. — В тебе сколько весу, Слюньков? Сорок пять? А в камушках — тысяча тонн. Они поезд уволокут. Понял?
Полкилометра, отделявшие их от гребня, солдаты преодолевали целый час.
С высоты открывался удивительный вид на огромную страну гор. На далеких снежных вершинах, маячивших на востоке, играли солнечные лучи. Пики вершин льдисто сахарились. Где-то рядом, остывая, потрескивали скалы. Природа раскачивала камни, то нагревая, то остужая их. Отламываясь от материнской груди, обломки с шорохом падали в осыпь и, прокатившись немного, застывали среди множества себе подобных, серых и острых.
Полудолин подошел к краю провала, не ощущая ни волнения, ни страха. В глубине, там, где раньше пряталась засада душманов, царил сумрак. Оттуда потягивало свежей сыростью. Сразу же за провалом вверх уходили крутостенные громады скал, и чтобы увидеть вершины, к которым они устремлялись, надо было задирать голову.
Полудолин впервые с такой отчетливостью почувствовал, что стоит перед стеной, которая отгородила его от привычного мира, перед стеной непреодолимой и вечной. Здесь победу не могла обеспечить ни электроника, ни какая другая современная техника. Только человек, крепкий, выносливый, смелый, мог выполнить трудное, недоступное машинам дело.
Он обернулся и увидел, что все заняты делом. Никто не подавал команд, не подгонял людей, а они работали. Разматывали страховочные веревки, готовили скальные крючья. У каждого была своя, определенная заранее обязанность. И каждый знал, что сейчас результат их работы только один — жизнь или смерть.
— Я пойду первым, — сказал Полудолин. Сказал, несмотря на то что знал — именно ему этого делать не надо. Но он не представлял, что могут сделать солдаты, на что они способны, на что их хватит. С другой стороны, он хотел показать людям, что может сделать все, что здесь необходимо. В памяти засели слова комбата: «Ты еще не наш».
— Нет, товарищ майор, — возразил Максимов. — Пойдет первым сержант Синяков. Он сделает все лучше нас с вами.
Полудолин не стал возражать. Еще два дня назад трудно было предугадать, как бы он повел себя в подобной ситуации. Все же его слово — приказ. Раз приказ — какие могут быть возражения? Но сейчас он знал, главное — это дело, и именно о деле заботился лейтенант.
Все здесь вершилось во имя победы. Пусть небольшой, всего лишь в ротном масштабе. Но цену за нее загодя назначать не стоит. Чем меньше уплачено на войне за успех, тем он ценнее.
— Давай, Синяков. — Майор положил руку на плечо сержанта, приготовившегося к спуску, словно хотел передать частицу своей силы и уверенности человеку, которого посылал на опасное дело.
Солдат с благодарностью посмотрел ему прямо в глаза и улыбнулся:
— Я пошел. — И вскинул руку ладонью вперед.
Один за другим уходили вниз солдаты. Спуск шел благополучно.
Лощина хранила духоту и полумрак. По разбросанным консервным банкам и пустым сигаретным пачкам они определили место, где в засаде отсиживались душманы. Прикинули, что их было не более сорока.
Полудолин вызвал Щуркова. Снова Мартиросян надел наушники и взял микрофон.
— Мы на фланге духов, — передал Полудолин. — Сейчас атакуем. Пусть ваш резервный взвод поддержит огнем.
— С моей стороны навстречу пойдут афганцы, — сообщил Щурков. — Ударят вслед за вами. Их немного, но боевые!
— Начинаем! — объявил Мартиросян.
Стремительный выход советских солдат из лощины, в которой они сами недавно скрывались, для душманов стал катастрофической неожиданностью. Боевой порядок сломался. Бандгруппа начала поспешно отступать к реке.
Как ни выстраивай цепь для атаки в горных условиях, линия неизбежно ломается и у нее появляется острие.
В тот раз на острие оказался сержант Николай Синяков.
Не оглядываясь, не заботясь о том, идут ли за ним другие, он рвался вперед широкими, пружинящими шагами. Перебегал от камня к камню. Почти не пригибался. После нескольких шагов бросался на землю и лежал, тяжело дыша. Сердце гулко ухало в груди. Кровь толчками стучала в уши.
Передохнув, он поднимался и с упорством одержимого шел дальше, бросаясь то вправо, то влево, туда, где видел удобные укрытия.
Оторвавшись от остальных, Синяков проскочил голое место и оказался среди кустарника. Здесь можно было передвигаться во весь рост. Более того — тот, кто не боялся встать, получал преимущество над теми, кто лежал или стоял на коленях.
Уже дважды сержант замечал затаившихся в кустарнике духов и дважды поставил им точку из автомата.
Усталость, усугубляемая первоминутным волнением, уже прошла. Он втянулся в ритм атаки, и нервная дрожь сама собой прекратилась.
Теперь Синяков двигался с большей уверенностью.
Колючки корявого кустарника — шиповник, что ли? — царапали руки, лезли в лицо, но он шагал напрямик, даже не пытаясь искать удобный проход в этом сплетении цепких ветвей.
Впереди он заметил кривое дерево, стоявшее у самой реки. Понял, окажись он там — позиция позволит одному прикрыть весь берег.
Синяков ринулся вперед, прибавив скорость.
Как назло, кустарник кончился. Открылось голое пространство, усыпанное галечником. Пришлось ползти.
Локти, колени то и дело торкались в острые закраины угловатых камней, но он не сдвигал их с дороги, даже если мог, — не было времени возиться с такой ерундой.
Сержант упорно полз напрямик, зная, что надо спешить, что он выиграет, если быстро окажется у кривого дерева.
Позади его раздался озорной выкрик Васькова:
— Коля, друг, не топорщи гуз! Влепит дух блямбу в дуплю, весь вид испоганит!
Кто-то из оставшихся сзади громко, почти исступленно загоготал.
Синяков на миг задержался, перевернулся на бок, чтобы увидеть товарищей, и крикнул в ответ:
— Попридержи язык, Васек! Не оторвало бы!
В это время справа спереди по нему ударили звонкие автоматы. Опустив голову, Синяков подтянулся к большому круглому камню, который нащупал рукой.
Несколько пуль цвикнули над ним, словно сработал модный городской квартирный звонок, щебечущий под птичку.
Когда автоматы стихли, Синяков поднял голову и замер. Во рту пересохло. Все это время он прятался, подгребая к себе боевую часть неразорвавшегося реактивного снаряда. Когда и как он попал сюда — не известно. Упал и лежал как колода, постепенно ржавея. Николай, не глядя, подтянул его к себе и коротал обстрел, ощущая полную безопасность. Надо же!
Немного погодя он вскочил, рывком одолел метров десять и оказался у небольшого горбатого выступа речных наносов. Здесь-то и взялись за него духи всерьез. Судя по всему, его заметили и теперь били прицельно.
Сержант слышал, как пули ударяли в камень над ним с тупым звуком, будто кто-то бил палкой по сырому песку.
Его так и подмывало вскочить, отбежать, перекатиться в сторону, но он понимал, что все эти броские киноприемы в данной ситуации ничего хорошего не дадут. Сейчас только хилый бугор да серый камень прикрывали его от прямых попаданий. Лишись он укрытия, и духи свое возьмут сразу. Они не промахнутся.
Автомат неожиданно застучал совсем рядом, чуть правее его. Кто-то из солдат перескочил открытое пространство и оказался за валуном, который позволял встать во весь рост.
Синяков ощутил волну радости. Не зря все же они занимались в дни, свободные от походов. Не зря! Тяжело в ученье, куда тяжелей в бою. Но если знаешь реальные трудности, как-то смелее принимаешь их на плечи, чем если бы они обрушились на тебя внезапно.
«Сейчас духи уйдут», — решил Синяков.
Он подобрал длинную каменную сосульку, надел на нее каску и стал осторожно приподнимать над укрытием.
Выстрел с той стороны грянул внезапно. Каска глухо ухнула и, отброшенная ударом, покатилась в сторону. Синяков тихо выругался. Надо же так сглупить! Теперь придется лежать, пока не стихнет перестрелка.
С противоположной стороны реки дробно рассыпался гулкий стук двух десятков автоматов. Отстукав, они смолкли.
— Духи сдаются! — закричал позади Синякова горластый Васьков. — Смотри в оба, ребята!
Синяков встал и пошел поднимать свою каску. Она лежала торчком, застряв между двух камней. На крутом боку ее темнела глубокая вмятина.
— Что, Коля, — сказал, подходя к Синякову, ефрейтор Квасов, — казенное имущество калечишь?
Держа автоматы на изготовку, ребята стали прочесывать кустарник.
* * *
К майору Полудолину, еще не остывшему от горячки схватки, подошел лейтенант Максимов. Сдвинул каску на затылок, вытер рукавом мокрый лоб. Доложил уныло:
— Все, товарищ майор, двадцать два духа сложили оружие.
— Почему такой хмурый? — весело спросил Полудолин. Он еще не знал, что командиру после боя, не выслушав всех докладов, радоваться преждевременно. Нужно уметь сдерживать чувства, даже если они и переполняют тебя.
— Ефрейтора Глазова убили, — доложил Максимов. — Наповал.
— Где? — спросил Полудолин.
Настроение враз померкло. Тупое, сонное безразличие захлестнуло сознание. Только усилием воли Полудолин заставил себя сдвинуться с места.
— Пойдем.
Они вышли к берегу реки. Глазов лежал непохожий на себя, непривычно спокойный. Голова подоткнулась под большой, обшелушенный ветром камень, обе руки и пулемет оказались под телом. Лицо белело как гипсовая маска.
Полудолин посмотрел на стоявших вокруг солдат. По взглядам и выражению лиц понял — от него ждут каких-то слов. Но слова, нужные для подобного случая, на ум не приходили.
— Вот так, ребята, — только и сказал он дрогнувшим голосом. — Вот так…
Полудолин устало сел на камень рядом с телом, безвольно опустил руки между колен. Смерть впервые прошла совсем рядом с ним, и он ощутил глубокое отвращение ко всему, чем вынужден был заниматься.
«Я не боюсь смерти, — подумал он. — Жалко, конечно, умирать, но чего, собственно, жалеть? Произойдет это годом раньше или десятью позже, все одно — произойдет. И я ведь о том, что умер, сам никогда не узнаю, как не знал об этом Глазов. Мою смерть увидят и оценят только другие. Так чего же бояться?..»
Как ни убеждал он себя в нормальности происшедшего, — война все-таки! — как ни пытался внушить себе полное безразличие к смерти, на душе было гадко и возможное расставание с миром казалось просто ужасным.
— Товарищ майор, — тряхнул его за плечо лейтенант Максимов, — к вам пришли. Пожалуйста…
— Да? — Полудолин отрешенно встал. — Кто пришел?
— Афганский взводный. Это его ребята броском прижали духов. Вот он. Переводить будет рядовой Акбаров.
Полудолин с удивлением смотрел на командира афганцев. Совсем еще мальчик — бебрито (то есть безусый), тощий — тонкая шея в воротнике хомутом, впалые щеки и темные, живые, горящие отвагой глаза. Вооруженный двумя автоматами — один на шее, другой перекинут через плечо, — в другом месте и в другое время он сошел бы за юнца, решившего поиграть в солдатики. Но все, что успел сообщить по радио Щурков о джагре — битве, которую дал душманам взвод афганцев, попавших в окружение, заставляло видеть в пареньке настоящего командира, пылкого, боевого, решительного и, главное, хитрого.
Полудолин крепко пожал твердую ладонь афганца. Представился кратко:
— Майор.
— Ахмад, — в свою очередь сказал афганец. И, широко улыбаясь, поблагодарил: — Ташакур кавем, товарич. Хэ. Хорошо. — И быстро заговорил по-своему.
— Он предлагает вместе провести амал, — перевел Акбаров. — Как это? Да, лучше, наверное, сказать — акцию. Говорит, нас теперь очень много. Надо ударить. Быстро бить надо, пока бандиты не ушли в горы. Нельзя дать им убегать. Это плохие бандиты. Их ангризи готовили.
— Что такое ангризи? — спросил Полудолип.
— Виноват. Ангризи — значит английцы.
Полудолин положил руку на плечо Ахмада. Тот довольно улыбнулся.
— Скажите ему, Акбаров, амал мы отложим. Сейчас еще не время. Надо немного подождать.
— Ахмад говорит, он подчиняется. Вы большой раис — начальник. Но сам бы он не ждал.
— Надо, — твердо сказал Полудолин. Тон его был таков, что Ахмад подтянулся и вскинул руку к фуражке.
— Он согласен, товарищ майор, — перевел Акбаров, выслушав Ахмада. — Если надо, подождет.
— Может быть, ему надо возвратиться? — спросил Полудолин. — Задерживать не станем.
— Нет, товарищ майор. Ахмад будет ждать. Говорит, у него сердце кипит. Там, в банде, есть один дарамар, лучше даже сказать — бандит. Он был в их кишлаке маллак. Наверное, бай, помещик.
— Слушай, Акбаров, скажи ему: дарамар, маллак — мне все равно. Душман есть душман. Ими мы и займемся. Но есть для этого срок, и надо подождать. Пусть он лучше объяснит, как взвод оказался в Ширгарме.
— Ахмад говорит, — перевел Акбаров, — взвод преследовал бандгруппу. Долго преследовал. Тридцать километров, наверное. Она сюда бросилась. В Ширгарм. Он за ней пошел. Здесь засада была.
— Все ясно. Теперь, Акбаров, извинись за меня. Мы с Ахмадом еще поговорим. А сейчас — дела. — Полудолин протянул руку взводному.
Капитан Щурков, увидев подходившего замполита, заспешил с докладом.
— Как Климов? Сильно его? — спросил Полудолин.
— Сделана перевязка. Укол. Из строя уходить не хочет.
— Добро. А солдат?
— Утром отправим Совко в Жердахт. Там им займутся всерьез.
— А я Глазова потерял… — сказал Полудолин отрешенно, как говорят о своей вине в каком-то важном деле. — Так вот…
Помолчал, полез за сигаретами. Оба закурили.
— Пора вставать на ночь, — сказал Щурков. — Приказывайте, товарищ майор.
Полудолин посмотрел на ротного иронически:
— Игорь Васильевич! А мне комбат говорил, будто Щурков самостоятельный.
Капитан смутился. Пытался объяснить:
— Вы старший и по званию и по должности. Я решил…
— Нет уж! — отрезал майор. — Здесь ваше направление. Ваша рота. Вы и решайте. Вмешиваться я не буду.
Сейчас он во всем походил на комбата, и это нисколько не задевало собственного самолюбия.
— Есть! — ответил Щурков без особых эмоций, но Полудолин заметил, как тот сразу ожил.
На ночь подразделения расположились так, чтобы образовать круговую оборону. Ротный сам разметил сектора обстрела, указал, где должны занять позиции бэтээры. Поставили усиленные сторожевые посты. Офицеры определили очередность дежурств.
Ночь пришла быстро, холодная и неуютная.
В час лейтенанта Максимова потрясли за плечо, вырывая из тяжелого, беспокойного сна. Чей-то хриплый голос прогудел над ухом:
— Пора, товарищ лейтенант.
Максимов открыл глаза, чувствуя, что окоченел до боли. Зябкая дрожь неприятно пронизывала тело. Губы, пересохшие от ветра, с трудом разжимались.
— Люди спят? — спросил Максимов.
— Кто как, — ответил солдат негромко. — Одни спят, другим томно.
— Надо спать, надо, — сказал лейтенант.
Он понимал — заснуть в такой обстановке не так-то просто, но командирское положение обязывало его повторять советы. Вдруг подействует.
Он встал, провел пятерней по непокорным, разлохматившимся волосам, нахлобучил каску. Огляделся.
Безмолвная долина таила скрытую угрозу. На юго-востоке темнела стена зубчатых гор. Вершины их, словно подсвеченные дрожащим ночником, таинственно мерцали.
Откуда-то потянуло табачным дымом. Максимов обернулся. В темноте, как зрак светофора, маячила сигарета.
— Убрать огонь! — возмущенно прикрикнул лейтенант. — Кури в рукав! Жить надоело?!
Мирные привычки, въевшиеся в поведение людей, никак не оставляли их даже здесь.
— Есть! — ответили из темноты, и огонек исчез.
Тут же прозвучал вопрос:
— Товарищ лейтенант, а почему говорят, что третьему от одной спички прикуривать на войне плохая примета?
— Это не примета, — ответил Максимов. — Это, ребята, опыт. Один прикурил — снайпер засек огонек. Второй прикурил — он прицелился. А третий больше курить не станет. Ясно?
— Так точно.
— Курить только в рукав!
Максимов поднялся на высокий плоский бугор, образованный огромным скальным наплывом. Века, промчавшиеся над землей, изъели камень, истолкли, искрошили его.
Лейтенант шел вверх, будто по ступеням. Крошка шуршала под его ногами. Неожиданно он замер и положил палец на спуск автомата. Где-то рядом, из камней, раздался истошно-пугающий крик. Он начался на низкой, басовитой ноте и по мере звучания все набирал и набирал высоту. Потом вдруг резко оборвался щенячьим обиженным взвизгиванием. Тут же издалека, будто откликаясь на призыв, кто-то другой разразился громким захлебистым смехом. «Шакалы!» — догадался Максимов, хотя еще никогда до того не слышал концертов этих обитателей каменистых долин.
Мир стыл в зыбком мраке. Вдруг Максимову показалось, что легкая, едва заметная тень скользнула впереди. Не раздалось ни шороха, ни звука. Так умеют ходить только звери. Но он заметил: впереди что-то погасло и снова загорелось, будто далекий огонек, заслоненный на мгновение рукой. Лейтенант тихо подвинул автомат, положил палец в крутую ложбинку спуска.
Вот опять что-то двинулось впереди. И так же ни звука, ни шороха.
Напрягая глаза, он вглядывался в темень. Действительно, какие-то тени бесшумно скользили по самой границе мрака и зыбкого полусвета. Люди шли, сгибаясь под тяжелой ношей, один за другим, равномерным шагом, видимо хорошо ориентируясь в темноте.
Максимов уже не сомневался — душманы! Стараясь не звякнуть металлом о камень, он поудобнее положил автомат на крупный обломок скалы, припал на колено и стал прицеливаться.
Едва он прикрывал глаз, тени расплывались и исчезали во мраке. Максимов в душе выругался.
В тишине автомат простучал тяжелым отбойным молотком, крушащим бетонную мостовую. Оранжевое пламя забилось, заметалось перед глазами.
Когда он кончил стрелять, в глазах еще долго маячили зеленые колеблющиеся сполохи.
С той стороны, куда ушли светлые нити трасс, не раздалось ни звука. «Может, я зря? — подумал Максимов расстроенно. — Наверное, привиделось. Вот шуток будет!»
Но, словно опровергая его сомнения, противоположная сторона взорвалась слепящим пламенем. Пульсирующие вспышки забились над темными скалами. Они ломались, расплескивались, свивались в волокна блещущих трасс.
Пули задевали скалы, рикошетировали и фонтанными струями взвивались в небо.
Максимов не отвечал. Он видел — духи бьют наугад. Расчет на скрытность не оправдался, и это их взбесило.
Неожиданный удар автомата сбил банду с тайной тропы. Теперь, не зная, чего ожидать от шурави, они беснуются, не жалея огня.
— Максимов, — раздался сзади голос Щуркова, — ты сам-то цел?
— Цел, — ответил лейтенант.
— Ты их пуганул? Молодец! Теперь пусть погремят. Это нам только на пользу.
— Почему на пользу? — спросил Максимов.
— Ребят надо почаще обстреливать. Молодые поймут, что не всякая стрельба опасна, что и под огнем жить можно.
«Надо же, — мелькнула у Максимова завистливая мысль, — о чем он думает. А я даже испугался, что такой шквал огня вызвал».
Струясь искрами, над ними посвистывали на разные голоса пули. Духи безумствовали.
Наконец стрельба стихла. Ночь брала свое.
С вражеской стороны ветер доносил гортанные голоса душманов. Максимов однажды был на охоте, и ему запомнилось гоготание гусиной стаи. Самих птиц он, правда, не видел, их скрывали густые камышовые заросли. И сейчас ему казалось, что где-то за скалами опустилась гулкая стая гусей.
Легко поднявшись, он распрямился, свел лопатки, энергично взмахнул руками, разгоняя застоявшуюся кровь.
С вершин тянуло колючим холодом. Он крепко потер шею, машинально отметив, что пора постричься. Усмехнулся такой сугубо домашней мысли, посетившей его на переднем крае.
Поправил автомат, осторожными, нашаривающими дорогу шагами стал спускаться на тропу.
* * *
Утром обнаружилось — душманы снялись со своей позиции и ушли. На всем протяжении долины — до ее поворота километрах в двух от места расположения роты — Не было замечено ничего подозрительного.
— Что будем делать? — спросил Щурков Полудолина.
— Товарищ капитан, — ответил тот подчеркнуто официально, — обычно в таких случаях командир сообщает свое решение. У вас оно есть?
— Понял, товарищ майор, — сказал ротный и подтянулся. — Разрешите доложить?
— Докладывайте.
— Считаю необходимым начать продвижение до восстановления контакта с бандой.
— Почему так?
— Если бы духи не ушли, а мы стали двигаться за ними по пятам, минная опасность оказалась бы минимальной. Уверен, уходя, духи нашпиговали долину взрывчаткой. Идти придется медленно. А идти надо будет во всех случаях. Мы на предполье. Главная линия обороны у Кадыра в районе зеленого массива. Это километров пять отсюда. Надо подойти как можно ближе и восстановить с бандой огневой контакт. У них не должно оставаться свободы маневра.
— А если не пойдем? — Сам Полудолин уже просчитал возможности действий и хотел только услышать, совпадает ли его оценка с тем, как мыслит обстановку Щурков.
— Возникнут две опасности, — сказал капитан. — Прежде всего, духи заподозрят неладное. Силы подошли, а удара нет. В чем дело? Не будет ли атаки с другого направления? Для нас такая их догадка — минус. Далее, когда главные силы батальона зажмут Кадыра с тыла, мы окажемся далеко от дела. Боюсь, что пройти эти пять километров дня не хватит.
Щурков как в воду глядел.
Сюрпризы начались, едва машины стали вытягиваться в колонну.
Бэтээр командира роты уже год водил Курбан Адылов — лихой трудолюбивый туркмен. Днем он не выпускал из рук руля, ночью возился с машиной. Когда спал — сказать трудно. Однако от помощи других водителей отказывался. «Своего коня чужими руками не чистят», — говорил Курбан.
Еще он славился в батальоне лингвистическими способностями. Чужесловье давалось ему удивительно легко. «Поихалы?» — спрашивал он ротного с таким запорожским выговором, что Щурков от удивления не сразу находился что ответить.
Тронув бэтээр по команде «Вперед!», Курбан проехал не более десятка метров и вдруг резко затормозил.
Машина дернулась, будто ударилась обо что-то, и присела на рессорах.
— Товарищ капитан, — доложил Курбан, — бачу, шось такэ поганэ.
Солдаты соскочили с брони на дорожную твердь.
Щурков поднял руку, не разрешая никому сдвинуться с места.
Перед капотом машины, едва заметная в неровном свете, тянулась к скале тонкая проволока.
Подбежавшие саперы быстро разобрались, в чем дело. Две мощные мины были заделаны на уступе утеса с небольшим интервалом. Взрыв их, направленный сбоку, снес бы бронетранспортер с дороги, как спичечную коробку.
— Как же ты увидел? — спросил Щурков, прогоняя зябкость минутного испуга.
— Дывлюсь та бачу, — сказал Курбан смиренно, — шось такэ блыскае.
— Ну, гарный ты у мэни хлопчик, — заметил Щурков в тон солдату. — Дывлюсь та бачу.
Пока саперы занимались разминированием, все отошли от них подальше.
— Авакян! — позвал Щурков своего радиста.
— Я, — выступил вперед чернявый ефрейтор.
Он вскинул руку к каске и замер в ожидании приказаний.
— Слушай, дорогой, — сказал капитан, — только отвечай честно. Ты этого башибузука Курбана, случайно, не учишь армянскому?
— Пока нет, — ответил Авакян. — Но он очень просит.
Курбан стоял с непроницаемым видом, едва сдерживая улыбку. Задал он заботу ротному!
— Не поддавайся, Авакян! На следующей мине он нас всех ухлопает. Дывлюсь та бачу!
Теперь движение колонны возглавили саперы.
Сосредоточенные, отключенные от всего, что оставалось за их плечами, солдаты со щупами медленно торили путь.
Работали с величайшей осторожностью. Каждый знал дело. Через руки саперов прошли сотни вместилищ смерти, хитроумных, увесистых, разноцветных, но — одинаково опасных.
За час отработали всего километр дороги. Пришлось сменить тактику. Заметив, что колонна медленно, но верно продвигается, душманы прикрыли дорогу пулеметным огнем, выслав вперед небольшие группы фанатиков. Работать открыто, в полный рост, стало невозможно.
— Танк вперед! — приказал Щурков.
Командир саперов лейтенант Черепанов смотрел на капитана с удивлением. На всякий случай предупредил:
— Потеряем машину.
— Спокойно, Черепанов. — Щурков подозвал командира танка: — Работать придется из-под брони. Два удара по днищу — метр вперед. Три удара — назад. Один — стой.
Взглянув на сапера, Щурков распорядился:
— Начну сам. Вы приглядитесь, будете продолжать.
Он полз под танком от кормы. Днище, заляпанное грязью, казалось, давило его к земле. Подумал: «Теперь и у меня пузо грязное».
Пахло соляркой и машинным маслом. Нагретая броня дышала смрадным теплом.
Он выполз под лобовой срез. Увидел перед собой каменистое полотно дороги, проход между скал, отороченный каменными зубцами, клип голубого неба. Дышать стало легче.
Достал нож. Пододвинулся к левой гусенице. Вытянул руку и воткнул нож в грунт.
Хрустнули камни. Лезвие утло в землю по самую рукоятку.
Щурков выдернул нож и воткнул его чуть правее, перед собой. Заскрипели мелкие камешки, но лезвие не вошло в грунт на всю глубину.
Он устроился поудобнее и стал разгребать щебенку. Копал аккуратно, без рывков. Руки кололи острые камни. Вспомнил фильм об археологах, который когда-то видел. Подумал, что ему самому сейчас очень кстати была бы деревянная лопаточка и кисть.
Он еще несколько раз провел руками по крошке, разгребая ее в стороны. Из грунта в образовавшейся ямке показалась оранжевая пластмассовая коробка.
«Вот сейчас бы ее я обмести кисточкой, — подумал он со злом и сквозь зубы выругался. — Потом выставить бы ее в музее современной итальянской культуры. С табличкой: «Мина противотанковая. Тип ТС/6. Пластмассовая. Устанавливается вручную. Вес — девять шестьсот. Вес взрывчатки — шесть кило. Взрыватель пневмомеханический. Оборудуется элементами неизвлекаемости». Пусть смотрят любители изящных искусств».
Осторожно вынув коробку из углубления, он отшвырнул ее в сторону откоса. Прислушался. Изделие с итальянской надписью покатилось вниз, слабо постукивая.
Щурков продвинулся чуть вперед, почти выползая из-под танка, и опять воткнул нож в грунт. Снова лезвие ушло в грунт по рукоятку.
Ашрары ставили мины плотнее чем по две штуки на квадратный метр. Навезли им добра благодетели, и они щедро разбрасывали смерть по земле.
Он представил, что, если рванет только одна мина, неизбежно «сыграют» вальс смерти и другие, лежащие неподалеку.
Что-то тренькнуло о броню танка. Он поначалу не понял что. Может, камешек отлетел. Однако когда впереди, метрах в двух от него, плеснули фонтанчики пыли, понял — стреляют.
В тот же миг заработал пулемет. Это капитана прикрывал сержант Табеев.
Щурков понял — высовываться из-под танка теперь опасно. Он как черепаха — живое тело, прикрытое сверху тяжелым танковым панцирем. Чтобы достать его под танком, нужно стричь по самой земле, по уровню дороги. А сделать этого нельзя. Дорога неровная, как ни тщись, пули до него не долетят. Даже со ста метров. А ближе духов никто не подпустит.
Он дважды стукнул рукояткой ножа о днище машины. Броня тупо ухнула. Тут же изнутри чем-то звонким, должно быть гаечным ключом, дважды дали ответ. Щурков сдвинулся к середине дороги и лег плашмя, для чего-то прикрыв голову руками.
Будто взрыв, на него обрушился грохот взревевшего двигателя. Сизый вонючий дым пополз по дороге. Заклубилась с камней пыль.
Танк осторожно, словно боясь за прочность дороги, лязгнул гусеницами и продвинулся на метр вперед. Слегка качнулся, останавливаясь. И тут же двигатель смолк.
Некоторое время Щурков лежал неподвижно, приходя в себя после грохота. По броне изнутри звякнули ключом — все в порядке.
Он опять выполз к левой гусенице и воткнул нож в грунт.
И опять была мина.
Он копал и копал, сдирая ногти об острую стеклянистую крошку.
Вдруг его пальцы запутались в каких-то нитях. Он их не видел, но чувствовал — попал в силки. Сначала по инерции потянул руку вверх, но тут же замер, сдерживая дыхание. Нити на мине — это, возможно, привод натяжного взрывателя.
Понимание случившегося пронзило сознание. Спина под рубахой вмиг замокрела, будто на нее плеснули горячую воду.
Со щемящим чувством тоски Щурков подумал, что, может, это и есть его последняя минута перед нежданным финишем жизни.
Не хотелось верить в такую страшную несправедливость, но и не верить было нельзя. Реальность — вот она, под рукой. Вспомнил разговор с преподавателем саперного дела в военном училище. Блистая красноречием, он, курсант Щурков, сказал тогда: «Саперы работают без права на ошибку». Прочитал в какой-то газете броский заголовок и на всякий случай запомнил. А здесь взял и выложил как свое, пережитое. Майор качнул головой: «Красиво, конечно, но глупо, курсант Щурков. Право на ошибку есть у каждого. Ни закон, ни Конституция нас его не лишают. Но у сапера, как в сказке, — право только на одну ошибку. Она первая и последняя…»
Щурков осторожно двинул пальцем и опять почувствовал, что связан с миной чем-то невидимым, но прочным.
Он сжал зубы и левой рукой стал осторожно отгребать крошку. Надо было очистить от земли правую кисть, чтобы увидеть, в чем же она завязла.
Постепенно ямка углублялась, и рука открылась. Он смотрел на нее, словно никогда не видел дотоле. Кисть была серой от пыли. Каменная крошка набилась между золотисто-рыжих волосинок, густо топорщившихся у ребра ладони. На суставах пальцев чернели свежие ссадины. Проступившие капли крови припорошила пыль, и они запеклись коростой. «Теперь и укол от столбняка не понадобится», — с острой жалостью подумал Щурков.
Он осторожно отодвинул голову к руке, чуть пригнул ее, прикрыл глаза, набрал воздуха в легкие и сильно дунул. Колючая пыль брызнула в лицо. Он подождал немного и открыл глаза. Увидел, что указательный и средний пальцы перехвачены золотистой, должно быть медной, проволокой, которая обоими концами уходила куда-то в глубину, под мину.
Стараясь не потянуть проволоку наверх, он стал выпутываться из силков. Двигал руку на себя, невольно сдерживая дыхание. Потом возвращал пальцы в прежнее положение, стараясь расширить петлю у пут. Двигал и следил за миной, хотя понимал, что лучше бы ее не видеть вообще.
Медленно, словно нехотя, проволочное кольцо расширялось. Щурков освободил из него сначала один палец, потом другой.
Оттянул руку и отполз поглубже под днище, не желая видеть оранжевую коробку дьявола. Лег на спину и размял затекшую кисть. Успокоил дыхание. Вернулся на прежнее место. Осмотрел мину. Сомнений не оставалось: изделие оборудовано элементами неизвлекаемости. Сволочная система, произведенная под оливами апеннинского сапога.
Щурков снова взялся за дело.
Круговыми движениями рук, уподобляясь горшечнику, лепящему сосуд, он выпростал из грунта ребристый бочонок. Оглядел его и стал осторожно прилаживать к корпусу цепкие лапки «кошки».
Удалось это не сразу. Зацепы при малейшем неловком движении соскальзывали с гладких ребер, и он инстинктивно вздрагивал от пугающего скрежета.
Внезапно в метре от Щуркова что-то пискнуло. Краем глаза он увидел, как сверкнула длинная искра. Рядом с гусеницей на черном камне прорисовалась неглубокая, но заметная черта. Ее высекла пуля. Тут же рядом невидимая рука прочертила вторую линию. Запахло кремнем, из которого высекают огонь.
И опять полосой вздыбилась пыль, будто невидимая метла шваркнула по земле.
Щурков отполз под танк. По нему бил снайпер. Очевидно, сверхметкий стрелок. Такое определение капитану встретилось в одном случайно попавшем ему в руки словаре. Он еще тогда подумал: что же такое сверхметкость, если достаточно быть просто метким для попадания в цель?
— Назаров, следи! — крикнул капитан ротному снайперу. — Надо найти охотника!
— Понял, ищу! — тут же последовал ответ.
Прошло минут десять. Справа от танка негромко ухнула снайперская винтовка. Довольным голосом Назаров доложил капитану:
— Всё, он спекся. Сделано!
Щурков выдвинулся к рабочему месту и закрепил «кошку» на мине.
Он работал более получаса, а снял только восемь римских «сюрпризов». Позвал лейтенанта Черепанова:
— Давай потрудись, командир. Сорок минут, больше не надо, потеряешь осторожность.
Натужно сопя, будто таща на себе тяжелый груз, лейтенант заполз под танк.
— Ложись рядом, — сказал Щурков.
Сапер устроился на боку, подогнув ноги.
— Плохо лег, — заметил Щурков. — Так ты долго не наработаешь. Располагайся с комфортом. Никакая мелочь не должна беспокоить. Чтобы нигде не тянуло. Нож в правую руку. Взял?
— В правую не могу, — ответил лейтенант. — Я левша.
— Замечательно! Свой Левша — это блеск. Не только блоху подкуем — целое стадо! Теперь начинай. Не спеша. Помни, аллах за нас.
— Почему за нас? — удивился лейтенант.
Щурков усмехнулся:
— Изучай боевые традиции. Твой взвод… Ах да, это еще без тебя год назад в кишлаке Данд у мечети крышу правили. Духи рванули, наши — ремонтировали. Как считаешь, на чьей стороне всемилостивый? Теперь начинай.
Лейтенант с размаху всадил нож в грунт.
— Э! — остановил его Щурков. — Сила есть, ума не надо? Учти, не духа бьешь. А вдруг там противопехотка? Давай без нажима.
Лейтенант воткнул нож в землю теперь уже с осторожностью.
— Есть, — сказал он с удивлением. Подвинулся вперед и стал разгребать камни.
— Что? — спросил Щурков.
— Точно, противопехотка. Вот гады! Ниже — рёбра противотанковой.
— Не спеши. Давай сообразим. Тут ловушка может оказаться…
Четыре километра они преодолевали двенадцать часов.
Шаг за шагом. То и дело выгребая из-под ног кастрюли, наполненные варевом смерти в знаменитых европейских кухнях войны.
От камня к камню. Сбивая засады оголтелых фанатиков, которых Кадыр направил для прикрытия минных полей.
Ущелье стало заметно просторнее. Синь неба над ними раскинулась шире и свободнее. Пенистый поток реки ушел в сторону, к дальним отвесам, и гул воды сделался слабее.
Щурков оглядел долину в бинокль и остался доволен. Теперь перед ними лежала главная линия обороны душманов. Та, к которой они стремились.
Духи молчали, ожидая опрометчивой атаки шурави, но Щурков и без отметок, поставленных огнем, знал ориентиры позиции противника.
Слева на склоне, круто взбегавшем вверх, прятались хорошо замаскированные гнезда крупнокалиберных пулеметов. В середине позиции, перекрывая дорогу, таилось заделанное в грунт мощное фугасное заграждение. Стоило только отряженному на то душману повернуть ручку индуктора — и в воздух взлетит все, что хоть случайно окажется рядом.
В двадцать три ноль пять эфир выдал сигнал: «Чибис». Фестиваль восемь, восемь, восемь».
Это означало, что батальон прошел краевые ущелья и блокировал Ширгарм со стороны Дарбара. Назавтра, на двенадцать, назначался удар по позициям душманов.
Утро пропало в суете, обычно предшествующей ответственному делу.
Щурков выстроил боевой порядок, найдя в нем место и лейтенанту Ахмаду с его взводом. Подтянул поближе к первому эшелону артиллерийскую батарею. Подошла и развернулась в тылу медицина. Боепитание подало боеприпасы. Прибыли офицеры связи, представлявшие авиацию.
В одиннадцать пятьдесят штаб запросил по рации:
— «Чибис», ваша готовность?
— Я «Чибис», — доложил Щурков полным напряжения голосом. — Начал отсчет времени.
Ротный и Полудолин, укрывшись за широким бортом бэтээра, следили за часами.
Три стрелки в стремлении сблизиться шли к одной точке.
— «Чибис», — предупредил эфир. — Фестиваль! Фестиваль! Фестиваль!
Серебристые стрелы истребителей-бомбардировщиков прошивали пространство, отбрасывая назад трубно-ревущие звуки.
Обойдя горный массив, эскадрилья зашла на рубеж боевой работы со стороны солнца. Теперь светило, клокотавшее яростью полуденного огня, работало против инфракрасных головок зенитных ракет.
В незримой точке голубого пространства машины разбросались веером, круто ринулись в высоту и уже оттуда, из натянутого струной, звенящего зенита, резко бросились вниз, набирая скорость.
Самолеты неслись к земле, оставаясь невидимыми. Только в какой-то миг черные тени пробегали по скалам и с такой же быстротой исчезали.
Удар, обрушившийся с высоты, казалось, потряс основы мироздания. Дрогнул мир. Качнулась под ногами и тяжелыми волнами заходила земля. Огромная стена камней и дыма, подсвеченная оранжевым пламенем, встала поперек ущелья.
Клубы бурой гари вырвались из теснин, поднялись ввысь и обрушились на землю гулким камнепадом.
Несколько минут спустя вторая волна огня, сопровождаемая оглушительным грохотом, фейерверком смерти, пронеслась по ущелью.
«Вот она, война, — подумал Щурков со злостью. — Сюда бы сейчас господ парламентариев. А потом их с полными штанами… прямо за стол переговоров. Сволочи!»
Впервые с такой ясностью он ощущал, что ненавидит дело, которым сейчас занят. Так, должно быть, ненавидят огонь пожарные, хотя всякий раз, преодолевая чувство страха и отвращения, лезут в пекло, чтобы задушить пламя.
Там, где еще недавно была позиция душманов, все кипело в дыму и огне, трещало, рвалось, гудело. Вверх взлетали камни, клубы бушующей копоти.
Глядя на это, Щурков не испытывал ни злорадства, ни торжества. Разрушительная сила, свирепствовавшая в долине, была делом вынужденным, неизбежным.
Едва отклубилась пыль, чуть раздуло едкую гарь, как прозвучала команда «Вперед!».
Теперь, когда отработала авиация, в дело вступали мотострелки. Как ни сокрушай оборону, все равно где-то в камнях, среди расселин, на удобных взгорках остались ашрары, давшие священную клятву попасть в долгожданный рай именно сегодня. Выковырнуть их из укрытий, заставить замолчать, принудить вскинуть руки над головой, вымести с дороги все, что мешает нормальному мирному движению, — непростая огневая работа. И вся она на плечах чистильщиков — тех, кого в силу традиций зовут рядовыми.
Развернувшись в цепь, рота плотно перехватила долину. И пошла…
— Патроны беречь! — подал команду Щурков.
Его беспокоила лихая пальба, которая донеслась со стороны левого фланга.
— Беречь патроны!
Он побежал к большому серому камню, смещаясь вправо. На бегу увидел: то, что издали казалось кучей гальки, было телом душмана. Освобождая для себя место, Щурков оттолкнул ногой тяжелую тушу. Потянуло сладковатым, тошнотворным запахом тлена.
Хлопок взрыва, рванувшего перед камнем, ударил в уши. Сверху с шорохом посыпалась каменная крошка. Легкие захлестнула колючая гарь.
Задыхаясь, Щурков тряхнул головой. Внезапная глухота отступала постепенно. Еще раз помотав головой, он посмотрел вперед. В прогалине, отделявшей его от крутого уступа, шла группа душманов. «Три… пять… десять», — машинально подсчитал он и поудобнее приладил автомат на упоре.
Бандиты двигались, не открывая огня.
Тщательно прицеливаясь, Щурков начал подрезать атакующих короткими очередями с правого фланга. Вот споткнулся и с размаху ткнулся головой в камни невысокий, в чалме, душман. Его автомат отлетел в сторону и пополз по склону.
«Есть», — отметил Щурков и перенес огонь левее.
Позади него отрывисто застучал пулемет. Пули всплеснули пыль под ногами духов. Пулеметчик поправил прицел и сразу выбил из линии трех душманов.
Справа и слева, далеко оторвавшись от ротного, перебежками перемещались стрелки.
— Не отставай! — крикнул Щурков Авакяну, который все время держался рядом, а сейчас припоздал, и рванулся вперед.
Он то и дело перепрыгивал через камни, высоко подбрасывая ноги. На бегу менял направление, чтобы не налететь на обломки скал, которые не было возможности перепрыгнуть. По голеням его хлестали прутья разросшихся кустов.
Щурков бежал не оглядываясь. Вдруг по правой ноге чем-то шибануло. Он подумал, что наткнулся на сук, по инерции перескочил куст и на ровном месте, без всякой видимой причины, рухнул на землю.
Удар пришелся на левый локоть. Щекой он наткнулся на прицельную рамку автомата и распорол до крови кожу.
Еще не зная, в чем дело, он попытался привстать, но, едва наступил на раненую ногу, повалился. С растерянностью определил: «Вот и ранен». Стало не по себе. Горячий пот поплыл по телу.
Только в такие минуты, пахнущие горелой взрывчаткой, на грани жизни и небытия, человек по-настоящему ощущает бренную хрупкость своего существования. Все — ужас тяжелых ран, чужая смерть, — все, что еще вчера, час, минуту назад, казалось, не задевало его самого, вдруг обрушивается тяжелым ударом.
Щурков какое-то время лежал, совершенно не ощущая боли. Просто собственная нога казалась чужой, а может, вовсе деревянной и не беспокоила его. Пугало другое. Возникая в затылке, голову волнами окатывала туманящая слабость, и ему все труднее удавалось сохранять ясность сознания. Один раз он провалился во тьму, а придя в себя, с пугающей очевидностью подумал: всё, он умирает. Хотел закричать, потянулся рукой к автомату, чтобы выстрелить — надо же привлечь к себе чье-то внимание, — но не успел. Темная пелена наплыла мутной тенью, отключила сознание…
* * *
Щурков пришел в себя, не понимая, где он и что с ним. Дернулся, пытаясь встать, но чья-то твердая рука прижала его к земле.
— Лежи, голубчик, лежи, — произнес деревянный голос. — Все хорошо. Главное, не дергайся.
— Доктор? — спросил Щурков, узнавая Морякина.
— Я, голубчик. Я. Ты только лежи.
Приподняв голову, Щурков огляделся. Он возле того же куста, где и упал. Рядом с ним, бледный, с заострившимся кончиком носа, лежал рядовой Авакян. Над ним, склонившись, хлопотал санинструктор Сальников.
— Жив он? — спросил Щурков, облизав пересохшие губы.
— Жив, — ответил Сальников. — Все в порядке. Только больно кровистый.
Услыхав разговор, Авакян шевельнулся. Слегка, на самую малость, приоткрыл глаза и, тяжело шевеля губами, прошептал:
— Товарищ капитан… мой автомат… цел?..
Щурков поначалу даже не понял, о чей речь, настолько неожиданно прозвучал вопрос. Наконец, уразумев, что беспокоило Авакяна, он тронул его лоб рукой. Успокоил:
— Лежи спокойно, Шаген. Все цело. Все. Кроме вот тебя.
— Я ничего… — силясь улыбнуться, шепнул солдат. — Вы только автомат… поберегите. Очень прошу…
— Хорошо, сынок. Побережем.
Подошли санитары. Хотели положить Щуркова на носилки.
— Отставить! — поднял голос капитан и повернулся к Морякину: — Помогите мне сесть в машину. Потом долечусь. Потом.
Морякин дал знак санитарам, согласно кивнув.
Ротного на руках донесли до бэтээра. Подтянувшись, он занял привычное место.
Курбан, высунувшись из люка, с тревогой смотрел на командира, но ни о чем не спрашивал.
— Вперед! — сказал Щурков. И добавил: — Только ты не гони, казаче.
Бэтээр осторожно двинулся с места. Размеренно мельтеша роторами, над ними прошла вертолетная пара. Скрылась за горбатым кряжем.
Минуту спустя глухой протяжный грохот прокатился над скалами. Дрогнула земля. Раз, второй…
— Товарищ капитан! — закричал Курбан весело. — Хорошо работают вертушки! Там перья вверх полетели.
Со стороны Дарбара над долиной взвились три ракеты красного дыма. Лопнув в высоте, они распахнулись клубящимися султанами.
— Наши! — облегченно воскликнул Щурков. — Смотри, Курбан, в оба! Опрометчиво не палить!
В это время со стороны Жердахта в долину Ширгарм уже втягивалась огромная колонна. Впереди шел бэтээр с солдатами царендоя. За ними, наполняя окружающий мир гулом моторов, двигались работяги ЗИЛы, терпеливые «татры».
Шли бортовые машины, самосвалы, цистерны, фургоны, трейлеры.
Шли на Дарбар.
Шли, утверждая силу и неодолимость новой, открытой для страны гор жизни.
Среди каменистых взгорий вьется унылая дорога афганской глубинки — рах. Она то сбегает пыльной колеей с откосов, то лентою серпантина взбирается на сыпучие кручи, лепится к скальным стенкам, пробивается через узости теснин, чтобы выбраться на простор плодородной долины и вольно бежать вдоль арыков — джоев — до новых линий хребтов, круч и скал.
Кто пробил этот путь первым? Сколько ног и копыт ударило за веки вечные по твердому камню, пока на нем не появились первые признаки торного раха? Кто знает? Кто ведает? Кто может ответить?
Вот семенит по дорожной ленте долготерпеливый маркаб — афганский ишачок-вездеход. Надежный друг и незаменимый помощник крестьянина-бедняка, равно пригодный к работе в степи и в горах. За маркабом бредет пахгозар — пешеход. Бородатый чалмач шествует, заложив за спину посох, закинув на него натруженные руки. Движется мерно, не торопясь. Да и куда спешить? Поспешишь — людей смеяться заставишь. Тише будешь шагать — дальше уйдешь. Бежать захочешь — ненароком споткнешься…
Так, оберегаемый тысячевековой мудростью, движется лахгозар к своей цели неторопливо, но неудержимо.
По той же дороге, нагоняя пешехода, следующего за своим ишачком, поднимая белесую пыль до самого неба, проносится могучий грузовик — лари. Проносится и исчезает за поворотом, оставив после себя как воспоминание оседающую на камни пыль и запах вонючего перегара.
И вроде бы ничего не случилось, не произошло. Обычная для нас картина — случайная встреча на дороге. Дело будничное, привычное. Так, пустяк.
Между тем — о, где вы, мудрецы и философы! — случилось и произошло весьма удивительное.
В один и тот же временной миг, коснувшись, но не потревожив одна другую, промчались и разминулись две разные эпохи, два разных мира, две цивилизации различного измерения.
Не верите? Тогда у человека, сидящего за баранкой лари, в традиционной шапочке он или в обычной чалме, спросите, куда держит путь на своей машине. И он даст ответ, который ничем нас не удивит. Ответ человека двадцатого века: «Еду из Кабула в Джалалабад. Надеюсь, скоро доберусь».
Потом задайте тот же вопрос пахгозару, с посохом чертящему пыль ногами. «Э, уважаемый, — ответит вам чалмоносец степенно, — собирался в Джалалабад. Но куда приду, известно только аллаху. Все мы пыль на его священных ногах, и ветер провидения может сдуть нас в любое мгновение. Вот собирался попасть к месту завтра к утру. Да попаду ли, пусть будет благословенно священное имя пророка!»
Два разных вида движения, два мировосприятия и мировоззрения. С одной стороны, диктуемый машиной темп, с другой — текучая неторопливость, рассчитанная на силу ног пешехода и выносливость маркаба. Они встретились, разминулись и не поняли, что разделены непреодолимой пока стеной времени.
Существуя одномоментно, явления отстоят друг от друга на расстояние разных, почти несовместимых эпох.
— Что соединяет людей? — спросил любопытный человек мудреца.
— Дорога, — ответил тот без раздумий.
— Что их разъединяет?
— Дорога, — ответил мудрец.
Задумался человек, не поняв великой мудрости ответа. Да и как ее понять неученому? Чтобы проверить сомнения, человек еще раз обратился к ученому носителю мудрости и повторил свой вопрос:
— Что соединяет людей?
— Время, — ответил мудрый.
— Что же тогда их разъединяет?
— Время, — таким был ответ.
Еще более удивился непонятливый искатель истины и подошел к третьему мудрецу. И опять спросил:
— Что соединяет людей?
— Идеи, — ответил тот кратко.
— Что же разъединяет их, о мудрейший?
— Идеи.
Совсем расстроился человек. Двинулся в долгий путь. Явился в город. Нашел мудрейшего из самых мудрых. И задал ему свой вопрос:
— Что соединяет людей?
— Дружба, — ответил мудрейший.
— Что же их, в таком случае, разъединяет?
— Вражда.
— Вах! — сказал человек удрученно. И признался мудрейшему из самых мудрых: — Как мне, простому дехканину, верить в ученость мудрых, если ни один ответ их не совпал с предыдущими? Четыре мудреца из разных мест и четыре непохожих мнения. Как быть простому?
— Как тебя зовут, человек? — спросил мудрейший из самых мудрых.
— Я Икрам Ахмак [17] из кишлака Падархейль.
— Почему тебя прозвали Ахмак?
— А как еще можно назвать человека, если у него ума ни на медный пули [18]? Если встречным и поперечным он задает вопросы, ибо сам ни в чем разобраться не может?
— Что же ты спрашиваешь у людей?
— Спрашивал, почему солнце днем белое, а к вечеру краснеет? Почему летом — лето, а зимой — зима? Кому не надоест такое, и кто после таких вопросов будет считать человека умным?
— Успокойся, уважаемый Икрам, — сказал мудрейший из самых мудрых. — Потому что ты давно не Икрам Ахмак, ты — Икрам Хаким [19]. Ибо задавать вопросы и внимать поучениям — удел мудрости. Не только тот, кто умеет говорить и поучать, бывает мудрецом. Поучают порой и глупцы, глупей которых только маркаб. Мудрец чаще всего тот, кто спрашивает, кто слушает и сомневается. Ты не принял на веру три ответа, пошел за четвертым. Между тем все три мудреца были правы, как прав и я. Благословен тот, кто ищет поучения. Поучение — это бриллиант мудрости. Умение слушать, внимать поучениям — оправа для бриллианта. Все вместе делает знания перстнем величия. И ты его достоин, простой человек.
Поучение, произносимое старшими, — это сосуд, наполненный живительной влагой знаний, которая с бережностью и тщанием передается от поколения к поколению…
* * *
Возле стана, где шпун Захир расположился на дневку, в кустах перекати-поля дети углядели стайку кекликов.
— Можно, я выстрелю? — спросил Рахим у отца.
— Стреляй, сынок, да будет благословен твой прицел, — разрешил старик.
Мальчик прицелился. Выстрелил. Стайка птиц, шелестя крыльями, взмыла над степью.
— Не попал, — признал свой промах мальчик.
— Мне стыдно, — сказал старый пастух, — За тебя стыдно, Рахим. Куропатки сидели так близко и так чинно, что не попасть в них было нельзя. Ты выстрелил и промахнулся, Рахим. Это позор для мужчины нашего рода. Если пуля пущена, она должна найти цель. Мне жаль не патрона. Мне больно, что ты так плохо целился. В какую из куропаток смотрел твой глаз?
— Отец, — сказал Рахим, — я метил сразу в обеих. Они сидели рядом так удобно, что я не мог выбрать достойную птицу, чтобы целить только в нее. Решил, что две сразу будет лучше для нас всех…
— Уй-ваяй! — сказал в отчаянье шпун Захир. — Ты, Рахим, наверное, не знал, что уподобляешься рыжей глупой лисе.
— Расскажите, отец, про лису, — попросили ребята. — Мы не знаем, в чем показала она свою глупость.
— Слушайте и запоминайте, если не хотите выглядеть глупо. Было все так, как всегда бывает. Рыжая лиса, спесивая и самодовольная, шла по лесу своим лисьим путем, о котором никто не ведает, кроме аллаха. Вдруг жадный глаз ее заметил цыпленка. Разгорелся аппетит у завистливой. Стала она потихоньку подкрадываться к глупому желтышу, который спокойно клевал в траве червячков и не думал о том, что нужно оглядываться по сторонам. Вдруг над головой лисы что-то зашевелилось, зашебаршилось. Подняла зеленый глаз рыжая — о аллах великий, о милосердный! — прямо над ней, на ветке большого толстого чинара, сидел красивый жирный фазан. Такой глупый и жирный, каких лиса давно уже не видала.
«Ах, — сказала себе лиса, — эта добыча куда более достойна моего лисьего аппетита, чем тощий, едва вылупившийся из яйца цыпленок. Его хватит на один зуб моего желания, а фазана я стану жевать целый час, превратив время в сплошное наслаждение. Попирую, порадуюсь!» Сказала так себе и полезла на чинар, где сидел фазан. Только не лисье дело забираться на ветки. Где глупость берет верх над гордостью, хорошему не бывать. Когти пообломала лиса, брюхо изрядно поцарапала, хотя своего достигла — влезла на ветку.
Наконец глянула рыжая на место, где видела недавно фазана, а оно пустое, будто там вовек никого не бывало. Только листья шелестели и смеялись над глупой хвастуньей с завистливым оком. «Ничего, — попыталась утешить себя лиса. — Пока я прогоняла с места нахального фазана, который сел на ветку, где ему сидеть не положено, цыпленок уже подрос и стал достоин, чтобы им занялась такая важная лиса, как я».
Спрыгнула лисица наземь и поглядела туда, где еще недавно ходил и клевал червячков маленький глупый цыпленок — сын белой курицы и красного петуха. А его там уже не было. Глупа и бестолкова была лисица, ибо сказано мудрыми: не старайся одной рукой ухватить двух птиц, если не хочешь оказаться обманутым в своих надеждах…
— А ты, Рахим, — засмеялся Рахмат весело, — хотел двух кекликов ухватить. Ха-ха-ха!
— Сын мой, — прервал его веселье старый пастух. — Рахим друг твой и брат. Ты же над ним смеешься. Тогда скажи мне, что самое надежное в битве с врагом?
— Это меч, я думаю, — ответил Рахмат. — Верно, отец?
— А что самое прочное в битве?
— Это щит-сепар, я думаю.
— А что самое сильное на свете?
— Золото, отец.
— Ты во многом прав, но еще в большем ошибаешься, сын мой. Меч — только продолжение руки воина. В битве он может дать победу. Но что случится, если меч сломается в схватке, а рядом не окажется верного друга? Значит, друг в битве нужнее меча. Он последняя надежда. Друг и вдохновит, и поддержит, и перевяжет рану, и поделится своей последней лепешкой. Щит, конечно, надежен и прочен. Но разве от злой молвы, клеветы и наветов можно оградить себя самым большим щитом? Конечно же нет, мои дети. Только дружба, искренняя, не знающая лицемерия и корысти, ограждает человека от клеветы и наветов. Друг подаст руку в беде, поддержит ослабевшего на горной тропе, защитит перед общественным мнением. Друг скажет правду владыкам, когда черные сердца и ядовитые языки выльют на его приятеля зло наветов. Да, дети, золото — великая сила. Оно движет царствами, укрепляет могущество правителей правоверных. Только никогда не завидуйте богатству богатых, дети мои. Мир наш будто огромная чаша, наполненная соблазнами, как золотистым густым медом, от края до края. А мы, грешные, просто-напросто сладколюбивые мухи. Только учуем запах медовой сладости и сразу устремляемся к чаше, даже не подумав, почему и зачем летим. Забываем сразу обо всем — о достоинстве, совести, чести. И каждый старается окунуться в удовольствия поглубже, залезть в сладости подальше, зачерпнуть их побольше. Только не ведают люди, что настает час, когда к ним приходит расплата. Великий Азраил — да будет благословенно его имя! — прилетает, взмахивает крылами над чашей мирских удовольствий, и те, кто погряз глубоко в сладком меду, остаются на месте. Удается улететь лишь тем, кто не лез в гущу недозволенной сладости. А кто остался, тот погружается в трясину смертельных объятий. Ибо сказано: стремящийся к благам земным да зашьет себе иглой разума око зависти во имя богатства духовного, которое доступно даже слепым.
Конечно, дети мои, звон злата ласкает слух жадности. Но многие ли могут, не ограбив других, позволить себе вечерами, спрятавшись в укромном углу своего дома, наслаждаться звоном пересыпаемой из руки в руку монеты? Зато простой бедняк-музыкант звоном струн и песнопением способен усладить души многих людей, не обрекая их на жадность и лютость. Усладить, сделать добрее, щедрее и благороднее. Звон злата сужает мир до размеров обычного кошелька, раздувает скупость до размеров горы. Звон струн распахивает перед душами простор мира и вечности, а все поганое выметает из помыслов, как мусор ненужности. Так какой же выбор следует сделать разумному? Только один — выбрать дружбу. Ибо сказано: холодный ветер злой судьбы размечет солому одиночества без жалости, если она не скреплена узами дружбы. Такой, какой была наполнена жизнь Сулеймана Магрура и Кадира Бечары.
— Расскажите, отец, если можно, — попросил смиренно Рахмат.
— Расскажу, ребята, как слышал. Мне о том поведал Исматулла Кривоносый, а ему передал Тохир Шиндани, который сам все услыхал от Бекназара Алимбеги. Сказали они, что жил на свете бедняк Сулейман Магрур. Ничего не имел, кроме работящих рук, меры честности и большой гордости. Прожил он сколько прожил, и все годы были его, и невзгоды его, и радости, но никто, кроме аллаха, не звал и не ведал о том. В горе Сулейман никогда не отчаивался, не стенал, не плакал. В радости не предавался разгулу и удачами не бахвалился. Был ко всему у Сулеймана друг — Кадир Бечара, добрый и верный человек. Одна беда — судьба не щадила Кадира, время не жаловало. Долго ли, коротко ли, но выпала на долю друзей страшная тягота. Повелитель правоверных собрал под зеленое знамя лихих сартеров, чтобы окоротить руку насильников, протянувшуюся к их пределам. Двинулись сарбазы на врага подобно потоку, который ринулся с гор в долину после проливного дождя. И не было силы, которая могла бы сдержать их силу, и не было воли, способной сломать их волю. Два храбреца — джанбаза — Сулейман Магрур и Кадир Бечара бились рядом. Своими мечами стерли они надписи в книгах жизни многих вражеских воинов. Но стрела смерти сорвалась с тетивы злобы и вонзилась в грудь Сулеймана. Он упал замертво, и сартер из вражьего стана встал над ним, чтобы мечом жестокости отделить голову несчастного от бренного тела. Кадир Бечара увидел это. Кровь закипела, бросилась в жилу гнева, вздула ее приступом ярости. Он бросился на врага, взмахнул мечом и поразил нечестивца лезвием мести.
Потом Кадир отнес друга своего Сулеймана в укрытие и ухаживал за ним, пока здоровье снова не наполнило силой сосуд его слабого тела. Тогда и сказал Сулейман верное слово: «Слушайте, люди! Красота дружбы в верности. Жизнь моя и верность принадлежат безраздельно Кадиру Бечаре. Он мой друг отныне и навеки, пока аллах не возьмет наши жизни».
Испытание дружбы — преодоление трудностей. Выпало оно и на жребий Сулеймана. Кто-то из черной зависти, злобного характера бросил опасный навет великому шаху на Кадира Бечару. Явились стражники в тишину дома оклеветанного бедняги и водворили его в зиндан — тюрьму обреченных на смерть. И тогда Сулейман Магрур вознес клятву усердия, заявив, что скорее даст себя казнить вместо Кадира, чем позволит, чтобы свершилась несправедливость.
С такой благородной мыслью Сулейман в нужный день явился во дворец великого шаха и предстал перед очами повелителя правоверных того края, который был выделен шаху волей аллаха.
— О великий шах! — такую речь повел Сулейман, обращаясь к великому и справедливому. — Видел я сегодня удивительное, о чем не могу не поведать тебе. Здесь, под дворцом, в зиндане обреченных на смерть, томится мой друг Кадир Бечара. Он невиновен, и тому свидетель Пророк правоверных, взявший на себя бремя справедливости и защиты напрасно обиженного. Вечером, когда я вернулся с поля, то понюхал свою лепешку, насладился ее запахом и возлег на ложе, чтобы отдохнуть, а лепешку оставил на утро. Тому, кто работает в поле, еда бывает нужнее с утра.
Шах, услыхав такое, весело засмеялся. Он мог есть всегда — и утром и вечером. Вечером, в кругу приближенных, по обыкновению он съедал даже больше, чем днем, когда бывает жарко и не так весело.
— И вот, — продолжал свой рассказ Сулейман, — лежу я на своем ложе, ни твердом, ни мягком. И спится мне, будто сплю я крепко, хотя дух мой бодрствует. Вдруг слышу голос: «Душа Сулеймана, выйди из тела и подойди ко мне!» И вижу — тело мое так и осталось на ложе, а я вышел из него и пошел на голос. Вижу — передо мной Пророк. Он сказал голосом суровым и повелительным: «Запомни мысль мою, Сулейман! Запомни и проникнись пониманием воли моей». «Слушаю и повинуюсь», — ответил я. «Утром, когда совершишь намаз, иди во дворец. И остереги великого и светлого правителя правоверных от шага ложного и опасного. Скажи, что Кадир Бечара невиновен и тому свидетель я — Пророк». Трудно понять великому тот страх, который от таких слов переполнил душу твоего преданного раба, о справедливый шах. «Я боюсь, о благословенный Пророк», — набрался смелости и сказал я. Сказал потому, что твоя воля всегда была и остается для меня священной, как сура Корана. И еще я сказал Пророку, что наш шах знаменит, что его лучезарная слава достигла пределов соседей и укрепляет веру в странах, лежащих между морем и горами. Я сказал, что при имени нашего повелителя трепещут все враги веры. «Это все я знаю, — так ответил Пророк. — Величие владык земных держится волей тех, кто управляет небесами. Пришло время совершить испытание верности шаха нашему высокому небесному тропу. И этим испытанием будет судьба Кадира Бечары. Я поручаю тебе дело благороднее и опасное. Как бы ты его ни выполнил, запомни — место твое за верность аллаху в кущах небесного рая. Будешь ты пребывать среди пальм радости и гурий наслаждений. А слово, которое ты должен сказать шаху, будет таким: пусть шах немедля отпустит на волю Кадира Бечару и даже даст ему пять золотых».
Великий шах, я испугался больше чем прежде. Где это видано, чтобы наглец, вошедший к тебе с таким предложением, ушел отсюда своими ногами, а не был бы обезглавлен. И сказал я Пророку: «Мне сразу же отрубят голову как возмутителю порядков, установленных во владениях шаха волей аллаха, и будут правы». «Если с твоей головы, Сулейман, падет хоть один волос, — ответил Пророк, — гнев мой будет неотвратим. Мор найдет на владения шаха. И всяк, кто пойдет на него войной, вернется с победой и головой шаха в боевом мешке — джавале». Позволь мне, великий шах, проглотить язык и не повторять того, что сказано было Пророком дальше…
— Ты поступил умно, — сказал шах, — когда умолчал о том, что недостойны услышать уши недопущенных… Я дарую тебе за это монету золота.
Хранитель шахской казны тут же достал монету из кошелька и бросил ее Сулейману.
— Но я боюсь, что твой язык все же не сохранит тайну речей недозволенных, и, чтобы сберечь слова Пророка до нужного времени, заберу твой язык вместе с головой. Так будет надежнее. Разве не так, Сулейман?
Шах засмеялся ловкой выдумке. Визир хлопнул в ладоши, и тут же появился палач. Он опрокинул Сулеймана и взмахнул мечом.
— Постой, — задержал словом меч палача шах. — Может, не стоит тебе, Сулейман, терять голову из-за друга? Я помилую тебя, но ты признайся, что придумал свой сон.
— Нет, — сказал Сулейман. — Не о Кадире Бечаре моя забота, великий шах. Я не могу взять на себя вину перед Пророком, ибо помыслы мои чисты и правильны. Снятая с моих плеч голова снимет с меня вину, и я попаду в рай. Потому приказывай палачу — пусть скатит мою голову в корзину бесчестья. Свои страдания ты увидишь сам.
Сулейман опустился на пол и произнес:
— Давай, палач, приступай к делу!
Палач взмахнул мечом, лезвие свистнуло над головой, но не затронуло шеи несчастного. Во дворце все умели читать волю повелителя по его глазам. Дело, дети, в том, что шах решил выяснить, выдержит ли Сулейман испытание золотом, как выдержал проверку свистом меча. Шах поднял бедняка с колен. Краска жизни сошла со щек его от ужаса острого лезвия и еще не вернулась на них. Шах удалил палача.
— Воистину сказано, — изрек он, — ущерб поспешности велик, а польза от терпения безгранична. Стоя под стрелами жестокости, ты, Сулейман, прикрывался только мечом чести, и лезвие кары не достигло тебя. Но я хочу напомнить тебе одну мудрость. Ты беден, Сулейман, и потому не знаешь вкуса радости и богатства. За них, верь мне, можно отдать все — дружбу и любовь. Однако ты можешь стать богатым. Запомни, нужно только пройти испытание и овладеть сокровищем.
— Глаза мои открыты, уши внимают, — сказал Сулейман.
— Тогда вбирай мой совет без остатка и распорядись им так, чтобы из каждого слова в твой кошелек выпало по золотому.
— Слушаю и повинуюсь, — повторил Сулейман.
— Я дам тебе сто золотых, — сказал шах. Потом подумал и добавил: — Дам тебе двести. А ты признайся, что все придумал, чтобы выручить друга. Я ценю благородство друзей, Сулейман. И хочу видеть рядом с собой такого верного друга. Бери деньги, вот они…
Зазвенел монетами хранитель шахской казны. Заулыбались подкопытники, толпившиеся у трона повелителя. Закивали головами.
Сулейман выхватил нож и тут же отрубил себе один палец. Все ахнули.
— Что ты сделал? — удивился шах.
— Звон твоего золота, повелитель, так прекрасен и столь соблазнителен, что во мне все возжелало богатства. И этот презренный палец, будь проклято воспоминание о нем, решил солгать, чтобы заиметь двести золотых. Я отрубил его, повелитель, чтобы не впасть в грех перед Пророком.
— В чем же был бы твой грех?
— Я хотел ради денег сказать, что придумал свидание с Пророком. Друг бы мой остался в темнице. Я бы получил деньги. Но твое царство, твоя жизнь были бы в опасности. Разве можно такое допустить?
Возрадовался шах такой заботе Сулеймана и приказал отпустить Кадира Бечару и дал обоим друзьям по сто золотых. Когда они возвращались домой, Кадир Бечара спросил друга: «Говорят, ты видел чудо во сне?» «Нет, — ответил Сулейман, — я вообще не вижу снов».
Вот, дети мои, почему и говорят: дружба — сила, которой не преодолеть. Тот истинный друг, кто держал в руках кирпичи дома твоего. Тот враг, кто твой дом разрушил.
— Как это, отец, — спросил Рахим, — кто держал кирпичи?
— Построить дом легче всего, если люди твоего кишлака станут цепочкой и начнут передавать кирпичи из одних рук в другие. Ашар — так именуют пухтуны взаимную помощь. Так вот, истинный друг тот, кто передает кирпичи к дому твоему. Видели вы, что повезли шурави в Дарбар? Там было все, что нужно беднякам. Многое может измениться, может миновать счастливая пора и наступить неудачливая. Но надо помнить, кто передавал кирпичи из рук в руки. Вырастете, не забывайте о том, кто вам помогал в трудный час. И сами не проходите мимо места, где идет стройка ашаром. Чем больше друзей, тем прочнее дом. Тот истинный друг, кто в битве суровой под градом стрел жестокости прикрывал тебя своим боевым щитом. Помните, дети, это шурави подняли руку в нашу защиту. Помните, и пусть благодарность ваших сердец не иссякнет под солнцем засухи. Время звенит как натянутая тетива, а стрела мысли несется быстро и неудержимо. И пусть поучение останется золотом вечным в вашей памяти…
Какого цвета горы? Обычно небо художники рисуют голубым. Море — синим, луга — зеленым.
И все же какого цвета горы?
Оказывается, они полны многоцветья.
У подножия кряжей — зелень лесов и садов. Зелень густая, темная, буйная.
Выше — зелень альпийских лугов, более светлая, яркая.
Выше — бурые, серые, черные громады камня.
Еще выше — сверкающее стекло, хрусталь, сахар вершин.
Небо — одноцветное полотно, раскинутое над миром.
Горы — сверкающая мозаика красок, подпирающая всеми цветами палитры синее небо.
Два дня и две ночи старый охотник Шахзур провел в засаде. У него были с собой всего две лепешки и большая баклага воды. Но он ел и пил очень мало. На третий день у него оставалась еще целая лепешка и половина баклаги воды.
Днями, прижавшись спиной к скале, старик сидел неподвижно, поставив винтовку между колен, и, почти не мигая, смотрел на тропу, едва заметную среди каменных нагромождений.
Старик не волновался, не переживал. В нем перегорело все — желания и надежды, вера в справедливость аллаха и даже стремление к райскому благополучию. Все перегорело, осыпалось пеплом, уступив место глубокому безразличию к себе самому, к своей судьбе. И только ненависть, черпая, испепеляющая душу, жила в нем, заставляла двигаться и дышать.
При одном воспоминании о Хайруллохане у старика перехватывало горло. Он чувствовал, как мертвеют, перестают двигаться губы.
Старик знал — надо беречь силы. Их должно хватить до конца. Раз аллах отступился от него, значит, надо надеяться только на себя. Нельзя ему рассчитывать только на слепое везение.
У старика было всего три патрона. Но это его нисколько не волновало.
Такие охотники, как он, Шахзур, не промахиваются. С давних времен в этих краях каждый патрон доставался человеку непросто. И, уходя на охоту, мужчина знал — выстрел не забава. Это источник существования семьи и рода. Промахнись — дичь уйдет и положишь зубы на полку.
Для горных охотников пулемет — символ расточительности современного мира, пример бессмысленной бесхозяйственности. Стучит он сильно, пороху тратит уйму, а результаты не всегда достойные. Вот бур, старая длинноствольная винтовка, — это вещь. Если выстрелил из нее — значит, убил.
В том, что он убьет Хайруллохана, старик не сомневался ни минуты.
Он сам родился и вырос в Уханлахе. Там же, где родился и вырос проклятый шайтан огня, грязный пожиратель трупов Хайрулло.
Старик знал — этой тайной тропой саркарда пользовался всегда, когда в горах гремели выстрелы. Кровожадный палач боялся открытого огня, всячески старался уйти от боя подальше.
Старик терпеливо ждал своей минуты.
К исходу третьего дня, когда у него оставались всего половина лепешки, четверть баклаги воды и прежние три патрона, на тропе появились два всадника.
Прищурившись, старик угадал — ехали Хайруллохан и его прихвостень, подкопытник Хамид.
Шахзур поднялся, встал и вдруг почувствовал дурноту. Кружилась голова. Он качнулся и замер, опираясь о скалу. С трудом поднял руку, чтобы распахнуть ворот пошире. Так стоял с минуту, глубоко дыша.
Отдохнув и придя в себя, осторожно, словно боясь спугнуть душмана, он подвел мушку под пояс, перехватывавший широкий живот. Плавным движением пальца потянул спуск.
Бур ухнул протяжно и громко. Плечо сильно толкнуло.
Одним подлецом на земле стало меньше.
Тупой удар опрокинул Хамида на спину. Конь испуганно шарахнулся, не удержался на карнизе и сорвался с него.
Хайруллохан, проявив неожиданную прыть, соскочил со своего скакуна и бросился с тропы в сторону.
Пробежав по камням метров двадцать, он почувствовал, что больше не может сделать ни шагу. Сердце, жирный, дряблый мешок — раздутое вместилище честолюбия, гордости и жестокости, — трепыхалось под ребрами, как хвост паршивой овцы, которую преследует волк. Он положил руку на грудь, вытаращил глаза и открыл рот, жадно хватая густой воздух. Легче не становилось.
Но страх подгонял, и он побежал снова.
Легонькой трусцой, на заплетающихся ногах, кисельно подрагивая бараньим задом, Хайруллохан добрался до места, где в отвесном скальном гребне испокон веков зияла щель. Достаточная, чтобы уйти по ней на противоположную сторону склона. Теперь этой щели не оказалось.
— О, шайтан! — вскинув руки, взвыл в отчаянье Хайрулло.
Только сейчас он вспомнил, что сам же советовал капитану Кадыру взорвать все проходы, по которым в трудную минуту могли пройти шурави.
Неудача окончательно смяла саркарду. Размазывая по волосатому лицу липкий пот, перемешанный с грязью, он стоял, прижавшись спиной к камням, и лихорадочно соображал, что делать.
— Эй, Хайрулло! — раздался со стороны захода из камней чей-то возглас. — Молись, шайтан огня! Пришел твой конец!
Саркарда, не видя, откуда кричит человек, инстинктивно вскинул парабеллум. В тот же миг сильный удар, такой, что ожгло ладонь, выбил из его рук пистолет. Выстрел прокатился над ущельем.
Потряхивая обожженными пальцами, Хайруллохан визгливым голосом заорал:
— Кто ты?! Чего тебе надо?!
— Я смерть твоя, поганый шакал!
Страх пополз по спине Хайруллохана и липким потоком пота пролился между лопаток. Все было как во сне. Он хотел рвануться, но не мог шевельнуть рукой, выговорить хоть слово. Горло будто перехватили жестким ошейником. Он сделал еще одно усилие, пытаясь шагнуть, но тоже не смог. И тогда огромное теле вышло из повиновения.
Острая судорога, будто кто-то схватил его кишки и резко дернул вниз, пронзила, передернула живот. Забурчав, содержимое брюха оставило вместилище сытости я горячей волной заполнило брюки. Запахло погано и остро.
Старик сразу понял, что произошло, и опустил винтовку.
— Шайтан! — крикнул он зло и презрительно. — Ай, шайтан! Наконец аллах разорвал твою поганую утробу!
— Ы-ы-ы, — мычал Хайруллохан, задыхаясь от собственного смрада.
— Всю жизнь ты был хорьком, Хайрулло! — прокричал старик. — Только люди этого не видели. Твой срам прикрывали штаны. Теперь и они не смогут этого сделать. Пошли! Пусть все видят!
Саркарда только мычал.
— Не дрожи, шакал. Я тебя убивать не стану. Это было бы слишком легкой участью для тебя. Ты пойдешь со мной. Я поведу тебя через кишлаки. Пусть все видят твой позор. Пусть все знают. Шагай, шакал!
Хайрулло поднялся с камня, на который опустился в изнеможении, и встал, широко растопырив ноги.
— Шагай! Шагай! — раздался приказ.
Распространяя зловоние, страшно икая, гроза гор, опора веры, столп местного душманства пустился в свой последний бесславный путь — к родному кишлаку Уханлах.
Рядом с горой трофейного оружия лежали три увесистых тюка, перевязанных прочной бечевой. Их нашли в том месте, где душман Кадыр располагался со своим штабом. Из разорванной обертки одного из тюков торчали мятые бумажки — листовки. Кто-то, должно быть, вытащил их, посмотрел и сунул назад, смяв предварительно в тугой комок.
— Что будем делать с этим? — Бурлак пнул тюк ногой. — Нового ничего. Антисоветчина, старая, как сам антисоветизм.
— Спалим, — сказал Полудолин. — Обязательно спалим. Но предварительно поговорим с личным составом. Прочитаем листовку, разберем.
— Не принято это, комиссар. Читать клевету на себя — не в традициях.
— Ничего, командир, мы эту погань все-таки прочитаем. Вслух. Вопреки традициям. Чего темнить? Ребята уже видели. Поодиночке. Ты видел. Я. И у каждого ощущение, будто в дерьмо вляпался. В таком состоянии людей оставлять негоже. По-человечески нехорошо.
— Решай сам. Это в конце концов твое дело.
— Почему — в конце концов? Оно мое с начала и до конца. Пора нам перестать бояться клеветы. Она была, есть и будет. Но нельзя, чтобы каждый, кто столкнулся с ней, нес бремя в одиночку. Вынесем ее на обсуждение. Я понимаю, не очень приятно публично говорить на темы ассенизации, но — надо. Люди должны изучать правила политической гигиены, раз их пытаются облипать дерьмом.
Оп взял листовку из тюка и повернулся к капитану Щуркову, который с офицерами стоял неподалеку.
— Постройте, пожалуйста, батальон. В каре.
Когда солдаты построились, Полудолин вышел на середину квадрата. Оглядел строй, увидел сержанта Кудашкина.
— Вот, Дмитрий Иванович, возьмите это и прочитайте нам вслух.
Оп протянул сержанту листовку. Тот взглянул на нее и нахмурился:
— Товарищ майор, можно я не буду? Паскудное это дело. Мне Ахмад-проводник на кучу этих бумажек показал и сказал: хархушой. Ослиное дерьмо, значит. Навоз.
Он по-русски читать не умеет, а по запаху сразу определил, что это за бумажки.
— Надо читать, Митя, — сказал Полудолин, повторяя интонации героя недавно показанного солдатам фильма. — Надо, Митя, надо.
Солдаты засмеялись.
Кудашкин распрямил листовку и начал:
— «Воины Советской Армии! Узбеки, туркмены, таджики, казахи, башкиры, татары, монголы, дагестанцы, азербайджанцы, кабардинцы, украинцы, литовцы, эстонцы, латыши, белорусы, грузины, армяне, русские, евреи, чуваши, якуты, мордва, киргизы, каракалпаки, сибиряки…»
— Минутку отдохните, — сказал Полудолин. — Мы слегка подумаем над таким обращением. Как вы считаете, товарищи, для чего потребовалось такое длинное перечисление? Почему сюда приплели даже сибиряков?
С минуту строй молчал. Неожиданность разговора, начатого замполитом, вызвала некоторую растерянность. Первым вызвался ответить прапорщик Горденко.
— Разрешите предположение, товарищ майор?
— Да, пожалуйста.
— На мой взгляд, это одна из хитростей. Как обычно вещают на нас разные радиоголоса? Они говорят об общих делах страны только так: русские, Россия. Слов «советский», «Советский Союз» будто и не знают. Расчет простой — навязать тем, кто слушает, их мысль — нет у нас общего советского интереса, нет общих народных дел, есть только интерес русских, России.
— Как думаете, товарищи, — спросил Полудолин, — верно взял след прапорщик?
— Я думаю, — подал голос таджик Буриханов, — прапорщик прав. Вбить клин — это всегда их цель.
— Верно. Тогда почему они вдруг пошли на такое перечисление?
— Разрешите? — произнес солдат, стоявший в первой шеренге. — Рядовой Марусин.
— Разрешаю, — с улыбкой сказал Полудолин.
— Думаю, сделано это, чтобы листовка казалась более правдивой, чем вся остальная радиоклевета. Вот, мол, мы к каждому из вас персонально, по национальности.
— И что, получилось это правдивой?
— Думаю, что нет. Как мы тли хотя бы в этом выходе? Разбирался ли кто из нас хоть в какую-то минуту — узбек, армянин или русский рядом? Когда на мне форма, товарищ майор, я не русский, не казахский, не армянский — я советский воин.
— По национальности вы русский?
— Нет, мариец, — ответил Марусин. — Меня эти знатоки национальностей в список не включили.
Строй качнула волна задорного смеха. Полудолин выждал, когда веселость схлынет.
— Продолжайте, сержант, — обратился он к Кудашкину.
— «Вы пришли в Афганистан как солдаты империалистической армии, чтобы колонизировать чужой край».
Гул возмущения покатился по строю.
— Стоп! — махнул рукой Полудолин. — Вопрос ко всем. Слово «империализм» — это базарное ругательство или научный политический термин?
— Ясно, термин. Понятие, — отозвался голос из глубины строя. — Империализм — последняя стадия капитализма. У него целый ряд признаков. Монополии, кризисы, безработица, нищета.
— Отлично, — сказал Полудолин. — Почему же тогда навешивают это понятие на нас?
— Чтобы сбить с толку наивных, — ответил Буриханов. — Будто это просто бранное слово. Я тебя ругнул, ты меня. Только дураков нет, чтобы не понять.
— Хорошо, попробуем разобраться в колонизации этого края…
Так, фразу за фразой, они прочли листовку до конца.
— Теперь, — сказал Полудолин, — самое существенное — подпись. Сержант, кто там в авторах?
— Читаю: «Смерть большевизму! Свобода — народам! Свобода — человеку!» И в скобках написано: «АБН».
— Товарищи, — спросил майор, — кто помнит, когда и по какой причине возникло понятие «большевик»?
— По-моему, — отозвался Буриханов, — в 1903 году. Когда партия разделилась на две части — большую и меньшую. На большевиков и меньшевиков.
— Спасибо. Теперь, кто помнит, когда это слово ушло из официального названия партии?
— В 1952 году, — сказал Мальчиков.
— Верно. А почему?
— Можно я? — подал голос Саттар. — Думаю, товарищ майор, что к тому времени слово «большевик» уже не звучало. Меньшевиков не стало. Партия была единой, коммунистической.
— Верно. Значит, у нас в руках ножницы, которыми легко срезать с АБН маскировку. Разберемся, почему этот блок выступает против большевиков. Почему они не назовут себя прямо антикоммунистическим блоком? Или антисоциалистическим? Догадаться не трудно. Сделай это, и оскал фашизма обозначится сразу. Сегодня со словом «коммунизм» связали свою жизнь миллионы людей. В мире целый ряд стран идет по пути социалистического развития. Попробуй тут объяви себя врагом социализма во весь голос. Если не по морде, то по другому месту быстро схлопочешь. Приходится носить маску. Мы, мол, не против социализма вообще. Мы только против большевиков. Значит — против Советского Союза.
— Это примерно так же, — сказал Кудашкин, — как в двадцатых годах был у контры лозунг «За Советы без большевиков!».
— Верно замечено, — подтвердил Полудолин. — А теперь давайте рассмотрим картинку на этом листке. Обратите внимание на атамана, шагающего впереди банды громил. Против кого они собрались? Видите, на здании надпись «СССР»? И здание уже подожжено. Из окон — пламя. На атамане форма фашистского офицера. Гитлеровца. Брюки бриджи. Китель с накладными карманами. Художника явно гложет тоска по гитлеризму. Тут уж ему не отпереться. Теперь всмотритесь: на земле лежат растоптанные серп, молот, звезда. Сапогами по ним! Сапогами! Ни один из тех, кто привык трудиться, на эти вещи ногой не наступит. Но здесь изображены не рабочий, не хлебороб. Это идут бары, хозяева. Потому дави сапогом все, что других кормит и одевает. Дави! А на знамени что? Трезубец. Он уже давно служит эмблемой антикоммунистов. От Петлюры до Бандеры. Хотят того в АБН или нет, но знак равенства с бандеровцами они сами себе поставили. А разве те зверства, которые мы только что видели своими глазами, не дают права на вывод: антибольшевистский блок народов — это скопище от подонков из сусеков недобитой бандеровщины до поскребышей душманства?
— Точно, — подал кто-то голос из строя.
«Вроде бы Галкин», — подумал Полудолин и порадовался: вот уже и по голосам солдат узнавать стал.
— Еще пару фактов для размышления. Скоро двинемся к броне, и у каждого будет время подумать. Мне капитан Черкашин оставил интересный документ. Листовку. Вот она.
Полудолин поднял над головой зеленый листок бумаги, исписанный арабской вязью.
— Это угроза душманов всем, кто хочет знать правду. Читаю. «Доводится до сведения тех, кто имеет радиоприемники. Пусть знают они, помнят и исполняют: слушать передачи из Кабула — великий, строго наказуемый грех. Впредь во имя аллаха милостивого и справедливого такие деяния будут наказываться штрафом в десять тысяч афгани или отсечением головы». Спросите: какую связь имеют обе листовки? Отвечу: они напечатаны в одной типографии. Вот и подумайте над этим фактом на досуге. А теперь — разойдись!
Солдаты привычно рассыпались в разные стороны.
— Ребята! — подняв руку, весело крикнул Саттар. — Разбирай АБН — и за дувал! Только не забудьте помять как следует!
* * *
В долину, к месту сосредоточения техники, спускались поротно.
Шагалось легко. Не столько от краткого отдыха, сколько от сознания успеха. Люди знали: все, что пришлось пережить, все, что минуло, вдруг сразу отошло в прошлое, обогатило их опытом и воспоминаниями.
Шли, негромко переговариваясь. Смеялись.
— А помнишь? — раздалось вокруг. — Вася-то, Вася… Увидел кудлатого духа — и глаза как плошки. А Федя…
И веселый всплеск смеха превращал в пустяк то, от чего еще вчера мурашки страха вползали под кожу, заставляли сердце невольно сжиматься.
Тропинка, каменистая и довольно крутая, казалась удобной и мягкой. В ущелье, пропитанном влагой, земля беспечно зеленела сочной травой. И никто уже не вспоминал, как еще недавно они ломали лопухи и жевали волокнистые стебли, высасывая из них терпкий сок.
Впереди в радужном облаке брызг рвалась через теснину вздувшаяся от дождей речка.
На одном из поворотов майор Бурлак остановился, пропуская взводы мимо себя. К нему подошел Полудолин.
— Дошли, — сказал он.
— Что? — не понял сразу Бурлак.
— Дошли, говорю, до Дарбара.
— Это да, — согласился комбат без всякой радости. — Теперь у нас дело не менее сложное.
— Что такое? — спросил Полудолин.
— Будем обеспечивать вывод наших полков на Родину.
— Да ну?! — радостно выдохнул замполит.
— Вот так, — спокойно подтвердил комбат.
Мимо них шагали боевые, прошедшие сквозь огонь подразделения.
Впереди, готовый ко всему, сторожко двигался боевой дозор.
Война еще не окончилась. Она лишь где-то затаилась.
Телеграфное агентство Бахтар.
Вчера в Дарбар прибыл большой транспорт из центра. Сюда доставлены керосин, зерно, мука, строительные материалы. Крестьяне охотно приобретают необходимые им товары.
* * *
Телеграфное агентство Бахтар.
В Кабуле состоялась пресс-конференция для иностранных журналистов. Представитель органов безопасности Афганистана проинформировал корреспондентов о действиях группы террористов, подготовленных спецслужбами США. Перед собравшимися выступили террористы — Машад Рахим и Мирзахан. Они сообщили, что прошли обучение в Пакистане на специальной базе в Лэвэканда. Там их обмундировали в советскую военную форму, выдали документы на имя советских военнослужащих. Отвечая на вопросы журналистов, бандит Машад Рахим сообщил, что руководит подготовкой террористов в спецсекторе базы полковник Томпсон. До него это место занимал полковник Каррингтон.
Журналистам были продемонстрированы неопровержимые доказательства причастности спецслужб к терроризму: фальшивые документы, обмундирование, оружие. В пресс-конференции приняли участие свидетели террористических актов — крестьяне, служители культа.
* * *
Юнайтед Пресс Интернешнл. Вашингтон.
На пресс-конференции в Белом доме представителю госдепартамента был задан вопрос об участия сотрудников ЦРУ Томпсона и Каррингтона в подготовке террористических актов против населения Афганистана. Представитель госдепартамента прокомментировать сообщение агентства Бахтар отказался.
* * *
Срочная первой очереди.
Строго лично.
Доктору Томпсону.
Саженцы, выращенные в вашем питомнике, вызвали широкую рекламацию. Директорат фирмы требует прекратить дальнейшую селекцию этого сорта. Срочно сдайте дела профессору Нортону. Возвращайтесь в Центр с отчетом. О получении настоящего донесите.
Р. Браун.
1987 год
1
Рифф-рафф — подонки (англ.)
2
Дурдурака, бурбукей — смерч (пушту).
3
Дурдурака, бурбукей — смерч (пушту).
4
Саркарда — атаман (пушту).
5
Дарамар — бандит (дари)
6
Топхана — артиллерия (дари).
7
Джагра — битва (дари).
8
Ширинзабан — сладкоречивец (фарси).
9
Джаза — наказание.
10
Поханд — профессор (дари).
11
Дурака — ветер (пушту).
12
Плар — отец (пушту)
13
Бизо — обезьяна (пушту).
14
Раис — начальник (дари).
15
АКМ (акаэм) — автомат Калашникова модернизированный.
16
Кагаз — бумага (дари).
17
Ахмак — дурак (дари)
18
Пули — мелкая разменная монета (дари)
19
Хаким — мудрый (дари).