Книга: Фальшивый Фауст
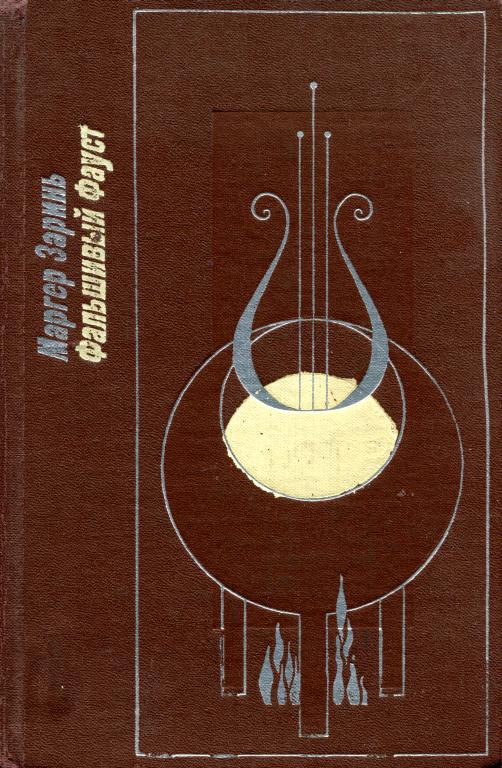


ФАЛЬШИВЫЙ ФАУСТ, ИЛИ ПЕРЕПРАВЛЕННАЯ, ПОПОЛНЕННАЯ ПОВАРЕННАЯ КНИГА П.П.П.
Роман
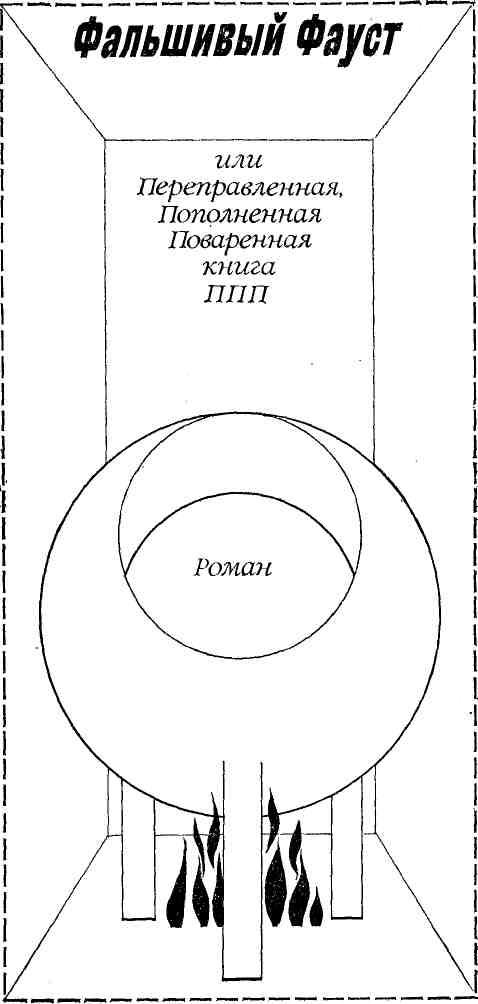
Магистр Янис Вридрикис Трампедах, cand. pharm., досточтимый и рассудительный аптекарь из города Цесиса, будучи утонченным обжорой, распорядился в 1880 году, в Елгаве, в друкарне Пипера и Кимелиса оттиснуть на латышском языке свое бесподобное произведение словесности «П.П.П.» — «Переправленную, пополненную поваренную книгу». Поелику с тех пор миновало довольно много лет и кое-какие яства и пития да и вообще небывалые ранее обычаи и кушания, а равным образом застольные пожелания и здравицы прибавились, то, приняв в соображение, что упомянутый Янис Вридрикис Трампедах немало толковых мыслей в своей «П.П.П.» высказал и весьма приятным языком изложил и цветистым слогом разукрасил, равно как и множество мудрых советов касательно угощений и умения накрывать на стол и ценных наставлений, как беречь здоровье, к книге присовокупил и всевозможные приспособления для жарки, варки и прочей стряпни в картинках изобразил, я почел за нужное все это по мере возможности оставить в первозданном виде, особливо предписанья, в коих, к примеру, говорится о подаче тушеной говядины, супа из спаржи с имбирем, жаренного на вертеле каплуна с печерицами под гвоздичным соусом и также других ныне забытых кушаний, как-то: воздушных пирожных, или безе, приготовленных из шести-семи взбитых яичных белков. Тем более, что мало кто из ныне живущих знает, как надобно приспеть телячий огузок с каштанами, как состряпать крошево или начинок из бубрегов, какая вкусная брезоль получается из жареных воркунов, молозива, сморчков и артишоков, томленных на подбрюшном сале.
От себя к вышереченным наставлениям осмелюсь добавить некоторые неизвестные ранее сведения об убранстве столовых, настенных картинах или натюрмортах, музыкальных ящиках и фарфоре, а также в главе о соитии и об уходе за кожей посоветовать снадобья от бородавок и красных носов. Чтобы занятнее было читать, все советы, касающиеся хозяйства, я постарался изложить как можно искусней, на старинный манер, наподобие беседы между Янисом Вридрикисом, мною самим и еще некоторыми другими знаменитыми мужами, описал также любовные утехи и слезы, присовокупил к ним ужасающие происшествия, почти невероятные, сверхъестественные истории и в самом заключении поведал о печальной кончине провинциального зельника.
В месяце цветене, то бишь в мае 1930 года, мне исполнился двадцать один год. Я был тощий малый, с рыжей бородкой, острый на язык, безалаберно, но пестро одетый и уже влюбленный в даму, с которой, сказать правду, еще не был знаком, поскольку всего лишь раз ее лицезрел на деревенском балу и по той причине принимал за Беатриче, свою несравненную Беатриче, до тех пор, покамест не женился, после каковой женитьбы посвящение на титульном листе стер.
Титульный лист — это все…
Дабы начать свой труд, надобно было разыскать престарелого аптекаря и испросить у него дозволения и согласия, ибо Янис Вридрикис, как назло, был еще жив, — я веду речь о месяце цветене 1930 года. Ему минуло семьдесят лет, но кто мог поручиться, что он не протянет еще лет десять — двадцать. Однако я не имел возможности ждать, пока он опочиет, а равно и не знал, как устроить, чтобы он скорее опочил, и посему пребывал в чрезвычайном смятении. Спокойствие покинуло меня — я воспламенился мыслью: «П.П.П.» будет книгой моей жизни, произведением моего духа. Что с того, что содержание ее частично позаимствовано? Кто из истинных писателей не ворует сюжеты? Разве «Лачплесис» Пумпура[1] или «Опера нищих» Гея и Пепуша не породили новых творений искусства, кои далеко превзошли опусы своих предшественников? Быть может, моя поваренная книга превзойдет оную Трампедаха, а то и все поваренные книги мира, какие доселе написаны? О легковерие юноши, о простота неведения!
Я сделался подлинным остолопом. Душу начали изводить тщеславные поползновения, к которым я был подвержен еще с младенческих лет. Книга непременно должна стать философски-гастрономическим трактатом, едва ли не диссертацией на соискание кандидата медицинских и кулинарных наук, преподнесенной под соусом нравов века и сдобренной гарниром эмоций.
Книга будет — всенепременно…
За дело! Где бы мне найти Яниса Вридрикиса Трампедаха?
В Цесисе сохранилась всего-навсего вывеска «Аптечное заведение магистра Трампедаха», сам он в тамошних пределах больше не показывался, понеже уездный лекарь по имени Джонсон подал на магистра в суд за тайное пользование больных и изготовление чудодейственных снадобий. Именем закона! Насколько я раскумекал, закон был помянут лишь потому, что негодный ослушник и сквалыга отбил у добропорядочного лекаря не только хворых, а также и сверкающие талеры — уж они-то аптекарю не полагались. Расстроенный беглец удалился в неизвестном направлении, а аптеку купил молодой еврей. От него, поклявшись никому не проговориться, я и получил адрес Трампедаха. Означенный зельник открыл фармацевтическую лабораторию в Нижней Курземе, в одном из городков, что стоит на реке Венте, и зажил там тихой, неприметной жизнью. Поблагодарив за сведения, я еще раз дал клятвенное обещание не разглашать тайну и стал собираться в дальний путь.
Итак, одним пригожим вечером месяца цветеня в 1930 году после изнурительной езды на паровике по узкоколейной чугунке, ходьбы по белому пыльному большаку, миновав красный кирпичный мост, я вступил в городок, который в первое мгновение вверг меня в изумление, поскольку там вместо улиц кое-где струилась в каналах ржавая вода, промеж деревьев маячили развалины замков, а по узким, причудливо изогнутым проулкам бродили куры и поросята.
I. ДОМ МАГИСТРА ЯНИСА ВРИДРИКИСА
Янис Вридрикис собрался было перейти в свои темноватые, но роскошно убранные покои рядом с лабораторией, как скоро ему послышалось: по тихой улочке к дому приближались незнакомые шаги и остановились возле входной двери. Престарелый ученый муж страдал манией преследования: ему мнилось, будто лекарь Джонсон разослал по всему свету шпионов и соглядатаев, чтобы разыскать его и похитить рецепты снадобий, настоек, а также разных изысканных блюд и редкостных напитков. Оными рецептами Трампедах стяжал в Цесисе громкую славу, врачевал и услаждал людей, навлекая на себя супость всей медицинской братии. Как тут не стать подозрительным. К примеру сказать, вчера, когда он шел по мосту через Венту, ему померещилось, что какой-то сомнительной наружности хлыщ с котелком на голове крадется за ним следом. Янис Вридрикис сей же час повернул вспять, заперся в своем доме, затворил ставни и просидел в безмолвии до полуночи, хотя прохожий был не кто иной, как владелец мукомольни из Гайтей, который, распалившись от возлияний в питейном доме, тайком пробирался в заречье в Парвенту к девкам. Увидав на мосту аптекаря, он сам не на шутку испугался. Наутро теща мукомола пришла к Керолайне, хозяйке Вридрикиса, и в слезах умоляла упросить господина аптекаря, чтобы он отпустил приворотного зелья, а уж она сумеет подсунуть его зятю, дабы тот не таскался, как ярый порось, в Парвенту.
Янис Вридрикис это подслушал; осознав свой промах, устыдился и дал себе обет впредь не поддаваться столь нездоровым подозрениям, кои начинают походить на явные признаки умопомрачения.
Так-то оно так, но сейчас магистру, что ни говори, все же чудилось, будто за парадной дверью кто-то стоит. Он не мог принудить себя не думать об этом, хотя и был занят серьезным делом, поскольку в перегонный снаряд, то бишь в машину со спиралями, повертками и жарко́го цвета медным алембиком, положил 3 фунта толченых и перебродивших можжевеловых ягод, примешал 10 лотов сушеной artemisia absinthium, или полыни, 10 лотов сушеных корневищ аира, 5 лотов сладкого горчичного порошка, понюшку красной и синей чинарины (centaurea benedicta) и 10 лотов легочной травы (pulmonaria), перемешанной с корешками iris florentina, и возгонял непревзойденный напиток бодрости — джин (Old Dry Gin), каковое пойло еще старые голландцы советовали принимать малахольным морякам, коих трясло при упоминании о морских разбойниках, или выворачивало наизнанку, как скоро начинал свистопляску юго-западный крутень.
Этим зельем Янис Вридрикис спас в Цесисе неисправимого пьяницу Марциса Грушу, который бражничал и лютовал в немилосердном похмелье — delirium tremens. Случилось, что, отведав остывшие пары можжевеловых ягод, Марцис крепко уснул, продрал глаза лишь через двадцать четыре часа и с тех пор не брал в рот ничего другого, как только Old Dry Gin.
Прозрачная зеленоватая роса уже начинала скатываться по холодильной трубке, капала в фарфоровый приемник, распространяя в комнате аромат испаряющихся кислот и эфирных масел, при одном вдыхании каковых в душе воцарялась благодать. Однако же большая часть толчи еще морилась в медном алембике, и пройдет добрый час, пока можно будет приступить ко вторичной перегонке.
Странно… Таинственный прохожий стоял у парадного входа и молчал. Подобное поведение внушало магистру страх, сказать точнее, тихий ужас… Кто бы это мог быть? Нищий? Судебный исполнитель? Гость?
Гостем быть он не мог, Трампедах ни с кем не дружил. Он жил уединенно, хозяйством управляла Керолайна, англичанка лет пятидесяти. Ее прислала к нему дочь, выданная замуж в шотландские пределы. Жену Вридрикиса давно прибрал бог, а сын сгинул без вести в войну.
Дабы папочка не оброс в одиночестве лишаями, в мае 1928 года, ровно два года назад, точно заказная посылка, пароходом из графства Эйр прибыла Керолайна. Жители городка, особливо дети, называли Керолайну ведьмой, на таковую она и в самом деле походила: приколотой на затылке кукишкой, черными усенками под носом и голосом драгунского прапорщика. Зато Керолайна умела отменно варить и жарить и делала это аккурат по предписаниям Яниса Вридрикиса, а опричь того, с превеликим тщанием ухаживала за грядками избранных лекарственных растений, кореньев и цветов, поливала укроп, петрушку, спаржу, артишоки, окучивала кусты розмарина и в тени под забором на конском навозе выращивала вкусные грибы печерицы.
Там, где забор подходил к мукомольной речке, паслись на лужайке жирные гуменники и калкуны, а на чердаке Керолайна соорудила домик для воркунов. Сверх того она получала деньги от больных за врачевание и декокты, вела в лаборатории бухгалтерские книги и умела хранить тайны, по каковой причине магистр к Керолайне сильно привязался и был ею премного доволен, ибо мог беспрепятственно предаваться наукам, гастрономии и словесности.
Да, да, и словесности! Трампедах, возымей он только охоту, мог бы отпраздновать пятидесятилетний юбилей своего сочинительства, потому что именно в 1880 году в месяце сечене у Кимелиса и Пипера вышла в свет его первая и до сих пор непревзойденная поваренная книга «П.П.П.».
Тщетно прождавший все эти пятьдесят лет появления хоть какого-нибудь критического эссе, рецензии, или, на худой конец, аннотации в русских, немецких, пусть даже в латышских газетах, ежемесячниках, а то и научных изданиях, Янис Вридрикис, несмотря на огорчение, был твердо уверен, что настанет день, когда ему наконец воздадут достодолжную хвалу. О нем начнут писать и в Цесисе, в городе, в котором он рос и создал свою неподражаемую «П.П.П.», ему воздвигнут памятник или, самое меньшее, в той комнате и на той стене, возле которой Янис Вридрикис явился на свет, прибьют мемориальную доску.
Мысли о будущем успокоили его. Лишь бы только эти подлые лазутчики, разрази их гром, протобестии, которые хотели бы умыкнуть его рецепты, опубликовать и выдать за свои, лишь бы только они…
— Одначе, я чую, за дверью кто-то стоит, — прошептал магистр, неслышно запер входную дверь, приглушил пламя под медным алембиком и на цыпочках прокрался в рабочий кабинет, где высился заваленный книгами и бумагами громоздкий письменный стол из грушевого дерева и под стать ему стулья с продолговатыми спинками.
Магистр в изнеможении опустился в кресло и, затаив дыхание, прислушался… На гребне кровли бормотали воркуны, а на улице стояла все та же могильная тишина. Янис Вридрикис с отчаянием уставился на корешки изжелта-коричневых кожаных фолиантов.
Вдоль стены, обшитой панелью из темного мореного дуба, тянулась книжная полка, полная дорогих, бесценных томов на греческом, латинском, русском, французском, немецком и английском языках. Даже латышские дайны[2] там обретались и словари, равно как и некоторые издания по домоводству, вроде журнала «Женский мир», исследования Вандервельде «Техника брака» и брошюрок о приготовлений латышских национальных кушаний: кама, холодного сбитня из ржаной муки, похлебки с творожными клецками, супа под названием «зиденис» из копченой грудинки и перловки, а также спетыкиса, сиречь супа из потрохов; еще там были таблицы по сравнительному языкознанию с застольными пожеланиями и здравицами, с соответствующими объяснениями их этимологии и происхождения, как, например: прозит, скоол, ваше здоровье, жми веселей, прими на грудь, толкни в пасть, гамарджоба и т. д.
С потолка свисала монументального вида лампа с громадным белым колпаком, надетым на шестнадцатилинейный цилиндр, и с блестящей массивной гирей для равновесия, так что лампу можно было потянуть за особое вервие, приподнять по мере надобности или опустить, а то и поставить на стол, дабы, скажем, заправить каменным маслом.
Магистр бесшумно затворил двустворчатые двери, кои вели в трапезный зал, потому как незнакомец мог через окно направить свой взор вовнутрь и увидеть, что происходит в кабинете.
Столовая была невелика, но захламлена сверх всякой меры. Посредине стоял круглый стол, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью. На нем уже были расставлены посуда и столовые принадлежности.
«Проклятье! Скоро подавать ужин, — думает магистр, — а за входной дверью уже больше минуты торчит какой-то человек». Почтенный муж чувствует, что радость от предстоящего насыщения испорчена… к трапезе он привык умственно и душевно подготовиться. Они вкушают вдвоем — Керолайна и Вридрикис. Едят молча, однако всякое еденье совершается торжественно и церемониально, таково повеление магистра.
Горят свечи, играет свет на серебре ножей и вилок, подобно белым воркунам взмывают салфетки, сияет фарфор, как мейсенский, так и от Розенталя, в зависимости от того, что вкушают и пьют, поелику каждая снедь требует определенного стиля приборов и посуды, каковое предписание до́лжно неукоснительно соблюдать.
Для супа подходил простой скромный супник или терин Veuve Clicquot Ponsardin и неглубокие чашки со слегка позолоченными краями из того же сервиза. Консоме следовало подавать исключительно на севрских тарелках с голубым ободком из двойных квадратиков, терин для него должен был иметь такой же рисунок, но по сравнению с супником — несколько более легкую конфигурацию, принимая в рассуждение, что все консоме тяжелее любого бульона, то и ложка, которую подносят к губам (а не губы приближают к ложке, как это непростительно делают во Франции в департаменте Дордонь к северу и западу от Ларошфуко), весит больше и заставляет излишне напрягать мышцы ладони, отчего движения кисти и осанка самого едока становятся менее изящными. Сей изъян легко устранить, коль скоро, уписывая консоме, пользоваться не массивными ложками из чистого серебра, а слегка посеребренными вольфрамовыми с грациозно изогнутым черенком, которые в Антверпене изготовляет фирма «Мейер и сын».
Янис Вридрикис взыскательно смотрит, чтобы тяжелое жаркое клали на здоровенное мелкое блюдо, которое сработано в Риге Кузнецовым, а фрикассе и «ши» или «жюс» подавали в продолговатых корытцах оной же марки, меж тем как жаворонков с виноградом и печерицами положено готовить в глиняных горшках, томить на углях граба, затем добавить эшалота и прыснуть наперсток французского вина, после чего справно очищенный горшок, весь, каков есть, подают на стол и накрывают свежей салфеткой.
Для помянутого случая вяще всего подходят местные национальные образцы латгальских гончаров, хотя содержимое изделий, несомненно, международное; единственное, что следует учесть, — нельзя потом в подобный кашник наливать крестьянский харч: яичную размазню-скабпутру с клецками.
Строго предписано, чтобы паштет из рябчиков в сыре подавали исключительно в раковинах, кои собраны на Балеарских островах незадолго до тайфуна.
Янис Вридрикис посмотрел на часы: уже три с половиной минуты… Ладно!
Он тоже затаится, как мышь, и не шелохнется. Что-то тут явно нечисто… В трапезный зал скоро явится Керолайна с десертом на подносе.
Посуды для этого рода кушаний у него великое множество — она стоит за стеклом неохватного буфета и блестит, переливается, отражаясь в круглых зеркалах торцовых стенок. Есть там хрусталь, фруктовые вазы в стиле сецессион, чеканное серебро и под конец — рюмки, рюмки…
Поистине легионы этой питейной утвари дыбятся на верхнем этаже буфета: стоят рядами тонконогие рюмочки для шерри и коантро, которые перед употреблением следует разогревать в ладони, чтобы напиток, изготовляемый из цветов сладких померанцев, начал испускать аромат; выстроились рюмочки для французского коньяка Biscuit de boucher и V. V. O. (Very Very Old), чуть побольше размером для Camus, Martell и Gournay S. О. P. (Superior Old Pale) и совсем здоровенные для мировых марок OS и армянского коньяка пять звездочек, который в специфической обстановке дуют даже из чайных стаканов, этикет это позволяет, ибо гостеприимству кавказцев было бы нанесено грубое оскорбление, попроси мы их наливать коньяк в пятнадцатиграммовые наперстки. Старый магистр потягивает его из самых маленьких сосудцев, зато чаще и без тостов. Для кого же, право, он стал бы их провозглашать, не для Керолайны ведь?
Самая заковыристая система рюмок у вин, тут редко кто не даст маху.
Надобно знать, что из стройных и узорчатых конусообразных хрустальных рюмок распивают белое вино, из гладких пузатых — красное, из высоких тонких — шампанское Sparkling Hak и Sparkling Moselle, из высоких плоских — Fleur de Sillery, Grand Vin Brut, Extra Dry. Мартини сосут из небольших округлых бокалов, буде его только не смешивают со всякими опивками, в противном случае микстуру подают в стаканах для оранжада.
Существуют еще сотни подвидов питейной посуды для более простых вин; предписанья, относительно которых, а равным образом и сведения, с какими кушаньями позволено соответствующее вино употреблять, можно будет найти в новом издании «П.П.П.», но об этом позже… Лично Янису Вридрикису тонкости сервировки хорошо известны, поэтому никакие отступления от этикета, никакой компромисс в его трапезном зале, за его брашенным столом невозможны.
«Пожалуй, мне померещилось… опять очередные галлюцинации… Боже мой, боже мой, что станет со мной, если так будет продолжаться. Кто-то, видимо, шествовал мимо и прошел…» Трампедах тщится думать о чем-то другом и принимается разглядывать висящую на стене картину. Питер Клас, «Стол, накрытый для завтрака» (сказать правду, это всего лишь ловкая подделка). Разрезанный пополам арбуз — сок точно свежепролившаяся кровь… Кровь! Боже мой, боже мой… Ну зачем именно сие полотно…
Назначение картин, которыми увешаны стены трапезного зала, — возбуждать смак к еде и питию, в основном это портреты и натюрморты, в отношении стиля довольно пестрый набор, зато их объединяет общая тема: вино, дичь, фрукты, прославленные едоки и пропойцы.
Начнем обзор с левого угла. Изображенный на картине алхимик в берете — не кто иной, как Арно де Виенёв (Arnaud de Villeneuve), который в 1250 году путем дистилляции добыл из вина огненную воду, названную позже серебряной, затем жизненной водой — l’eau-de-vie, а под конец просто водкой.
Далее в облачении монаха вы видите Лемери, который в 1701 году в местечке Коньяк, в департаменте Шаранта, что неподалеку от Сегонзака, решив спрятать огненную воду от своего племянника, налил ее в дубовую бочку. Клепки оной бочки содержали, как и подобает древесине всякого порядочного дуба, целлюлозу, хемицеллюлозу, полиурониды, лигнин и пористое вещество. В это-то вещество и протиснулась огненная вода, растворив попутно часть перечисленных химических соединений. Мало того, снаружи туда же устремился кислород, который их окислил, отчего в содержимом помянутой бочки возникли ароматный вкус и дух, испаряющиеся кислоты и эфиры. И чем дольше влага содержалась в дубовом сосуде, тем ценнее она становилась. Коньяк начинал портиться только после тридцатилетнего пребывания в бочке. Лемери, однако, заботился, чтобы до этого не доходило. Он был монах не промах, и цвет носа на портрете свидетельствует, что доминиканец Лемери и в самом деле есть тот самый человек, который изобрел знаменитейший и божественнейший из напитков Франции. Следующий портрет — гравюра на меди, на которой изображен Альфред де Виньи и его восторженный автограф:
«En 1857 Monsieur de Vigny avait dans sa cave les récoltes de 1856 et de 1857, on tout près de 65 hectolitres de Cognac, de cette liqueur des Dieux, comme l’appelle Victor Hugo»[3].
На четвертом портрете показан Гамбринус, догадавшийся добавить в пиво хмель, на самом деле — король Фландрии Жан Примус (I). И хотя известно, что пиво употребляли еще древние египтяне, у них оно варилось без хмеля и не имело градусов, так что по сути это было не пиво, а так — детская кашица, медовый квас.
Вино изобрел бог Бахус, это знает каждый младенец, а хлебнул его больше всех поэт Анакреонт, поэтому на пятой картине оба, поэт и бог, представлены вместе, однако нужно заметить, что еще до них арабам был известен виноградный напиток — Al kogol, но поскольку коран запрещает баловаться им, то с древнейших времен употребляет его всего одна секта — алкоголики, которые ныне разбрелись по всему белому свету.
Далее следовали натюрморты голландских мастеров, которые тешили взгляд баснословным количеством неживых тетеревов, глухарей, куропаток, рябчиков и зайцев, разукрашенных виноградом, дынями, яблоками и грушами.
Не в пример им латышские шародеи[4] искушали едока преимущественно надрезанными лимонами, початыми бутылками водки, надгрызенными огурцами, синеполосыми льняными скатерками с подсвечниками и караваями черного хлеба с ножом или без оного.
На долю кубистов остались распиленные на кусочки гитары и опорожненные четырехугольные фляги. А завершали галерею картины экспрессионистов, которые являли взору уже одно только похмелье.
Чу! — Янис Вридрикис слышит в передней звон стекла и нечто вроде падения. В испуге он бросает взгляд в окно и видит, что Керолайна у забора кормит гуменников. Отверзть окно и крикнуть? Буде то действительно грабитель — поздно.
Трампедах тихо вынимает из ящика письменного стола свой дуэльный пистолет студенческих времен и, дрожа всем телом, раздвигает двери в прихожую. Окно распахнуто (магистр припоминает, что отворил его после обеда, чтобы выветрить пакостный дух лаборатории, а затем позабыл закрыть на задвижку).
У окна стоит юноша с щегольской донкихотской бородкой, с гладкими, расчесанными на прямой пробор волосами. Его щеку от глаза до уголка губ пересекает глубокий шрам. Одет он весьма шпетно, по последней моде: в узких портках, в пестром спенсере и в штиблетах, измаранных гадкой дорожной пылью. На грабителя тем не менее он не похож. Магистр опускает пистолет, но не может произнести ни слова: испуг сменило негодование. Наглец в замызганных штиблетах вывел его из себя.
Молодой человек старательно закрывает окно, просовывает в скобу задвижку и, точно деревенщина, сдунув с рукава соломинку, не спеша откашливается и изрекает:
— Добрый вечер вашему дому!
Янис Вридрикис сражен наповал, ему недостает меткого слова, дабы обратить молокососа в бегство; такое уже с ним случалось, однажды ночью, например, он сочинил блистательную речь, которою накануне на ученом диспуте должен был стереть в порошок проклятого Джонсона.
— …рый вечер.
Это все, что почтенный старец в состоянии произнести. Положением овладевает налетчик.
— Я чую в воздухе дивный запах джина, — произносит он. — Стало быть, я не заблудился. Имею ли я честь говорить с магистром cand. pharm. Янисом Вридрикисом?
Начало неплохое: юноша величает Трампедаха магистром, хотя этой научной степенью снадобщик наградил себя сам, когда начал заниматься астрологическими науками. На самом деле он всего лишь кандидат фармацеи.
— Кто вам позволил сюда заходить? Пока хозяин почивает, глянь, ферт к нему в окно сигает. Вон, говорю я вам, вон!
— Silentium! Четверть часа стоял я на улице и нажимал на кнопку электрического звонка, увы — безуспешно. Я слышал, как в комнате кто-то возится, вертит в замочной скважине ключом, а внутрь не пускает. Тогда я узрел весьма низкий подоконник, полуоткрытое окно и раскусил, что в вашем городе смотрят через дверь, а в дом заходят через окно…
При таких словах пришельца магистр покраснел, поскольку и впрямь некоторое время пробовал запускать глаза в замочную скважину, однако ж ни черта не разглядел и свое занятие прекратил.
— Заверяю вас, достопочтенный магистр, я действительно звонил…
— Ток в нашем городе иссяк: на мукомольне не хватает воды, но, как скоро пойдет дождь, будет опять. В дверь следует громко стучать. Уж такие вещи полагалось бы знать, молодой человек!
— Но, досточтимый сударь, тогда нужно было бы об этом написать мелом на парадном входе, — возражает юноша.
— Ха, написать? Быть может, еще добавить «я вышел, здесь можно воровать»? Я вижу вас насквозь и еще глубже: вы подосланы лекарем Джонсоном шантажировать и уговаривать меня. Все его штучки мне давно известны. Передайте ему, что я указал вам на дверь и велел убираться к черту. Мой пистолет заряжен отменными жеребейками, советую не задерживаться, не то вас ждет больница в Эдоле или же кладбище в Тадайках.
— Отчего так нервно, почтеннейший? Зачем поносить? Зачем пугать жеребейками? Уверяю вас, никакого лекаря Джонсона я в глаза не видел, и вообще наплевать мне на докторов, равно как и на ваше доисторическое оружие, которое может выпалить только в том случае, если приблизить к затравке вымоченную в каменном масле зажженную тряпицу. Кроме того, меня пули не берут, я родился под знаком Водолея, уж это вам следовало бы знать, прежде чем угрожать, почтеннейший магистр фармакологических, астрономических и оккультных наук, praemissis praemittendis…
— Значит, вы все-таки меня знаете? — дивится магистр. Вещему старцу вдруг показалось, будто бы он заметил надо лбом юноши чуть повыше ушей небольшие отростки, тщательно спрятанные под прической. Это открытие его слегка озадачило. Но незнакомец уже обратился к нему со следующими словами:
— Читал вашу «П.П.П.», написанную в 1880 году. Считаю, что это лучшая поваренная книга из всех когда-либо напечатанных, поистине гениальное произведение. Имею ли я честь говорить с ее несравненным автором?
— Да!
— Вы тот самый знаменитый Янис Вридрикис Трампедах?
— Да, он самый!
— Он самый?! О боже, наконец! После стольких месяцев бесплодных поисков, сомнений, надежд и скитаний я нашел вас! Жму вашу руку и низко кланяюсь, знаменитейший из ученых мужей и сочинителей! Человеку, который доверил мне адрес, я клятвенно пообещал никому не раскрывать тайну вашего местожительства. Инно доктору Джонсону, этому щелкоперу и недоучке, причинившему вам столько зла.
От таковых слов юноши старый аптекарь взыграл духом, чело его прояснилось, и он молвил:
— Мой юный друг, прошу в кабинет! С кем имею честь, как мне величать вас?
Незнакомец на мгновение смешался, затем решительно поклонился и произнес:
— Кристофер Марлов. Странствующий музыкант и studiosus rerum naturae.
— Марлов, Марлов… Вроде бы знакомая фамилия, — пробормотал магистр. (Хотя, согласитесь, вряд ли провинциальному аптекарю, читавшему исключительно труды по химии, физике, астрологии и кулинарии, мог представиться случай познакомиться с фамилией Марлов.) — Вы, наверное, иностранец? — разглядывая гостя, спрашивает Трампедах.
— Нет, чистый латыш.
— Я тоже, я тоже, — поспешно отвечает магистр, хватает молодого человека под руку и вводит в кабинет. Усадив его в кресло, сам присаживается за письменный стол и произрекает: — Я слушаю.
То был изысканный стиль образца 1930 года, подслушанный Трампедахом у высокопоставленных министерских чиновников и адвокатов в пору его злополучной тяжбы. Величественное «я слушаю» неизменно производило на старого снадобщика ошеломляющее впечатление.
Министр сидит в глубине огромного кабинета за циклопическим столом. Секретарша впускает вконец перепуганного Трампедаха, тот благоговейно здоровается. Министр оттопыренным большим пальцем молча указывает на сиденье, не торопясь откладывает в сторону какие-то бумаги и утомленно роняет:
— Я слушаю…
— …С чего бы мне начать? — запинается молодой человек. — Может быть, лучше изъясняться по-немецки? Если не ошибаюсь, вы по происхождению немец?
Чело магистра заливает густая краска, на лбу набухают жилы. Он с раздражением бросает карандаш на стол.
— Ну вот видите, паки оговор, паки поклеп, это вам безусловно насплетничал лекарь Джонсон — признайтесь! Потому что я, дескать, немец — мне запрещают практиковать в Цесисе, потому что я, дескать, не латыш — меня дискриминируют!
— Но ваше имя Йоган Фридрих, — возражает молодой человек.
— Чушь! Никакой я не Йоган! А Янис! Янис Вридрикис!
— Госпожа ваша матушка родом из Шлезвига?
— Снова извет! Мать — латышка, из Ниды, с Куршской косы.
— Я, почтенный магистр, крайне удивлен тем, что вы латыш…
— Скажем точнее — курземец, — поправляет аптекарь. — Но ни в коем случае не немец, это вы зарубите себе на носу.
Кристоферу уже довелось слышать о странном заскоке Трампедаха. Покровительствуя по секрету немецкому гимнастическому обществу, членом правления какового он является, магистр открыто во всеуслышание отрицал свою национальность, видимо, смекнул, что в обществе нуворишей быть латышом куда как выгодней — пациенты валили почти целиком из гущи деревенских серых баронов.
— Вас, господин Марлов, надо полагать, привели в наш город дела? Милости просим, переночуете у меня… Никаких но! Никаких гостиниц! Мой дом — моя крепость, будете дорогим гостем!
Престарелый муж встал, отверз окно и громко гаркнул, на сей раз по-английски, точно отстучал телеграмму:
— Керолайна! Кончай возню! Шабаш! Гость. Цыпленка на двоих, чистых простынь, в ватерклозет можжевельник, в ванну сосновую соль. Very well, old gorilla!
Трампедах был уверен, что Кристофер Марлов по-английски не берет в толк, чем и объяснялась его откровенность и посвященные Керолайне теплые слова.
— Thank you! — ответствовал Марлов. — Путешествую по Курсе, то бишь Курземе, хожу из города в город, наяриваю на фортепьянах, сопровождая в кинотеатрах немые фильмы, сочиняю студенческие песни, играю на свадьбах, благо я странствующий подмастерье, которых еще принято называть таперами. Истинные цеховые мастера живут на Рижском штренде, являя собой примерный для нас образец и светлый идеал. Рано или поздно мы тоже уподобимся им, будем приняты в гильдию звукотворцев — сочинителей музыки, или, иначе, в цех Святой Цецилии, тогда-то и мы покажем, где раки зимуют…
— Раки? À propos, за ужином вам предстоит отведать цыплят со спаржей и раками, — хитро прищурившись, сообщает Трампедах, — клянусь вам, никогда ничего подобного вы не брали в рот!
— Под Большой Гильдией в Монастырском погребке, господин магистр, это блюдо можно заказать, когда вам только вздумается.
— В Монастырском погребке? Под Гильдией? Ха! Разрешите зевнуть, любезный отрок. Для соуса надобно иметь цветы муската, особливую иготь, где их толочь, дабы не улетучилось амбре. А где вы таковую иготь изволите купить? Ан негде!
— Главное не иготь, и не цветы муската, а хорошо откормленные раки, притом лучше уж красные, нежели черные, — Марлов пробует взять старика на пушку, но это ему не удается.
— Господин Марлов наверняка добавляет в кушанье и светлячков, не правда ли?
— Я читал вашу «П.П.П.» и потому процитирую предписанье полностью по книге, достославный магистр, — говорит Кристофер: — «Как только ощипешь того куренка, режь его пополам и клади в горшок, вливай туда обильный жиром говяжий взвар, добавь перцу, цветов муската, соли, ложку масла и туши. Затем бери мякоть спаржи и опять туши. Отвари шестьдесят штук раков средней величины, олущи их, а именно: отдери тоненькие ножки, панцирь и волосики, а все остальное, что имеет рак, как-то: клещи, мякоть, хвосты швырни прочь. Панцири растолки в ступе вместе со свежим коровьим маслом и поставь на горячие угли пропитаться. Как скоро придет пора подавать горшок на стол, плесни в него сей раковый шербет и еще добавь чуть-чуть аглицкого сыру рокфор».
Магистр тем временем вскочил на ноги и сияющими глазами воззрился на юношу.
— Кристофер Марлов! Именно таков мой рецепт, вы даже малость улучшили его, недвусмысленно указав, что надлежит швырять прочь, а что оставлять в горшке. Прильни к моей груди, любезный ученик!
— С радостью, дорогой учитель.
Тут магистр бросился к юноше и заключил его в свои объятия.
II. КРИСТОФЕР МАРЛОВ ЗНАКОМИТСЯ С ЛАБОРАТОРИЕЙ
Я не ожидал в столь скором времени развеять подозрения и сподобиться благосклонности старого зельника. Моя тактика оказалась правильной: надо было расточать хвалу литературному дарованию аптекаря и поносить его воображаемых супостатов. Однако магистрова болезненная привязанность к литературному первенцу — изданной в 1880 году поваренной книге — не сулила ничего хорошего. Я опасался, что он ни за какие сокровища не отдаст другому переработать и пополнить оное сочинение — этого добьешься, разве что переступив через его труп. Но я вовсе не имел желания шагать по трупам. «Потихоньку и с терпением можно выудить последнюю копейку», — говаривал один известный латышский литературный герой Пратниеку Андж[5].
Я лихорадочно прикидывал, как действовать дальше. Быть может, втянуть старого в разговор о словесности, выведать, что он еще насочинял, превознести сии опусы наивысшими похвалами, а затем исподволь мало-помалу начать выискивать в форме «П.П.П.», а также и в содержании всевозможные изъяны и погрешности? Попытаться пошатнуть веру Яниса Вридрикиса в опубликованные в «П.П.П.» рецепты? Ввести магистра в искушение мирскими соблазнами и затем, окутав его тенетами противоречий, взять в полон и потребовать в качестве выкупа «П.П.П.»? Все эти замыслы нельзя было претворить в жизнь за один день, и посему я почел за лучшее задержаться в городке на Венте, покуда не исхлопочу дозволения и не удостоюсь благословения на главный труд моей жизни.
Мелко семеня хилыми ножками, престарелый муж расхаживал по расстеленному в кабинете ковру, затем, вдруг спохватившись, вышел. Надобно, мол, отдать еще кое-какие распоряжения Керолайне на предмет предстоящей трапезы — только на одну минуту! — извинился он.
Да, постарел Янис Вридрикис, постарел. Это было ясно видно. Пятнистые щеки и лоб, покрытые тонкими прожилками; пышные, но совершенно белые волосы и такие же кустистые, нависшие над глазами брови, на носу сбоку бородавка, сам нос смахивает на перезрелую сливу — вот они, внешние черты магистра; если вам довелось когда-нибудь видеть последние портреты Ференца Листа, то, уверяю вас, сходство поразительное! Что-то по-стариковски сентиментальное, но в то же время властное и истовое. Видать, в молодости был хорош собою, шельмец. Это чувствуется…
В Депфорте, что стоит на Темзе, магистр бросился на меня с ножом и ранил. И поныне на щеке виден рубец — от глаза до уголка губ, непосвященные думают, что меня в бытность мою студентом полоснули на дуэли рапирой. Все это приключилось давным-давно и поросло быльем, я простил — драка завязалась по пьянке, зачинщиком был я, ибо, распалившись, назвал христианство изобретением политиканов, а Моисея большим прохвостом. Магистр в то время был депфортским аббатом и, пьяный не пьяный, иначе поступить не мог, этого не позволяло его общественное положение. И хотя лично он не шибко верил в порядочность Моисея да и в само Христово учение, церковь платила ему хорошо, талерами и натурой, поэтому язык надо было попридерживать, в конце концов кто, как не Моисей, давал ему возможность жить-поживать да потягивать из бутылочки, вот он и рассудил — дать Кристоферу по роже!..
Бедный магистр, он так поплатился за это… Как странно изменилось его лицо, когда я назвал свое имя.
«Марлов, Марлов, — молвил он. — Знакомая вроде бы фамилия». Из-за склероза не вспомнил, и к лучшему, теперь мы снова вместе, я всласть налопаюсь за его столом, спасибо боженьке, исполать хозяинушке, наклюкаюсь, как самый заправский кутила.
Невидимая рука растолкнула двери, пропустила в кабинет Трампедаха и снова задвинула белые, разъезжающиеся в обе стороны створки. Она могла принадлежать только легендарной Керолайне, однако лицезреть ее в этот раз не удалось. Магистр нес в руках серебряный поднос, на котором находились две игрушечные рюмочки, хрустальный кувшин с мутным желтоватым напитком и два маленьких бокальчика. Старый муж держал свою ношу крепко и величественно, ни дать ни взять заслуженный придворный камерфурьер.
— Господин Марлов, мы начнем ужин в восемь тридцать, таков распорядок трапез в моем доме. А поскольку у нас в запасе еще добрых полчаса, зайдем в лабораторию. Джин единственный из дистиллатов, который можно употреблять сразу после перегонки, это просто необходимо, понеже дух можжевеловых ягод в первые сутки с превеликой скоростью выветривается.
Мы направились через переднюю в узкое помещение с зарешеченными окнами, в кои проникал тусклый свет из подворотни, отделяющей обитель Трампедаха от стены соседнего лабаза. В лаборатории стоял длинный струганый стол, загроможденный скляницами, банками, колбами, ступами, спиртовками, плавильными горшками и пробирками на штативах. Рядом со столом находился большой пестерь, засыпанный черепками и стеклянными ивернями. У самого входа в комнату сипел над огнем котел-алембик перегонного снаряда, и редкие капли скатывались по охладительной трубе в сосуд, наполненный почти доверху благоухающим джином. В углу виднелся еще один дистилляционный куб чуть меньше размером и другой конструкции, но тот сегодня не работал. Подле него находился шкафчик с начертанной на дверцах пентаграммой, охраняющей от козней домового и кикиморы, и буквами BBZ. Рядом с ним громоздилась какая-то давильня с колесом для завертки винта и спицами, напоминающая своим видом тиски инквизиции. На полках торчали скляницы, на ярлыках у коих были выведены знаки Т-1. Раковина и стена пестрели пятнами, но в общем в помещении царил безукоризненный порядок и чистота.
Трампедах поставил поднос на стол, серебряным черпаком налил в рюмки по чуточке джину, а в бокальчики по капельке золотистого оранжаду и сказал:
— Сие — дегустация… Вдохнуть, капнуть на язык, подержать, выдохнуть воздух и проглотить! Если отдает чесноком — пиши пропало, знать, что-то не так. Верхнее нёбо должно быть разогретым, чуть-чуть затекшим, для каковой цели рекомендуется высунуть язык и малость его так подержать. Ну что? Дегустируем! Как будто гож. Чеснока не чувствуется, язык дерет, глотку обжигает, точно я́сенец лютый. Можно пить. Итак, господин Марлов, — торчком колосок!
— Дай бог добрым людям испить чарочку!
Трампедах в совершеннейшем восторге: Кристофер Марлов знает, как следует ответить на старую латышскую здравицу.
— А теперь — куриш!
— Куриш!
Это означает — опрокинем по-курземски, единым духом, стаканчик вверх дном!
По костям разливается нега, в душе — благодать. Да, это старый добрый голландский джин, дюже крепкий и забористый.
Трампедах с одержимостью фанатика рассказывает, показывает, объясняя устройство многочисленных аппаратов, какие, мол, реакции совершались в этой вот реторте, какие соединения удалось получить в той вон пробирке.
Приближаясь к шкафу с пентаграммой и мистической надписью BBZ, Трампедах преисполняется таинственности. Там, видите ли, яды, он, дескать, сам опасается, как бы ненароком не вдохнуть те смертоносные испарения.
— Яд в мизерной дозе — целебное средство, в большей — избавитель от страданий; из него можно приготовить сладкий чай и усыпить всякого, кто мучим неизлечимым недугом. Мне удалось его выкурить из сливовых косточек, когда я гонял сливовицу. Я раздробил оные косточки со всей мякотью в этой вон давильне, дал толче вспучиться, затем перегнал ее на малом снаряде. Косточки содержат гликозид амигдалин и эмульсин ферментов. Амигдалин под воздействием эмульсина распадается на синильную кислоту, бензальдегид и сахар. После перегонки я сгустил жидкость — отделил сахар и получил особую смесь.
Упомянутая смесь основа всех моих снадобий, но сам рецепт я держу в строжайшем секрете, каковой не раскрою даже вам при всем моем расположении к вашей особе, Кристофер Марлов. Спрос на лекарства велик, и будь я скопидом, то загребал бы мильоны и знай себе позевывал бы да на все поплевывал. Но я довольствуюсь властью человека, коему принадлежит орудие смерти Т-1, которому я предрекаю блестящее будущее.
— Разрешите, дорогой магистр, поднять бокал за то, чтобы ваш недруг и супостат Джонсон сломал бы себе шею и вы могли бы практиковать в Цесисе, — вставляю я голосом подхалима.
После нескольких глотков оранжада на Трампедаха снисходит откровенность.
— Вы должны знать все про меня и про моих врагов, Итак, слушайте.
На самом деле их двое, тот, второй, по моему разумению, еще хуже. Вы, наверное, уже наслышаны, что в Цесисе правит уездный лекарь Айвар Джонсон. Ему принадлежит домина в Риге, богатый хутор в деревне, мыза в Райскумской волости, частная больница и грузовик. А Бонифаций Ивбулис, заведующий отделом санитарии и инспектор здравоохранения, — человечишка неприметный, зато карьерист каких мало. Держась в тени Джонсона, он тихой сапой прибрал всех к рукам; вертит самим Джонсоном, меня предает суду; за взятки принимает на работу круглых невежд, одним словом, пакостит, где и как только может.
Еще в 1929 году санитарный отдел помещался на окраине Цесиса. Но Ивбулис в самом непродолжительном времени перебрался в пристроечку во дворе городской управы, поскольку кабинет его шефа Джонсона, видите ли, в том же здании. Минул всего лишь год, а, глядишь, Ивбулис со своей санитарной частью уже облюбовал главную лестницу, спервоначалу поселился на нижнем этаже, но недолго ждать, засел в конце верхнего коридора перед дверью Джонсонова кабинета. Отныне всяк, кто имел дело к уездной медицинской власти, вынужден был проходить через комнату санитарного отдела, в которой восседал Бонифаций Ивбулис. Он был информирован о каждом, кто заходит к Джонсону, сделался, так сказать, десницей уездного врача и мог в любой час без стука войти в кабинет своего начальника.
Кое-кто из лекарской братии и фельдшеров теперь стал улаживать свои делишки с помощью означенного Бонифация, поскольку Джонсон уже не отваживался на свою голову чего-либо решать, он превратился в вывеску. Это продолжается по сей день. Все кляузы против меня затевал Ивбулис: поношения, изветы, все суть его рук дела… Когда скандал начал разгораться и запахло паленым, я рассудил за благо покинуть родной город. «Не разрешаете мне работать по моей специальности? И бог с вами», — сказал я.
Я вспомнил, что обладаю сочинительским даром, что в молодости написал «П.П.П.», книгу, которая до сих пор не знает себе равных, и послал в журнал «Здоровье — залог веселия» сатирический фельетон «Как в Цесисе продавали козла», который снискал всеобщее признание.
— Боже! — вне себя от восторга возопил я. — Неужто сей феномен пера принадлежит вам, магистр?! Теперь я припоминаю… Гениально! Бесподобно. Это лучшее, что вы когда-либо… Значит, вы тот самый Трампедах?
— Он самый. Меня приглашали писать еще и еще, завели специальный раздел «Стрекавая проза», переименованный позже в «Сатирикон». Всякий, кто имел голову на плечах, улавливал, что на ее полосе наряжают шутами и выставляют на потеху Джонсона с Ивбулисом. Я знал кое-что о плутнях Ивбулиса при покупке спирта для аптечных нужд. В фельетоне «Странное амбре спирта» я туманно намекнул, что пишу роман о похождениях двух прохиндеев.
— Как?! И «Странное амбре спирта» тоже ваше? Это потрясающее перебродившее и отстоявшееся в недрах могучего интеллекта творение искусства. Я не в силах чего-нибудь понять. Значит, вы тот самый Трампедах?
— Он самый… Через доверенных лиц я недавно получил письмо от Джонсона, Ивбулиса и компании. Учуяли, что петля вокруг них затягивается… Письмо содержало приглашение возвратиться обратно в Цесис на предмет сотрудничества. Джонсон, дескать, не откажет мне в праве на врачебную практику, если я в свой черед пожалую им рецепты некоторых снадобий, кушаний и напитков. Вся распря-то началась, собственно, из-за пустяков: я, мол, как лютеранин в своей изданной в 1880 году поваренной книге ополчился на святого Лукаса, который в ответе за падеж скота, и святую Кларису, которая покровительствует любителям хлебнуть пивка, они же оба, Джонсон и Ивбулис, — католики, а католикам, как ни говори, принадлежит власть, так что если Трампедах возьмет-де свои слова назад, пообещает больше не баловаться сочинительством, а посвящать себя целиком делу — исцелению больных за мзду, то они навеки останутся друзьями и будут с ним по-дружески делить доходы пополам… В качестве ответа я опубликовал в журнале новый пасквиль «Два бескорыстных друга», вы, верно, и его читали…
— Еще бы! И вы тот самый Трампедах?
— Он самый. От знакомых я выведал, будто Ивбулис ныне костит Джонсона за то, что тот прогнал меня из Цесиса, где я был совершенно безвредный червь, хотя и лютеранский, и таким образом если и не прямо, то косвенно направил меня по стезе сочинительства, из-за чего им теперь приходится жить в вечном страхе… У, католики проклятые!
— Господин магистр, вы, наверное, легко и быстро пишете, если за такое короткое время из-под вашего пера вышло столь много шедевров?
— Нет, совсем наоборот. Я творю медленно и трудно. Но у меня есть свое мировоззрение, свой стиль. Я не плачу дань модным веяниям. Вы, надо полагать, обратили на это внимание, когда читали мою «П.П.П.»?
— Ах! Что там теперь «П.П.П.» против вашего «Сатирикона»!
— Нельзя так говорить, Кристофер Марлов, тут я должен решительно возразить. «П.П.П.» есть и остается моей лучшей книгой. Кстати, меня осенила догадка: вы тоже пробуете руку в сочинительстве! Не правда ли? Где-то я видел и читал ваше имя… погодите — Марлов, Марлов… Ну все равно, как бы там ни было, настоятельно вам советую: пишите медленно и с рассудком!
— К сожалению, пишу споро и без рассудка. Пишется легко, поскольку я на удивление немонолитный человек, во мне бурлят противоречия: каждое мое раздумье это как бы спор с самим собой, и не только с собой: со многими ехидными зубоскалами, кои живут во мне, не знаю, как скоро и кто из них сорвется с места и начнет вещать свою правду, иной раз это происходит до того нежданно-негаданно, что все прочие мои ипостаси остаются, как говорится, с разинутым ртом. Но меня это ничуть не смущает, когда я строчу, то не даю за них вместе взятых и ломаного гроша — позже на бумаге все выяснится, в этом преимущество сочинителя. Главное — писать быстро, потому как в возрасте двадцати девяти лет моя жизнь внезапно оборвется: меня зарежут в городе, который стоит на берегу большой реки. Ну, стало быть, за изящные искусства, господин магистр!
Старый муж сильно перепугался.
— Что за глупые балясы! — говорит с возмущением Трампедах. — Вы что, ходили к гадалкам? Довольно дегустировать, это вам не бурда какая-нибудь, чую, как в голову ударяет, — а знатный напиток, забубенистый.
В глазах магистра промелькнуло легкое беспокойство. Быть может, вспомнил что-то смутно про Депфорт, про Темзу? Но это длилось всего лишь мгновение, и магистр продолжил уже более спокойным голосом, чтобы затем перейти к другой теме:
— Почитаю порядок и аккуратность во всем. У меня в лаборатории каждой мелочи отведено свое определенное место, таков стиль моей жизни. В молодости я был ярым сторонником Бисмарка, после того, что произошло в Германии в 1848 году, я уразумел: нужна железная рука, твердость беспримерная и крутость.
— Почтенный магистр, в 1848 году даже Рихард Вагнер с пистолетом в руке взбирался на дрезденские баррикады, свобода нужна была, а не крутость.
— Свобода? Чтобы всякие шаталы и босяки зубы щерили? Постановление бундестага от 1835 года никого ведь не образумило. Бисмарку тогда было всего двадцать лет, но он слушал внимательно и мотал себе на ус: «Направление словесности, которое все свои силы употребляет на то, чтобы в доходчивой беллетристической форме, доступной всем слоям общества, преглупо нападать на существующий социальный строй и посягать на основы его, измываться над религией и разлагать нравственность, — таковое направление в Германии объявляется вне закона. Книги Гейне, Гуцкова и их приспешников должны быть конфискованы и преданы сожжению!»
— Но потом, почтенный магистр, пришли баррикады.
— А после них пришел Бисмарк.
— Неужто вы, почтенный магистр, в самом деле верите в какой-то мировой порядок?
— В таком случае я должен спросить: во что верите вы, господин Марлов?
— Некоторые самым, идиотским образом тщатся латать мир, а он в аккурат как дырявый мешок: латаешь в одном месте, рвется в другом. Я верю в абсолютную свободу и независимость духа. Этот ваш Бисмарк дубье и медный лоб, простите за выражение, он пытался остановить стремнину, перекрыть ей путь плотиной. А паводок пробежал над преградой, смял ее и разлился тихой заводью — вот и все!
— Вы отрицаете какую бы то ни было организующую силу? А религия?
— Чистый бред и надувательство.
— Кристофер Марлов! А дружба?
— Для простофиль и гаеров. Жизнь — это фарс!
— Но героизм? Энтузиазм?
— Для нищих духом и тех, кто выдумал вашу надувательскую литературу…
Чаша старого магистра переполнилась. Какое-то мгновение у него даже зачесалась рука подойти и влепить наглому сопляку оплеуху. Только где он уже встречал такого фанфарона? Разглагольствования были дюже затасканы, но столь едки и брыдки, что муторно делалось. Лишь бросив взгляд на замаранные и пыльные штиблеты гостя, старик остыл. «Тапер! — усмехнулся он. — Бродячий подмастерье-музыкант и пустовякала, отрицает все, за исключением «П.П.П.» — значит, что-то путное в нем еще теплится. Может, попытаться повлиять? Впрочем, какой в этом смысл…»
— Не желаю с вами дискутировать, любезный друг мой, вижу, что вы нигилист и анархист. Хотя в ваши лета это еще не беда. Гейне взбесился, когда его в Пруссии не принимали на государственные должности, по причине тщеславия сделался бунтовщиком, а кончил тем, что боготворил Наполеона и зачитывался Библией. В своем «Atta Troll» он высмеивает и поносит прежних друзей младогерманцев за их радикализм, кстати сказать, мятежники на склоне лет частенько подвергаются подобным превращениям… Но как бы там ни было, я уважаю ваш литературный вкус, меня изумляет и преисполняет глубоким волнением ваше благородное суждение о главном труде моей жизни — «П.П.П.». Посему мне хотелось бы услышать, какого вы мнения о тех несчастных, кои пишут на так называемый младогерманский пошиб! Какая каша, что за мешанина! Прячась от собственной растерянности, они погрязают в фантасмагориях, городят символ на символе, пишут намеками, ни одного реалистического характера, ни одного четкого рисунка… А главное — подтексты, раздражающие подтексты. Сии жалкие писаки полагают, будто правители их не раскумекают, они куражатся, воображают себя орлами и показывают дули, спрятанные в карманах порток. Подтексты! У Шекспира были тексты и ясная мысль, гений глаголил о своем времени прямо и ни черта не страшился. Но у младогерманцев нет своих мыслей, оттого нет и текста. Водянистые опусы, водянистые талантишки, словом — водявы.
— Почтенный магистр! Вы говорите со всей откровенностью, позвольте и мне быть откровенным. Я чту вас как сочинителя, особливо высоко ценю ваш «Сатирикон» (в этом месте Трампедах начал размахивать руками и бормотать что-то насчет «П.П.П.», которая, мол, несравненно лучше); когда вещали вы, я вас не прерывал. «Сатирикон» стоит на голову выше сочинений вашей молодости. Тем не менее в своем понимании сегодняшних литературных направлений вы заметно поотстали, безусловно, это не умаляет ваших заслуг, вы принадлежите другой эпохе, другому столетию. Все те попреки, которые вы обрушили на младонемцев, по моему разумению, составляют суть модернистского экспрессионизма и футуризма: не жизнь надо отражать, этот обманчивый фарс, а неуловимые движения души и поток сознания. Осуществить сей возвышенный идеал в художественном произведений еще задолго до презираемых вами младогерманцев попытался другой мой кумир, писатель Э. Т. А. Гофман, — первое место, вне всякого сомнения, занимаете вы с вашим «Сатириконом»… Простите, я вас не прерывал. Свою близость к Гофману я вижу не только в одинаковом понимании сущности искусства, но и в судьбах: он был музыкантом, а ему припала охота стать писателем. Разумеется, сравнение это не ахти как скромно, я всего лишь начинаю подвизаться на поприще означенных искусств. Но вот Гофман, автор более десяти прославленных опер, исподтишка баловался шародейством, то есть живописал картины (спасибо музам, от этого порока я избавлен). Признанный капельмейстер, он в то же время пыжился сочинять фантастические рассказы, кои никто не принимал всерьез, над коими потешался и коих гнушался Гёте, этот заносчивый петух с гребешком министра.
Когда в Берлинском оперном театре поставили гофманскую «Ундину» (текст для нее написал Фуке, поскольку от либретто Гофмана дирекция непременно отбрыкнулась бы, так как по части сочинительства его считали полной посредственностью), премьера вылилась в событие и удостоилась невиданных лавров. Композитору простили все несусветные враки, которые он насочинял в духе бесподобного Калло.
Однако едкий и проницательный Гофман, сопоставив себя с вершинами времени Бетховеном и Вебером, отнесся к себе весьма самокритично и оказался куда прозорливее старых и мудрых пентюхов, которые в «растирании красок» и «втирании очков» читателям, к чему пристрастился капельмейстер, видели одну лишь блажь да сумасбродство.
Получилось довольно странно. Бессмертную «Крейслериану» музыке даровал не Гофман, а Роберт Шуман. Знаменитую оперу о приключениях капельмейстера «Сказки Гофмана» сочинил не он, а Жак Оффенбах. Боготворимый композитор Гофман ныне забыт и списан, а осмеянный писатель Э. Т. А. Гофман занимает прочное место в мировой литературе, от него ведут начало будущие модернистские течения, а среди прочих и Кафка… Напрасно вы, почтенный магистр, ехидничаете касательно подтекстов и фантасмагорий. Шекспирова эпоха была эпохой сильных, наивных и монолитных людей. Мы же, наоборот, разрублены на иверни, нынешние писатели сии иверешки собирают и творят мозаики. Когда все вдоволь натешатся этим, опять грянет какой-нибудь могучий «неореализм», но он по сути своей уже будет сложнее прежнего, — искусство развивается скачками, — за ним снова последуют фантасмагории, и одному богу только известно, какие именно. Но не надо в подобном чередовании усматривать какой-то мировой порядок. Это обычная игра контрастов. В своем развитии искусство облекает себя в форму, которая так же вечна, как само мироздание. Свет — мрак; черное — белое, лишь бы не серое, а то дышать будет нечем, тогда нам труба…
Я замолк, дабы уяснить, какое впечатление произвело на старика мое словоизвержение. Ведь я разразился немыслимо витиеватой речью, недаром тот раз в Лондоне Нэш назвал меня алхимиком красноречия.
— У каждого из нас свой отличный ход мыслей, молодой человек, вы изволили заметить, что я принадлежу другой эпохе, другому столетию, так оно и есть, и ладно, я не имею ни малейшего желания гоняться за модами. Но на вашем месте я бы не ударялся в отрицание жизни, а наслаждался ею. Чего только я бы не дал, чтобы иметь ваши годы! Вы молоды и весьма недурны собой. Кругом — сладкая жизнь, любовные утехи, которые во мне пробуждают лишь жалостливые воспоминания. Иногда я проклинаю свои семьдесят лет — уж теперь-то я умел бы с толком и со знанием брать и вкушать все, что дано молодости. Я бы наслаждался любовью, как вдохновеннейшей поэзией.
— Поэзией? Если вы утверждаете, что в инстинкте спаривания есть что-то вдохновенное, то племенной жеребец суть символ оной вдохновенности, так сказать, истинный подвижник поэзии. Самцы клыками и рогами вспарывают друг другу брюхо, покуда их самки, ветреницы и блудницы, смотрят и выжидают, кому больше повезет в сшибке. Студент A. вызывает на дуэль студента B., требует единоборства на рапирах, потому что студент B. назвал барышню C., каковую A. мнит своей суженой, б… Теперь студент A. врежет студенту B. как следует, пересечет nervus bicepsis, отчего рука последнего повиснет от плеча, точно дровяная плашка, в то время как ни для кого не секрет, что барышня C. в самом деле маленькая б…, в чем, собственно, и кроется секрет ее привлекательности. Коль скоро для вас это поэзия, то я готов с вами меняться: уступите мне вашу мудрость, я дам вам свою молодость, дайте мне богатство вашей души, я верну вам красоту мира…
Я еще некоторое время упражнялся в подобных фигурах элоквенции, силился превзойти самого себя в цинизме и демагогии, дабы свергнуть старого с пьедестала, на каковой он сам себя водрузил. Что я в этом преуспел, мне было видно по забегавшим глазам магистра и трясущимся перстам, когда он, погасив пламя, горевшее под дистилляционным аппаратом, разъединил обе спиральные секции и переливал зеленоватое пойло в другой плотно закрытый сосуд. Аптекарь же в это время перебирал в памяти обстоятельства, при которых незнакомец появился у него в доме, и чувствовал, что им овладевает какая-то странная и властная сила, из-за чего старый муж немало струхнул. В глубине души Янис Вридрикис был мистиком. Недаром другие фармацевты называли его оккультистом. Ему припомнилось, что еще в самом начале, взглянув на пентаграмму, охраняющую от не́жити и злого духа, юноша отвернулся… Пентаграммы чураются Сатана и его прислужники… Затем это необычное появление через окно… Далее рассуждения, за коими блазнилась богомерзкая тень Антихриста… И наконец, почти прямое и недвусмысленное предложение: дайте мне, дескать, вашу душу, а я дам вам молодость и мирские утехи. Неужто в самом деле явился Он?
Гулкий удар гонга на кухне возвестил, что стол накрыт и час вечерней трапезы настал. То была Керолайна. По нескольку раз в день звуками гонга предваряла она торжественную мистерию приема пищи для двух персон. По другой нужде они ходили каждый по себе, тайком и без всякого гонга. Что ни говори, странно устроен этот мир, ей-же-ей, странно.
III. ТРАПЕЗНЫЙ СТОЛ С СЮРПРИЗАМИ
«Керолайна зовет!» — оживился магистр, пропустил Кристофера Марлова вперед, и оба направились в покои. Створки дверей, ведущих в трапезный зал, были раздвинуты, и за ними в полумраке мерцали зажженные свечи. В дверях застыла легендарная шотландка в черной до пят понёве, в крахмальном белом запоне и в таком же кружевном чепце. Глаза ее холодно взирали на незнакомого ферта, не выдавая ни удивления, ни осуждения, — Керолайна была особа сдержанная. Трампедах представил:
— Кристофер Марлов, артист музыкальных искусств.
— Studiosus rerum naturae, — добавил юноша и поклонился, мгновение ждал, протянет Керолайна руку или нет, но шотландке такое и в голову не приходило, она протрубила точь-в-точь как на тромбоне:
— Carolyn Campbell, very good; mister Marlowe, how do you do? — колыхнула понёвой, презрительно отвернулась и жестом пригласила в трапезную. Потрясающая штучка — слов нет! Одна кукишка на макушке чего стоит!
Магистр извинился. Керолайна ужинать с ними не будет, да простит ее гость, она чувствует себя неудобно, потому как не знает латышского языка.
— I am sorry! — еще раз взревела великолепная Керри, повернулась спиной и удалилась на кухню, а Марлов возликовал. Он хотел есть, и посему шотландки, сколько бы их ни было, могли убираться ко всем чертям.
— Вы, господин Марлов, будете сидеть справа, мое место тут. Вкушая брашно, надобно чувствовать себя свободно и непринужденно, трапеза требует сосредоточенности, а когда сидишь напротив окна, то отвлекает свет и небесные сферы. Я обратил внимание, что в солнечные дни люди едят меньше и прожевывают пищу много хуже, нежели в пасмурные… В честь вашей особы состав ужина, или, как говорят французы, меню, будет особенным. Может быть, в стилистическом отношении оно вам покажется пестроватым, но свое суждение и оценку я прошу вас дать в конце. Ein Moment.
Магистр резво подошел к какому-то шкафу, который Кристофер принял за часы, отворил стеклянную дверцу, принялся рыться на полках, затем вынул круглую металлическую пластину с зубчатыми краями, надел ее на штырь, закрыл дверцу и начал усердно крутить рычагом для завода.
— Ein Moment! Я только накручу пружину, и сразу начнем.
Кристофер быстро обвел глазами стол и изумился. Вместо белого фарфора на нем были расставлены зеленоватые с глянцем глиняные мисочки. В одном конце стола стояла натертая добела деревянная лоханка на трех ножках с прислоненной к ней деревянной поварешкой. В круглом красном кашнике виднелись неизвестного происхождения кругляшки размером примерно с лошадиное яблоко. В какой-то скудельный сосуд был насыпан коряного цвета песок, в корытце дымились горячие шкварки, отдельно стояла кандейка с ломтями мяса, разукрашенными болотной ягодой — журавикой, и наконец поддон с сукроями черного хлеба — и все… Вот те раз!
Музыкальный ящик затрясся, испустил могучий хрип и рванул что было силы:
Вей, ветерок, гони челнок,
Унеси меня в Курземе!
— Застольная, или тафельмузыка! — повысил голос старый, желая перекричать ящик. — Каждое брашно требует соответствующего стиля тафельмузыки, я никогда не ем без нее.
Трампедах торжественным движением руки взял Марлову миску, подошел к лоханке, схватил поварешку, помешал варево, налил два ковша и радостно просусыкал:
— Скаба путра, ай да скаба путра, м-м-мм!
Марлов потянулся за своей посудиной, но не тут-то было.
— Пардон! — воскликнул старец и отвел его руку. — То была лишь основа, так сказать, первоначальная субстанция, теперь последует главное!
С этими словами он погрузил жилистые пальцы в коряного цвета песок, сгреб полную горсть и бухнул в скабпутру.
— Теперь мешайте! Это камы. У древнегреческих богов была амброзия, а у Перкона, Потримпа и Пикола[6] — харч древних прусов и балтов — камы!
Кристофер Марлов, огорошенный, взял миску, нащупал рядом на столе деревянный черпак и — с именем бога, что еще ему оставалось! — шумно хлебнул.
Магистр тем временем готовил свою порцию и с улыбкой на устах следил за лицом гостя.
Мне хозяюшка сулила
Свою дочку мелею́.
— Но это… Это же вкусно! Черт подери, душисто и бодрит. — Деревянная хлебалка Марлова задвигалась accelerando, а затем и presto, после чего мисочка была опорожнена и длань юноши подняла сосуд: — Можно еще?
— Хе, хе, хе! — захихикал магистр. — Отчего же нет? Берите сами: на два ковша скабпутры горсть камов, больше не надо, не то получится каша. Ну, стало быть… За ваше здоровье, господин Марлов!
— Но почему в поваренной книге я не нашел этого рецепта? Нет, что ни говорите, устарела ваша «П.П.П.».
Лицо Трампедаха скривилось, словно ему наступили на ногу.
— Нельзя так рассуждать, молодой человек. Камы слишком локальная пища, дабы включать их в список интернациональных блюд. Сделай я такое, меня вполне можно было бы обвинить в шовинистических наклонностях (ведь это блюдо на своих сборищах ныне употребляют диевтуры, то есть современные идолопоклонники). Как говорится, «что годится для Пилтене, то не гоже для Смилтене», видите, я даже наловчился сочинять латышские пословицы. Одному лишь описанию основных элементов, из коих готовится сие кушанье, пришлось бы уделить несколько страниц комментариев. Как я втолкую, например, французу, что такое скабпутра? Le gruau aigre? Почему le gruau? Почему не gâchis? Может быть, le gruau fumier? Послушайте только, как рецепт камов звучал бы в переводе на другой язык, к примеру на английский:
«Возьми да бухни в кипень овса, ячменя, чуточку гороху и бобов, недолго потоми, затем кинь врассыпную на простыни (!), пусть подсохнут на солнце и малость протухнут (!), после чего швырни все скопом в жарко натопленную хлебную печь (?) и помешивай, покамест не спадет жар. Как скоро гуща перестанет подгорать, закрой печное чело и суши ее до тех пор, пока печка совсем не остынет. После этого выгреби, насыпь на каменные жернова (?), смели в муку, пропусти через сито, всыпь в скабпутру (?) или в молоко и уписывай, покуда не упрется в лавку (?)…»
Невозможно! Звучит так, будто речь идет о фураже для клячи: овсе или сечке… Что бы англичане подумали о курземцах?
Обещала, не дала,
Кличет горьким пьяницей.
— Вы наливаете уже в третий раз, не забывайте о последствиях, молодой человек! А теперь отведайте мятева, или, другими словами, клецек — вон в том круглом кашнике… Ну как? Бесподобно? Советую полить шкварками, а буде не понравятся вытопки, взять ломтик свиного окорока или поросячью ляжку. Видите, какой квасной журавикой они обложены, эта ягода особенно богата витаминами, для меня ее на Планицком болоте собирает теща мукомола из Гайтей, судя по темному цвету — тут прошлогодняя.
Марлов берет окорок, берет ляжку, он целый день не ел, потому такой ненасытный, знай себе жрет да жрет…
Кличет горьким пьяницей,
Говорит, коней загнал.
— Местные крестьяне называют сии клецки мятевом, а то и толчениной, — говорит магистр. — Я вкратце упомянул об этом в «П.П.П.», в восьмой главе, в параграфе тринадцатом, вы, должно быть, читали…
— Это ужасная накладка, господин магистр, — с полным ртом ответствует Марлов, — мятево и толченина — два разных яства, в вашу «П.П.П.» снова прокралась ошибка, мне, право, неудобно…
Магистр побледнел. У этого человека нет ни чести, ни совести. Ест его добро и…
— Коль скоро вы так уверены, то объясните, в чем, по вашему мнению, заключается эта разница?
— Разница такова: мятево мнут из отваренных в соленой воде бобов, кои перемешаны с конопляным маслом, толченину, напротив, толкут из пряженого гороха и картошки, добавляя в нее немного конопли. Разница, как видите, существенная. Мне больше по душе толченина, нежели мятево, — говорит Марлов и, рыгнув, отодвигает большой красный кашник.
Пил за деньги за свои я,
Своего коня загнал.
Магистр побит со счетом два — ноль. Растерянный, берет настольный колокольчик, звонит, а когда появляется Керолайна, просит убрать посуду. Музыкальный ящик испускает последний стон. «Вей, ветерок» замолкает, диск замирает…
— Вы, молодой человек, слишком много кушаете: это была всего лишь прелюдия, в вашу честь я велел приготовить национальные блюда, в то время как обычно мы закусываем салатом из огурцов или инглиш сыром рокфором. Сейчас пойдут вторая, третья и четвертая перемены — ленч — в английском, французском и итальянском вкусе. Стол будет сервирован совершенно заново, вместо клетчатой скатерки его накроют снежно-белым пике, деревянные подсвечники обменяют на серебряные, лоханку и скудельную посуду уберут и спрячут, их место займут хрусталь и фарфор — совсем иной мир! Ждать потребно двадцать минут: у Керолайны нет помощников, ей придется как следует приналечь, посему поставим «Марш гладиаторов», это ее любимая вещь, она не может накрывать на стол, если не слышит тафельмузыки.
Магистр отыскал требуемую жестяную пластинку, и машина пустилась со всей яростью грохотать «Марш гладиаторов», Кристофер схватился за голову, но, к счастью, аппарат вскоре испортился, и Трампедах попросил юношу сыграть «что-нибудь подходящее» — оказалось, в углу стоит тафельклавир. Кристофер поначалу принял его за карточный столик. Юноша сел за допотопное музыкальное орудие и принялся импровизировать, хотя сутуги были расстроены дальше некуда, а клавиатура залита вином.
Тафельмузыка! Застольная музыка! Что же это в самом деле за диво? Сказать правду, та самая музыка, каковую при герцогских дворах наяривали проголодавшиеся музыканты, покамест владетельные особы наворачивали деликатесы. Первейшей ее обязанностью было споспешествовать пищеварению, поэтому упаси бог от диссонансов, внезапных модуляций и резких контрастов. Хорошей тафельмузыкой считалась та, которая не причиняла душевных возмущений… Телеман, Скарлатти. Легко и грациозно. Прежде всего герцог требовал оптимизма, всякого, кто вздумал бы звякать печальные напевы, с позором прогнали бы. Веселости духа ждали ничуть не меньше от Генделя и Баха. Со временем оптимизм становился все более нахрапистым, а тафельмузыка все более разнузданной и шумной, в кабачках и на террасах Вены загремели лендлеры, вальсы, их сочинял Иоганн Штраус, иногда даже баловник Шуберт. С той поры тафельмузыка пошла в рост, расцвела, раскудрявилась, а в начале двадцатых годов нашего века взяла да разродилась джазом. Джаз обязательно надо слушать за столиком, на котором стоит бутылка и ростбиф, только при подобном антураже можно вполне успешно переваривать и оценивать помянутый жанр. Джаз создан для луженого чрева, что ни говори — самый бедовый уклон застольной музыки.
Кристофер улыбается, импровизирует да поглядывает по сторонам. Как только отгремел «Марш гладиаторов», Керолайна грохнулась на пол. Экстаз! Надо понять. Магистр кидается ей помогать, семенит подагрическими ножками вокруг стола, но получает тумак в ягодицу и успокаивается.
Какая наивность, размышляет Марлов, раз предстоит ужин в национальном духе, значит, подавай «Вей, ветерок». Театральные режиссеры давным-давно используют принцип контрастов, музыка должна создавать совершенно противоположные ощущения, нежели само лицедейство, старик отстал, живет представлениями мелодрамы. Если следовать его логике, то заправляться цыпленком следует исключительно под звуки «Курицы» Рамо, кофе распивать под пение «Кофейной кантаты» Баха, а за десертом услаждать слух маршем из «Трех апельсинов» Прокофьева. Чистая иллюстрация вместо могучего подспорья для чревоугодия.
Раздается удар гонга, Керолайна извещает, что ужин продолжается, только под названием ленч (lunch), каковой в Англии приходится на время обеда, но поскольку сам обед почему-то переносится на вечер, то для удобства условимся, что Керолайна просто приготовила ленч, и дело с концом — прошу за стол!
Цыпленок с артишоками и шербет из раков. О том, как он изготовляется, было рассказано в первой главе, повторяться не будем. Какое вино господа предпочитают: Chartre d’or фирмы Laurent Perrier et C° или вермут Boirot?
По этому поводу завязывается небольшой спор, магистр утверждает, что для цыпленка вяще всего подходит вермут, а Кристоферу довелось слышать, будто именно Chartre d’or есть тот самый напиток, который позволяет ощутить во всей полноте истинный смак нежного птичьего мяса.
Оказалось, что Chartre d’or у магистра и нет вовсе, это он брякнул просто так, из хвастовства, остановились па вермуте.
— Но на каком именно? — допытывается Кристофер. (Вот уж придира, слов нет!) — Вермуты бывают четырех видов: китайский, итальянский горький, Dry Martini и венгерский тысячелистный. Который из них вы намерены предложить мне?
Выяснилось, у магистра в погребе есть только венгерский, но тот якобы считается одним из лучших. Марлов тотчас выкладывает все, что знает о знаменитом венгерском напитке:
— В бочки с вермутом подвешивают пучки, в коих вместе связана тысяча разных травок, как-то: паприка, эритрея, гвоздика и прочие и прочие. Спустя пять-шесть дней пучок вынимают, вместо него вешают свежий и так продолжают до тех пор, пока не получают желанный смак и дух.
Керолайна тем временем безошибочно нашла нужные рюмки — из тонкого хрусталя с очень широкими краями — и с молодецкой прытью заспешила в погреб, любо-дорого смотреть, до чего швидкая и расторопная. На что Кристофер не преминул разразиться комплиментом, дескать, с экономкой магистру поистине повезло.
— У каждого человека своя слабость, господин Марлов, — говорит Трампедах. Затем, перевесившись через стол, шепчет: — Керолайна втихаря курит трубку и дует виски, я сам видел через щелку в дверях — сидит себе на кровати и знай запихивает в трубку добельман, ей-богу, весь дом уже провонял печеными яблоками… Я бы еще мог понять ее слабость к виски, это у них в крови, но забивать трубку добельманом и пускать кольца, особенно в ее лета, это как-то непристойно… Трубка и виски!
— Виски весьма полезный для здоровья напиток, — снова берет слово Кристофер, — ибо его варят из ячменного солода, который сушат над горящим торфом и антрацитом. Солод вместе с дымом впитывает эмпиреуматические вещества и креозот; позже, когда перебродивший солод перегоняют, пары приобретают дымный дух и привкус. Цвет и благовоние появляются потом, после двухлетней выдержки в дубовых бочках.
— Но в ее лета…
— Господин магистр, цыпленок божественный… Артишоки во рту тают!
Кристофер не мог нарадоваться, что двадцать минут застольной музыки, которые отделили ужин в латышском национальном вкусе от ленча, так быстро пролетели, — он снова мог уписывать за обе щеки и делал это с превеликим наслаждением и алчбой.
Керолайна поставила на стол покрытую пылью стройную бутылку, после чего собеседование о винах повел уже Трампедах:
— Меня приятно удивило, что вы изъявили желание пить белое вино. С рыбой и дичью употребляют только vin blanc, только vin blanc. Встречаются простофили, которым вынь да положь красного, но его полагается пить исключительно с жарким, ростбифом или другими подобного рода кушаньями.
— Почему, уважаемый магистр, в вашей «П.П.П.» нет более подробных сведений о различиях в составе, а равно и в приготовлении как белого, так и красного вина?
— Молодой человек, вы задаете слишком примитивный вопрос: из красного винограда делают красное вино, из желтого и зеленого — белое, об этом можно прочесть в «П.П.П.», и больше к сему добавить нечего…
— О господин магистр, в вашей «П.П.П.» снова допущена грубая ошибка! Из красных ягод тоже можно приготовить белое вино, ежели выжать один только сок. Но стоит размолоть ягоды вместе с кожицей, как сусло приобретет красную окраску и дубильные вещества, а вино получается тяжелым и выраженно сухим.
Наступает неприятная пауза.
— Неужели так? — спрашивает Трампедах совершенно убитый.
— Именно так! — подтверждает Кристофер с усмешкой. Затем он вытирает салфеткой губы и серьезно заявляет: — У меня к вам есть предложение. Принимая в рассуждение, что кулинарная наука с 1880 года шагнула далеко вперед, дайте мне соизволение и благословение переработать, пополнить и усовершенствовать вашу книгу!
Предложение было явно некорректным. Нужно самому стать писателем, чтобы понять, до чего оно было охально. Поэтому Трампедах принял слова Марлова за неудавшуюся шутку.
— Молодой человек, ведь не отдельные промахи и мелочи определяют смысл и ценность произведения искусства. Главное — стиль, самобытность и прежде всего идея, наличием каковых моя поваренная книга и отличается от всех прочих. Вы хотите разбазарить свой талант на то, чтобы исправить отдельные фактические погрешности моего труда. Неужто вам не хватает тем? Только что мы имели возможность убедиться в ваших познаниях по части технологии напитков. Вы большой специалист, притом со склонностью к язвительной шутке и иронии, мало того, вы нигилист и анархист, во всяком случае, прикидываетесь таковым… Почему бы вам не взяться за трилогию «Spiritus vini — spiritus diaboli» — отец, сын и дух святой, в вас есть что-то демоническое (при этих словах Трампедах внимательно следил за выражением физиономии своего гостя, но тот, не поднимая вежд, колупал цыплячье крылышко). Я сам когда-то серьезно помышлял о трактате «Дичь и ее приготовление» и охотно отдал бы эту тему вам, а равным образом и собранный материал, например, о пупетонах из мяса жаворонков и дроздов, то бишь запеканке, которая делается из сыра и мяса помянутых птах, он еще нигде не публиковался. «Тушеные жаворонки эшалотом», «Гриллад из скворцов» и так далее и тому подобное.
Кристофер, ковыряя в зубах указательным пальцем, небрежно ответил:
— Господин магистр, все это мне давно известно, могу ваш перечень даже пополнить, например: «Жаворонки с яблоками и иргой»:
«Возьми да очисти от пера двадцать жаворонков, выдерни потроха, но только осторожно и с умом, дабы не вырвать с оными потрохами жир, головы тоже можно оттяпать и швырнуть к тушкам.
Затем клади все в чугунок вместе с иргой и нарезанными на кусочки яблоками, добавь цукатов, сахару, подсыпь ржаной муки, влей одну часть воды против одной части рейнвейна, после чего ставь все на медленный огонь и томи около часу, затем остуди, впрысни одну ложку эшалотового кулиса, снова вари и подавай на стол «фри»…»
Венгерский вермут превосходен, я не стал бы менять его на Martini, где вы купили его? Наверняка у Шара и Кавицеля, наш отечественный Отто Шварц стал что-то слишком однообразен в своем репертуаре.
Магистр возрадовался, что беседа отдаляется от темы сочинительства, и живо согласился:
— Вы совершенно правы, в нашей Риге и Видземе несть числа местным питейным рецептам. Ежели б Керолайна, готовя раковый шербет, не выбросила рачьи шейки и клещи, мы бы сейчас могли уплетать их за милую душу, запивая пивом — «кюммелем», знаменитой на весь мир маркой, которую придумал повар аллажского барона Бланкенхагена — крепостной Екауп, можно было бы также тяпнуть померанцевой настойки, ее изготовляют на берегу Даугавы в Стукманях, что напротив Селии, на худой конец можно было бы испробовать небезызвестное пойло Вольфшмита «Водка Пушкин». Да и Cordial médoc Аскова достаточно забубенист и приятен на вкус, не говоря уже о Cherry brandy Отлана. Вот видите, сколькими зельями изобилует наша сторонушка.
Явилась шотландка с третьей подачей: с неохватным блюдом, на котором подрагивала кабанья голова с оскаленными зубами. Магистр торжественно изрек:
— Наконец гвоздь программы — «Свиная голова, подделанная под кабанью». Назовите быстро, что будем пить: Rheinauer Roth или бургундское?
— Будем пить то, что у вас окажется под рукой, господин магистр.
— Стало быть, бургундское? Rheinauer Roth, наверно, уже весь выхлестали? — спрашивает по-английски Трампедах. — Керолайна, как там?
— Yes, sir!
Глубоко вонзив нож в ощеренную пасть, Марлов словно в трансе бормочет рецепт:
— «Окали сию голову на огне, выдерни вон с задней стороны шейную кость, разрежь на рыле шкуру сверху и снизу, вырви язык и дай голове двадцать четыре часа полежать в холодной воде, затем на чистой сковороде пожги в уголь щепотку овса, замеси его вместе с мякотью яблок и намажь полученным черным тестом вышеупомянутое рыло, дай ему полдня посохнуть, затем клади в кастрюлю, влей три части воды против одной части винного уксуса, швырни крупной соли, двенадцать луковиц, перцу, две горсти можжевеловых ягод, понюшку пьянь-травы и вари, пока мясо не сварится. Как скоро оно приспеет, влей в варево штоф красного вина и дай голове денька два постоять в своей воло́ге, после чего соскобли выварки и подавай ее на стол под салфеткой».
— Ешьте, Кристофер, ешьте, вы прямо помешаны на рецептах. Может, вам стоит написать роман? Например, «Внуки Лукулла». В сочинениях на исторические темы рецепты бывают очень даже к месту. А больше предложить мне нечего.
— Кроме разрешения переработать и исправить вашу
— «П.П.П.», господин магистр.
— Ну куда это годится, любезный друг мой, будьте же разумны! «П.П.П.» — мой первенец, и я не позволю его трогать; слово или запятую переставить не дам, вот так-то. Мне совершенно непонятна ваша одержимость. В самом деле, какую цель вы преследуете? Неужто и вправду воображение у вас настолько немощно и тускло, что вы сами не можете ничего выдумать? Литературным критикам ваш замысел покажется нелепым, лишенным всякого смысла, в нем нет ни капли логики — чистый бред…
— Только что вы изволили упомянуть литературных критиков, — говорит Марлов. — Это очень хорошо… Вы напали на след…
И тут с его уст сорвалось признание, высказать каковое, пожалуй, еще не настало время.
— Идея написать роман стилизованным языком со старинными оборотами речи (примерно на ваш манер) у меня зародилась давно. Однако что бы сказали грозные судии, если б я свою тему облек в форму, которая так и кишит допотопными выражениями, областными словечками и заимствованиями? Они бы меня положили на обе лопатки при первом же ходе, так сказать, живого зажарили бы на костре!
Я должен был отыскать материал, для которого сии художественные средства оказались бы насущной необходимостью, и тут в мои руки попала ваша «П.П.П.»… То был указующий перст судьбы… Я полюбил прекрасный праязык народа. Сколько яркого, самобытного отброшено лишь потому, что в свое время не успело войти в письменную речь! Давно перемерли пращуры, кои говорили тем каленым хлестким словом.
Мне кажется, языки других народов, особенно русский и английский, а равно французский и немецкий, куда как богаче, у этих народов словесность охватывает кроме лингвистических образований нового и новейшего времен необъятный клад праязыка, ибо сама письменность возникла много раньше и была ближе к простой разговорной речи, поговоркам и традициям. Вы, почтенный магистр, не становились в позу буквоеда, а вели себя как подобает непредвзятому любомудру: слушали народную речь, запоминали тяжеловатый слог простого люда, редкие слова и изречения, чтобы снова наполнить их живым огнем. На этом поприще я хочу стать вашим учеником. Сюжет «П.П.П.», стиль и слог послужат всего лишь теми художественными средствами, в кои я намерен облечь новое содержание и с чьей помощью буду вещать новые идеи. Позвольте мне использовать сию возможность, дорогой учитель. Якоже деревянные барочные истуканы знаменитого куршского ваятеля Сефрена-младшего по сей день вдохновляют людей на великие деяния, так и ваша «П.П.П.» воодушевит меня и станет верной защитой от наскоков судей. Не лишайте меня своей опоры, дайте мне идти бок о бок с вами, опереться на ваше могучее рамо!
Старый хрен молчал. Глядя на его окаменелое невыразительное лицо, Марлов испытывал велий гнев.
— Мартышка на куче сокровищ!
Разве Кристофер еще в Лондоне не чихвостил дурней, которые шушукались у него за спиной, будто он свою «Трагическую историю доктора Фауста» позаимствовал из древней легенды, которую откопал в старой библиотеке замка, когда гостил у своей крестной мисс Кемпбелл в графстве Эйр в Шотландии? Ну и что с того? Кто теперь знает ту легенду, зато кто не слышал о «Трагической истории доктора Фауста»? Староанглийский язык, который Кристофер обожал, подвигнул его на сочинительство. Однако не во внешнем обличье видел он соль своего творения. Главное для него был Фауст с его неутолимой жаждой познания, трагический удел человека, лишенного возможностей утолить ее…
— Вильям, скажи, разве я когда-нибудь запрещал тебе брать мои сюжеты? Ты гордился «Венецианским купцом», но ты ведь написал его после того, как посмотрел на сцене мою трагедию «The Jew of Malta», — твоя пьеса лучше, я ничего не говорю и не завидую. Ты меня поносил, дескать, я склочник забубенный и шут, но веселую «Строптивую» сочинил я, потом ты ее переделал, ты хоть помнишь «Called the Taming of the Shrew»? Разве я из-за этого таил против тебя зло? В тени твоего гения мог писать лишь тот, кто умел мириться с ролью шута.
Теперь это надутое дерьмо, одуревший от мании преследования подпольный лекарь сидит яко чурбан и молчит. Ну что за лихо свалилось на мою голову! Вперился в одну точку и немотствует. Ничтожество мелкотравчатое! Сам небось в эту минуту видит, какой он ничтожный червь… Ну раз так, нечего мне вертеться мелким бесом, с пигмеями надо говорить на их языке…
— Слушайте внимательно! Предлагаю вам вознаграждение: я тоже алхимик и не хуже вас. Я тоже кое-что кумекаю в оккультных мороках. Вы открыли сатанинский препарат смерти Т-1. А я универсальный эликсир жизни, временно зашифруем его и назовем КМ-30, что значит опус Кристофера Марлова, год 1930-й. В течение трех дней означенный эликсир превратит вас в юношу. Вы почувствуете себя аккурат как пятьдесят лет назад. Ваш нос лишится привычного цвета перезрелой сливы (для чего мы применим пропитанные сложным составом компрессы), ваши седые, редкостной красоты волосы, покрашенные особыми мазями, приобретут русо-мареновый оттенок, восстановится блеск ваших глаз, бородавки мы ловко и безболезненно удалим, кожу на вые подтянем и закрепим гуммиарабиком. Эликсир пробудит в вас дремлющие половые инстинкты…
В этом месте Трампедах начал волноваться и выделывать руками какие-то непонятные зигзаги.
— Вы хотите сказать, что все в порядке, — прекрасно, я не сомневаюсь, однако реконструкция потребует большой нагрузки, о чем я должен предупредить заранее. И тогда, магистр, — Кристофер повысил голос на терцу, — я поведу вас за собой! «Сладкой жизнью» будет называться наша поездка. Не думайте, это не какой-нибудь там немой фильм! Мы кинемся в водоворот приключений, удовольствий и вящих безумств. Вы сами сказали, вам не терпится все это вернуть. Пожалуйста, да исполнится ваша воля! Мало того, вас ждет Великая Любовь. Разве не ужасно, что дни и ночи вам нужно проводить в обществе Керолайны, этой высохшей телом и умом кикиморы.
Вас познакомят с Маргаритой. Это блондинка с золотистым отливом, наполовину полячка, стройная; как у всякой славянки, у нее безупречные ноги, умопомрачительная поступь, грудь — два сладких померанца, умеет одеваться…
Но, может, вам милей шатенки, чернявые, избура-красные или рыжие?
Пожалуйста, все в наших руках! Holy Red в «Алхамбре» сама юность, недавно из деревни, крещеное имя Лизете Козляткин-Кажа, дитя природы. У нее, правда, есть жених — иллюзионист из цирка Заламонска, по прозванию San Martino de Castrozza, по паспорту Мартин Скрастынь, но его мы вызовем на дуэль и шпокнем. Иллюзионист! Тоже мне птица! Смешно!
Трампедах наконец открыл рот:
— Полно прельщать фантомами, молодой человек, зачем меня, старого пентюха, дразните, вгоняете в соблазн. Это невозможно! Безглазая старица с косой на плече, вот кто скоро пойдет со мной к алтарю… Балясы, кои вы точите, причиняют мне душевную муку, я острее прежнего ощущаю, что состарился и все, все прошло…
— Я не шучу, магистр! Остается лишь подписать договор, и все произойдет в точности так, как я только что вам предсказал. Клянусь Люцифером!
— Боже мой, боже мой, почто ты покинул меня… — шепчет Трампедах. — О каком договоре ведете вы речь?
— «Янис Вридрикис отдает свои законные авторские права на книгу «П.П.П.» студенту естествознания и странствующему музыканту Кристоферу Марлову, за что вышереченный Марлов обязуется с помощью изобретенного им эликсира КМ-30 вернуть магистру алхимии cand. pharm. Янису Вридрикису Трампедаху молодость и подробно ознакомить его со «сладкой жизнью».
— Это невозможно…
— Это возможно! Все зависит от вас — только подпись, и в конце этой же недели мы отправляемся в Ригу. Вас ждет Holy Red, сама юность, к тому же девственница… Сперва мы втроем едем в Булдури в «Казино», затем я незаметно оставляю вас одних. Апартаменты закажем заранее; а может, вас больше устраивает жительство в «Роме»? Holy Red предпочитает курорты, распустилась, рыжая блудница.
— Вы упомянули Маргариту… О боже, Маргарита! — и старый принялся распевать какую-то арию из оперы Гуно.
— Будет и Маргарита… Блондинка с золотистым отливом, умопомрачительная поступь, наполовину полячка…
Идет Керолайна.
— Тс, тише! Впрочем, она, остолопина, ничего не понимает. И с этакой костлявой сушеницей я до сих пор коротал дни и ночи, — потрясенный пялится магистр.
Керолайна несет верхосытку, то бишь десерт, на медном подносе. На столе появляется гляссе, яблочный омлет по-пильзенски (бери кварту доброго пива, дюжину яичных белков, круто взболтай, смешай все вместе с двумя ложками масла и щепоткой углекислого аммония, опускай в месиво разрезанные ломтями яблоки с сахаром и жарь все на дюжем огне), калач с миндалем и благоухающее мокко в серебряных кофейниках с узкой пережабиной и длинным рыльцем.
Но почему-то оба больше не едят, не пьют… Магистр, поднявшись из-за стола, мешкотным шагом меряет трапезный зал, а мироед усердно ковыряет в зубах. Керолайна от удивления аж замирает — подобное преступление против этикета Янис Вридрикис допускает впервые, не ели ведь еще сладкого! Что-то стряслось. Магистр велит Керолайне проваливать. Так он еще никогда с ней не обращался… Так он еще никогда…
Керолайна скрылась в своей горнице, села на кровать, достала трубку и щепотку добельмана, горькая капля покатилась по щеке и упала в жерельце табакерки.
…то не капля горькая, то не теплый дождичек,
то слеза была девичья, что росою пролилась…
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Этот дражайший Янис Вридрикис еще ни разу так не облаял ее.
Мисс Керри плачет, как ей быть,
Аптекарь хочет счастливым быть!
Аптекарь тем временем решился, внутренний монолог, который он, шагая по трапезной, произносит, звучит на диво убедительно:
— Мои предчувствия не обманули меня, явился Он. Воскликнул, правда: «Клянусь Люцифером!» — значит, не совсем Он, но один из его посланцев. Пожалуй, не особенно высокого ранга шишка, потому как прибыл в заляпанных грязью штиблетах… Как водится, будет и Маргарита. В конце концов, чего я теряю? Душу?
За душу магистр не дает и ломаного гроша, равным образом и за цветы, которые Керолайна в знак любви и верности время от времени ставит ему на письменный стол… Тоже мне подношение, уж лучше бы клала жареную курицу. Но что касается «П.П.П.», ее жаль… Может, продать душу, насладиться «сладкой жизнью», а посланца обсударить, обмануть? Предать страшному суду за вымогательство. Ангел господень Габриель Осипович возьмет сторону Трампедаха, магистр отвалил церкви Святой Катарины изрядный куш на орган, на строительство третьего мануала, а эти нечистые не такие уж и могутные, Трампедаха не проведешь, он читал латышские народные сказки, черти — глупые! Не то слово — дулебы!
— Итак? — спрашивает Кристофер.
Трампедах закрывает тафельклавир, долго пялится на портрет Альфреда де Виньи. Где-то внутри зашевелилась похоть. Магистр уже готов сдаться, пожертвовать трудом своей жизни ради вожделенных мгновений земного счастья. Однако в рассудок не дремлет, знай, бдит себе деляга, прикидывает. Созревает мысль: шишей надобно обвести вокруг пальца!
— На определенных условиях, — произрекает старец. — В договоре должен быть параграф, указывающий, что в авторские права вы можете вступить лишь лет через пятнадцать, то есть в анно 1945.
— Как это?! Смешно! Я хочу немедленно сесть за работу!
— Кто вам мешает работать? А вот публиковаться только с 1945 года. Я тогда, наверно, уже буду в могиле — черт с вами!
— Сладкая жизнь требует больших средств. Разве можно вкладывать свои потом и кровью заработанные латики в столь сомнительное предприятие?
— Зачем ваши латы? У меня денег навалом, включите в договор параграф, в котором говорится, что за все плачу я, Янис Вридрикис Трампедах.
— Гм…
Кто тут искуситель, кто искушаемый — не разобрать.. Звучит как обоюдно выгодная сделка, ни дать ни взять типичный мелкий бизнес тридцатых годов, хотя мир уже кряхтит, пошатывается под ударами финансового кризиса. Но, видать, за этот нижнекурземский городок он еще как следует не взялся — у магистра в ссудо-сберегательном союзе взаимопомощи лежит солидный вклад, почтенный муж ежегодно жертвует Гимнастическому обществу балтийских немцев (ГОБ) и штифту Св. Юрия (приюту для убогих духом и прочих калек) немалое количество денег, кроме того, внушительная сумма положена на имя Керолайны в Швейцарский банк, ничего не скажешь, выгодное дельце состряпал он с мейстерзингерами в коричневых тельницах из Нюрнберга, прошлым летом таинственные ребята нанесли ему визит…
Вот такие дела. Ну разве это не насмешка судьбы: теперь у него денег хоть завались, а в молодости пришлось терпеть нужду и отказывать себе во всем. Продажной любви и той не успел вкусить. Высшим пределом его знаний о женщинах была Керолайна — жалкие мощи… Жену он даже не помнил…
Маргарита, Маргарита…
Маргариту ему довелось лицезреть всего раз в жизни: на сцене Лиепайской оперы.
Он аплодировал, послал цветы, ждал у входа. Но Маргарита как вышла, так села в такси с вихрастым пижоном, послала ему воздушный поцелуй, крикнула: «О-la-la Onkelchen!» — и была такова, магистра лишь обдало синим смрадом, после чего он надрался в одиночестве. Теперь он сам будет на месте вихрастого, сядет с Маргаритой в бензомоторную колесницу, изрыгнет вонючую струю, укатит и оставит Кристофера одного, пускай себе напивается!
Триумфальная сцена убедила Трампедаха окончательно. Он торжественно встал и произнес:
— Господин Марлов, уже поздно, в моем доме принято ложиться спать в одиннадцать часов двадцать минут. Сделку заключим завтра. Разрешите проводить вас в гостиную, она помещается на чердаке. Керолайна называет ее top floor bedroom. Может, вам надобно пройтись по нужде? Это здесь, во дворе… Мы это называем Waldcapelle, сокращенно WC, кстати двухместный… В городке нет водопровода, мы обходимся сухим, просто «C», местные названия — сортир, дерьмоброс, нужник. Спокойной ночи!
В вечернем воздухе слегка пованивало чем-то человечьим и ужасно знакомым…
IV. НОВЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В ГОРОДКЕ НА ВЕНТЕ
Магистру ночью приснился дурной сон: нечистый увез его вовсе не в Ригу, а заманил на гумно за ригой, где происходил диковинный бал, — какие-то хвостатые судари в сивого цвета сюртуках с развевающимися фалдами вертелись в танце с непотребного вида охальницами. Одна греховодница и шалава по имени Holy Red заставила престарелого мужа три раза отбивать чарльстон, притом так изощрялась в лукавых ласках, так обольщала и щекотала его, что после третьего захода он упал, в беспамятстве хватал руками воздух, но больше пойти плясом не мог… В это мгновение несчастный очнулся ото сна, тотчас оделся и вышел прогуляться в тихий и безлюдный парк, который находился неподалеку от дома.
Солнце только что встало, на лужайках звездились белые тенета мизгирей, чирикали горобцы, и от муравы поднимался пар, обещая пригожий и теплый день. На береговой крути высились развалины старого замка, построенного герцогом Екабом, оттуда хорошо просматривался быстрый перекат, порядком оголившийся и галечный, вода здесь казалась чистой-пречистой, потому как лилась с порога, поднимавшегося над рекой в двух десятках саженей выше по течению и оглашавшего окрестности преуютнейшим урчанием. Трампедах жадно вдыхал волглые запахи и чувствовал, что он понемногу успокаивается. В конце концов, разве у него не такая же судьба, как у этого столетнего дуба, который вымахал на здешнем суглинке и раскинул ветви над поросшим маренами утесом? Какой еще силе сдвинуть нас с места, коли не громам и молниям?.. Да, есть вещи, не поддающиеся объяснению и жуткие в своем могуществе, как мне устоять перед ними, о владыка всевышний? Все правила и законы разбиваются, яко мыльные дутыши, об скалу, за которой бормочет и воркует «сладкая жизнь»… Чу!
В Парвенте поют…
Девица… Не Спидала ли это, которая кличет его — Кокнесиса? Трампедах «сегодня ударит первый, а завтра будь что будет»[7]. Так или иначе лежать ему через пару лет во влумине, не все ли равно в какой: уложенной цветами или жидким илом. После смерти тебя забудут, за твое доброе имя не дадут и ломаного гроша, посему торопись, хватай, что можно схватить!
Славно отдохнув, магистр вернулся домой. Керолайна с красными распухшими глазами вручила ему письмо, которое принес Уве, сын мукомола Бредериха. Шкет, говорит, ждал добрых полчаса, после чего попросил, дабы о на собственноручно передала его магистру.
Гость еще почивал, однако же старый настаивал, чтобы ударили в гонг — стрелки показывали восемь. Ровно в восемь часов у них первая трапеза — перехват. Завтрак подадут лишь в десять.
Покамест Керолайна побежала исполнять его повеление, Трампедах распечатал грамотку, в этот раз она была начертана завитыми готическими литерами на немецком языке:
«Lieber Genosse Johann Friedrich!
Правление Гимнастического общества балтийских немцев почтил своим визитом наш шеф и доброжелатель архитектор Розенберг, бывший учитель рисования ревельской домской школы, оказавшийся проездом в нашем городе. Потому как гость уже нынешним вечером отправляется далее в Клайпеду (Мемель), а затем и в Берлин, то мы рассудили за благо соорудить в его честь небольшой обед в «Эйфонии».
Господин Розенберг непременно хочет с Тобой поговорить. По поручению мейстерзингеров
твой
Керолайна колотила в гонг, грохотала дверьми, но гость наверху спал, как убоенец. Янис Вридрикис вчера вечером распорядился приготовить ему ванну с сосновой солью, чтобы сполоснуть дорожную пыль, но долгие переговоры, затянувшиеся до полуночи, нарушили все. Сегодня утром Керолайна постаралась угодить хозяину. В углу приспешной под лестницей, каковое пространство шотландка именовала bath room, над ванной снова клубился пар. Никаких труб или там водопроводов в доме не имелось, поэтому Керолайне приходилось таскать воду из колодца, греть ее в большом кухонном чугуне, а затем наливать кипень в помянутую ванну, то бишь оцинкованную дежу, которая покоилась на четырех ножках под лестничным скатом. Она не жалела сосновой соли, приготовленной по особому рецепту, но бесстыжий детина не слезал с чердака и, кажется, не думал вставать. Видать, не мог по своему скудоумию оценить подобное благо. Поэтому магистр заперся на кухне и наслаждался прелестями омовения сам: полчаса фыркал, хрюкал и шмыгал носом на радость и в утешение Керолайне, которая только о том и помышляла, как бы ублажить Яниса Вридрикиса.
Тем временем первые пациенты уже скреблись в дверь. Керолайна впустила в прихожую дородную хозяйку из Турлавы со свертышем под мышкой, а за ней молчаливого косогляда, который вел за руку маленькую девочку, усадила их всех на скамью, всучила каждому по обтрепанному журналу с потешными картинками, чтобы скоротать время, и велела ждать.
Вкусив первый завтрак-перехват, магистр, розовый и свежий точно огурец, приступил к приему недужных — таков был распорядок. Правда, сегодня он хотел отослать всех назад, потому что держал в уме одни лишь мысли о «сладкой жизни», но Керолайна его образумила: явилась миссис с увесистым свертышем, помилуйте, как можно!
Вошел косогляд с девочкой. Магистров лик омрачился. Хеценекер! Когда же он избавится от этого голодранца?
Хеценекер был печник, ремесло свое знал как нельзя лучше: искусным манером сложенная печь, которая украшала кабинет магистра, была его творением. После первой мировой войны по приглашению барона ремесленник с женою и шестью детьми приехал из Гольштейна. Жена вскоре опочила, и Хеценекер начал биться как рыба об лед. Столько заработать, чтобы прокормить и одеть детей, он не умел или не мог, хотя трудился не покладая рук с утра до вечера. А тут еще повалили напасти: то одно чадо занедужит, то другое. Хеценекер в отчаянии все чаще и чаще прибегал к лекарю, умолял скорее идти за ним — опять на кого-нибудь из детей лихоманка прикинулась. Трампедах с превеликой неохотой тащился за Хеценекером. Дом печника на окраине был самой что ни есть нищенской дырой. Аптекарю, завзятому эстету, любомудру и литератору, претил заваленный поскребками стол, обитые горшки, пакостный дух помоев; в такие дни он чувствовал себя совсем больным, аппетит и то начинал портиться.
Двое старших ребят, девятнадцати и семнадцати лет, страдали чахоткой, те уже не могли подняться с постели. Трампедах выслушал отроков и посоветовал им горный воздух, лучше всего курорт в Давосе и как можно больше фруктов… При этих словах зельник устремил взор на обгрызенную капустную кочерыжку, которая валялась возле изголовья, и с отвращением отвел вежды… «Чахотка — хворь социальная и служит естественному отбору: вследствие оного менее ценные людские особи уступают пространство более ценным», — разразился про себя сентенцией Трампедах.
— Остальных детей я отдал в Курцием в пастухи да в помощники, — говорит Хеценекер. Он питает надежду, что подобным маневром ему удастся отвести от них заразу.
«Чахотка — социальная болезнь», — дует свое Трампедах, «Те, кто устоит перед ней, — ядро нашей нации и мощь. А эти все равно отдадут концы, сладкая жизнь не для таких».
Маленькая Труде, которую Хеценекер сегодня привел к магистру, невесть сколько времени мучается телесными озлоблениями — чиреями да вередами. Все тельце в сукровичных язвах. Печник возлагает большие надежды на Трампедаха. Все-таки земляк, как-то раз заговорил о братских узах и арийском происхождении, неужто такой покинет в беде.
Третьего дня магистр дал зелье, порошок медного купороса, коим посыпать болячки, но кожа и язвы воспалились еще пуще — зудят, чинят скорбь и терзания. Косогляд жалуется: девочке, мол, стало хуже, он свои три лата зазря потратил.
Трампедах что-то бурчит себе под нос и велит Керолайне очистить зеленоватые струпья нашатырным спиртом. Он-де даст другое притирание, оно, мол, изготовлено из соков алоэ, теперь-то наверняка поможет, магистр ручается!
Когда процедура завершена и Хеценекер протягивает зельнику свою последнюю монету в пятьдесят сантимов, Трампедах распаляется велиим гневом:
— Чего бегаешь по врачам, если платить нечем? Ты хоть подумал, во сколько мне самому обходится такая мазь? Пятьдесят сантимов мне сует! Ходи в больничную кассу, не таскайся к специалистам, коли чемез пустой!
Хеценекер берет Труде за ручку и, дрожа от гнева и кося глазом, удаляется. Ни слова не произносит в ответ. Тяжело захлопывается наружная дверь.
«Экий лиходей. Бог знает, чего такой не учинит, настань другие времена», — думает Трампедах. Он вспоминает 1919 год в Цесисе, когда милиционеры посадили его за то, что он прятал золото… В тот раз один тоже косил зенками… «Я его врачевал как брата родного, а он возьми да покажи мне задницу!»
Распахивается дверь. Словно лучистое солнышко, словно яблоня в цвету, в кабинет вплывает Григулайшу Эда, турлавская барыня, владелица богатого хутора в Курциеме. Курцием — бывшее казенное имение, какие после аграрной реформы кое-где еще уцелели: владельцы ухитрились разделить землю фиктивно промеж родственников.
Григулайши! Вот это семейство, вот это размах! В божий храм гоняют в парном рыдване, на козлах кучер помахивает кожаной шалыгой, поглядеть со стороны — ни дать ни взять серый бирюк с усами. В каретном сарае — косилки, сеялки, молотилки, выкрашенные желтой и красной вапой, со словами Fordson и Lanz-Buldog на боках. В хлеве — латвийских бурых как собак нерезаных, так и гимзят. Сам домина — в древнелатышском стиле. Шмулович за лес уплатил тридцать тысяч латов, куда такую уйму девать: свиньи не жрут, у родни тоже денег — куры не клюют. Магистр не может раскусить, что теперь его ждет: приятность или досада? Загвоздка в том, что Григулайшу Эда уже год как не казывала к нему очей: эту дойную коровушку Трампедах совсем выпустил из рук, не ведал, выполнялись лечебные процедуры или нет и какой они имели успех. При виде Эды аптекарь ощутил некоторое смятение духа, причиной коего был непомерно щедрый гонорар, которым его наградили в счет будущих побед. Что, если все вышло не так, как было задумано? Чтобы понять подоплеку его душевной смуты, надобно изложить Эдину историю болезни. Сказать по чести, ее недуг даже нельзя было назвать болезнью. Скорее, избыток здоровья заставляет помянутую бабенку каждый год рожать по дочке, что ни роды, то девица, хоть плачь, хоть смейся! Муж спрашивает, мужнина родня допытывается: где сын, почему нет сына? В кого она, такая ущербная, уродилась? Уже девять дочерей нашпуляла и ни одного дитяти мужского полу. Пошли раздоры, волнения. Что будет с хутором? Где наследник? Где кронпринц? Нетути!
Супруги приналегли еще раз — ни хрена! Паки дочь! Уже десятая. Григулайшу Биерант мчится в Бернаты, там углекислые ванны, горячий душ, доктора, рентген… Собирается консилиум, осматривает, взвешивает, постановляет: здоров, езжай домой — девиц больше не будет.
Приезжает домой, скорей за дело! Снова пшик — одиннадцатая!
Тут все ударились в крик: порча в жене, cherchez la femme!
Прослышали про знаменитого аптекаря zum Цесис, который вылечивал и не такие хворобы, а теперь живет в городке на Венте, и айда!
Запрягли коней в коляску. Эда понеслась за спасением. Приезжает, знакомится…
— Господин Трампедах, так и так… Помогите! Нечего говорить обиняками да плутать в потемках. В опасности честь семьи. Нужен совет.
— Совет? — Советов у Трампедаха не занимать стать. — Еще в моей «П.П.П.», изданной в 1880 году, третий параграф осьмнадцатой главы гласил: «§ 3. Истинно верные наставления, как в благочестивом браке зачать сына», вам не доводилось читать?
Нет, Григулайшу Эда такую книгу не читала, но после слов магистра заметно приободрилась и попросила изложить суть означенного параграфа более обстоятельно, каковая ее просьба была немедленно исполнена.
— Итак, почтенная сударыня, примите в соображение:
а) сия жена должна лежать на левом боку;
б) над супружеским ложем надлежит повесить оленьи либо бараньи рога таким манером, дабы они все время были у жены на виду;
в) под кровать следует втопырить сучковатый голомень рябины, дабы изножье стало выше изголовья;
г) коль скоро вышереченные средства не пойдут впрок, нужно сходить к цирюльнику, пускай спустит у той жены четверть штофа крови, потому как в ней содержится слишком много кислот…
То были старинные предписания, должно быть, шибко дельные, поэтому Эда дотошно расспросила магистра о всех подробностях, чтобы выполнить рекомендации с надлежащим тщанием и строго по книге. На всякий случай Трампедах переписал оные указания на рецептном бланке и дал ей с собой. Тут Эда совсем воспарила духом и, льстя себя радостными надеждами, укатила восвояси, сунув на прощание старому пню пятьдесят латов, так что тот, ошеломленный царским подношением, еще долго шлепал губами и рассыпался в благодарностях. То был самый крупный гонорар, какой магистр когда-либо получил в качестве врача, притом всего лишь аванс (разумеется, Кимелис и Пипер за книгу и 1880 году дали примерно вдвое больше, но то было в другом жанре).
Трампедах в прочувствованных выражениях возблагодарил бога и попросил его помочь и в остальном, ибо тогда аптекарева слава еще больше приумножилась бы. В тот раз, когда Эда, сев в двухколесную бричку, стеганула игреневых рысаков длинной шалыгой, магистр проводил ее взглядом до церковного вертограда, затем вернулся в дом, утаив от Керолайны жирный кусок, который достался ему в тот день…
Миновал год, в течение коего аптекарь ничего не слышал об Эде, и вот наконец она явилась, можно сказать, как снег на голову свалилась.
Внимательно разглядев лицо барыни, старик смекнул, что вышел в победители… Эда не выдержала и расплылась в счастливой улыбке. Наконец для Курциема родился кронпринц, мальчишка хоть куда, кандиристый и ладный, чистый боярский отпрыск. Счастливая мать просила у магистра разрешения окрестить мальчика Янисом Вридрикисом; она взяла и развернула свертыш, который доселе держала зажатым под мышкой, и вынула из него лососенка фунтов этак пятнадцать… На все, на все был согласен Трампедах, хоть крестным стать, хоть лососенка забрать…
— А тут остаток — десятка два латов, берите, берите… Денег у меня невпроворот. Куда эти деньги девать, свиньи их не жрут, у родни своих — куры не клюют! До свидания, господин Трампедах, до скорой встречи!
Когда с делом было покончено и Эдин след простыл, магистр позвал Керолайну, пусть забирает дары, в это время года подобная вещь — большая редкость.
— Чтобы сегодня к ленчу был подан жаренный на вертеле и натертый специями лососенок с начинкой и каштанами! — строгим голосом распорядился Трампедах, а шотландка потирала руки:
— Greatly fat salmon, very fat!
— «Бери лосося, оскобли. Как скоро вынешь потроха, натри его перцем, солью, винным уксусом и сухарями, затем мелко разруби четыре селедки, начини ими нутро, обвяжи, согни рыбу в дугу и наткни на вертел или в худшем случае положи на ростр, поближе к огню, дабы ее тотчас облизнуло пламя, полей маслом, а спустя пятнадцать минут бери полштофа кислой сметаны и медленно опоражнивай над лососем, пока штоф не опростается. Тут снимай все с огня и подавай на стол с жареными каштанами и соусом «жюс». Все! Где гость?
Оказывается, Кристофер встал, на скорую руку умылся во дворе у колодца (Керолайна сочла его шаг за еще одну бестактность) и как раз вкушает полдник: свежеподжаренные хрустящие французские булочки, омлет с ветчиной и жареных пескарей с пряжеными клецками. От кофе он отказался, поэтому Керолайна принесла ему кружку флиппа — крем-соду, смешанную со сладким и горячим молоком. Кристофер такой напиток пивал в детстве в Килмарноке у крестной мисс Кемпбел, и угощение пришлось ему весьма по душе.
То а́глицким напитком флиппом
Нас угощает Керри с шиком, —
произносит про себя Марлов, полагая, что двустишие сочинил сам, хотя, сказать правду, он опять его спер, в этот раз у Адольфа Алунана, отца латышского театра:
То славный был напиток чай,
Что дали ей, на, выпивай!
— Доброе утро, господин магистр, — зычным голосом окликает Кристофер старца, — как только тот, обряженный в белый халат, заходит в трапезный зал.
— Утро пригожее, самый раз и вам наконец встать да позавтракать, — скрипит Трампедах с некоторой досадой, потому что гость нарушил весь распорядок дома.
— Дорогой учитель, чую, вы чем-то раздражены. Плохо спали? Может, вас изводили тревожные сны? Пригрезилась Holy Red? Не мучайте себя понапрасну, скоро мы узрим ее в действительности, которая далеко превзойдет все сновидения.
Трампедах вздрогнул: этому человеку ведомо то, что он видел во сне; лишнее доказательство, кто на самом деле скрывается под личиной вагабонда и шаталы… Стало быть, вчерашний разговор вовсе не мистификация, явился Он с конкретными предложениями.
— Мне тоже привиделся сон, почтенный магистр, — говорит Кристофер. — С растрепанными волосами каштанового цвета, со свежим, юношеским ликом, который украшал благородного оттенка и приятнейших очертаний орлиный нос, с губами, растянутыми в иронической улыбке, вы на каком-то писательском вечере читали с трибуны главы из своих «Записок шизофреника». Вы были окружены тесным кольцом прекрасных дев, устремивших сияющие взоры вам прямо в рот, который был полон искусственных зубов (они об этом не догадывались), все пылали нежной страстью и мнили вас гениальным писателем, но вы упивались чтением и смотрели только на одну — только на одну-единственную, она стояла прямо напротив…
— На Маргариту! — возопил магистр. — Зачем мы теряем время? Я ночью все решил. Идем в кабинет, будем составлять договор.
Молодой человек, однако, не был склонен спешить: он хотел предварить подписание исторического акта несколькими условиями. Во-первых, он настаивал, чтобы в его распоряжение отдали лабораторию по меньшей мере на три дня, поскольку ему на это время понадобится перегонный снаряд…
— Эликсир жизни — моя тайна, которую я никогда вам не раскрою, даже при всем моем расположении к вашей особе, почтенный учитель. Будь я скопидом, то загребал бы миллионы и поплевывал бы на все да позевывал. Но я довольствуюсь властью человека, коему принадлежит оружие жизни КМ-30, каковому изобретению я предвижу блестящее будущее, — продекламировал Марлов.
Что тут скажешь… против этого старый хрыч не мог возразить, то были его собственные слова. Как говорится, давайте жить по-братски, а дела вести по-английски.
Трампедах тотчас отыскал в своем письменном столе два листа бумаги (Papier de Ligat-waterproof) и принялся набрасывать статьи и параграфы в двух экземплярах. Он вынужден был отказаться от сочного языка и цветистого слога — для составления договоров требовался особый жаргон бюрократов и судебных приставов. Нечего делать, таковы были установки. Выяснилось, что и по этой части Трампедаха голыми руками не возьмешь, старик был тертый калач, поскольку ему доводилось тянуть канитель и с адвокатами, и с нотариусами, а также с судебными писарями. Некоторые формулировки отдельных статей вызвали пререкания, Кристофер вскоре заметил, что старый лис кое-где расставил юридические силки, то бишь допустил маленькие неточности, которые можно было двояко растолковать, и в любом случае во вред Марлову. Тем не менее после затянувшихся прений обе высокие договаривающиеся стороны пришли к единому мнению — документ подписать. Преамбула гласила, что переговоры велись в дружеской, непринужденной и взаимно доверительной обстановке.
Кристофер вспомнил, что подобные акты нужно скреплять кровью. Об этом упоминалось также в старинной легенде, на которую он натолкнулся в библиотеке замка в Шотландии, да и великий Гёте не сумел придумать ничего более путного.
Трампедах уступил, со вздохом вытащил из стеклянного шкафчика, где угрожающе топырились лезвия, ножницы, клещи и прочие режущие и колющие предметы, маленькое орудие с заводящейся пружиной — аптекарь иногда применял его, чтобы произвести на пациентов впечатление, будто он снимает пробу крови, этого требовала мода. И, глядишь, пронзив по очереди друг у друга кончик указательного пальца вредной штуковиной, вскрикнув «ой!», обе высокие договаривающиеся стороны выжали каждая по темно-красной капле, обмакнули в них заранее приготовленные перья «рондо» и не без труда нацарапали:
Янис Вридрикис Трампедах, cand. pharm.
P. p. c![8]
9 мая 1930 года,
находясь в здравом уме.
— — — — — — — — — — — — — — —
Кристофер Марлов (pseudonimus)
P. p. p. p![9]
Praemissis praemittendis per procura
9 мая 1930 года,
находясь в здравом уме.
Они еще раз перечитали договор, тщательно сложили и, пожав друг другу десницы, вернулись к своим занятиям. Магистр с Керолайной всю первую половину дня провозился в лаборатории, Кристофер копошился наверху в гостиной. Он попросил дать ему эмалированную лоханку, в которой Трампедах обычно заквашивал толчу и приготовлял кипень, опричь того, ему понадобился еще термометр, стерильная марля и три фунта неочищенных рисовых зерен. Магистр все это охотно обещал, — в самом деле, какой смысл человеку болтаться и шалберничать.
На первых порах Кристофер мог разворачивать свою деятельность только наверху, поскольку магистр решил, перед тем как передать лабораторию Марлову, скрупулезно ее убрать: помыть алембики, выгрести ненужный хлам, иверни и прочее.
Керолайна была сама не своя: никак не могла взять в толк, что тут творится, почему это Янис Вридрикис шастает вверх-вниз по лестнице, с какой стати лоханку и воду надобно таскать из лаборатории в спальню, по какой такой причине хозяин запирает реторты, колбы и скляницы в поставцы, а препарат Т-1 вынимает из шкафа и перекладывает в тяжелый стальной сейф.
Неужто он решил вдруг прекратить врачебную практику? Множество разных соображений приходили Керолайне на ум, она уже собиралась было спросить, что сие означает, как магистр с серьезной миной попросил ее зайти на пять минут в кабинет на предмет небольшого разговора.
У Керолайны, когда она опустилась в кресло напротив магистрова письменного стола, онемели ноги и в ушах послышался звон. Теперь уж хорошего не жди, догадалась она.
— Я имею вам сообщить, что в целях пополнения своих знаний я принял решение отправиться за границу, — заливал старый, глядя ей в глаза. — Так что вам одной придется вести хозяйство, смотреть за моим домом и моим садом и отвечать за то, чтобы в мой кабинет не проник никто чужой. Деньги для повседневных нужд и мелких расходов я оставлю. Пациентам и знакомым скажите, что нахожусь в Нюрнберге. Когда вернусь? Не знаю…
— Yes, sir… Но когда вы предполагаете вернуться?
— Через год, а то и два, смотря, как пойдут исследования. Может, я отправлюсь еще дальше, в Швейцарию, во Францию…
— О, мои предчувствия, — ударилась в слезы Керолайна. — Как это долго! Но вы, сэр, обещали этим летом дать мне месяц отпуска. Уже пять лет я работаю без отдыха, кроме того, Пегги Браун пригласила меня погостить в английской колонии в Майори.
— Мисс Кемпбел! — холодно и официально прерывает ее магистр. — Я надеюсь, вы не собираетесь чинить препятствия моим порывам усовершенствоваться в науках? Вы не отдыхали пять лет? Но разве я отдыхал, домогался отпуска? Нет, трудился, как ишак, поседел даже, зарабатывая на хлеб насущный. Рано или поздно я потеряю форму, коль скоро не пополню свои знания в фармакологии, кулинарии, философии и в медицине.
— Yes, sir… Я полностью разделяю ваше мнение и понимаю, что это необходимо… Но одиночество, такое одиночество… я ведь тоже человек…
— Вы женщина, Керолайна! Вы должны уяснить себе, что даже торжественное решение Виттенбергского университета от 12 января 1559 года, постановившее, что женщина тоже человек, тут же было опровергнуто книгой «Mulier homo», и опровержение сие не было окончательно снято вплоть до 1880 года, а наш городок на Венте по этому вопросу и доныне придерживается особого мнения. Бог создал мужчин и женщин. Женщины делятся на дам, куртизанок и служанок. Вас, мисс Кемпбел, я считаю дамой, поэтому было бы нелепо назначать вам отпуск, словно какой-то горничной!
— Но я собралась провести месяц среди своих. Пегги Браун, подруга моей молодости, я так радовалась…
Магистр прикидывал. Отсутствие шотландки на несколько дней, пожалуй, сейчас даже на руку. Керолайне нельзя видеть превращения, кои произойдут в его внешности. Лучше всего, если она вернется к тому времени, когда его здесь уже не будет. Великолепно! Заодно он избавится от неприятных сцен и слез…
— Ну что же… Придется в этот раз пойти вам навстречу, Керолайна! Даю в ваше распоряжение семь дней, поезжайте к своим родственникам, купайтесь, отдыхайте, только в понедельник непременно будьте на месте, ключи возьмите с собой! Вот вам семь латов на дорогу, если жить экономно, этой суммы вполне достаточно. Я надеюсь, что вышереченная леди Браун вам тоже сколько-нибудь да подкинет. Но с трубкой, заклинаю, будьте поосторожней — вы можете заснуть и ненароком спалить виллу миссис Пегги…
Керолайна покраснела, как свекла, она полагала, что Янис Вридрикис о трубке и табаке добельман знать не знает, поэтому готова была сквозь землю провалиться, но замешательство ее скоро прошло — надо было срочно укладывать вещи и бежать покупать билет на автобус до Тукума. Дальше она поедет на поезде, а вечером уже будет у миссис Браун в Майори.
Лоханку с кипенем, рис и стерильную марлю я принес наверх в свою комнату: мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из них подсмотрел, как я заквашиваю толчу, из коей потом буду гнать эликсир жизни КМ-30.
Процедура была несложная, равным образом и эликсир не представлял собой ничего сверхъестественного, рецепт я открыл совершенно случайно, роясь в библиотеке на полках отдела рукописей и раритетов.
Мое внимание привлек какой-то пожелтевший фолиант. Это оказался трактат индонезийского вежи и любомудра Пех Кхака «Тотальный синтез генов — путь к полному обновлению клеток», которую неизвестный доктор химических наук переложил на латынь и во время симпозиума забыл в буфете одной из рижских гостиниц. Буфетчик не был искушен в латыни, поэтому продал рукопись за смехотворную сумму известному режиссеру и собирателю книг, который, оказавшись в вящей скудости и безденежье, стащил ее в ломбард, однако не выкупил, отчего манускриптом завладели столпы культурной жизни, но, поскольку те тоже не тя́мили по-латыни, фолиант попал в библиотечный отдел раритетов. Там я стал его изучать и наткнулся на потрясающий рецепт напитка, который, по уверениям Пех Кхака, за двадцать четыре часа превращает седовласого старца в цветущего юношу, потому как производит полное обновление клеток всего организма.
Страницу, на которой был изложен рецепт, я незаметно выдрал, засунул в карман, а позже сжег, чтобы никто другой не мог выведать секрет приготовления чудодейственного эликсира. Подумайте сами, что бы началось, когда бы все старцы как один взяли да выпили его? Кто из нас мог бы рассчитывать на места министров, директоров департамента, ректоров, проректоров, инспекторов, профессоров и классиков? Мир превратился бы в запаянную консервную коробку, консерватория — в богадельню, оперные спектакли — в представления подагриков, романы отдавали б запахом тлена, вытянулись, как побеги картошки в теплом погребе.
Зато сейчас настала минута, когда можно применить свои знания с толком и для дела. Кроме того, меня увлекает и сам эксперимент.
В общих чертах могу о нем немного рассказать.
Сначала нужно приготовить рисовый солод. Как известно, прорастить рис довольно трудно: для этого требуется довольно высокая температура (можно было бы воспользоваться синей лампой «Sollux», но на мукомольне не хватало воды), хрупкие зернышки легко сгубить, так как для замачивания необходим почти вароток. Первую половину дня я трудился в поте лица. Вместо солода на островах Ява и Борнео употребляют молоко кокосовых орехов — колу, к сожалению, для меня оно недоступно: все кокосовые пальмы скупила монополия Coca-Cola, я должен довольствоваться суррогатом. Смолоть солод, а затем поставить его бродить я сумею лишь завтра-послезавтра. Чтобы толча начала дрочиться и закисать, надобно добавить в нее маленькие кирпичики, сделанные из смеси «Рагги», которые, уложенные в жестяной коробке из-под конфет, я всегда ношу с собой в грудном кармане. Что такое «Рагги»? Это и есть великое открытие индонезийского вежи и любомудра Пех Кхака. Как его приготовляют, я из вышеизложенных соображений вам не скажу, могу лишь признаться, что оно содержит особые плесневые грибки, а также бактерии, которые размножают в патоке сахарного тростника, смешанной с рисовой мукой, толчеными чесноком и корнями галаганта.
Когда солодовая толча, в коей я разведу оные грибки, вспучится, я начну с божьей помощью ее дистиллировать, каковой труд чаю завершить за одну неделю.
Я поставил лоханку с рисом на подоконник на солнцепеке, пускай прорастает, а сам спустился вниз — захотелось брашна. Там уже стоял Трампедах, видимо, надумал куда-то пойти, поскольку облачился в сивый сюртук и полосатый жилет.
— Хорошо, что пришли, Кристофер. Я как раз собирался уходить. Вот вам ключи от лаборатории, все в вашем распоряжении, чувствуйте себя как дома. Порядок, к сожалению, полетел вверх тормашками, Керолайна уезжает на неделю к родственникам, а я спешу в «Эйфонию», у нас в Гимнастическом обществе внеочередное заседание правления. Лососенка зажарим на ужин. Обедайте в этот раз один, Керолайна просит извинить: она приготовила холодный стол. Для тафельмузыки советую запустить арию из «Искателей жемчуга»: в ней говорится об устрицах. Пластинка поставлена, вам остается только дернуть за рукоять. Когда будете выходить на прогулку, заприте дверь на ключ и закройте окна на задвижку, похоже, гроза собирается. Гуменников накормлю сам, когда вернусь. Тешу себя надеждой, что вы скучать не будете.
— Какое там скучать, господин магистр! Работы непочатый край. Кроме эликсира надобно подумать и о вапе для волос, креме для лица, компрессах для носа и прочее и прочее. В вашем саду водятся кузнечики?
— Уж это вам самому придется выяснить.
— Где у вас растет чеснок? Найдется ли тут где-нибудь коровяк?
— Все, что у меня произрастает, ищите во дворе на грядках. Думается, там должен быть и коровяк. Керолайна! Почему вы задерживаетесь?
Но шотландка уже шла — в соломенной шляпе, украшенной пучком фиолетовых маткиных душек, в серо-буром габардиновом пальто, в гамашах и с потертым чемоданчиком в руке.
— Excuse me! — ловко подхватил я ношу, и мы все трое двинулись через черный ход на улицу, где нас уже дожидались извозчик и коляска с открытым верхом.
Керолайна удостоила меня признательным взглядом.
— Я вас благодарейт, судэр, до свидейшен…
Магистр уселся с ней рядом, до «Эйфонии» им было по пути, я же подзаправился тем, что оказалось на столе, и поплелся в лабораторию.
Шкафы все были на замках и запечатаны сургучом. Скляницы с Т-1 убраны и спрятаны. На столах оставлены только самые необходимые предметы, а именно: несколько тиглей, стеклянных банок и герметически закрывающийся сосуд.
Старый мне не доверял, ему весь мир представлялся скопищем врагов. Шизофреник. А сам только о том и думает, как бы надуть и обвести вокруг пальца других. Депфортский аббат! Наконец ты мне попался, старый лис! «Сладкая жизнь» доконает тебя в два счета, ибо ты по натуре несыть и прорва, хотя в Кембридже и не мог за мной угнаться, равно и в лондонских тавернах, где оставался лежать под столом. Теперь ты, естественно, постараешься наверстать упущенное, будешь пить бараний жир и жрать древесный уголь, чтобы закалить свою утробу. Не забудь только, что я когда-то был выдающимся актером. Комедиант выше тупого жмота и сколдыры, я должен тебя обезвредить. Страшно подумать, что произойдет, если в руках этого шизофреника останется орудие смерти Т-1… Tuba mirum spargens sonum — бойтесь сумасшедших! Вон шкаф с пентаграммой, где старый чернокнижник бормочет свои заклинания: Саламандра, жгись, Ундина, вейся, Сильф, рассейся, Кобольд, трудись!
Трампедах умеет ворожить по-гётевски, умеет — в духе Райниса, но сейчас…
Ушел он в общество к адептам,
На черной кухне знахарил,
Согласно ведовским рецептам
Три травки вместе заварил.
То было зелье! Хворые преставились —
Никто не избежал печальной доли,
Убойники зато прославились
И до сих пор гуляют все на воле.
1) Сегодня я должен приготовить вапу для волос и мастику для перманента, чтобы ты, любезный учитель, светился красотой еще издалека. Для этой цели мне понадобится купить каменного моху — подмаренника — gallium boreale. Подмешав к нему настойку ольховой коры, а затем дубовых «орешков» — галлов и дурмана обыкновенного, я получу избура-серую вапу, которая по своей прочности не уступит хне и басме.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
В розовую воду бухни карбонат аммония:
Локоны на лбу завьются, яко кольца овнии.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
На предмет окраски годится также прокипяченный в репейном масле сок одуванчиков.
2) Сверх того, нужно сходить в огород и поискать на грядках подходящий для магистрова носа огурец. Американские ученые обнаружили, что огуречный сок вместе с молоком пчелиной матки сужает красные и фиолетовые капилляры носового эпителия. На что только не уходят доллары! Компресс из огурцов надобно держать на носу три ночи, вот так-то, дорогой учитель.
3) Кузнечиков придется искать во дворе. Они свиристят и скачут по траве под забором, тут же неподалеку свой человеческий аромат испускает Waldcapelle, посему ловить и запихивать в спичечный коробок помянутых букашек одно удовольствие, завтра же посажу их на вашу бородавку. Кузнечик брызнет коричневого соку, и бородавка исчезнет, ей-же-ей!
4) С завтрашнего дня, любезный наставник, вам придется отказаться от жирного мяса, крепкого кофе и брома. Перейдем на диету. Дабы эликсир подействовал наверняка, Пех Кхак рекомендует каждое утро выцедить по стакану напитка, приумножающего мужскую силу: три куриных нутряных желтка в чесночном соке, смешанных с настойкой коровяка, в которую добавлена капля любовного зелья. Буде не противно, рекомендуется после завтрака проглотить по мухе, но без молока!
У меня закоренелая привычка утром отмечать на лоскуте бумаги, что в этот день предстоит сделать. Я набегался по магазинам, рынкам, облазил овощные грядки, набрал кузнечиков, обследовал кладовки и погреб. В конце концов всем, что требовалось для приготовления питий и мазей, я обзавелся. Заметил вдобавок, что на подоконнике на солнцепеке начинает всходить рис. День таким образом прошел удачно, я довольный растянулся на постели и стал ждать, когда вернется старый бука.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Расположившись в антикварных креслах, в коих некогда восседали гласные ратуши, магистр и компания разодетых по-летнему господ сидели в малом зале «Эйфонии» вокруг овального деревянного стола и в ожидании обеда потягивали лиепайский «Долингер».
Здание «Эйфонии» стоит на Сенной площади, в самой древней части городка, в давние времена сие историческое здание принадлежало бургомистру Ставенхагену.
Напротив окон трапезной на площади, мощенной неровным булыжником, виднеется обнесенный камнем колодезь — Малый Шкимбег. Это самая достопримечательная часть городка, ибо из этого Шкимбега в 1702 году пил воду и в доме бургомистра ночевал Карл Двенадцатый. Сей Карл отличался от Одиннадцатого тем, что, где только мог, пил воду из шкимбегов. В городе Цесисе на старой рыночной площади у подножия Ливской улицы стоит Большой Шкимбег. В «Истории Цесиса и его окрестностей», сочиненной Егором фон Сиверсом, сказано, что Карл Двенадцатый хлебнул также из Большого Шкимбега, чьей водой остался премного доволен. Ныне господа устроились не в пример Карлам: смотрят на Шкимбег из окна, а попивать попивают лиепайский «Долингер».
Прозит!
У балтийских гимнастов нет своего дома, они арендуют помещение бывшего певческого общества «Эйфония», на первом этаже которого устроили небольшое питейное заведеньице, где можно сносно подзаправиться и недурно выпить. Занятия гимнастикой происходят во дворе: там оборудованы навес для стрельбы в цель и шарометательная палата. Здесь престарелые господа после двух дюжин пива могут вволю накидаться тяжеленными деревянными шарами и отменно пропотеть. На изысканном языке подобное устройство называется кегельбан. Молодые хлыщи, обряженные в кожаные порточки — шорты, в толстые чулки с отворотами — гольфы и коричневого цвета курточки, в свою очередь носятся в поисках троп, кои в старозаветные времена проложили доблестные рыцари крестоносцы-меченосцы, по каковой причине именуют себя «следопытами» (Pfadfinder).
За столом сидит правление Гимнастического общества в полном составе: 1) алдерман Вольфганг Бредерих, владелец Зеленой мукомольни из Планицы, 2) учитель гимнастики Эберхард Апше, 3) Ханс Винтелер, владелец суконной фабрики, и 4) магистр Йоган Фридрих Трампедах. В середине — гость, мюнхенский архитектор Розенберг, белокурая орясина с бледными одутловатыми щеками. Из Лиепаи его сюда сопроводил адвокат Курт Витрам. Господа в своей среде величают себя «нюрнбергскими мейстерзингерами» и «товарищами по борьбе». Голоса приглушены, лица взволнованы: дело — страсть как серьезное… Собрание носит сугубо конфиденциальный характер. Бредерих допустил колоссальную глупость, написав магистру о том, что его желает лицезреть господин Розенберг.
— Какой еще господин Розенберг? Нет такого господина, наш друг приехал инкогнито, называйте его доктор Клеман, — шипит, яко змий, адвокат Витрам после того, как магистр в простоте душевной обратился к гостю с громким приветствием.
Но, Mensch! Откуда Трампедаху знать, что господин явился сюда закрывом — негласно.
Поднимается Вольфганг Бредерих и произносит приветственную речь. Мукомол распространяется о сиротливой немецкой провинции — оплоте немецкого духа. Жизнь что ни день закручивается все туже. На хозяйственном поприще балтийских немцев повсюду теснят туземцы, особенно тех, кто еще держится в не подлежащих отчуждению наделах своих прежних имений. Землю закупают серые бароны, самые что ни на есть вахлаки и мявы, люди без какой-либо культуры и традиций. Потому-то колонисты во все большем количестве ассимилируются, вступают в брак с лицами инородного происхождения, то и дело ехидствуют да скалят зубы на руководителей балтийских немцев. «Штифт св. Юрия» в Петерфельде битком набит престарелыми баронессами, нетрудоспособными каменщиками — увечными телом и духом калеками. Все средства уходят на их содержание, на какие деньги прославлять миф двадцатого века, если нет никакой возможности отложить для этой цели хоть малую толику? Последствия сего злополучия пагубны: среди колонистов, а также и горожан, точно повальная болезнь, распространяются вредоносные идеи. Недавно в Курмале полиция раскрыла логово коммунистов, куда входили, представьте только, и балтийские немцы: Зонберг, Пич и Лемке. И это творится в бывшей цитадели нашей старой доброй Куронии! Дальше уже некуда! Посему мы обращаемся с просьбой: пусть доктор Клеман расскажет вождю о том, как хиреет и чахнет некогда зеленая ветвь народа в любезной сердцу Курземе.
Розенберг внимал нервно, о чем можно было догадаться по тому, как подергивалась щека и нетерпеливо шарили по столешнице пальцы.
Еще бы. Архитектора привел в крайнее замешательство полоумный аптекарь, который зычно и во весь голос произнес его фамилию. Коль скоро так поставлена конспирация у этих людишек, неудивительно, что может разгореться великий скандал. Розенберг ведь считался внешнеполитическим советником нюрнбергской партии, вдобавок был шеф-редактором мюнхенского «Völkischer Beobachter».
Местных полицейских Розенберг в грош не ставил — начальником политуправления в городке служил барон Ханс Кейзерлинг. Кое-какие контакты у архитектора имелись даже в правительственных кругах (взять хотя бы министра юстиции в Риге — Магнуса), но о келейном визите могли проведать русские и Москва, что привело бы к весьма неприятным последствиям. Правительство не знало бы, как вывернуться, чем доказать свой мнимый нейтралитет, президент наделал бы в штаны и поднял хай, — Розенбергу известен нрав этого истеричного старикашки.
Великий Уриан-Аурехан (такова была кличка вождя мейстерзингеров) прислал Розенберга в здешние Палестины с весьма деликатного рода миссией. Почему именно Розенберга? Хотя бы потому, что тот был его ближайшим клевретом, да еще «философом» нового движения, мало того, родился в Даньпилсе или, по-другому, в Ревеле, который туземцы переиначили в Таллин.
Розенбергу вменялось в обязанность встретиться с этим межеумком Трампедахом, который год назад выручил парней в коричневых тельницах: приготовил и тайно доставил им тол для адских машин, за это он получил отличное вознаграждение, но с тех пор, сам того не ведая, попал в тенета мейстерзингеров. Сейчас надо было переговоры продолжить. Розенберг хорошо знал привычки и нравы местных провинциалов: сам ошивался в рижском обществе с 1913 года, когда в политехническом институте начал штудировать архитектуру. Через два года его ученых занятий разразилась война, политехнический институт переехал в Москву, подался туда и Розенберг.
Здесь он пережил революцию, великое событие, которое потрясло мир, и проникся сатанинской ненавистью к коммунистам. В паздернике, десятом месяце, 1918 года он завершил учение и с дипломом архитектора в кармане возвратился в Даньпилс, то бишь Таллин.
Розенберг стал жутким фанатиком: носился с идеей крестового похода против Советов, провозглашения коего дождаться не мог. Возглавлять славный поход, по его убеждению, должен немецкий народ, чьим авангардом станут балтийские немцы. Таковы были воззрения архитектора, сложившиеся под прямым воздействием мании величия и писанины Х. Ст. Чемберлена. В Таллине Розенберг плюнул на зодчество и кинулся в политические авантюры: основывал гимнастические общества для балтийских немцев, читал подстрекательные лекции по еврейскому вопросу, за которыми следовали погромы. В довершение всего он оказался втянутым в тайный заговор, из-за чего в 1921 году драпанул в неметчину, где обрел приют у единомышленников в Мюнхене. Дитрих Экарт познакомил утеклого архитектора с таинственным человеком, который впоследствии оказался сверхчеловеком Урианом-Ауреханом. Сейчас они все отирались на парламентских скамьях и готовились к путчу. А Розенберг объявил себя «философом мейстерзингерского движения» и стал ближайшим советником Уриана-Аурехана.
В дверь постучал старший кельнер «Эйфонии» — оказалось, что обед уже ютов. Гость, чья бледная физия во время Элдермановой речи сморщилась в нетерпеливой рожекорче, расцвел: он был наслышан о вкусных курземских блюдах и уже битый час помирал с голоду. Лиепайский «Долингер» его нисколько не радовал, слишком уж привык он к темно-коричневому баварскому пиву Spatenbräu, Högerbräu, Bürgerbräu, Pschorrbräu. Быстро накрыли на стол. Для первой подачи принесли «Suppe à la Reine». Он был состряпан из паленого тетерева, коряно́го цвета пряженой капусты и миндального кулиса. Закусывали поджаренными сырными хлебцами. Фарфор имел жалкий вид, щербатый сервиз от Кузнецова типа «югендстиль». Но последнее обстоятельство огорчало одного только магистра, остальным было начхать, лишь бы похлебка вкусная, а что было, то было, — похлебка и впрямь была утробе в радость. Господин Розенберг выразил желание отведать кушанье еще раз, и услужливый кельнер не замедлил налить ему вторую порцию. Бредерих подал знак, чтобы прислуга удалилась.
— Мои господа, я вижу, вам тут неплохо живется, — игриво воскликнул бывший архитектор. — Миф двадцатого века предполагает, что именно Восток станет тем пространством, куда устремится немецкая мощь, но сила только тогда сила, если ее хорошенько кормят. Нужна сметана, шпик, окорок. Ведь нам, подобно крестоносцам, придется снова заносить мечи и прорубаться сквозь дебри и топи Сарматии. Поэтому наберитесь терпения и выносливости. Грянет день, когда наш великий вождь Уриан-Аурехан примет решение. Тогда помчатся на чагравых жеребцах Вальхальские всадницы, и Курония станет первым бастионом победы. Только запасайтесь заблаговременно окороком и сварите погуще похлебку из требухи!
Никакого финансового вспомоществования от нас сегодня не ждите: деньги нужны для пушек и танков. Денег нам дадут германские промышленники и магнаты. Но не раскроете ли вы тоже свои кисы на благо всенемецкого дела? Насколько мне известно, господину Винтелеру в этом городке принадлежит суконная фабрика. Ваш вклад превратил бы Гимнастическое общество в балто-немецкий пропагандистский центр, влияние коего простиралось бы на всю нижнюю Курземе.
Винтелер свирепо покосился на Курта Витрама: «Ах вот как, товарищ по борьбе? Успел по дороге из Лиепаи накляузничать, что Винтелер отказался пожертвовать тысячу латов для нужд культурбунда. Экий мерзавец! Будто у меня тысяча латов на земле валяется».
— Я, уважаемый доктор, на сей предмет придерживаюсь мнения, что каждый должен поступать согласно своим возможностям. Мне думается, наилучший пример нам мог бы показать товарищ по борьбе Витрам: столь обширной практики, какая имеется у него, нет ни у одного лиепайского адвоката.
— Вы преувеличиваете, господин Винтелер, — возмущенно кричит Витрам. — Кроме того, я уже показывал пример. Вкупе с господином Бредерихом и Трампедахом дал деньги на орган в общину святой Катарины, то есть в немецкую евангелийскую общину.
— На орган? — зловеще улыбается Розенберг. — Долой органы! Вера должна быть преобразована, это предусмотрено мифом двадцатого века. Бог палестинцев — не есть бог германцев! Христос был евреем, вы, оболваненные простофили! Мы подобно древним германцам снова будем собираться в священных рощах, чтобы поклониться Вотану, Верховным жрецом в нашей кумирне станет великий Уриан-Аурехан. «На священном требище да принесет он в жертву детей Востока», как говорил Заратустра.
В дверь постучали. Пришли кельнеры, и на столе появился бараний окорок с черной смородиной, à la Nietzsche.
Розенберг вонзает нож в коряного цвета огузок, и всем господам мнится, что он и есть страшный Уриан-Аурехан, который приносит в жертву левантийских детей. В трапезном зале горят люстры, а по углам мечутся тени Аурехана и Заратустры. Затем они исчезают.
— Тратить столько денег на богадельню в Петерфельде безумие, как сказал почтенный praeses, — продолжает гость. — Душевно больные — угроза нашей расе; неужто вы, господа, этого не улавливаете? Старые люди — лишний балласт. Миф двадцатого века учит, что избавлять увечных от их страданий человечно, за каковое избавление и следует повсеместно взяться. Но по этому вопросу у меня будет отдельный разговор с господином Трампедахом. Прозит!
В сводах раздается многоголосое — прозит! Трампедах съежился. Доктор Клеман вперяет в него долгий неподвижный взор. Магистр, правда, уже сам смекнул, что его препарат Т-1 мог бы стать великолепным средством для изничтожения неполноценных людишек. Он вспомнил, как славно подох кот, на коем он испробовал силу своего снадобья. Дряхлый Том сладко мурлыкал, затем блаженно уснул… Скворец, наклевавшись вымоченных в Т-1 зерен, залился чудесными трелями и руладами, пока не свалился в жасминовый куст. Зачем лишать людей столь прекрасной кончины? Ведь это будет «сладкая смерть»…
— Любопытно узнать, как готовят окорок а-ля Ницше? — спрашивает Розенберг, указывая большим пальцем на стол.
— Бери двенадцать фунтов бараньего огузка, вымачивай три дня в холодной ключевой воде, вари в сладком молоке до мягкоты, затем сдери кожу и отбей зубастой колотушкой, натри солью, насади на вертел и, живо поворачивая, поливай лимонным вареньем с маслом, покамест не разрумянится. Затем свари острый соус из черной смородины, присыпь сухарями и подавай горячим на стол, — говорит Трампедах.
После кофе и кекса господ одолевает истома, но Розенберг, пардон, господин Клеман, вцепляется в Трампедаха и не отстает, зовет в шарометательную палату сыграть партию в кегли. In corpore sano mens sana est!
— Давно не пробовал руку, господин Трампедах; даю вперед пять очков — квинту!
Старый пень, точно влекомый магическим вервием, неохотно плетется за доктором, ему этот человек кажется жуткой загадкой.
После четвертого броска гость вдруг останавливает магистра и, сверля его пронзительным взором, спрашивает:
— Скажите, господин Трампедах, вы стопроцентный?
Старый не берет в толк.
— Как это понять, доктор?
— Вы стоите грудью за миф двадцатого века?
Трампедах про помянутый миф слыхал лишь краем уха. Но он немец, а для немца дисциплина — это все. Коль скоро товарищи по борьбе решили, он готов стоять грудью за миф… (Черт его знает, что это такое и какого рожна нужно стоять за него грудью?)
— Равно как и все мейстерзингеры… стою, хоть лопни!
— Отлично сказано, Трампедах! Равно как и все мейстерзингеры… Клянитесь!
— В чем?
— Просто так. Клянитесь: обещаю ни о чем не просить, ничего не видеть, ничего не разглашать, клянусь великим Урианом-Ауреханом.
— Клянусь великим Ауреханом не просить, не видеть, не разглашать.
— Своей честью арийца!
— Честью арийца…
— Повиноваться, повиноваться и только повиноваться!
— Кому?
— Уриану-Аурехану.
— Повиноваться товарищу Аурехану?
— Никакому не товарищу — вождю.
— Вождю Аурехану!
— Клянусь Миме, Фрикой и Фрейей!
— Фрейей и Фрикой!
— Альберихом из Нибелунгов.
— Альберихом!
— Господь Вотан выслушал тебя, Зиглинде подтвердила, клятва принята! Теперь быстренько давай сюда рецепт Т-1… Уриан-Аурехан приказывает.
— Господин доктор, это труд всей моей жизни, моя тайна.
— Вы уже забыли, в чем поклялись? У товарища по борьбе нет и не должно быть тайн…
— Господин доктор, это главный источник моих доходов.
— Уриан-Аурехан вознаградит вас.
— Когда?
— Ну, не сегодня. Деньги нужны для пушек и танков. Но придет время, и мы вам заплатим чистым «Рейнским золотом», мое слово мейстерзингера. Клянусь великим Ауреханом, вы будете самым богатым человеком на Востоке.
Трампедах дрожащими перстами пишет на листке блокнота формулы и секвенции, доктор заставляет их скрепить подписью. Безумие! Уже второй раз сегодня старому человеку приходится ставить свою подпись. Все теперь поставлено на карту: душа, имущество, честь…
— Боже, мой боже, почему ты покинул меня? — бормочет Трампедах, но Розенберг услышал и говорит:
— Бог палестинцев не есть бог немцев! Христос был еврей, апостол Павел тоже… Хорошо, что они вас покинули. Теперь вас, как истинного германца, в свое лоно принимают Нибелунги. Да преисполнится святости сия минута! Sieg! Что нужно ответить?
— Fried!
— Неправильно! Еще раз — Sieg!
— Fried!
— Фу! Вы слишком стары, дабы понять мифы. Склероз. Но мы это предусмотрели (сунем его в какой-нибудь приют для инвалидов и…). Если вам когда-либо и в чем-либо понадобится наша помощь — зовите, пишите Уриану-Аурехану! С этого момента вы наш. Sieg!
— Фрид!
Розенберг махнул рукой. Старый хрыч ни бельмеса не понимал в культе. Одно слово — Meerkatze, мартышка!
Оба направили стопы в «Эйфонию», где в вестибюле их нетерпеливо дожидались истинные мейстерзингеры. Господин доктор должен был поторапливаться. Витрам приказал шоферу подать сверкающий «Форд-Щит» к входной двери. Все попрощались по древнеримской моде, лихо вскинув вперед десницы. Sieg!
— Уриан-Аурехан!
— Sieg!
— Уриан-Аурехан!
— Sieg!
Трампедах снова сбивался и путал: кричал не к месту и выбрасывал длань, когда не надо.
Ух ты, старый Meerkatze.
«Форд-Щит» покатил по неровному булыжнику Сенной площади, обдал всех вонью Латбензина «Дегвиела» — смеси бензина и картофельного спирта, а господа, раскланявшись, не спеша разбрелись по домам.
Развевая фалдами серого сюртука, чувствуя себя ограбленным и высмеянным, магистр потащился по улицам Базницас и Пилс домой. Отныне он перешел в германскую веру.
Всю неделю стояла дождливая и прохладная погода, рис, слава богу, успел дать всходы, был высушен и растерт в иготе, вчера вечером в толчу влили вароток и подсыпали «Рагги». Кристофер заперся в лаборатории, хотя магистр не выказывал ни малейшего поползновения вломиться туда. Старик стал апатичен и чудаковат. Это повелось с того самого вечера, когда он вернулся из «Эйфонии». Может быть, Трампедах страдал оттого, что вынужден был соблюдать диету и есть на кухне из немытой посуды. Три раза в день он пил снадобье, приумножающее мужскую силу. Терпеливо проглатывал обязательную утреннюю муху, но проделывал все это без всякого энтузиазма и радости.
Из лососенка в тот вечер они сварили суп на сибирский пошиб, щедро приправив его луком и оливками. Но незадолго до ужина повздорили, понеже Кристофер уверял, что полученное брашно представляет собой типичную уху, а старец упирался и твердил, что столь густое варево следует относить к разряду солянок, каковые яства готовятся из рыб, томленных в собственном соку. Ни один не хотел уступить, так что вечером каждый ел свое кушанье.
Трампедах спал плохо. Его изводили накладки и перевязки, которыми был обложен нос: огуречный сок щекотал кожу, а млеко пчелиной матки чинило несносный зуд и досаду — он еле дышал. Но Кристофер велел терпеть. Говорил, чего только не терпят госпожи в салонах красоты, и в утешение рассказал магистру о русской царице, которая повелела снять с кожи лица эпителий и заменить его мякотью персиков, а как скоро те стали портиться — розовой фарфоровой маской. Что значат страдания Трампедаха против мук царицы? Чтобы приободрить старца, Кристофер садился за тафельклавир и играл увертюру из «Прекрасной Елены», то была тафельмузыка души. Однако магистр не реагировал на нее: взырился пустыми глазами в угол, и все.
Процедура с кузнечиками прошла без всяких хлопот. Бородавка исчезла за три сеанса, но выражение страдания по-прежнему не покидало чело Трампедаха. Тогда Кристофер решил давать ему снадобье покрепче, до тех пор, пока не созреет эликсир жизни и тело магистра не приобретет требуемой закалки. Снадобье называлось: отвар чеснока с укудиком, то есть приворотным зельем. За сим укудиком ему пришлось изрядно побегать, покамест до него не дошел слух, что в Турлаве живет старая ворожея, которая знает, как его приготовить. Кудесница отлила Кристоферу двадцать капель и наказала обращаться с умом: капля сверх меры превращает мужика в разъяренного быка, ищи тогда спасения. И вправду, осторожно разжидив зелье с питием да брашном, коим питался Трампедах, удалось вернуть злосчастному старцу оптимизм. Аптекарю тут же привиделся сон, будто он на веранде играет с девицами в лото и ведет хороводы.
Когда в одно прекрасное утро с лица Яниса Вридрикиса сняли огуречные повязки и смыли млеко пчелиной матки, магистр в зеркале узрел, что его нос ровен и бел, точно подлинный рыцарский клюв. Он несказанно обрадовался и возблагодарил Кристофера за все, что тот сделал ради него.
— Теперь я готов нестись хоть в преисподнюю!
Кристофер Утихомирил стариковскую прыть и сказал, что это лишь начало, предстоят превращения куда чудесней. Нужно только быть осмотрительным: всякая оплошность в процессе обновления может наделать кривых морщин как на лице, так и в душе. Поэтому не следует раньше времени оглашать воздух воплями радости.
В последние дни старый сделался не в меру оживленным, из-за чего возникли осложнения с крашением волос и бровей: магистр егозил и ворочался, точно водоросль, так что Кристофер вынужден был привязать почтенного любомудра вервием к стулу, на что тот поначалу сильно обиделся и вознегодовал, но вскоре забыл об этом и принялся озорничать и строить проказы.
Вапа для волос удалась как нельзя лучше: ни один черт не раскумекал бы, что рыже-чалый блеск кудрей неестественного происхождения. Сукраснь получилась именно такой, какая нужна, чтобы его не приняли за неарийца — поджигателя Иерусалима; выражаясь поэтическим языком, цвет его гривы скорее напоминал воронье крыло в пурпурном муаре.
От сока одуванчиков и репейного масла, которые были прокипячены в розовой воде, волосы магистра завились кудрявыми кольцами. Глянув на свое изображение в зеркале, Трампедах вскричал:
Таков был Зигфрид, когда гордячка Гудруна
У Рейна в Гибихунгене
Его коварным пойлом напоила,
Чтоб Брунхильда, красотка, не узнала.
Пум тинглинглинг о фоллера,
Холд-рио-рио-ра!
Неужто новая вера успела увести его душу в «Сумерки богов»? Так ли, иначе ли, но Трампедах ликовал, точно дитя, и Кристофер обратил внимание, что по мере обновления внешности аптекарь как бы маленько мешается в уме. Поднявшись с кресла, после того как его развязали, он, например, запрыгал на одной ноге и стал звать Кристофера во двор поиграть в песочек.
Марлов не на шутку испугался. Чего-то было дадено больше, чем требовалось, но чего? Которая из составных частей пищи начала мешать и чинить вред процедуре? Он долго высчитывал, покамест не раскусил, в чем дело. До сих пор он думал лишь о том, как омолодить плоть семидесятилетнего Трампедаха, и совсем упустил из виду его дух. В этом возрасте ум стариков как бы приближается к младенческому. Что касается аптекаря, он уже давно впал в детство. Но по причине малой подвижности, дряблых мышц, а равным образом хрупких костей до сих пор его слабоумие не могло прорезаться вовне. Зато сейчас его словно прорвало.
Кристофер услышал крики и выглянул в окно. Боже мой, Трампедах носился по двору, гонял кур и кидал камешки в соседские окна.
Депфортский аббат! Облачился в серый сюртук и так себя ведет! Марлов вовсе не хотел издеваться над своим врагом и выставлять его дулебом, тем не менее при виде одурелого старца он почувствовал некоторое злорадство. Сын кентерберийского сапожника заставляет плясать под свою дудочку заносчивого теолога. Если бы Вильям и прочие актеры могли поглядеть на эдакое! Будто это не Депфортский аббат резвится, а Основа, которому Робин Гудфелов колдовскими чарами приворожил ослиную голову. Пэк, Пэк, попридержи чары! Основа должен продолжить спектакль.
Нужно было действовать без проволочек и ничуть не медля начинать возгонять летучее вещество из взбродившей толчи, ибо только КМ-30 превратит Трампедаха в нормального человека. Этот день был самым тяжелым в жизни Кристофера. Он чувствовал себя примерно как прачка-мать, которая должна трудиться в поте лица и в то же время следить за своим распущенным дитем.
Как только он поднес огонь к фитилю примуса, подключенного к дистилляционному аппарату, в трапезном зале что-то грохнуло. Кристофер мигом прекратил работу и со всех ног кинулся в покои старика. Оказалось, что Трампедах перевернул тафельклавир, вынул из него раму с сутугами, поставил ее ребром, как арфу, и теперь кривляется, изображая из себя Сапфо, бряцающую на китаре. Марлов дал бесстыднику по заднице, и тот с плачем убежал на кухню. Однако скоро гнев Марлова поостыл, и в нем заговорила жалость — дитя есть дитя, как часто мы не понимаем ребячьей души, как часто обижаем ее… Но спустя полчаса сорванец прокрался в кабинет и изгваздал цветными карандашами бесценные фолианты, кои лежали на письменном столе, мало того, доминиканскому монаху Лемери (тому самому, кто в Шаранте изобрел коньяк) пририсовал углем усы. Но то были пустяки, так сказать, детские шалости.
Кристоферу надо было гнать пары с великим тщанием, он не мог без конца бегать по комнатам и присматривать за престарелым дебоширом, этого никто не имел права от него требовать. Лишь поздно вечером, заставив лоботряса вымыть в теплой воде ноги, а затем и лицо, загнав его в постель и прочитав две сказки, Марлов вздохнул. Трампедах уснул, теперь можно было вернуться в лабораторию и заканчивать труды.
Вся передняя пропахла благовонным ароматом арака. КМ-30 капля за каплей стекал в фарфоровый тигель. Светло-желтой влаги получилось немного. Кристофер дал ей остыть, затем налил в мерную скляницу, с наслаждением вдыхая улетучивающиеся масла и эстеры. Что ни говори, это был подвиг — в столь драматической обстановке и за столь короткий срок приготовить эликсир жизни! (Свои приключения он поклялся описать в новом переправленном издании «П.П.П.», поскольку льстил себя надеждой, что они сумеют распотешить кое-кого из читателей.)
Довольный собой и всем миром, юноша засунул скляницу в карман спенсера, запер дверь лаборатории и на цыпочках поднялся по лестнице в свою комнату. Он почел за нужное заставить магистра еще спозаранок выпить эликсира, поскольку в трактате Пех Кхака было сказано, что вслед за приемом лекарств пациент впадает в забытье и спит двадцать четыре часа кряду, не шелохнувшись. Значит, в понедельник утром магистр должен очнуться от сна обновленным, то есть нормальным, после чего они предпримут свое грандиозное путешествие.
Все шло по плану. Янис Вридрикис утром проснулся, отпил сто граммов КМ-30, потом еще сто пятьдесят, чихнул и, повернувшись на левый бок, снова погрузился в сон. Кристофера ждал приятный денек, который он вознамерился посвятить отдыху.
Погода прояснилась, в парке на деревьях чирикали и верещали птахи, расправляли крылья букашки и козявы, свидетельствуя о том, что дождя сегодня не будет.
Марлов зашел в кабинет и вынул из шкафа изданную Кимелем и Пипером «П.П.П.» в переплете из свиной кожи. Отныне книга принадлежала ему, причем была честно им заработана. Нужно отобрать все наиболее ценное, а лузгу и шелуху выбросить. Он зажал переплетенный в свиную кожу том под мышкой и решил пойти к Венте, посидеть где-нибудь на береговой круче под исполинскими дубами и почитать. Выйдя на улицу, Кристофер побледнел. Со стороны церковного вертограда по-гренадерски вышагивала к дому Керолайна в серо-буром габардиновом пальто, соломенной шляпе, украшенной пучком фиолетовых маткиных душек, и с потертым чемоданчиком в руке.
Что делать? Они полагали, шотландка воротится только в понедельник. Ведь когда проснется реставрированный Янис Вридрикис, она его не узнает, подумает, что явился еще один колоброд, подымет скандал, позовет полицию. Принесла нелегкая старую ведьму раньше времени!
Кристофер шмыгнул обратно в дом, запер двери магистровой спальни и ключ спрятал в кармане порток. Будь что будет: соврет, что магистр уехал еще вчера, запер дверь, а его оставил сторожить квартиру. Кристофер хорошо говорит по-английски, он постарается быть почтительным и изысканно вежливым. Распахнув дверь, он кричит еще издали:
— I am glad to see you, miss Campbell!
— To answer with how do you do, mister Marlowe!
Керолайна рада-радешенька: она неслась на всех парах, чтобы успеть попрощаться с Янисом Вридрикисом. Слава богу, удалось!
— Мистер Трампедах велел передать вам привет. Он отбыл вчера вечером, приказав встретить вас и передать вам ключи, — говорит Кристофер.
Ах, вот оно что…
Керолайна замялась. Экая притка, экая незадача!.. Обидно-то как… Уехал не попрощавшись, быть может, на год, а то и на дольше… О боже!
Шотландка тяжелым шагом переступает порог. Дом для нее потерял всякую привлекательность — отныне это набитый мебелью ящик, и только. В глубине души Керолайна благодарна юноше, хоть он остался встретить ее.
— Надеюсь, мистер Марлов, вы-то, по крайней мере, никуда не спешите?
— Увы, мисс Кемпбел. Завтра с утра придет один из моих друзей, и мы оба отправимся продолжить мое путешествие.
— Как вы тут обходились? Как чувствовал себя магистр перед отъездом? О боже, да что похожа кухня! И что случилось с тафельклавиром? А портрет — господи, не покидай меня! — почему у этого сэра появились усы, я совершенно четко помню, что он был без усов.
— Беда, мисс Кемпбел! Пока мы прогуливались по городу, в окно влезли мальчишки и вот что натворили! Магистр так переживал, так убивался.
— Видите, что происходит, когда в доме нет женской руки. Посуда навалена как попало. Не разобрать, где Розенталь, где Veuve Clicquot… Просто невероятно, как магистр все это терпел. Мне кажется, что, например, эта тарелка даже не вымыта.
— Верно, мисс… Мы ждали, пока накопится целая груда, тогда и зажарили бы омлет.
Керолайне стало дурно. Мужчины — это сущие свиньи, и притом во всех отношениях. Сколько возни теперь потребуется. Во дворе гоготали гуменники, о подоконник стучали клювами голодные воркуны. А когда Керолайна вышла в сад посмотреть на грядки с огурцами, то от возмущения воздела длани к небесам: какое-то чудище раскопало взошедшие листики и прошлось тяжелой стопой по рыхлой земле. Господи, какие только злодеи не шляются по белому свету!
Тут следует пояснить, что простофиля Кристофер и вправду искал огурцы на грядке. Ему было невдомек, что в городке на Венте, который зовется Кулдыгой, сей овощ поспевает лишь в шестом месяце червене, а то и позже — в грознике. Сказать откровенно, studiosus rerum naturae вообще мало что смыслил в вопросах садоводства, да и вообще в природе, потому как редко посещал лекции и семинары. Огурцы для Трампедахова носа он позднее догадался купить в аннафельдских парниках.
Весь день у Керолайны прошел в хлопотах по дому и саду. Поначалу она, правда, удивилась: Янис Вридрикис запер свою комнату, а ключа нигде не видать, но поскольку старый муж был большой оригинал, мало ли какие чудачества могли прийти ему на ум. Наверное, не доверяет Марлову. Опасался, что легкомысленный музыкант притащит какую-нибудь кралю и уложит на его пушистые перины. Далеко ли ходить за примерами? Вон теща мукомола из Гайтей подстерегла своего зятя как раз в ту минуту, когда тот, спровадив супружницу на Дорбенскую ярмарку, приволок домой Триныню Скубити и заперся с ней в спальне. Ай да шалава заречная, ай да окудница, так подвести высоконравственного и всеми уважаемого мукомола!
Кристофер слонялся по дому, то и дело напрягая слух, не долетит ли из спальни магистра какой-нибудь звук, не послышится ли там шевеленье или шорох. Промаялся он таким манером до позднего вечера, но ничего не заметил и не уловил. Очевидно, Пех Кхак был прав: раньше понедельника магистр не проснется: будет лежнем лежать на перинах, точно колода, — словом, все шло своим чередом, как задумано.
Керолайна приглашала к столу: она состряпала небольшой ленч. Когда деятельная шотландка все это успела, осталось неизвестным. Приготовление кушаний ей давалось с легкостью беспримерной. Ленч получился сытный: печерицы в сметане, фрикандо из говядины с эшалотом под соусом Мадейра. А в самом конце пудинг из чернослива со снежком из сбитой мякоти печеных яблок. Керолайна зажгла даже свечи, хотя настроение у нее было такое, будто сияющие канделябры стоят не на столе, а возле гроба незабвенного Яниса Вридрикиса… Она притащила с погреба Chianti 1913 года. Вопреки всем правилам ухнула бесценное вино в пивной жбанок, поднесла к губам и выдула залпом до дна.
— Куриш, мистер Марлов!
— Куриш, мисс Кемпбел! — повторил Кристофер.
Так они извели на двоих бутылку небесного Chianti урожая 1913 года, каковой напиток магистр приказал беречь для особо важного случая. А тут он как раз и подвернулся: шутка ли — хозяин смылся…
Рано утром Кристофер просыпается, одевается, тихо сползает вниз и отпирает дверь магистровой спальни. На краю постели сидит юноша приятной наружности в длинной ночной сорочке и скалится на свое изображение в зеркальных дверях шкапа. Ночной колпак брошен как попало.
Кристофер машет, чтобы магистр не говорил, и держался тихо, как мышь.
— Явилась Керолайна, — шепчет он, запирая дверь, — нужно подумать, как нам быть…
Но Янис Вридрикис лишь зырит в зеркало, в глазах — райское блаженство. Нос, щеки — ни одной морщины, ни одной рытвины или там пятнышка. Кандиристый и басый молодчик, лет двадцати пяти от роду. Писаный красавец!
— Спасибо, Марлов. Превзойдены самые оптимистические чаяния. Я в вашем распоряжении, едем к Маргарите. Но вот незадача — не могу же я надевать свой ветхий поношенный сюртук. Дайте мне ваш спенсер, покамест я не приобрету себе облачение по моде.
Кристофер со вздохом развязал чресельник и стянул пестрый спенсер. Теперь он остался в мятой тельнице весьма сомнительной свежести. С портками дело обстояло сложнее, не мог же он ради Трампедаха оголять причинное место?!
Они долго рылись в скарбнице, по ларям и сундукам, и — надо же! — нашлись совершенно новые никербокеры. Лет двадцать тому назад Янис Вридрикис играл в них в гольф — ныне они опять вошли в моду, и магистр смотрелся в них как заправский столичный щеголь, разве что несколько выпирали икры.
Снаружи послышались шаги Керолайны. Верно, что-то учуяла: повертела дверной ручкой, поскреблась, но, найдя комнату запертой, удалилась, после чего ее голос послышался во дворе, где она принялась разговаривать с воркунами. Кристофер ловко отомкнул дверь и вытолкнул реставрированного джентльмена в кабинет. Магистр метнулся к письменному столу, чтобы схватить деньги, банковские чеки и книжку текущего счета. Долю Керолайны он заблаговременно отсчитал и положил в ее комнате на комод, что оказалось весьма дальновидным поступком. Затем они вошли на кухню, и Кристофер крепко-накрепко наказал, чтобы Трампедах не смел выпадать из своей роли и не подавал виду, что знает шотландку, не то могут возникнуть серьезные неприятности.
— Вы теперь мой товарищ по ученым занятиям и называетесь Янис Сковородка, — говорит Кристофер.
— Нет уж. Такое имя я не возьму, — протестует магистр. — Называйте меня Джон Амбрерод — порождающий благовоние.
— Вот еще! А на такое не согласен я. Ни то ни се: Джон — британское, Амбрерод — не поймешь какой стряпни.
— Ну, пусть тогда будет Альгимант Амбрерод.
— Чуть лучше, хотя тоже — чушь собачья. Ладно. Альгимант. Пошли! Я предлагаю отказаться от угощений. Не ровен час… Чем скорее смотаемся отсюда, тем лучше.
— Пока не позавтракаем, я никуда не пойду, — противным голосом заупрямился обжора Трампедах. — Уже сутки как у меня во рту не было и маковой росинки. Old gorilla, подавай сюда завтрак!
Кристофер едва успел зажать горлопану рот — пришла Керолайна и, ошарашенная, спросила, не звал ли ее кто?
— Нет, нет! Good morning, miss Campbell. Разрешите представить: мой товарищ по ученым занятиям Янис Сковородка, excuse me — молодой писатель Альгимант Амбрерод.
— How do you do, mister Skovorodka, excuse me — Ambrerod!
— How do you do, miss Campbell!
Керолайна смотрит и дивится, какое знакомое лицо… изъясняется по-английски, знать, важный господин. А эти карие глаза, о боже, как они смотрят на Керолайну!
— Mister Skovorodka, excuse me — Ambrerod, пока не попотчую, я никуда вас не отпущу. Таков закон гостеприимства в этом доме. Мой хозяин Янис Вридрикис вовек бы не простил, буде вы уйдете ненакормленные.
— Что верно, то верно, мисс Кемпбел, — подтверждает магистр. — Я голоден как волк.
— Посидите, пожалуйста, я сейчас же подам полдник.
Из продовольственных кладовых Яниса Вридрикиса извлекается самое наилучшее. Керолайна должна живо решить — что да как, юноши торопятся. В чулане она сорвала с крюка кусок копченой телячьей грудинки, ковалок свиного филе. В леднике схватила двух вальдшнепов, которых на прошлой неделе магистр принес с охоты, выпотрошила их на кухне, вынула из кишечки ее ароматное содержимое — благоухающие мускатом какашки, смешала их с соком гадючьих ягод и намазала полученный паштет на ломтики французской булочки, каждый размером не больше пятки винной рюмочки. Редкостное лакомство! Англичане эту снедь называют muck sandwich. Вдобавок она еще приготовила печеных яблок в сахаре, желтый сок Роберта, успела даже нажарить оладий (молодые люди ведь охотники до таких пышных прягв) и сварила вкуснейший напиток — флипп.
Господин Сковородка, прошу прощения — Амбрерод, уписывал так, будто его месяц морили голодом, но Керолайне его прожорливость доставила истинное наслаждение. Поведение молодого человека и его манеры она нашла подлинно comme il faut.
Дабы нарушить воцарившуюся в трапезном зале тишину и хоть как-то приглушить лязг зубов (Трампедах носил искусственную присасывающуюся пластинку, которая во время еды шумно ворочалась во рту и щелкала, восстановить зубы — увы! — не удалось), Кристофер зычным голосом продекламировал предписанье, как приготовить копченое мясо:
— Отрежь рамена у отборной и добротной телячьей туши, возьми пол-лота селитры, смешай с мелкой солью и уксусом и натри ими оные рамена. Затем поклади их в чистую деревянную кадь, прижми сверху крышкой, а на крышку навали увесистый гнет. Спустя неделю вытаскивай и подвешивай в трубу. Дым твори из толстой березовой коры, добавляя помаленьку можжевельника, дабы копоть стала позлее, затем вынимай и подвесь на ветру, пускай подсохнет. Все!
— Кто выхлестал мое Chianti 1913 года? — возопил магистр, увидев пустую скляницу, которую хозяйка не успела убрать.
— Поискать вам вина, мистер Сковородка, то есть Амбрерод? — в недоумении спрашивает Керолайна.
Кристофер наступает магистру на ногу, наворачивать наворачивай, да честь знай. Но тот возмущен до слез и кричит дурным голосом:
— Я пью только Chianti. Может, у вас еще есть бутылка?
— К сожалению, нет, мистер Амбрерод. Эту мы выпили в честь памяти Яниса Вридрикиса.
— Ах, вот как! А почему вы в нашу честь не приготовили карп по-еврейски? В погребе лежат четыре карпа.
Керолайна смутилась. Откуда Сковородке было знать, что у нее в погребе припасены четыре карпа? Неужто он, покуда хозяйка спала, лазил по погребам?
Однако Керолайна смиренно и с подлинно английским спокойствием ответила:
— Простите, сударь! Я запамятовала, как этого карпа по-еврейски готовят. Янис Вридрикис свои рецепты мне всякий раз подсказывал, сама я ими не интересуюсь.
Тут Сковородка не утерпел и, давясь от гнева, выдал мелкой дробью:
— Того карпа очищают, режут на куски, кладут в скудель, опрыскивают винным соусом, добавляют перец и гвоздику. Затем в горшок наливают полштофа некрепкого пива из Кокмуйжской пивоварни и присовокупляют столовую шевырку сливочного масла. Когда сумесь порядком нагреется, в нее опускают карпа вместе с соком, подсыпают ирги, красного венгерского порошка и дают прокипеть полчаса, пока вся жижа не загустеет.
«Освирепел-то как, голубчик, — думает про себя Керолайна, — знать, кто-то обидел».
Когда все прягвы умяты, а флипп выпит, оба охальника без долгих проволочек и церемоний направляются к дверям, не забыв перед этим поблагодарить хозяйку за сытный полдник.
Керолайна понимает, что вместе с уходом молодых людей начнется печальное одиночество, которое продлится, быть может, год, а то и два, как сказал приснопамятный Янис Вридрикис.
— Прощайте, прощайте!
Она еще долго смотрит им вслед, но вот юноши стремительно сворачивают за церковный вертоград и скрываются из виду. Амбрерод особенно понравился старой леди. Какие у него блестящие кудри, сколь мужественная поступь! Видать, из хорошей семьи — портки для гольфа, то бишь никербокеры, сидят — глаз не оторвешь. Настоящий джентльмен! В молодости у нее был поклонник, тоже носил никербокеры и происходил из хорошей семьи. То Керолайна вела свой род от пуритан-рыбаков, те не считались людьми знатными, потому с поклонником ничего у нее не выгорело…
Керри заперла дверь и направилась в горницу, где на комоде обнаружила письмо Яниса Вридрикиса с деньгами. Магистр с вящей дотошностью отметил, какие долги нужно взыскать, какие платежи погасить, куда следует спрятать сейф с бутылками Т-1, какие хозяйственные работы провернуть в его отсутствие. Он сердечно приветствует ее и желает ей хорошо провести время и отдохнуть.
Отдохнуть! Тогда и в тюрьме можно отдохнуть… В чужой стране и среди чужих людей одна, незащищенная!
Керолайна достала трубку, табакерку и закурила. То была ее единственная утеха.
Окно задернуто белой занавеской, но я чую, оно открыто — легкое дуновение колышет экран и на нем появляется кровавое пятнышко. Крапина ширится, светлеет, разгорается оранжевым пламенем. Там, наверно, рассвет. В ту сторону я могу лишь смотреть, поворачиваться мне запрещено. За окном должен быть лес — оттуда доносится шум елей, шелест осиновых листьев, далекие птичьи голоса, где-то поближе чирикают горобцы. Еще в раннем детстве, когда я маялся в лихорадке, галдеж горобцов по утрам нагонял на меня тоску. В изножье моей постели лежат три никелированные пули, три жеребейки. Недавно, минуты две, а то и полчаса назад хлопнула дверь. Должно быть, вышла та в белом, которая всю ночь продремала рядом на стуле. Не будь я столь скорбен и зол, я бы уверял всех, что это очаровательнейшее существо: с голубыми радугами глаз, вздернутым носиком и желтыми, выбивающимися из-под капюшона завитушками. К сожалению, ее задача была неромантична — подсунуть под мои залежалые чресла белую плоскую фарфоровую мису (не посмотрел: севрскую или мейсенскую), подать бутылочку, намочить губы уксусом и запихивать шевыркой мне в рот желе, сваренное из листьев аира и лапчатки лесной (rhisoma tormentillae), чтобы сгустить мою кровь (рецепты меня больше не интересуют). Вот видите, как далек я от восторженности, до чего оскудел мужеством и отрешился от реальности. Для очаровательного создания в белом я представляю собой лишь «господина умирающего», одного из тех, кому суждено уйти в небытие весной 1940 года.
Меня уложили на носилки и вкатили в эту одиночную камеру. Doctor ord. шепнул, что здесь мне будет много лучше. Всю ночь я полулежал, полусидел, в груди хрипело… Коленки дрожали, я ждал, что будет дальше… Слава богу, кровотечение не повторилось. Существо в белом облачении, которое дремало рядом, подготовилось к нему, под рукой у нее лежали всевозможные инструменты. Подготовился и я… Жаль мне моих поваренных книг, жаль моих тридцати лет. Ничего еще не исполнено, ничего не сделано.
Во всяком санатории есть свой чулан для умирания, о чем известно каждому. Один лишь doctor ord. не имел об этом представления, потому как шепнул мне: вам тут будет много лучше. Бог с ним, пускай помрет в неведении. Останься во мне хоть немного пороху, я бы, конечно, не допустил такого, но после вчерашнего кровотечения я не могу даже пошевелить рукой, куда там сопротивляться физическому насилию. Я позволяю, пускай творят со мной, что хотят… Ох ты немочь безотдышная! Фу! Боюсь кашлянуть, а в грудных черевах щекочет и зудит. Постараюсь не думать.
Сколько времени лежу я скорбен? Полгода, год? Время для меня смешалось — доныне была сплошная черная ночь. Говорят, будто я провалялся в беспамятстве больше месяца. Лежал в бывшем госпитале немецких диаконис на Мирной. Почему у диаконис? Удар был классный: три раза нож вонзился между ребер, причинив тяжелые повреждения телес, за коими последовали осложнения: пневмоническая двусторонняя вспышка туберкулеза. Где я мог заразиться чахоткой? Быть может, в тот раз, когда Маргарита одарила меня своим предсмертным поцелуем? Не все ли теперь равно?.. Сам о том не ведая, я барахтался между жизнью и смертью. Как на диво, мой организм и врожденная сила сопротивления сумели за последние два месяца одолеть злую немочь, если не считать каверны в конце левого грудного черева. Я взыграл духом и тешил себя надеждой на операцию, каковая снова возвратит меня к жизни. Однако вчерашнее кровотечение перечеркнуло все мои чаяния. О несчастный! Именно сейчас, когда мне предлагают работу, когда я мог бы взяться за свою «П.П.П.», когда луч солнца проник в мое серое печальное одиночество, разве это не величайшее из несчастий?
Несколько дней назад в санатории распространились смутни, будто там, снаружи, в большом мире, что-то происходит. Мы здесь от всего отстранились и поэтому не имели ни малейшего понятия, что именно. У больных отбирали наушники, лекари куда-то разбежались, сестрицы в белых одеяниях сновали оторопелые и рассеянные. Неизвестно почему, но мы уже целую неделю не получали на газет, ни писем, хотя санаторий, окруженный лесами, стоявший на тихом и уединенном крутце Гауи, находился всего в сорока километрах от Риги.
Третьего дня я лежа начал работать — положил на грудь фанерку и попытался писать adagio для струнного квартета, отмечал также на полях «П.П.П.», что подлежит изменению, набрасывал свои тезисы, делал nota bene на предмет дальнейших разработок, как вдруг мое состояние резко ухудшилось. Поднялась температура, меня прошиб пот, и врач на мои занятия наложил запрет. Вот тебе бабушка и юрьев день! Я впал в жестокое уныние. Изъясняясь жаргоном здешних чертогов, меня скрутила мерихлюндия. Мало того, мучайся тут безвестностью, когда Риге бог знает что творится. Не то мятежники лютуют против диктатуры, не то там переворот… Я лежал лежне раздавленный проклятием десяти лет, которые связал меня долгом играть роль Мефисто, одарили несчастной любовью и лишили меня самого дорогого…
На исходе тихого часа вошла санитарка и сообщила, что явились мои товарищи по ученым занятиям и требуют, чтобы их впустили.
Doctor ord., правда, предупредил, что больной сильно занедужил и занемог, но настырники не отстают. Как быть?
Я возрадовался, что гости меня отвлекут, расскажут что деется в Риге, и потому попросил их не выпроваживать — пускай приходят в мою келью, ответственность беру на себя.
В комнату ввалились Брандер, Фрош, Цалитис, за ними Сомерсет, все взволнованные, все чем-то встревоженные.
— Привет тебе, грешная плоть! — с преувеличенной удалью еще издали кричит Цалитис. — Наверное, не чаял нас увидеть? Лежит тут, понимаешь, и жир нагуливает!
Все плюхаются на край моей коечки. Лежак аж прогибается. Янка Сомерсет, однако, примечает в углу скамеечку; берет и присаживается. Он — мой лучший друг студенческих лет! Те другие — лоботрясы и проказники. Янка, напротив, всегда был авторитетом: непобедимый фехтовальщик, к тому же magister cantandi, кончил консерваторию по классу фортепьяно, ныне штудирует математику (два года проучился во Франции — в Туркуэнском лицее), у него состоятельные родители — отцу в Латгалии принадлежит мукомольня и хутор. Граф Левендрек — кличем мы Янку. Обветренный лик графа темен, видно, только что прикатил, коломыка, из своей Латгалии. Меня свербит любопытство — что же все-таки стряслось в Риге? Выкладывайте наконец!
Но Фрош сперва торжественно подносит мне туесок с апельсинами. Брандер — крохотную бутылочку с ярлычком «Hennessy». «Только не напиваться!» — предупреждает. Остроумен, черт. Славные ребята мои гости. Брандер, гляжу, располнел — это от пива.
— Ты спрашиваешь, что делается в Риге? — хрипло начинает свою речь Цалитис. — Свергли правительство. Вымели будто сор, на улицах красные знамена. На бульварах, на площадях толпа вопиет: долой! Вчера двинулась на стражей порядка, полиция начала палить. Завязалось настоящее побоище. Эх, тебе бы посмотреть. Есть убитые, раненые, как полагается. Из тюрем выпускают заключенных, сотни красных покидают свои норы, народу на улицах — тьма. Кричат, поют. Срывают портреты вождя, обливают черной вапой и швыряют в водосток — жуткое зрелище.
— Что теперь будет?
— Нужно думать, где и как спасаться. Мы вот приехали к тебе без всяких корпорационных регалий, видишь, даже без шапочек и лент, потому как студентов на улицах останавливают и все с них сдирают. Что я им плохого сделал? Пиво пил и девок любил, а они меня прямо за грудки, как преступника… Не тронули одного лишь Лушу Сприциса, у того шапочка красного цвета — приняли за своего… Вождю каюк, нет спасения!
— Мы давно желали ему провалиться, — вставляю я свое слово.
— Да и теперь никто о нем не жалеет. Но что будет с латышами? Отберут, говорят, дома и магазины, — плачется Цалитис. — Неужто нам податься в нищие? Или пойти работать на фабрику, словно полячишкам? Да, неважно обстоят дела ныне, неважно. Стараемся, конечно, спасать, что можно. Кто закапывает в землю ликер и ценности, кто засовывает в трубу деньги, а Янка — тот сотрудничает.
— Что, что делает?
— Янка, говорю, сотрудничает. Ты посмотри на своего друга! Посмотри! Вот он — товарищ Сомерсет…
— Янка?
— Хорошенько посмотри! Acti labores iucundi…
Я ничего не понимаю, пялюсь на графа, но тот сидит усмехается, ни слова не произносит в ответ. Фрош, Брандер и Цалитис тараторят без умолку, лбы потные, руки дрожат. «Коллаборационист!» — кричат.
— Братается с коммунистами. В университете провел митинг о свободе, равенстве и братстве… Ну это еще куда ни шло, заскок после Франции. Но делишки-то оказались похуже: наш дорогой соученик и флауш невесть уже сколько лет скрытно работал в тайных обществах. Отец-мать, как узнали, чуть концы не отдали — перепугались, что за чудо выкормили да вышколили. Ergo sum?
— Это верно? — вспотев, спрашиваю я Янку.
— Верно, — отвечает он с улыбкой.
Смотрю Сомерсету в лицо, изучаю: тот самый старый Янка. Ни хвоста, ни рогов. Смущенный, опускаю глаза. Что-то меня не убеждает.
— Это еще не все… То были лишь цветочки, теперь пойдут ягодки, — говорит Цалитис. — Товарищ Сомерсет назначен комиссаром по вопросам искусств. Великий начальник и распорядитель. Вот тебе и единство латышей! Срам! Вознамеревается еще и других утянуть за собой в бездну. Мы приехали предупредить тебя. Будь поосторожней, Чип, тебе грозит опасность!
— Ты все сказал? — спрашивает Янка.
— Я кончил! — со злостью отрезает Цалитис.
— Ну спасибо, флауш! Избавил меня от пространных вступлений. Да, Кристофер, я хотел поговорить с тобой наедине, но твои, приятели, едва узнали, что еду сюда, прицепились и не отстают. Поносили на чем свет стоит еще в поезде, но скажу — зря старались. Мои убеждения для меня святы!
— Убеждения? — вскричал Фрош. — У графа Левендрека, понимаете ли, убеждения. Надмец и выскочка ты был спокон веку, но хоть теперь одумайся, что ты делаешь! Что у тебя может быть общего с толпой? Какое искусство потребно разъяренному стаду? Да и возможно ли оно вообще в таких условиях?
— А было ли оно возможно раньше? — спокойно осведомляется Янка. — Цензоры из Палаты по вопросам культуры и сочинений обгладывали всякий живой побег: оставляли одни восхваления да песни в духе народного пробуждения. Ты же сам восставал против псевдонародных дилетантов, рушничков, расписных рукавиц и прочей дешевки, как-то: Ешки Песенника, Дауки Кашника и т. д. Вспомни свой памфлет о портных, усевшихся с благоволения партии прогрессистов в министерские кресла. Сейчас идет генеральная уборка, а вы собираетесь ставить палки в колеса и сопротивляться. Тот, кто изучал историю, никогда не поднимет руку против народа.
— То не народ, а стадо, — вставляет Брандер.
— Мой фатер заплатил семь тысяч за лесопильню, и теперь ее у нас отберут! — орет Цалитис.
— Ладно, не стоит витийствовать, кончим, — произносит Янка, а затем добавляет с иронией: — «Пускай навек расстанемся, друзьями все ж останемся, да здравствует наш Цалитис, привет!»
— Ай, Янка, Янка… Как бы ты не пожалел об этом когда-нибудь, — говорит Цалитис.
— То же самое я хотел бы сказать тебе, флауш, — ответствует Янис Сомерсет и обращается ко мне: — Как со здоровьем, Чип? У меня есть предложение, короткое и ясное. В оперном театре требуется второй дирижер: хороший организатор с выдающимся музыкальным дарованием. Всеми этими качествами ты обладаешь. Я приехал сюда уговорить тебя. Хочешь честно работать и отдавать все силы искусству?
Я беспомощно откидываюсь на подушки. Предложение точно снег на голову. Не слишком ли я зелен для подобной чести? Будь я крепок здоровьем и дюж, не стал бы медлить и минуты. Но треклятая огница и скорбь!
— Посмотрим, латыш ты или Иуда Искариот, — побледнев, бормочет Брандер.
— Никогда не поверю, что Чип скажет — да! — говорит Фрош.
Цалитис уверенно ржет:
— Янка вляпался в лужу. Вернутся прежние времена, посмотрим, как он будет из нее вылезать!
Во мне просыпается гнев. Я, конечно, понимаю, что отныне привязан к лежаку, но до осени непременно встану на ноги. Освирепев, кричу истошным голосом, сердце колотится, как обезумевшее:
— Я прошел через мерзость и скверну, познал геенну огненную, которую Фрош только что назвал «прежними счастливыми днями». Это стоило того — изображу ту «сладкую жизнь» в своей «П.П.П.», читайте и наслаждайтесь. А мы с Янкой будем служить искусству. Свободному от эгоизма, угодливости и клик. Свободному от дилетантизма, обскурантизма, исполненному дерзновенных исканий. Осенью я буду здоров — и тогда ставлю на все! Я согласен!
Фрош, Брандер и Цалитис сдержанно встают, на лицах глубокое презрение.
— Нда… Значит, такие вот дела! Чего-чего, а этого не ожидал от тебя. Как в насмешку — vitam, salutam, veritatem, — говорит Фрош.
— Мне мнилось, в тебе окажется больше собственного достоинства. Ну ладно, приятно, что познакомились, лучше поздно, чем никогда. Нам пора на поезд, выздоравливай и когда-нибудь в светлую минуту «вспомни дни золотые, когда счастливы были все мы», — иронизирует Брандер, но Цалитис не произносит больше ни слова, качает головой и протягивает для прощания руку, он холодная. Странное мгновение. По лестнице гулко удаляются шаги. Хлопает дверь.
Янка встал и молчит. Во мне саднит жалость, накатывают сомнения, хочется драться. Бог знает, справлюсь ли я… Будем ратовать вместе, Янка. Будем бороться рамо к рамени. Хотя мне и не ясно, точнее, я понятия не имею, за что и как бороться: я всегда чувствовал себя пешим, бредущим серединным путем, не то прогрессивным радикалом, не то радикальным прогрессистом. Другое дело, когда приходится биться с мракобесами за идеалы искусства.
— Чип! Держись теперь мужчиной, — говорит Янка. — Через час идет поезд, а мне до станции топать да топать. В начале сезона приезжай в Ригу и разыщи меня. Адрес старый. Ох, и тощ же ты стал и бледен. Кстати, что у тебя была за таинственная история с этим немцем? За что он набросился на тебя? Все газеты тогда писали «Убийство на улице Акас…» Мы страшно огорчились, хорошо, хоть так кончилось… Эта женщина была твоя?..
Отворачиваюсь. Не хочется сегодня бередить свежи раны.
— Вижу, не желаешь говорить. Ладно, что было, то сплыло. Этот ракалия, говорят, репатриировался, какого черта ты скрываешь его имя. На крюк убойника! Но ты лечись, ни о чем другом не думай, у тебя хрупкое здоровье. До осени ты должен поправиться, так что смотри у меня. Сезон начнется на месяц позже. Ну ладно, бывай!
В дверях Янка сталкивается с моими соседями по палате. Те только что вернулись с прогулки, поскольку уже сподобились повышения в ранг гуляющих больных. А я лежу взволнованный и чувствую, что меня начинает бить противная дрожь. Новые вести да баламуты вышибли из равновесия, в висках гудит и пульсирует беспокойство. Пробую сомкнуть веки и успокоиться, но какие-то кошмарные видения начинают роиться да гимзить перед глазами — я погружаюсь в тяжелый сон… Лежу на грязном каменном полу в застенках тюрьмы Pizarro, я пленен фалангой, руки и ноги мои окованы ржавыми цепями. Меня зовут Флорестан. Тут же стоит подлец Рокко, он замахивается двулезым мечом, но Леонора, переодетая в Фиделио, падает на колени и закрывает мою грудь своим телом. Я прошу их начать вместе: «Wenn ein holdes Weib errungen», — и взмахиваю дирижерской палочкой, ансамбль, однако, тянет кто в лес, кто по дрова, я лезу вон из кожи, показываю: три, четыре; но это требует сверхчеловеческих усилий, потому что руки влачат тяжелые цепи. Звенит голос дона Фернандо: «Молодому одаренному дирижеру К. М. еще не под силу охватить все пластические дименсии бетховенской музыки; функции дирижера в профиле интерпретации детализированными пластами разрушают гексаметрическую гравитационность симфонизма. Точка». Тут я вырываюсь из пут и вонзаю палец в небо: ликуйте! «О, Freude! О, namenlose Freude!»
Соль трубных звуков ножом разрезает тишину. Вскрик! Все стихает. Остается лишь невнятный гул голосов, кто-то дергает меня за плечо…
Оглядываюсь окрест.
Подушка залита кровью. А может, это сок?
Почему такие испуганные лица, зачем белые подставки, укол в локоть, резиновые шланги вокруг запястий, мне же больно!
На груди пузырь со льдом. Леонора вытирает мне губы. Я задыхаюсь, Леонора! Куда вы везете меня?
Мне нельзя говорить? Шевелиться? Должно быть, стряслось что-то ужасное… Сколько сочувственных глаз. А может, мне блазнится? Или мигают свечи? Свечи в канделябрах, гиацинты, еловые венки.
Ворочаю глазами (крутить головой — упаси бог) — нет, свечей не видать, венков тоже, — похоже, пронесло… временно пронесло. В Депфорте на Темзе сейчас, наверно, непроглядный туман.
Одна ночь, вторая, третья.
Стояла сплошная черная ночь, затем на экране зашевелилось оранжевое пятнышко, которое становилось все светлее и светлее. Хлопнула дверь, и Леонора, бдевшая всю ночь возле меня, вернулась.
Дышать стало посвободнее, мне кажется, то больше не повторится. Леонора тоже так считает. Бледную старицу с косой на плече я в очередной раз обвел вокруг пальца.
Ничего не поделаешь, madame, я двужильный, как ольховая вица, крепкий, как стальной кистень.
В окно задувает полуденник, из леса доносится тафельмузыка. Дорогая Леонора, дайте мне что-нибудь пожевать. Мне опостылела ваша дрожалка из листьев аира, попрошу на завтрак принести что-нибудь посущественнее, скажем, фрикандо из бычьих хвостов, знаете, как его готовят?
«Возьми бычьи хвосты, разруби на мелкие глызки: поклади масло в особый котел с крышкой, затем швырни туда крошатку из хвостов с мелко нарезанным чесноком влей стакан ишпанского соку и добавь одну шевырку льняного масла… держи на слабом огне, пускай кипит, пока не побуреет и не разварится».
Не болтать? Сестрица, это самый достоверный рецепт… Леонора, дорогая Леонора, не будьте букой, я сей же час замолчу, разрешите только дотронуться до вас… Ну почему я грубиян? Ваш волосник с красным крестиком посредине почему-то сегодня съехал набок. Первое апреля, никому не верь. Что, уже июнь? Кто бы подумал! Когда у вас именины? Точка. Я устал. Закрываю глаза. Сколько остроумия за столь короткое время!
Уж если меня не угробили жестокие удары ножом (финку, которую нашли рядом, следователь подарил мне; я вожу ее с собой как сувенир), было бы нелепо умереть в одиночной камере — верно я говорю, сестричка?
В шутку я частенько болтал: мой век, дескать, оборвется в возрасте двадцати девяти лет. Поскольку я начитался писанины оккультных ворожеев о переселении душ, то свято верил, что душа Кристофера Марло спустя триста пятьдесят лет выбрала плотью мое тело. Я сам себе это внушил, находя в подобных кудесах оправдание своим проделкам. А обернулись мои игры гибелью Мефистофеля, не Фауста. Брат мой, белый человек из кентерберийских низов, не смейся: со всяким может случиться…
«Не поминай зря сатану», — учила меня бабушка, а я забыл. На этот раз еще уцелел, вместо меня к шишигам в преисподнюю поволокли бедную Маргариту.
Душа болит за растраченную молодость. Мне пошел тридцать первый — что я успел? Колоброд и шатыга, сочинял студенческие песни, бил мензурки и бился до чертиков на дуэлях. В остальное время предавался мечтам. Леонора спрашивает, что у меня за рубец от глаз до уголка губ. Это память от рапиры Брандера, говорю. А может, мне это приснилось?
Приснилось, приснилось, приснилось…
Ветер колыхнул занавеску. Леонора спрашивает, не надо ли мне скляницу. Как романтично! Я трясу головой. Нет, сейчас еще не надо. «Ich grolle nicht». Не сочинить ли нам концерт для скляничного ксилофона, чем больше в каждой посудине жидкости, тем выше тон. Коль скоро с умом напи́саешь в двенадцать скляниц, получишь всю хроматическую гамму, времени на это хватит. Если не случится, что я уйду в небытие. Не-бы-тие… Жуткое слово, лучше уж в преисподнюю, там, по крайней мере, жар и шишиги, — естественно, когда начнут щекотать вилами, не возрадуешься, но ко всему привыкают. Небытие — это мерзко, недаром старушки ходят причащаться, церковь обещает, на худой конец, хоть котлы с варотоком. А что сулит нам естествознание? Что — Эйнштейн? Кому теперь достанется труд моей жизни «П.П.П.»? Сейчас я мог бы написать лучше, глаза мои стали зорче, я вкусил плоды с древа познания и подверг себя переоценке. Сочинительством следует заниматься лишь тогда, когда исходил все хляби, облазил все углы ада, когда вдоволь наездился на оранжевых облаках, пообжег пальцы у солнечных костров, хватая из пепла сверкающие блестки. Я слышу, как стонут скрипки, слышу трубный зов, визг кларнетов — это все принадлежит мне, там высекает искры моя мысль, хейя, хейса!
Судьба, разреши мне пожить, отпусти еще десять лет, хоть пять… Не можешь? Дай два, один, я докажу необходимость своего бытия. Судьба, дай мне пожить, я обещаю, я обещаю…
Закружилось средоточие лучей на экране, и к моей постели подлетает Янис Вридрикис в смоляном сюртуке.
— Кристофер Марлов! Если пойдешь с ними, умрешь!
— Прочь, пустобрех! Зачем ты посетил священный сей чертог?
— У меня есть твоя подпись: тебе нельзя уходить!
— Нет, я уйду. И это будет лишь начало.
— Нет, то будет конец. Подумай о конце.
— Нет конца. Есть только коловращенье вечно божественное…
— Тебя погубит вечно женственное… Ха, ха, ха!
Перед моим взором закружилась Вальпургиева ночь. Воет морская кошка, ведьмы летают на реактивных ступах, десант лемуров опускается на парашютах, а в ущелье поет chorus mysticus, циклопы и химеры собираются на шабаш. Я беру в руки палицу и бью направо и налево, покамест вся нечисть не исчезает. Хейя! Хейса!
Потом я ощущаю на своем лбу прохладное прикосновение, распахиваю веки, надо мной склонилось существо с голубыми радугами в глазах, вздернутым носом, желтые кудельки вылезают из-под белого волосника.
— Вам нельзя так кричать!
— Теперь уже хорошо, сестричка. Вся нечисть смылась. Дайте мне лустку копченой ветчины! Полцарства даю за лустку ветчины!
VIII. ДОРОГА В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО
…Старинные поваренные книги учат, что из мясных пудингов, всяческих остатков и оборышей можно запросто состряпать десятки добротных фрикандо и фрикандиссимо, кое-кто давно это усек и только из высокомерия скрывает от своих ближних. В противовес этому моя «П.П.П.» будет для вас не токмо кладезем поварской мудрости, но и равным образом весьма приятным и развлекательным чтивом, потому как в самом конце сего сочинения, наподобие книги Кимеля и Пипера, будут помещены рассказы, а также описаны правдивые происшествия из быта видземских латышей, особливо тех, что происходят из высших кругов Риги, вроде адвокатов, негоциантов, домовладельцев и студентов. Вышеупомянутые истории будут изложены в третьей главе девятой части под заголовком «Сливки». Сие обстоятельство, правда, может привести к некоторой путанице, потому что в этой же главе будут подробно излагаться предписания, как испечь пирожные со взбитыми сливками, коими славятся пиебалгские Грейверы, дан рецепт топленых сливок, изготовляемых по способу барона Энгеларта, и приведены рецепты воздушных сливочных печений и розовых пузырей. Тем не менее клятвенно заверяю читателей, что весь этот винегрет, или, как говорят земляки, мешанина, оно же и крошево, будет состряпан уверенной рукой. Никаких белых ниток, волокон, а паче того швов не будет заметно вовсе, а посему не станет препятствий к восприятию и раскумекиванию книги в целом, как, впрочем, и отдельных ее глав с рецептами. Ежели в композиции поваренной книги искушенный читатель заметит переплетения нитей и нежных прядей, присущих сонатному аллегро или же рондо, а именно: а—б—а—с—а, то пусть, ничуть не медля, примет в соображение — praemisso praemittendi: я странствующий музыкант, тапер. Так как в музыке не дозволяется пользоваться любезной сердцу свободой — нестись скоком впереди времени или плестись у него в хвосте, а также блуждать в лабиринтах и пещерах в стороне от главной дороги, поскольку в этом виде искусства все подгоняется под строгое одностороннее движение, то в своей «П.П.П.» я воспользуюсь послаблениями, каковые допускает литература. Вне сомнения, надобно держаться в рамках хорошего вкуса, а то сотворишь не в меру пегое рядно и сраму не оберешься.
Я пришел к этой мысли только что, лежа на своем одре, она еще нигде не зафиксирована. Doctor ord. по сей час держит меня в заморозке, то бишь приказал убрать все огрызки карандашей, изъял последний лоскут бумаги, лишь бы мне не писать. О люди! И это творится в двадцатом веке. Я призываю вас в свидетели тому, как обращаются с работниками духовного труда: лишают свободы, притесняют, маринуют. Я типичный маринованный деятель духа: помереть мне не дают, расти тоже — слишком долго пролежал в уксусе. В поваренных книгах не употребляют всуе слово «уксус», там другая терминология: «маринад». Маринованный судак, маринованные пескари, караси, печерицы, бараньи ножки. Но вернемся в город на реке Венте, в его бытность десятилетней давности.
Маринованные бараньи ножки были первым блюдом, которое мы с Янисом Вридрикисом отведали в станционном буфете в ожидании паровичка, который вот-вот должен был подойти по узкоколейке. Натуральный обжора, не прошло и получаса с тех пор, как Керолайна накормила нас до отвала, но стоило ему узреть за стеклом бараньи ножки в маринаде, тотчас прилип к прилавку — не оторвать. Заставил еще и меня попробовать. Я уже забеспокоился, что вся наша авантюра превратится в сплошное чревоугодие, а истинных мирских утех, соблазнов и прочих сумасбродств Янису Вридрикису познать не суждено. В Депфорте на Темзе, когда не видело начальство, аббат по меньшей мере хоть напивался и два раза в неделю имел тайные сношения с сестрами филатретинками: по понедельникам и четвергам перед полуночной мессой. А сейчас, выходит, маринадом буфетчица порадовала Яниса Вридрикиса больше, нежели ямочками на щеках — ее улыбка посвящалась именно ему, меня сисястая хохотунья не удостоила и взглядом. Так уж заведено на этом свете: дамам нравятся те, кто на них не обращает ни малейшего внимания. Янис Вридрикис будет иметь успех у женщин. Мы с ним — два молодых колоброда, оба почти что на одно лицо, у него только пышнее дыбились кудри. Поелику я один знал, сколько Трампедаху лет, то весь окружающий люд наверняка принимал нас за ровесников, настолько эликсир КМ-30 пошел аптекарю впрок. Лишь от главного своего порока — скупости — моему спутнику избавиться не удалось, и потому, набив утробу, он принялся мне подмигивать, чтобы я заплатил по счету. Как бы не так — чай, забыл, скаред, что твой покорный слуга всего лишь арендатор. Я, не будь дураком, дотронулся до череса, коим был опоясан мой спенсер, — там у меня хранился договор. Только после этого Янис Вридрикис наконец понял, что с сего момента все магарычи, все застолья и возлияния придется оплачивать ему, эти обязательства были зафиксированы в специальной статье договора, и он сам скрепил ее своей подписью.
Сказать по совести, мое воображение рисовало наше отбытие в куда более ярких и паче естественных визиях, ну хотя бы так, как оно воспето тайным советником из Веймара.
Я расстелю пошире пелерину
И предоставлю моему плащу
По воздуху унесть нас на чужбину.
Я вещество такое берегу,
Чтоб к небу подняло нас, как пушинку[10].
А то еще и на манер английского Марло, приказавшего впрячь скакунов бури в огненную колесницу, которую господин Гектор Берлиоз под звуки венгерского марша устремил навстречу гибели — хейя, хейса! Нашей поездке недоставало размаха. Сквалыга Трампедах сидел на своей мошне, точно наседка на яйцах. Стоило мне заговорить, что не мешало бы нанять такси, как он тотчас кинулся меня отговаривать. В городке на Венте, дескать, имеется всего один допотопный таксомотор, он принадлежит пономарю, но за пользование сей огненной колесницей владелец дерет пятьдесят сантимов, такие бешеные деньги Трампедах отказывается платить. Довольно с него, что он покрывает расходы на поездку в вагоне третьего класса, влекомого паровым конягой. Итак, Яниса Вридрикиса и меня тянет почерневший локомотив, который только и знает что пыхтеть и болтаться из стороны в сторону. Никакого тебе венгерского марша, никакой chant de bonheur, мы держим путь в заурядный областной городишко, где нам предстоит пересесть на экспресс…
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Doctor ord. приоткрывает дверь и с подозрением зырит, не записываю ли я свои раздумья. Эти подглядывания у меня уже в печенках, однажды я не выдержу и запущу в него плевательницей. Но сегодня утром шеф одаривает меня дружеской улыбкой и втягивает за руку в палату аристократической наружности господина в золотых очках и с сияющей плешью. В последние дни doctor ord. относится ко мне со снисходительным уважением. В газете, видите ли, было напечатано, что меня назначают вторым дирижером оперного театра, видать, я левонастроенный элемент, быть может, даже старый подпольщик, а с таким надо быть начеку.
Doctor ord. сам — бывший айзсарг[11]. Положим, что было, то было: возможно, его принудили, силой напялили мундир, нахлобучили картуз и кру-у-гом марш! Но поди втолкуй это кому-нибудь, кто теперь поверит, бога-то нет!
— Скажите после этого, что бога нет! — с нарочитой резвостью восклицает доктор. — Маэстро господин Зибель, находясь у меня в гостях, нечаянно узнал, что его будущий коллега лечится здесь в санатории. «Ведите меня туда!» — взмолился маэстро, и я в порядке исключения должен был повиноваться.
Господин Зибель, стуча по полу лакированными каблуками, направляется прямо к моему ложу. Радость, откуда ты только берешься?! В порядке исключения? Как будто в этом есть нужда. Лучше бы в порядке исключения вернул мне карандаш и нотную бумагу, талдон эдакий! Зибель не тот человек, с которым мне охота лясы точить, самая что ни на есть гнида. Капельмейстер! Я с ним познакомился лет десять тому назад. В те времена, когда мы с Трампедахом, прибыв в столицу, засели кутить в ресторане Крепша на Весовой улочке, что между биржей и Домским собором. То был трактир для избранного общества, где собирались маклеры-валютчики из «Рейнера», а маэстро Зибель вместе с городским головой и режиссером Теодором Упе считались штамгастами завсегдатаями — и просиживали каждый вечер от двенадцати до двух ночи, таков был стиль.
— О мой боже, это действительно вы! — с деланным удивлением восклицает Зибель. — Как со здоровьем? Сумеете до осени окрепнуть настолько, чтобы иногда заменять меня в оперном театре?
Заменять? Иногда? Хо-хо! Собираюсь уже ответить, что я намерен самостоятельно поставить «Фиделио», однако меня опережает doctor ord.
— Ни в коем случае! Процесс свеж, положение угрожающее. Выбросьте эти мысли из головы, молодой человек… Через год еще туда-сюда, но так далеко никто не может загадывать, времена нынче шаткие, не ровен час…
— Не надо играть с огнем, — соглашается Зибель.
Не могу взять в толк, что он имеет в виду, но даю голову на отсечение: мое здоровье его нисколько не волнует.
Заходит Леонора. Говорит, звонят из комиссариата, вызывают doctor ord., так что будьте любезны. Мы с Зибелем остаемся наедине. Я без проволочек хватаю быка за рога.
— Сейчас театру необходимо что-то большое, грандиозное… Я предлагаю поставить «Фиделио», эта вещь достойна времени, которое в пути.
Маэстро корчит рожу.
— Режиссер Упе имеет обыкновение говорить: правительства приходят и уходят, а мой театр остается. Не надо пороть горячку, будем реалистами. Сейчас надобно думать о том, как сберечь наш чистый святой храм искусства.
Недавно я был в Москве, смотрел спектакли в Большом театре. Чрезвычайно!.. Феноменально! «Аида», «Лебединое озеро» — это надо услышать, молодой человек… Наша задача — ревностно держаться проложенной стези: Чайковский, Мусоргский, Верди, Пуччини. А вы — «Фиделио»! Слов нет, шапку долой — это исполин бетховенского духа, но в опере он не тянет. Публика, милый друг, все дело в ней… Вот если бы «Фиделио» дирижировал, скажем, Фуртвенглер, Абендрот или кто-нибудь из его ассистентов. Я был ассистентом у Клейбера и Клемперера, когда «Фиделио» ставили у нас… Чрезвычайно… я тоже тогда… Клейбер был в восторге… Я дирижировал «Лебединым озером», когда у нас гостил король Швеции, а потом король Албании Ахмет Цогу с одной певичкой Джеральдиной Апоньи. Чрезвычайно аплодировали. Также Куропаткин, Павел Александрович, кардинал Цекхини, посол Германии. А случай с Клейбером! Мы репетируем с Леонорой III, вам ведь известно, что есть Леонора I, Леонора II (в этот миг в палату входит Леонора IV), а мы репетируем с третьей. Вдруг слышу: четвертая валторна — поперек! А ну-ка? Подуй еще разок. Си бемоль, си бемоль, schwanz! Вместо си бемоль нужно си бекар. Велю исправить. Ну чрезвычайно! Клейбер целый сезон пропускал этот си бекар; вот вам и знаменитость: пятьсот долларов за спектакль… Потеха, а не спектакль… чрезвычайно! Доллары, аплодисменты! «Подайте мне аплодисменты!» — как сказал Бетховен. Меня всегда вызывают, честят, то есть чествуют, чествуют… чрезвычайно. Цветы — это лучший гонорар… Вы, кажется, не были на моем юбилее? Женушка устраивала, вы должны извинить, что не получили приглашения, возможно Эмилия — чрезвычайно… Понимаете, сбивают с ног, требуют — давай!.. Потому что я самый популярный в народе, эти все остальные — шушера. Я никогда не экспериментирую. Зритель может быть уверен: я знаю, что ему нужно… угадываю… Да, относительно юбилея. Ну, чрезвычайно! Лососи из Салацгривы, груши из Булдури, розы из Кекавы, саженцы из Сесавы, Юкум из Тукума поднес бекон первый сорт, медицинские сестры — торт, уважаемый юбиляр, мол, так и так; Эмилия едва поспевала прибирать, пришлось взять напрокат рефрижератор. Чрезвычайно!
Зибель заливался соловьем, кичась без меры и без удержу. Все, кто знал его, давно уяснили: остановить поток фанаберии нет ни малейшей возможности, надо ждать, пока маэстро сам не иссякнет и не выпустит пары, поэтому, нимало не беспокоясь, я дал ему попетушиться да повосхвалять себя и помянутую Эмилию, которая, кстати сказать, неизменно присутствовала на всех спектаклях, коими дирижировал ее муж, и с первого ряда партера, спрятавшись за спиной супруга, зорко следила, не подмигивает ли темпераментный плешивец какой-нибудь жеманнице-хористке.
Зибель начал с того, что собрал оркестр безработных в Верманском парке, участвовал в постановках «Синей блузы», на вечерах левых профсоюзников, затем перевернул доху наизнанку, сделался истым националистом и на празднике урожая восславил кантатой вождя. Позавчера в оперном театре состоялся митинг. Зибель дирижировал «Лебединым озером», а в конце по требованию публики оркестр исполнил «Катюшу», все шло как по маслу.
«Если ты, человек, день-деньской сидишь взаперти в своей кунсткамере и только по воскресеньям разглядываешь мир издали, словно в подзорную трубу, скажи, как сможешь ты управлять им словами? Искусство бесконечно, а жизнь коротка, иногда меня пронимает дрожь, знаю немало, но хотел бы знать все…»
Янка Сомерсет и его товарищи хорошо знали Зибеля, поэтому и искали второго дирижера. Но так, чтобы знаменитый муж не разобиделся, упаси бог: а то как залютует!
— Молодой человек, будем трудиться плечом к плечу! Оперный театр станет тем бастионом, если хотите — укрывищем, где будут холить и пестовать чистое искусство. Мы должны быть мудрыми, точно змии. Понадобится совет, обращайтесь ко мне в любое время. Пока же посидите в оркестре и посмотрите что и как. А месяцев через шесть попробуете начать с «Травиаты».
— Может, с «Тристана»?
— Рихарда Вагнера сейчас трогать нежелательно — на всякий случай. Зато я вам скоро разрешу самостоятельно разучить «Тихий Дон». Я его, правда, еще не листал, но, думается мне, это будет спокойное лирическое произведение с арфами… На манер «У тихого голубого Дуная»… Такая опера сейчас очень нужна… чрезвычайно… Я поддерживаю молодых. Можете рассчитывать на «Тихий Дунай». Сам я возьму «Фиделио», это моя давнишняя идея. А потом бессмертную «Марту» Флотова. «Марта, Марта, где ты скрылась?» Чрезвычайно!
Впервые за все время своей телесной скорби я положительно взыграл духом. Не могу удержаться от смеха — найден уникальный тип для моей «П.П.П.»! Зибель — колоссальная находка, подлинное сокровище для начинающего романиста. Панург, наставник доктора медицины и монаха-бенедиктинца[12] из Шинона, в подметки не годится моему, ей-богу! Этот процветает, этому аплодируют, у него сонм приверженцев и в придачу жена Эмилия.
А у меня нет ни карандаша, ни бумаги.
В руках у Зибеля большой черный портфель, он извлекает оттуда книжицу — Libretto di Francesco Maria Piave «La Traviata» — одалживайтесь, мол, на время. Ха, ха! Значит, специально явился ко мне, а вовсе не случайно, как солгал doctor ord. Листаю. О! Тут довольно много чистых страниц: обложка, изнаночная сторона иллюстраций. Леонора заходит и уходит. Покамест она не видит: «С благодарностью принимаю, маэстро! Не найдется ли в вашей суме еще и карандаша. Большое спасибо (прячу письменные принадлежности), до свидания!»
Звонок возвещает начало тихого часа. Я снова останусь наедине со своими мыслями и воспоминаниями, мне это доставляет особое удовольствие. Я все запишу, нужно начать с того вечера, когда Янис Вридрикис попал в высшее общество. Он верил, что я послан демонами, чтобы провести его через все двенадцать кругов ада. Вера творит чудеса, равно как бумага терпит все, чего только не измыслит писатель, тем более если читатель принимает обман за чистую монету.
Praemisso praemittendi — прошу, уважаемый магистр. Итак, мы начинаем!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
В полумраке вестибюля пахнет духами «Шанель» и мокко. Седой швейцар и мальчик-лифтер в красной ливрее с позументами; дама и господин взволнованными голосами пересчитывают чемоданы. Из-за угла, где помещается бар, струится сигарный дым. Уютно, скучно, представительно… Унизанные кольцами пальцы биржевого маклера держат бокал с коктейлем; источая сладкий, горьковатый аромат, вьется, расплывается дым сигары, бармен с достоинством алхимика, постигшего тайны вещества, взбалтывает в сверкающем сосуде «Сердце индейца». О магистр, эту влагу должны отведать и мы!
На Ратушной площади у «Мушата» мы купили для магистра голубое двубортное сако и цыплячьей окраски портки, последнее сногсшибательное изобретение Диора, стоят они страшно сказать каких денег. В магазин «Jockey Club» выбрали рубашку цвета сливок. Янис Вридрикис в новом облачении — чопорен, элегантен и бледен, подлинно дамский идеал.
— Господа, верно, из-за границы?
Нас встречает портье гостиницы «Рома». Его наметанный глаз прощупывает ткань голубого сако насквозь в грудном кармане должна находиться толстая пачка банкнот: латы, доллары, франки.
Портье сгибается в дугу.
— Могу предложить апартаменты на стороне Театральной улицы, там будет намного тише, милости просим, господин…
Меня козлиная бородка явно принимает за домашнего учителя или лакея молодого вельможи. Не чуя, что перед ним сам Сатана, он высокомерно роняет:
— Для сопровождающего комната горничной на третьем этаже рядом с туалетом.
Холодным тоном отказываюсь от предложения:
— У меня квартира в центре.
Сказать по чести, меблированная комната на окраине в гуще Гризинькалнских улочек, кипяток по утрам и вечерам, человечий смрад. Но квартира есть квартира.
Как только я поселил своего господина в апартаментах, мы спускаемся вниз, на five o’clock tea dance для элиты, время пять часов. Янису Вридрикису приспела охота собственным оком поглазеть на рижские сливки — недаром заведение Отто Шварца считается самым шикарным, самым роскошным, а также самым дорогим рестораном столицы, здесь устраивают вечера дипломаты, министры, депутаты, иногда международные преступники и аферисты — как-никак они тоже принадлежат к сливкам!
В дверях мы сталкиваемся с судовладельцем Цауной, его мадам и — о ужас! — дочерью Дайлой. Еще издали почтительно приветствую своего босса — потому как учу музыке его принцессу, два раза в неделю прилежно являюсь на уроки фортепьяно. И хотя Цауна платит всего лат за посещение, все же лучше, чем ничего, тем более что урок не урок, а сплошное кривлянье. Дайла ленива, болтлива, бездарна и страшна на рожу, настоящая каракатица. При этом втемяшила себе в голову, что я влюбился в нее: на уроках грибанится, строит рожи, куролесит, иной раз как вперится в глаза… Однажды даже обморок изобразила — свалилась мне на плечо. Я гляжу в оба и стерегусь, а то не успеешь оглянуться, как в самом деле околпачат. Владелец пароходства и толстосум, убедившись, что никто из богатых и более или менее нормальных молодых людей Дайлу в жены не возьмет, готов сочетать ее браком с любым шалбером, лишь бы сбыть с рук. Мадам Цауна частенько как бы ненароком приоткрывает дверь и бросает ласковые взгляды, видать, жаждет уличить меня в шалостях, чтобы затем впрячь как ломовую лошадь в свой дерьмовоз. Доселе ей это не удалось, и я зарабатываю свои латы да посмеиваюсь.
— Едрена вошь! (Цауна родом из деревни, поэтому в его восклицаниях столько смачных реалий.) Чего тут ищет штудиозус? — Он слегка окосел и, подняв палец, пропевает:
Гаудеамус игитур,
Ювенес, не суйся!
Марш за мой столик, дядя платит! Люблю штудентов! Пинкертон, что сегодня в программе?
— Саша Потоцкий и sisters Leones. У рояля Михалицкий, все, господин директор, — выпаливает заведующий залом, или, как он сам себя величает, мажордом.
Бакенбарды на манер Франца-Иосифа внушают почтение, он служит у Шварца уже тридцатый год. Цауна обращается ко мне:
— Что за кнехт с тобой? Если не прохвост, пускай идет с нами, едрена палка!
Представляю:
— Молодой любомудр и вежа, профессор химии, знаменитость, выдвинут на Нобелевскую премию…
— Ого!
— Притом еще писатель, основоположник кулинарного романтизма.
— Ты смотри!
— Альгимант Амбрерод, — говорит Янис Вридрикис и выпячивает грудь (ни дать ни взять лорд Байрон).
— Не родня ли вы тому Абендроту, который в опере трясется?
— К сожалению, нет…
«С виду иностранец», — определяют Дайла и маман.
Трампедах целует руку госпоже, элегантно кланяется кривляке, затем здоровается за руку с главой семейства.
— Вы давно в Риге? — осведомляется мадам.
Нет, он только что приехал из Сорбонны.
— Из Сорбонны… Знаю, знаю… это на Малайях, мои суда оттуда привозят бананы и ром.
— Папочка, то ведь Сурабайя! — ржет Дайла.
— Один хрен, Срабайя или Срабаня, мои суда едут туда, куда я им приказываю, едрена вошь! Обер, меню!
— Вы будете сидеть tête-à-tête, — распоряжается госпожа, — а рядом с Дайлой займет место господин Амбрерод.
Янис Вридрикис произвел на семейство Цауны потрясающее впечатление. Дайла едва выю не вывихивает таращась сбоку на орлиный нос Альгиманта и на брильянтовую булавку в шейном платке, — бесподобное зрелище!
Незаметной тенью подплывает официант и приносит меню. Семейка принимает решение заправиться поосновательней, пес с ним, с этим «фифоклоцком», гость и Сурабайи должен отведать истинно рижско-латышску стряпню.
Mockturtle Soup
Carpes bleues raifort
Jambon au Bourgogne
Dinde à la chipoletta
Compote Salade
Parfait Prince Pückler
Café
Да будет так!
Цауна не разумеет ни одного слова по-французски, заказывает наугад (не будет же он показывать мажордому, что ему невдомек, какое брашно выбрал!). Позже, когда выясняется, что первая подача — черепаховый суп, Цауна стервенеет и посылает за шеф-поваром. Велит дать ответ, в самом ли деле похлебка сварена из черепах, может, в нее добавили жаб или другой какой нечисти? Шеф-повар клянется, что суп сварен из чистопородных рептилий. Тут настает минута обнародовать свою эрудицию Янису Вридрикису, он поясняет Цауне:
— Черепаховый суп по правилам варят из одних только панцирей. Возьми оных желвецов и держи вверх ногами, покамест им сие не надоест и они не выскочат из своих черепов и не разбегутся кто куда. Ты за ними не гоняйся, а собери панцири, на коих остались ошметки буроватого тука, уклади в горшок, залей штофом крепкого говяжьего навара и полчаса томи. Время от времени впрысни туда соли по вкусу, малость эшалоту, имбиря, одну-две гвоздички да сними пену экстрашумовкой, затем пропусти сквозь цедильную бумагу и отсылай на стол.
Мадам аж в ладоши хлопнула: столь дельной учености от сурабайского профессора она не ожидала. Зато Цауна к еде больше не прикасался, что-то бурчал себе под нос, потом начал пить, сделался невыносимым и совсем задубел в грубости.
— Так твою перетак! Пей, Амбрерожа, нечего кочевряжиться. Знаешь, ты мне годишься в зятья, ты мустанг хоть куда!
Пли, Олд Ваверли, на, порох, выстрели!
Мардок с горы дразнит: ха, ха, хи, хи!
Только что начались представления варьете, дивертисмент для элиты. За роялем Михалицкий, у этого малого — закваска Гершвина, пальцы — Орлова, редкий талант. Янис Вридрикис, затаив дыхание, ест глазами танцовщиц — сестер Леонес, те и впрямь бабенки львиной прыти, почти голые, в серебряных насисниках, в пятнистых фиговых листочках на тех местах, где им положено быть. Трампедах чувствует, как в плоти закипает некогда выпитое зелье, долженствующее приумножить мужскую силу, — бесподобный укудик, в мозгу начинает зудеть от проглоченных до завтрака мушек. А тут вступает Саша Потоцкий, он изображает Скарамуша — вертится как одурелая мушка.
«Может, этот тоже тяпнул укудика? — думает Трампедах. — Ну и распущенность, чтобы мне этак оголиться!»
Аплодисменты. Голыши исчезают, а в углу зала тем временем открывается изрезанная зигзагами па́волока. За ней сидят музыканты в белых шляпах с высокими тульями. На передниках большие черные буквы The Sawoy Band… Задыхаясь, сипит саксофон, в однообразном страстном ритме бьет банджо…
«Средь роз в саду у Сансуси-и…» Стройные дамы, упитанные господа черными пиявками льнут к обряженным в парчу талиям, элегантные ножки в туфельках на высоких каблуках, угар сигарного дыма, бегущие блики прожекторов всех цветов радуги — адская панорама!
— Едрена палка, Амбрерожа, чего ты не приглашаешь мою девчонку, ты хоть кумекаешь, сколько я ей даю в приданое? Миллион. Ми-лли-он! Миллион в придачу к этому цветочку.
Я вскакиваю и приглашаю Дайлу на танец. Почему бы не подержать в руках олицетворенный миллион, да еще в перекрученных чулках, а заодно не заступиться за Яниса Вридрикиса.
— Мой друг не умеет танцевать танго. Но, зная его прилежание и страсть к миллионам, ручаюсь, что через неделю он будет выкамаривать не только танго, но и кеквок, ламбетвок и чарльстон.
«Средь роз в саду у Сан-су-си-и…»
Дайла танцует, как ее учили на курсах Вахрамеева: сдержанно, на цыпочках, больше, правда, на моих, нежели на собственных, но я терплю, не каждому оттаптывают носки миллионы. Может, и мне что-нибудь да перепадет.
— Ваш друг — шипшанго! — говорит Дайла, не спуская глаз с Яниса Вридрикиса, за которого сейчас взялась мадам Цауна, придвинулась вплотную, расспрашивает.
— В следующее воскресенье непременно приезжайте к нам в гости, — говорит, танцуя, Дайла. — У папочки день рождения, я позабочусь, чтобы вас обоих пригласили. Торжества предполагается устраивать в Булдури на нашей даче. Будем кататься на яхте… Какое у него гладкое имя — Альгимант, мант, почти как манто. И до чего необыкновенно звучит: Амбрерод. Изумительно, похоже на изумруд. Вы можете угадать, сколько стоят мои изумруды? Столько же, сколько спортивная машина…
Перекашиваю глаза — я сражен.
Воздух насыщен хмельным духом, рябит, пьянит. Скулит танго. Янис Вридрикис как новорожденное дитя пялится на танцующие пары. Значит, вот какая эта «сладкая жизнь»! Он принял решение больше не медлить, а вкушать ее такими же глотками, какими глотает этот белый «шенкенбел» из Диркхейма урожая 1921 года. Янис Вридрикис не откажется ни от чего. Провались он потом в преисподнюю, в девятый круг геенны огненной, да превратись он хоть в шишигу или в не́кошного. Трампедах будет жить и хвалу возносить! Да чтобы он после этого прозябал мелкой букашкой в ничтожестве? Никогда! Его мысль погрузится в тайны природы, он станет новоявленным Гёте!
— Смотри-ка: Фредис! — танцуя, восклицает Дайла. — Идет сюда со своими телохранителями.
Фредис Цауна, главарь Национального клуба и известный на всю Ригу драчун и забияка, входит в сопровождении свиты. Он нисколько не похож на сестру: вымахал с коломенскую версту, хорош собой, упругий шаг. Его четверо спутников — такого же возраста дылды в серых рубашках, в черных беретах. Войдя, они снимают береты, а толстые палки, какие продаются в Сигулде для лазания по горам — настоящие палицы, — сдавать в гардероб отказываются. Это якобы их оружие, неотъемлемая часть униформы, которую носят члены Национального клуба.
— Как прикажете, господин Цауна, — говорит мажордом, и все четверо гуськом направляются в зал, Фредис впереди. Заметив отца с матерью, он издает вопль и опускается в мое кресло. Телохранители облепляют стол, мажордом, кланяясь, достает сиденья. Шипшанго!
Танец окончен, зажглись люстры. Веду Дайлу обратно к столику.
— Фред, то место, на котором ты сидишь, принадлежит этому господину. Убирайся, — приказывает брату Дайла, но тот, откинувшись в кресле, скалится и не думает трогать.
— Он это место купил? Скажи, Хайм, за сколько ты купил это местечко?
— Фу, Фред! Ты опять in kirsch — наклюкался, скляным-склянешенек, как бадья! — говорит Дайла и пытается отодвинуть брата в сторону.
Фредис, верно, порядком окосел, как и отец, но он ведает, что творит. Он может много пить и многое вынести. В Национальном клубе на улице Мартас сегодня состоялась встреча-сближение с соколами активных националистов, все скопом надрались, а под конец передрались, потому как не могли прийти к единогласию касательно кандидата на пост вселатышского лидера. Сперва возникла мысль о короле, почему бы латышам не иметь своего кёнига. Штельмахер во что бы то ни стало хотел подсунуть шведского графа Фалька Бернадота, Фредис, однако, настаивал, что кёниг должен принадлежать к кругам судовладельцев или торговцев латышского происхождения. Спичку к пороховой бочке поднес какой-то латгалец, потребовавший, чтобы герцогом города Резекне, центра латгальского края, назначили Трасуна, умеренного прогрессиста. Вот тут и началась потасовка, которая завершилась изгнанием штельмахерцев и латгальцев-автономистов из помещения собрания. Победу праздновали в Клубе домовладельцев на углу улицы Меркеля, но там вскоре отказались давать в долг, поэтому пришлось от правиться по трактирам, чтобы выяснить, где зашибает папочка. Обошли Большой Верманский, Малый Верманский, Янов погреб, Монастырский погреб.
Фредис настроен задиристо. Его сейчас хлебом не корми, дай поскандалить. Сидит в кресле и шипит:
— Пускай этот Каценэлленбоген убирается прочь.
— Постыдись, Фред! Это же господин Кристофер, — говорит мадам. — Наш учитель, молодой компанизитор.
— Не компанизитор, мамочка, а композитор, — поправляет Дайла.
— A-а! Скажи-ка ты мне, приятель, какая разница между композитором и компостом? — с деланным дружелюбием спрашивает Фредис, четверо телохранителей ухмыляются…
— Композитор — это я, вы, видимо, будете компост.
— Хо-хо! — ревут трабанты Фредиса, держась за стулья.
Подобные розыгрыши как раз во вкусе общества. У себя в клубе они целыми днями сидят, пьют пиво и изводят друг друга подначками. Когда сказать больше нечего, дают по роже, мирятся и начинают все сначала.
— Хо-хо! Фред! Досталось тебе! Этому палец в рот не клади, соображает…
Фредис тотчас освобождает кресло, находит другое, садится со мной рядом и дружески обнимает за плечо.
— Ты, шипшанго! Выпьем! Я тебя, приятель, принял за еврея. Ты немножко напоминаешь Хайма Каценэлленбогена из трумпельдорцев. Ну и драку мы затеяли после футбольного матча с «Маккаби»! Любо глядеть! Улица Виланде около «Униона» сплошь набита трумпельдорцами, а мы на них с флангов, ты бы видел, как я жахнул одного в бок. Вдруг откуда ни возьмись сзади появляется «саранча» с пипками. Напирают, понимаешь, а кое у кого в руках «тотшлагер» (с этими ножичками шутки плохи). Мы уже хотели дать деру, а тут прямо как с неба — немецкие юнкеры Concordia Rigensis с резиновыми стеками. Мы объединились и стали все вместе бить «саранчу». Является полиция, префект смотрит, ржет. Если б нам пришлось туго, они бы, конечно, их похватали. Вообще-то эти, «саранча» которые, вроде и не красные. Первого мая левые профсоюзники заперли их во дворе Народного дома, облаяли и побили камнями. «Саранча» потом выдала зачинщиков префектуре. Вот так у нас вылавливают коммунистов. Заваривают кашу и мешают до тех пор, пока всю красную пену не поснимают, хо-хо! Твой друг похож на американца. Вступайте-ка оба в Национальный клуб, мы устраиваем акции на итальянский манер. Послезавтра — поход безработных. Они попрутся по Матвеевской улице, а мы пойдем рядом и дадим кошачий концерт, учиним скандал и беспорядки, все это с ведома префекта…
— Фред, если ты заложил, то не мели языком, — прерывает вожака один из его трабантов.
— Не капай на нервы, тут все свои, — успокаивает его Фредис.
— Свои? А рыжий? Кто знает, кому он присягал.
Трампедах поднимает стакан пурпурно-красного Sherry Solera и громко заявляет:
— Я присягал Уриану-Аурехану: ничего не слышать, не разглашать, ничего не требовать. И посему, друзья, выпьем этого прекрасного ликера, о коем Поликарп Понселе в 1751 году высказался с удивительной поэтичностью:
«Je regarde une liqueur bien étendue comme une sorte d’air musical. Un compositeur de ragouts, de confitures, de liqueurs est un symphoniste dans son genre et il doit connaître à fond la nature et les principes de l’harmonie s’il sent exceller dans son art, dont l’objet est de produire dans l’âme une sensation agréable. Mais laissons les compositeurs chercher sur le clavecin des saveurs des accords parfaits…»[13]
Декламация прозвучала в напряженной тишине, присутствующие впали в замешательство. Что этот рыжий там витийствует? Больше всех разобиделся старый Цауна.
— Едрена вошь! Ты что, издеваешься надо мной? Что это за язык, шерше, перше. Шипшанго, танго, маланго… Ты, никак, смеешься над нами? Да я тебя как…
— Будет, папочка, это же было по-французски, — пытается заступиться за моего друга Дайла.
— Накалякаешься по-французски, а там, глядишь, и в политику вляпаешься! Знаю я этих шерше, перфе, — рычит Цауна и поворачивается к Янису Вридрикису спиной.
— Твой друг слишком образован, — присовокупляет Фредис. — Посоветуй ему поменьше хвастать своими знаниями, если он хочет ошиваться в высшем обществе. У нас не принято чем-либо выделяться. Главное, чтобы в кармане водились деньги. Есть у тебя капитал, есть и сила, а коли есть сила, единственное зло — этакие вон грамотеи, которые прикидываются, будто все понимают лучше других. Муссолини сказал: уберите философов, а с католиками я сам разделаюсь…
Янис Вридрикис нарушил принятый в лучших кругах стиль общения, поэтому я сразу заговорил, что нам с профессором, мол, пора, мы спешим (ах, такой молодой и уже профессор!). Никто не стал нас особо задерживать, мы попрощались и пошли. Одна Дайла осталась в глубокой печали, потому как успела «по уши влюбиться» в Альгиманта Амбрерода.
Зато Трампедахово заявление с великим интересом выслушала компания, которая сидела за соседним столиком. Там веселилось четверо седых и весьма представительных мужей, они вели свой разговор по-немецки, но когда услышали имя Уриана-Аурехана, тотчас навострили уши, как один человек повернули головы и с удивлением воззрились на Яниса Вридрикиса. Господа были из редакции «Rigasche Rundschau», они только что получили известие, что мейстерзингеры в коричневых тельницах победили на выборах, и поэтому отправились в ресторан Отто Шварца обмыть и обсудить радостную весть. Теперь они глаз не спускали с Трампедаха. Когда мы вышли в гардероб, один из немцев уже нахально крутился возле портьер. У выхода он с нами заговорил. Господа, должно полагать, прибыли из-за границы? Нельзя ли, дескать, попросить небольшое интервью? Где остановился мсье, который за столом держал речь на французском языке? Хотелось бы нанести ему визит.
Делаю Янису Вридрикису знаки, чтобы он не связывался с незнакомцем.
— Нам некогда, у нас неотложные дела…
Господин из редакции не сдается, протягивает Трампедаху визитную карточку — Энгелберт Книрим, cand. hist., сотрудник «Rigasche Rundschau», curonus. Очень жаль…
В таком случае пусть господа окажут любезность и навестят его в редакции «Rigasche Rundschau», прямо напротив главного портала Домского собора. Или, если им угодно, — рядом, в заведении Крепша.
Янис Вридрикис согласен, он только не знает, как туда попасть. Мне приходится обещать Книриму, что завтра же вечером приведу своего друга к Крепшу.
Крепш — старейший трактир столицы, в стародавние времена назывался гостиным двором Стурестепа, основан он в 1370 году в самом тесном лабиринте улочек между Домским собором и биржей. Когда-то там было настоящее гнездилище разврата, Сохо нашей столицы. Позже Диктатор распорядился весь квартал снести и среди развалин и битышей очистить площадь, откуда можно было бы обозреть собор, рижане, однако, за это прозвали великого преобразователя Домозадрателем. Великий муж приказал также слить в один союз все творческие объединения художников, писателей и прочих деятелей, по какому поводу цирковой клоун Рипсис разразился шуткой: двое исконно-посконных латышских героев Намей и Лачплесис-Медведезадратель объединились и получился из этого союза Намплесис-Домозадратель. Рипсис за эту шутку расплатился штрафом в 300 латов и месяцем тюрьмы. Но в месяце цветене 1930 года злачный квартал еще существовал и давал о себе знать издали.
Через этот парадиз я и хочу провести Яниса Вридрикиса. Откровенно говоря, какой уж тут парадиз — самое что ни есть пекло, за разноцветными газовыми фонарями стонет беда, лихоманка и беспросветная нужда.
Хочу, чтобы Депфортский аббат спустился в этот ад, пусть он и не Данте, и не Орфей. Просто он еще никогда не видел живой уличной девки. Тут они шлендают сотнями, бесстыдно заговаривая с добропорядочными отцами семейств. Держава русалок простирается от площади Гильдии до набережной Даугавы. Вокруг Крепша развелось целое скопище сомнительного толка художественных мастерских и меблирашек, которые, говоря языком ночных пташек, можно нанять «на ночку» или «на времечко».
— Нам некогда, мы спешим по неотложному делу, — ответили мы Книриму и простились. Однако действительно, куда мы спешим? Янис Вридрикис настроен хватать жизнь точно рыба, которая, попав обратно в воду, глотает пузыри. Ригу ведь не сравнить с той застойной лужей, каким был городок в Нижней Курземе. Солнечный зной за день пропитал камни и мостовые, дышать нечем, аж во рту пересохло. Сколько впечатлений, сколько необычного! Знакомства, приглашения и всего за несколько часов. Счет у Шварца не надо было оплачивать: с властной миной на лице Цауна за все рассчитался сам. Если так пойдет и дальше, магистр заживет завзятым мироедом, может, даже накопит денег и купит автомобиль.
Когда мы вышли из гостиницы, начало смеркаться. Кругом мигали и светились цветные рекламы. В конце Театральной улицы у Янова подворья вертелись крылья красной мукомольни. Тут помещался старейший кинотеатр Риги «Moulin Rouge». Янису Вридрикису, хоть тресни, надо было посмотреть, что написано на огромной афише.
Б о е в и к ! Б о е в и к ! Б о е в и к !
НОЧНОЙ СЕАНС
Начало в двенадцать часов ночи
Детям до 16 лет вход запрещен
Фильм разрешается смотреть мужчинам и женщинам
вместе
КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ В ТРЕХ ЧАСТЯХ
I. Любовь и секс в жизни
II. Нормальная и ненормальная сексуальная жизнь
III. Любовник леди Чатерлей до и после виселицы
КОРИНА ГРИФИТ. ЛИЛ ДАГОВЕР. ЧАРЛЗ МОРТОН.
РИЧАРД ДИК
Б о е в и к!
Ганаб! Некогда нам сегодня заглядываться на чепуху, дорогой Вридрикис. Договорились же, что идем в «Алхамбру». Тебе откроет объятия Holy Red, святая блудница, да хранит тебя господь. Эту штучку ты не равняй с простодушной шалберницей Дайлой; стиснет тебя железными клещами, пламенем обожжет твои окорока, точно вампир высосет из тебя последний сок, смотри, как бы кондрашка не хватил.
— Да, Дайла оставила меня совершенно равнодушным, — признается магистр.
Солнце погрузилось в море, синее марево покрыло пространство, по которому мы бредем, в небе мечутся зеленые, рудо-желтые сполохи. Мы идем, окутавшись пледами сумерек. Янис Вридрикис чуть впереди, я за ним. Шуршат шины автомашин, звенят трамваи. Я малость припадаю на ногу: людишкам может казаться, будто я хромой колча, — это оттого, что левый каблук у меня подбит железной подковой, как у лошади. Встречные в Верманском саду и представить не могут, что я сам Сатана, а Амбрерод — обновленный Трампедах. Это — безумная шутка, и один из нас дорого за нее заплатит. Шагая за магистром, я про себя рассуждаю, что на этот раз платить надо бы ему. В конце концов должна же быть в мире справедливость: сегодня — ты, а завтра — я.
Мой внутренний голос учит: «Коль скоро хочешь иметь власть над Трампедахом, не заговаривай с ним о цели, не указывай ему меру вещей. Пускай вкушает от всего, что впопыхах от жадности сумеет нахватать. Пусть кидается в приключения — они полны боли, пускай в любви познает ненависть и обретет покой в печали!»
А мне? Что остается мне? Лишь сознание: я стою над всем, я выше этого, моя участь — хладнокровно регистрировать события. Какой нелепый калейдоскоп: ночной сеанс, уличные драки, на улицах потаскухи, импотентные хрычи. В чем смысл наслаждений? Где начинается ничтожество и куда исчезает радость? Пока же я гоню лошадей — хейя, хейса! Хозяин думает, кучер едет…
Депфортский аббат принимает вещи прямо, реально: что видишь, то и есть! Но бога своего он не видит, бог с ним лично ни в какие дела не вступает, они могут связаться лишь через посредство Моисея. Зато Сатана в основном видит то, чего нет, поскольку он, черт его побери, романтик. Потому-то господь и прогнал его.
Выходим к углу возле «Рудзитиса». На мостовой пригорюнился извозчик — фурман, тощая лошаденка, опустив голову, думает свою печальную думу. Магистр, напротив, смотрит именинником, не чует под собой ног.
— Фурман, не спи! В «Алхамбру»! Господин платит чистыми бумажными деньгами. Айда!
Сердце твое еще не высохло, как лужа на тротуаре, мой милый Янис Вридрикис. До чего красиво ты умеешь кричать: «Фурман, в «Алхамбру»!» Почти как поэт Чак.
Начинается суматошный вояж: кляча хрома, у кучера в голове кураж. Хейя, хейса! Спустя полчаса мы останавливаемся у «Алхамбры», пешком на это ушло бы пять минут, но гулять так гулять. Здесь совсем иной размах, чем в «Роме», совсем иной дух. Мы направляемся в круглый зал. Отовсюду из скрытых глазу уступов, пазух в стене и альковов доносится обрывистый смех, звон бокалов, бульканье, а в углу сияет ниша алтаря, вокруг которого в позах тысяча одной ночи расположились двенадцать гурий: шесть темной масти и шесть светлой. Сама королева Holy Red, как блестящий черный мизгирь, стоит в изгибе бара, ждет не дождется, когда в ее сеть заползет какой-нибудь состоятельный клоп. Нищую братию и всякую там шантрапу она не принимает всерьез, угощает сельтерской водой и отсылает спать, если они не слишком уродливы. Алтарь украшают зеленые, красные, желтые и белые кринки, амфоры и глиняные сулеи, вместо иконостаса двенадцать потаскух с намалеванными губами и удлиненными ресницами, фамилий у них не спрашивают, им даны только имена — святая Мери, св. Милия, св. Мелания, св. Марта, св. Магдалина, св. Мирьяма и т. д.
Я перечисляю лишь черных, поскольку те считаются относительно страстными. Имена у всех начинаются на «м», видимо, в этом есть какой-то скрытый смысл. Сегодня у гурий неурожайный день: господа явились со своими секретаршами, госпожи со своими кузенами, девицы вынуждены томиться от безделья, у них еще и крошки во рту не было.
Наше появление вызывает неподдельную радость, тут же, как это водится у капиталисток, начинается коммерческое соревнование.
— Котик, где я тебя видела? Поставь мне стаканчик «порторико» и один кривой бананчик.
С другой стороны напирает Моллия:
— Ну ты, костлявая выдра, не трогай моего редактора! Альфредо, тебе же нравились дебелые и пышные. Помнишь, как однажды ты меня ущипнул?
Трампедах растерянно вертится, глупо улыбается.
— Holy Red, — шепчу королеве, — мой друг сказочно богат, бери его в свой альков и ублажай что есть мочи. — Она понимает меня с полуслова, я принадлежу к тем, кому она подает сельтерскую воду и улыбается даром.
Рыжая королева ласково приникает к Янису Вридрикису, берет его за руку и увлекает за портьеры, над которыми горит красный огонек с надписью Chambres séparées, — да благословит господь твое восхождение, доктор алхимии Трампедах!
А Мери разражается бранью:
— Сука! Чуть попадется что-нибудь получше, так она хвать его себе.
Затем, вздохнув, поворачивается ко мне:
— Где ты так долго пропадал, котик? Мы уже решили: ты женился. Вчера внизу у «апашей» была жуткая драка, жалко, ты не видел. Пришли из оперы Либиг, Адамайтис, вышвырнули на улицу рояль. Я подумала, что ты тоже приложил руку — как-никак музыкальный человек. Слушай, не завалялся ли у тебя в кармане латик? Страшно есть хочется…
Они ждут от меня чудес, точно как в тот раз в погребке у Ауэрбаха. Там от меня требовали, чтобы я наворожил вина. Ладно, да свершится чудо!
— Садитесь, святые! — говорю. — Туда, за круглый стол. Сколько вас? Ешьте и пейте сегодня за счет моего друга Альгиманта, он празднует день своего рождения. Официант! Двенадцать тарелок с карбонадом и капустой, пирожные с начинкой — штофкукены, кофе и шерри.
Святые в мгновение ока преображаются. Двенадцать отощавших измученных созданий рассаживаются вокруг стола и словно испуганные дети смотрят в глаза, пытают: вдруг это опять какой-нибудь тупой розыгрыш? Мало ли что с ними проделывают подвыпившие джентльмены из высшего общества? Когда официант приносит чаемое, они разом веселеют:
— Джинарелла, как зовут твоего богатого друга? Он часом не из деревни?
— Альгимант. Запомните все — его зовут Альгимант.
— Хо-хо-хо! Из деревни, из деревни! В селу родился, пню молился!
Девицы чудовищно банальны.
— Жаль парня! Таким здоровым показался, — говорит святая Миньона.
— Будь только прыток, в больничной кассе получишь за убыток. Хи-хи-хи, ха-ха-ха!
Вот так они веселятся да несут всякий вздор.
Настоящее чудо «Алхамбры», сотворенное из сливок, представляют собой пирожные с начинкой, по традиции называемые штофкукенами, коих изобрел прежний владелец ресторана Шуман (старик был родом откуда-то из-под Сасмаки и спервоначала отличился на поприще начинения колбас, потом уже в Риге прославился как кондитер, стяжал капиталец и купил «Алхамбру»), Никому не удавалось выведать у него секрет изготовления сего сладкого хлебенного. Лишь я, хронический завсегдатай его заведения, или, как в те времена выражались, «штаммгаст», будучи в неплохих отношениях с одной из судомоек (это была голубоглазая литовка), подкупил славную девушку и попросил подглядеть, что делает в своем пирожном курне приспешник, этот недоступный magister artium liberalium — мастер свободных искусств, дабы испечь свои восхитительные угощения, чей тонкий вкус приближается к международным стандартам, которых сподобились уже топленые сливки и воздушные сливочные печения, изготовляемые в пирожне барона Энгеларта.
Познакомиться ближе с рецептом вы сумеете в новом издании исправленной и переработанной «П.П.П.».
Излишне распространяться, с какой быстротой штофкукены исчезли в двенадцати голодных ртах, а когда все было запито кофием да залито рубинно-красным шерри, двенадцати блудницам приказали разбрестись, потому как вот-вот должно было пожаловать высшее общество — рижские сливки.
Рижские сливки — второе чудо, сотворенное из сладких верхов молока. Не каждый день в «Алхамбре» удается потешить взор подобным зрелищем. Сегодня, однако, в десять часов вечера здесь начнется бал, устраиваемый благотворительным обществом и корпусом женской помощи в пользу нуждающихся детей. Приглашены лишь самые богатые и влиятельные особы, как-то: торговцы, политики, промышленники, журналисты, даже министры; такие, кто может и желает раскошелиться, распахнуть свой чемез, чтобы пожертвовать на расходы администрации, а также и на представительство обоих обществ.
Гостей, торчавших в круглом зале, почтенный мажордом вежливо, но решительно попросил перебраться в отдельные кабинеты, бар или спуститься вниз в погребок «апашей», там сегодня, как обычно, будет весело и жарко. Адамайтис уже явился.
Амбрерод как сквозь землю провалился, поэтому я имею все основания задержаться в зале. Стрелки показывают девять. Неужто этому прорве Альгиманту целого часа будет недостаточно?
Приглашаю Мери немного потрепаться, — сейчас проветривают помещение: хотят изгнать из него паскудный дух винного перегара. Мы залезаем в нишу, прикрытую пыльной плюшевой занавеской.
— Посидим посмотрим… Здесь хорошо, не дует.
Это, конечно, верно, но загвоздка в другом. Мери — девица из бара, а с подобной особой порядочному человеку сидеть вместе на глазах у всего честного общества не положено. Распространись слух, что Кристофер откровенно растабаривал с сестричкой из «Алхамбры», меня больше не примут ни в одно приличное семейство. Другое дело — chambre séparée. Там гуляют напропалую и отцы этих семейств, и их сыновья, но упаси бог об этом заикнуться… О таком можно лишь шепотом… Велю Мери принести бутылку французского секта. С ума можно сойти: этакий Coq de bruyère стоит целых двадцать два лата. Английский «Муммс» и того дороже, но в данную минуту его в «Алхамбре» не достать. Запишем в счет Амбрерода. В конце концов таков договор, школа, старик, стоит денег.
Девушка пьет и ужасается: двадцать два лата цена ее шелкового платьица.
— Да ну? Тогда давайте пропьем у мамочки это платьице!
Я становлюсь фривольным.
— Не надо так! Не надо… — шепчет Мери. — Ой, послушайте!
Улавливаю не то всхлипывания, не то стенания. Звуки долетают из зала. Осторожно приоткрываю занавеску.
В углу сидит один-единственный гость, уткнув голову в ладони и навалившись грудью на батарею опорожненных бутылок. Он одет в жутко заляпанный фрак, галстук развязался, вокруг плеши кольцо взмокшей щетинки. Гость вопиет, а посреди зала стоит молодой человек в двубортном сако и, ухмыляясь, записывает что-то в блокнот. Демонстративно, театрально. Сего хлыща я знаю, это сотрудник журнала сплетен «Секреты» Саша Гринштейн. Другие собратья по ремеслу называют его револьвержурналистом, кличут бандитом прессы, но Саша Гринштейн на титулы не обижается, даже малость гордится ими. Гринштейна боятся как огня, как холеры. Его специальность — сбор объявлений.
Как это делается?
Заходят в контору, просят шефа. Будьте любезны, заходите… Благодарю, так вот: журнал «Секреты» желает поместить объявление вашей фирмы, стоимость публикации пятьсот латов, текущий счет такой-то и такой-то.
Шеф бледнеет.
— Почему так много? Плачу чистоганом, пожалуйста, получите: пятьдесят серебряных.
— Вставьте их себе… Очень жаль, уважаемый земляк! Наверно, передумаете, когда на страницах журнала «Секреты» прочтете новеллочку о ваших связях с «Ломбардбанком» и «Золотым латом», которые позавчера обанкротились, господа директора уже сидят в надежном месте. Небольшая такая новеллочка, а вдобавок фотокопия вот этого письма. Вы его адресовали директору Капусте, но странное совпадение: ваше сочинение почему-то было опущено в мой почтовый ящик, честное слово. Вы как полагаете — после такой новеллочки ваша фирма сумеет продолжить свое существование?
Шеф покрывается красными пятнами, хватает графин с водой, хрипло спрашивает:
— Сколько стоит письмо?
— Письмо — три сотенки, объявление — как мы уже условились — пять сотенок. Уступаю столь дешево лишь потому, что бесконечно вас уважаю, шеф! Можете на меня положиться, ради вас я готов в огонь и воду. Премного благодарен! Впредь в денежных делах будьте осмотрительней, упреждаю вас как латыш латыша! Мы ведь оба члены Национального клуба.
Мери выглядывает за край занавески и прыскает:
— Смотри-ка, Бурдай все еще тут. Теперь это конченный человек. Фу! Разбабился-то как, вячит, хнычет! — И она принимается рассказывать, кто такой Бурдай. O, tempora, o, mores!
Бурдай к бурде не имеет никакого отношения, это известный адвокат Штакелберг, которого обуяла мечта попасть в сейм. Пробовал он и так и сяк. Основал сам свою партию П. Ш. В. П. (Пострадавшие от Штормов на Видземском Побережье), но с большим треском провалился. Теперь примкнул к центру, измыслил еще один способ сесть в желанное кресло депутата и ревностно принялся за дело: нанял дюжину ражих детин (из интеллигентных безработных), чтоб разносили письма знакомым вдовам и старым девам. Работа в сдельщину, десять латов за столько-то адресов. Этими посланиями Штакелберг доводил до сведения мадам или мадемуазель Н., что он, адвокат Я. Шт., неженат и просит вышепоименованную особу отдать на выборах в сейм свой уваж. голос за него, потому что господин (Я. Шт.) давно пылает любовью к мадам или мадемуазель Н., созрел для брака и после избрания в сейм готов просить ее руки.
С уважением, остаюсь Вашим покорным слугой.
Про операцию пронюхали соперники — христианские националисты. Нимало не медля дали указание револьвержурналистам из «Секретов». Но, как ни старался Саша Гринштейн, ни одну из цидулек перехватить не удалось, все концы будто в воду канули.
И надо же было случиться, что сегодня утром, войдя в «Алхамбру», Саша увидел Штакелберга мертвецки пьяного храпящим в одном из кресел. Бандит прессы, естественно, рассудил, что сию забубенную тушу ему прислал сам бог: в тот же миг в голове у него родилась идея. Гринштейн уговорил Мери взобраться загулявшему адвокату на колени, прильнуть к нему в страстной ласке и в соответствующей позе при вспышках бенгальских огней обоих сфотографировал. Кто из барышень или барынь теперь поверит домогавшемуся ее руки жениху? Где вы найдете дулебину, которая, узрев напечатанный в «Секретах» снимок и прочитав статью «Предстоящее бракосочетание адвоката Я. Шт. с девицей из бара «М.», отдаст за этакого прохиндея свой «уваж. голос»?
Для револьвержурналиста настал великий день, он носился из «Алхамбры» к христианам и назад. Закипел аукцион. С утра Бурдай давал две сотни, а христиане — две с половиной. В обед Бурдай довел сумму до трехсот, христиане перекрыли — триста тридцать три лата! Тут вконец измученный адвокат зарыдал, пролепетал со всхлипом — четыре! — и рухнул на заваленный бутылками стол. Больше, мол, спрашивать с него нечего!
Кажись, Саша угомонился, больше никуда не побежит. Христиане скупы как черти: триста тридцать три были пределом их щедрости.
«Да ну его, пускай пролезет в сейм. Мне, что ли, жалко? — думает Гринштейн. — Мы все свои люди, латыш латышу не должен вставлять палки в колеса».
— И ты участвовала в этой грязной сделке? — спрашиваю Мери.
— Иди ты, в грязной! Нашел чистенького — Бурдая! Все вы грязные как свиньи.
— Я тоже?
— Еще не дорос. Когда подрастешь, будешь такой же куява. Прозит, поросенок!
Замолкаю, смотрю на Мери и дивлюсь, откуда у этой пигалицы такой самоуверенный язык. Барыни обзывают ее потаскухой. Мать у нее наверняка прачка, отец — пьяница. У самой под глазами — синие круги, в этом вертепе она не протянет и до тридцати. И тоже ведь догадывается, что где-то есть синее небо, чистые облака, а над головой птицы с белыми крыльями.
Эти мысли дань моей сентиментальности и эгоизму, отвод для души. Дальше них мне не добраться. Исправить ничего нельзя, да и ленив я, люблю удобства: мыть руки через каждые полчаса… Забыться бы да упиться музыкой. Что подать господину сегодня? «Ноктюрн» Шопена или «Ночную серенаду» Моцарта?
Загремел джаз. Значит, Фомин со своей бандой уже тут, в эту секунду в нашу нишу просовывается бледный юноша во фраке с напомаженными волосами:
— Вы слишком откровенно тут сидите, из зала видно. Мери, дотяни тряпку до конца, в гардеробе уже полно дам, — говорит он, окинув меня подозрительным взглядом.
— Не таращись, — несколько натянуто смеется Мери. — Это хороший парень и музыкант, у меня с ним ничего нет.
— Музыкант? — незнакомец протягивает мне длинные желтые пальцы. — Я из балета. Мое имя Валтер.
— Мое Кристофер, я из ада.
Валтер долго хохочет, думает — шутка.
— Значит, вы сам Сатана! А я — Жиголо.
Я над его шуткой не смеюсь.
Жиголо! Так вот как выглядит Жиголо, уникум двадцатого века, уродливое дитя святой Терпсихоры, которого нанял владелец «Алхамбры».
Задача Жиголо — танцевать с одинокими дамами, оказывать им небольшие услуги, прилично себя вести, провожать домой и, буде потребуется, остаться у них на ночь. Жалованья он не получает, а за шанс заработать платит установленный договором процент своему шефу, он, понятно, жилит. Но попробуй уличи его. Никто ведь не может в точности дознаться, каковы возможности и щедрость дамы…
— Ужасно! — сетует Валтер. — Шеф хотел прогнать меня в шею, зол, как аспид; вчера я не явился. А меня, видите ли, Ласманиха требовала. У нас в балетной студии спектакль, у меня главная роль — властитель Сабы. Хоть плачь, хоть смейся. Там я король, но мне не платят ни су, здесь я подстилка для ног, а зарабатываю под стать королю. Самое великое искусство, однако, прожить так, чтобы кости остались целы, — как ты считаешь, музыкант? — И неожиданно присовокупляет: — Только в мой департамент не суйся, не то получишь по зубам…
Дездемона бледнеет и ждет, что теперь будет.
Бросаю взгляд на смуглые пальцы Отелло, на его хилые бицепсы, дрябло висящие под рукавами элегантного фрака. Разрешите улыбнуться! Жажда жить в самом наивном своем обличье. Но она так характерна для этого пекла, в котором я прописался.
И тут мавр начинает бахвалиться. Наверное, чтобы причинить боль Мери, поддеть ее, потому как по натуре он садист.
— Ума не приложу, почему всем госпожам подавай именно меня. Работает ведь еще и Яша Тейтельбаум. Но стоит мне один вечер не прийти, как чуть ли не конец света настает… Ласманиха гоняет ко мне Минну с цветами, шоколадом, мармеладом, господи, если б старик узнал… Интересуется, не заболел ли я, хватает ли у меня деньжат? Как же хватает, говорю, один фрак сколько стоит, лакированные штиблеты тоже протираются от танцев с вами…
Эх, чего уж! Всякие бывают. Я разделил их на четыре категории. Любую мадам, которая меня позовет, я прежде всего хорошенько изучаю. Первую категорию составляют дамы, для которых танец — спорт. Они приходят по субботам довольно рано, часов в девять-десять, загоняют тебя точно скотину и не платят. От таких нужно скорей избавляться.
Вторая категория — госпожи, у которых семейная жизнь не ахти… Приходят с мужем, скучают. Тут требуется распалить ревность! Четко и ясно объясняю условия, столько-то латов — и через пятнадцать минут ваш муж взбеленится, но денежки вперед. Эти платят средне и быстро смываются. Не успел взыскать — пиши пропало.
Третья категория: дамы пожилые. Сначала желательно осведомиться, как они предпочитают танцевать, сдержанно, по-деловому или этак, ну, скажем, — поигривей? Обращаться с ними надобно с уважением, предельно учтиво. Вскоре они попытаются заговорить о новой встрече. Предложат денег. От платы следует категорически отказаться и с возмущением вскричать: мадам, я не могу взять у вас денег — во мне пробудились чувства, а чувства нельзя обменивать на мелочь! Оставим этот разговор!
После второй или третьей встречи они просто запихивают пачечку в мой грудной карман, но то уже не медь, не серебро, а свидетельство любви. Эта категория встречается сравнительно редко, зато она постоянна и этически полноценна.
Четвертый разряд поначалу очень трудно поддается расшифровке. К нему относятся дамы, которые рассказывают о себе трогательные небылицы, вымышленные биографии. Как правило, это якобы разорившиеся графини или великие артистки, жены послов, миллионерши инкогнито и т. д. Они врут и сами верят в свои россказни. Это больные, нагие и нищие, словом — шизофренички. Кончается тем, что я им одалживаю четыре сантима на трамвай. Боже милосердный, так ведь недолго по миру пойти.
— Жиголо! — зовет чей-то голос.
— Жиголо! Госпожа Камкина, третий столик налево, марш! — В нишу просовывается голова с седыми баками. Это мажордом. — Мери, прошу покинуть помещение. Вам, господин, может, подойдет chambre séparée?
— Я останусь здесь, у меня приглашение, — вру я самым наглым образом. — Когда появится молодой человек, с которым мы вместе пришли, приведите его сюда.
— Как прикажете, господин, — говорит мажордом и удаляется.
Мери тем временем бесшумно исчезла, это хорошо. Я — один, теперь могу отдернуть занавеску. В высшем обществе я плаваю точно рыба в воде, потому что известен в сих кругах как «остроумный комильтон Кристофер» (он изумительно играет на рояле, по секрету, даже сочиняет музыку!), умею слушать, когда дамы болтают, умею болтать, когда они слушают, короче, приспосабливаюсь к среде. Что тут говорить: захотел гонобобеля, лезь в болото, а коли попал к волкам, изволь выть.
Зал полон изысканной публики. Словно пионы, словно георгины, восседают почетные гостьи в вечерних туалетах, слышится сдержанный гомон, кабацкий дух вытеснен едва уловимым parfum des dames grandes. За круглым столом напротив ниши замечаю сударынь из благотворительного общества и корпуса женской помощи: мадам Мей, мадам Фришенбрудер, супружницу Шмерлиня, мадемуазель Около-Кулака, долговязую выдру госпожу Бирзениек. Ох! Низко сгибаю выю в зафиксированном направлении: сиречь вонзаю подбородок в грудь и держу несколько мгновений — это верх изысканности… Веера одобрительно вздрагивают… Я прощен, несмотря на то что единственный пришел не во фраке. Ведал бы заранее, сбегал бы к Клявиню или Шнейдеру, взял напрокат. Думаю, Янис Вридрикис не отказал бы в пяти латах — фрак ведь спецроба музыкантов и прожигателей жизни. Вообще мне тут кое-что разрешается больше, чем другим: из-за моей безалаберности меня принимают за чудака. Госпожи снисходительно посмеиваются: ах, это же Кристофер, ему идет, он может себе позволить…
Хорошо хоть, дамы не догадываются, что вся моя так называемая безалаберщина от бедности. Этого недостатка они бы мне не простили. Перебиваюсь с хлеба на квас. Зимой, когда учительствую, еще ничего, а сейчас хватаю в долг, где только могу: у одного, чтобы отдать другому, у третьего, чтобы отдать второму. Мир полон долгов, скляным-склянешенек, крестные отцы не подписывают ни одного векселя, крестные матери ругают беспутным малым — разве это жизнь? Иной раз дохожу до того, что, купив на рынке за двадцать сантимов копченую треску, чешу со всех ног в студенческую столовую в Верманский парк. Там на столах — хлеб бесплатно, наворачивай, пока не лопнешь! Случается, что перед уроком музыки меня приглашают закусить. Вижу — в соседней комнате стол, на нем — яичница с кильками. О, спасибо, но вы, пожалуйста, идите в салон и начинайте играть, зачем терять время даром! И, оставшись один, уж я как навалюсь да натрескаюсь. Потому-то, наверно, меня влечет к поваренным книгам и утонченным блюдам, я никогда не бываю сыт, а под конец месяца — дайте мне полную до краев мису или скудель с кашей — мигом опустошу!
Теперь против прежнего — лафа: бог послал мне Трампедаха, только где он, черт, так долго пропадает?
— Кристофер! Барберина! Иди сюда, не чепорься, не чинись!
Меня заметили Фрош, Брандер и Цалитис. Они сидят посредине зала, перед ними сосуд со льдом и плоская сулея. Орут себе, надрываются:
— Барберина! Барберина!
Это уже становится неприличным. Не остается ничего иного, как протискиваться между столиками, иначе охальников не заткнуть.
Кличку «Барберина» я подцепил прошлой весной. Меня наняли музыкантом в только что открывшееся кафе «Барберина», обещали неплохо платить. Ежедневно от пяти до семи я должен был импровизировать в духе Гершвина и Витмена на великолепном рояле «Стейнвей». Таково было поветрие: играть приглушенно, чтобы не мешать посетителям вести беседу, и рояль звучал как бы между прочим… Мне это занятие скоро наскучило, кроме того, владелец (ему, кстати, принадлежал и нотный магазин на соседней улице) с большим треском обанкротился… Так ушло в небытие славно задуманное предприятие, лишь прозвище — Барберина — осталось присно со мной.
— Сервус! — кричит Фрош.
— Присаживайся, Барберина! — впихивает меня в кресло Цалитис. — Брандер угостит тебя клоповой настойкой-коньяком.
«Неразлучное трио» — так называют они сами себя. Все трое отпрыски богатеев, силятся промотать деньги предков, да не могут. «Трио» принадлежит к той категории студентов, которые университетов не кончают, скорее университеты приканчивают их. У ребят нет своей жизненной цели, нет желаний. Бездарями их не назовешь, особенно Фроша, который восьмой год изучает филологию. Он довольно начитан, кое-что выучил, но знания впрок не пошли, в голове какая-то смесь и сутолока понятий. Это мрачный насмешник, натуральная язва. Критикует существующий порядок, издевается над высшим обществом, пишет рассказы и памфлеты, которые велит отпечатывать и издавать на свои деньги, он может себе это позволить. Чувствую, что Фрош не прочь завоевать мое расположение, одно время я жил у него в Межапарке (когда негде было приткнуться), с тех пор мы называем себя флаушами, то есть братьями по комнате. Мне по душе язвительный стиль Фроша, хотя наш «пятый» — Янка Сомерсет (он в последнее время стал что-то очень сдержан, должно быть, занимается) — говорит, что для Фроша это всего лишь дешевая поза. Цалитис, тот насквозь деревенщина, из породы серых баронов, в политике они с Фрошем не ладят. Цалитис стоит за землевладельцев, а Фрош на великом празднике, когда сам лидер помянутых землевладельцев на Эспланаде принимал парад айзсаргов, — выпустил из мешка черного хряка, каковая тварь с визгом кинулась вдоль поставленных в шеренгу стражей отчизны и перепугала вождя до такой степени, что тот приказал извести на корню всех черных свиней от Лиепаи до Алуксне включительно. Брандер простодушен, его девиз: «Любимое мое местечко — на бочке с пивом в погребке». Эту песню он поет, начиная низким басом профундо и кончая лирическим тенором, настолько широк диапазон его глотки, луженной жидкостями, кои получают в пивоварнях Кимеля, Танхейзера, а также в Кокмуйже и в Наукшенах.
Поднявшись из-за стола, держит речь седой очкастый старикан с розовой ряшкой. Это легендарная анекдотическая фигура, крупный промышленник, финансист и бывший министр Рейнхольд Озолинь, переменивший свое неоспоримо латышское поименованье на немецкий лад — Озолинг. Он знаменит своей скаредностью и тем, что зверски коверкает родной язык, не владея при этом никаким другим: человэк, котори знаит сэбэ цэн!
— Roma est imperare orbi universo! — начинает он с древнего Рима, чтобы доказать, как могущественна Рига и ея патриции. Для нуждающихся детей Рейнхольд Озолинг собственноручно жертвует один лат (вынимает из кармана кошелек, отсчитывает мелочью и протягивает председательнице благотворительного общества госпоже Мейер. Аплодисменты и веселое оживление!). Следуйте древнеримскому образчику.
— Вы слышали, как Рейнхольд недавно вино покупал? Прямо анекдот, — спрашивает Фрош.
— Ничего мы не слышали. Выкладывай!
— Приходит он к Шару и Кавицелю, требует две корзины лучшего вина. Управляющий дивится: вы же сами, экселенце, в своем имении выделываете и отправляете в магазины лучшие сорта рябиновых вин.
«Такой гофно я не пить, — отвечает старик. — Дай что-нипуть здорофи, заграничны!»
«В таком случае могу предложить великолепное крымское вино. Только что получили», — предлагает господин Кавицель.
«Я не пить совьетски фин! Я принципиаль отказываюс от вещ, котори присылайт комьюнист».
«Но вы же, экселенце, торгуете русским льном», — вырывается у Кавицеля.
«Ну, лен другой гешефт, я у тебя спрашивайт не лен, я у тебя спрашивайт фин, прохвост!»
— Хо-хо-хо! Налей, прохвост!
Дамы из благотворительного общества почли за полезное возродить старинные обычаи и обряды, поэтому бал сего вечера решено открыть котильоном и в одеяниях, сшитых по моде 1860 года. Дамы претендуют на честь именоваться латышской аристократией — да поможет им бог. Фрош ухмыляется: повадки и поступь сударынь, мол, явственно показывают, что бабушки аристократок ходили в постолочках. Но не в этом соль.
Супруга генерала Шмерлиня своим элегантным туалетом — серым Crêpe Georgette, вышитым золотом и с двумя воланами, разом затыкает рот всем завистницам. Соперницы имеют бледный вид. Но только где же сам генерал? Почему генеральша одна?
Мгновенно сближаются головы, шевелятся губы, шепотом передаются догадки… Последнее время это заметили все… генерал сильно постарел, стал рассеян, под глазами мешки…
— У него винтики разболтались, костей не держат, — хочет сострить Брандер, увы — кишка тонка.
— Уважаемый господин, вас ждут! — обращается ко мне мажордом, выразительно прищурив глаз.
Наконец-то! Нашелся Альгимант Амбрерод, мы сможем поужинать.
Следую за мажордомом из коридора в коридор, из пассажа в пассаж, пока не оказываюсь у дверей, которые охраняет тип с носом боксера. Страж хочет преградить мне дорогу, но провожатый роняет «это свой», отодвигает типа в сторону и распахивает дверь, которая ведет не то в переднюю, не то в вестибюль. Тут же появляется Holy Red, недовольная, насупистая, ну прямо — кислядь.
— Этот твой вахлак из деревни — настоящий выродок, — мечет молнии королева. — Как вошел, сразу стал расспрашивать о ценах, расходах, все основательно записал в блокнот… У меня аж ноги похолодели, ну, думаю, точно — из полиции нравов, синего креста или куратории по борьбе с пьянством. Чтобы подальше от греха, я его хвать за руку и прямым путем сюда — здесь уже с самого утра четыре межеумка, раздевшись до жилетов, забивают козла, посадила его рядом, пускай режется… Еще генерал Шмерлинь подъехал — как с лошади сошел, так сразу к столу. С ним телохранитель из тайной полиции, старик называет его шофером. Сейчас у них пошла крупная игра. Вначале твоему везло, он и распалился, начал удваивать ставки, потом утраивать, а тут счастье возьми да переметнись к Шмерлиню, только что восьмой банк сорвал. Поэтому я послала за тобой. Уведи своего Альгиманта, обчистят его как миленького, не останется денег на веревку, чтобы повеситься… Заходи и скажи, что Амбрерода зовет жена: тут никого не боятся, кроме как своих жен! Но другой раз такого растопырю ко мне не приводи, не то дружбе конец.
Holy Red оставляет меня одного и уходит, ворча — зря потрачен вечер. Ай да Янис Вридрикис Альгимант! Ну и тюфяк же ты, привел я человека в самый что ни на есть ад, а приходится вызволять его из адского предбанника. Стоило ли продавать душу, коль скоро в тебе нет ни малейшего дарования грешить, к пеклу у тебя больше иммунитета, нежели к гриппу.
Громко стучу и открываю дверь. Как принято писать в подобных случаях: дым стоит коромыслом, пол в окурках. Посредине накрытый зеленым рядном кривой стол. Вокруг него мужчины — пиджаки скинуты, рукава закатаны. Мой Альгимант туда же — сидит в одной тельнице и цыплячьего цвета портках. Руки дрожат, в глазах неестественный блеск.
— Здесь ли находится доктор алхимии, профессор Альгимант Амбрерод? Его срочно вызывает жена.
Ко мне с раздражением поворачиваются потные мурла. Альгимант осоловело спрашивает:
— Какая жена? Моя?
Вдруг кулаком по столу ударяет толстый мужчин с красным лицом, под глазами мешки, седые волосы торчат, как у ежа:
— Кто вас впустил сюда? Профессор не может идти! Тут не принято уходить как кому заблагорассудится.
Это и есть знаменитый генерал Шмерлинь.
— Срочно вызывает жена, наверное, что-то серьезное, — настаиваю я.
— Закройте дверь с другой стороны, молодой человек! Не то придет мой шофер и выкинет вас вон.
— В таком случае, господин генерал, я обращусь к вашей жене. Рядом как раз благотворительное общество дает бал. Мы только что танцевали, — вру я и делаю вид, будто отправляюсь за женой генерала.
— Стой, молодчик! — Старый грымза служил в царской армии, потом у Колчака. Хрен с ним, с твоим доктором, с профессором этим, пускай катится ко всем чертям… Кто сдает? Ставлю три лата, на все деньги!
Быстро хватаем шляпы и выходим на улицу. Янису Вридрикису медленно возвращается сознание. К сожалению, пробуждение для него мучительно и тошно.
— Итого, я потерял три сотни… Прекрасно! И вы, Кристофер Марлов, называете это развлечением… Это грабеж, притом абсолютно злонамеренный. Ваша расхваленная Holy Red! Прилично поужинать и то не дала, теперь назло есть не буду и вам не дам… Мой боже, мой боже, почто ты оставил меня: чего только не мог я сделать на эти три сотни! Сколько порций черной икры заказать… Какие там порции, да я весь мог вымазаться этой икрой с ног до головы… Зачем мне моя вновь обретенная молодость, моя мужская сила? Кому они нужны?! А что сделали вы, Кристофер Марлов, чтобы удержать меня от безрассудства? Где вы были, когда меня обыгрывали? Зачем сунули неопытного отрока в лапы этой бестии Holy Red? Неужели вы как старший товарищ по части разгула не могли дать мне совет? Вспомните, когда мы только вошли, как ласково встретила меня одна прелестная дева, вы еще сказали, будто это какая-то святая. Она обняла меня, назвала котиком и поцеловала… Запахло укропом. Вот кто создан для меня… Я понял это с первого взгляда. Девушка просила, чтобы ей купили бананчиков… Бананчиков!.. Ох я дурачина… Ну сколько могли стоить такие бананчики, от силы — десять, пятнадцать… Но не триста же латов? Я буду жаловаться… Что это за генерал такой? Да я сей игорный ад раздраконю в «Сатириконе»! Да я его в пух и прах… Под заглавием «Как генерал деньги зарабатывал»… Нет, хлеще! «Генерал злачных мест». Ха-ха! Это будет мое лучшее произведение — вы еще не читали его?
Отчаяние, гнев, запах белой сирени в воздухе, лунный крюк на зеленом небе, полночные тени лишили аптекаря рассудка, поэтому я не ответил на его легкомысленный вопрос. Мы шли мимо цветущих каштанов в сторону Бастионной горки.
— Я даже поесть не успел, — продолжал хныкать Янис Вридрикис.
Вдруг он остановился под газовым фонарем, излучавшим желтый мерцающий свет, прижал голову к рифленому чугунному столбу и зарыдал. Да, он рыдал! Пораженный, я услышал сдавленный шепот молитвы, едва ли не заклинания:
О ночь! Святая, великая, звездная ночь!
Пошли мне любовь! Ясную прозрачную, как розовый кристалл,
с маковыми лепестками, нежными в твоей лилейной
белой рученьке… Пошли мне Маргариту!
Я онемел. Поразительная негаданная модуляция. От Eier, Butter и Speck к сентименто сентиментиссимо! Но я видел слезы. Янис Вридрикис не играл, он просто являл собой феномен психической двуединости. Следовательно, надо быть готовым к подобным душевным извержениям и впредь.
Что же я наплел ему про Маргариту? Не знаю никакой Маргариты. Лишь один раз, когда пытался его соблазнить, я сболтнул, что познакомлю, дескать, со стройной дамой, блондинкой с золотым отливом, наполовину полячкой, с безупречными ногами (как у всякой славянки) и с умопомрачительной поступью. Вот те раз! А он взял да клюнул на голый крючок. Иезус Мария!
Надо как-то попытаться в притчах ему объяснить, что на сей раз Янис Вридрикис дюже оплошал. Присаживаемся на скамеечку среди зелени в разбитом по берегам канала парке. Напротив нас клумба с недавно посаженными маткиными душками и розанелами. Пока магистр вытирает слезы, я начинаю…
Стоит такая же ночь, как сегодня, хотя и не столь благоуханная, скорей, я бы сказал, зловонная…
Мы бродим по Истенду. Улочки тут сплошь кривоколенные, но в конце концов они выведут нас к Темзе, где расположился наш театр — пожалуй, даже не театр, с всего лишь шатер с труппой бродячих комедиантов. Тем не менее у нас выступают звезды. Ты помнить Бена Джонсона (да не докторишку из Цесиса!)? А Вильяма? Он тоже не последнего десятка, о себе я самого лучшего мнения, но мое сердце принадлежит Мери, ее называют еще Черной Мери. Это я тебе, аббат, говорю на ухо, я этим особо не хвастаюсь. Все из-за того же Вильяма… О, какая это чудная актриса! Называй как хочешь — Мери или Маргарита, это не меняет сути: я люблю ее, а ее не существует… Нет! Она выдумана, это образ, рожденный фантазией… Какой-то сочинитель пьес вымыслим ее и назначил ей роль возлюбленной Вильяма. Оба мы попались на голые крючки, подброшенные незнакомыми писателями. Иезус Мария! Чтобы жить, необходимы идеалы, вот в чем суть. У тебя, аббат, есть свой, хотя и маловыразительный и бедный, поскольку воображение твое не поднимается выше «П.П.П.» издания 1880 года. Однако идеал есть идеал, какой бы он ни был, во имя его мы готовы стать посмешищем, от его имени творим чудеса, идем на преступления, идеалы служат прекрасным подспорьем для укрепления и обоснования личной власти, идеалам следуют папы и карманные воры. Простите, аббат, то было беззастенчивое сравнение. Я надеюсь, ты меня не выдашь пуританской инквизиции, не пошлешь письмо в Килмарнок моей крестной мисс Кемпбел, чтобы она лишила меня единственного пособия, которое мне необходимо для продолжения образования в увеселительных заведениях Ислингтона. Помолись за меня, преподобный аббат, непорочная твоя душа!
Не успел я закончить свой монолог или художественное отступление, как аббат, простите, Янис Вридрикис вскочил и ткнул пальцем в темноту:
— Вон! Она!
Я последовал глазами в указанном направлении.
В свете тусклого фонаря видна была женщина, она стояла на пешеходном мостике над каналом и, слегка склонившись над перилами, смотрела в воду. В руке зажат платочек, время от времени она его прижимает к лицу. По плечам разлилась волна светлых, беспорядочно рассыпанных волос. На голове черная шапочка с чем-то вроде вуали на лбу. В силуэте ясно очерчены ноги с округленными икрами, девственный стан.
— Она!
Янис Вридрикис делает несколько шагов в ее сторону, незнакомка оглядывается, на какое-то мгновение сникает, затем срывается с места и пробегает мимо нас. Она в черном одеянии, почти что в трауре. Лицо бледное, глаза широко распахнуты…
— Она! — кричит магистр. — Я тотчас узнал: полячка, ноги… Маргарита!
Услышав его крик, женщина приостанавливается, затем прибавляет шаг и исчезает на улице Кальтю. Янис Вридрикис что есть духу тянет меня за ней.
— Нам нельзя ее потерять! Пошевеливайтесь!
Вскоре мы догоняем ее. Она свернула на улицу Лайпу и теперь направляется к кафе Торчиани. В этом месте в полночь обычно собираются ночные птахи.
— Глупый аббат! Увязался за шлюхой, им тут несть числа, а ты поднимаешь шум.
— Нет, это не шлюха, это Маргарита!
Втолкуй ему! Наверняка опять ввяжется в какую-нибудь историю. Женщина резко поворачивает к Ратуше и, минуя Дом Черноголовых, статую Роланда, зеркальные двери магазина Якша, сияющие убранством фарфора и серебра, бежит прямо к набережной Даугавы. Янис Вридрикис за ней, вот-вот наступит на пятки. Не выдержав сальностей, коими встречные бродяги комментируют мою рысь, перебегаю улицу, стараюсь не отставать от Яниса Вридрикиса, Ну не идиотство ли? Сколько мы будем так чесать?
Но тут происходят нечто до такой степени потрясающее, что у меня еще и сейчас, когда вспоминаю, пробегают мурашки по спине. Откровенно говоря, я даже не могу восстановить в памяти и пересказать словами в точности, как все было, потому что действие совершилось молниеносно, словно в ускоренном кинокадре… Мы выскочили к Даугаве. Женщина легко взобралась на перила моста над правым понтоном, бросила на тротуар сумочку и, не издав ни звука, кинулась в воду. Высота была ничтожна, раздался легкий плеск, посредине взбурлившей волны взметнулись светлые пряди. Она барахталась в воде примерно шагах в пяти от берега. В это мгновение подоспел Янис Вридрикис. Он стянул свое двубортное сако, положил его аккуратно на мостовую и, как был в тельнице и в портках, осторожно спустился в реку. В несколько секунд магистр оказался возле несчастной, схватил ее за шиворот, завязалась борьба:
— Пустите! Пустите! Я не хочу жить, пустите!
Женщина сопротивлялась, отбивалась, раза два вырвалась и исчезла под водой, однако Янис Вридрикис вскоре ее обнаружил и вцепился в волосы так, что бедняжка жалобно вскрикнула.
Я тем временем лихорадочно развязывал трос, которым был прикреплен к мосту спасательный круг, бросил его через перила, оставив в руке просмоленный конец. Держитесь за круг!
— Почему вы не даете мне умереть? Пустите!
Я восхищался Янисом Вридрикисом. В эту минуту он и впрямь был достоин своего благоухающего имени — Амбрерод. Истинный бальзам для души, глаз и обоняния. Разве стал бы я сигать в воду и спасать чужую женщину? Как сказать… Стал бы я прыгать вслед за своим идеалом — Черной Мери? Да тоже как сказать… И вот я стоял на мосту и держал просмоленный конец, а Янис Вридрикис в воде цеплялся за круг, обхватив другой рукой теперь уже притихшую и вымокшую незнакомку. Вскоре оба стояли на понтоне. Мы долго мучились, пока вытащили незадачливую самоубийцу на берег и прислонили спиной к свае, она сидела на мостовой и тряслась, но не произносила больше ни слова…
И тут, надо же, Янис Вридрикис опустился перед ней на колени и нежно произнес:
— Маргарита, я люблю тебя!
Женщина всхлипнула — видимо, у нее все смешалось в голове — и потеряла сознание… В это время со стороны заречья на месту показался гнутый верх извозчичьей повозки. Это был тот самый старичок, чья колченогая кляча приволокла нас в «Алхамбру». Сидя на козлах, он выспался, протрезвился и теперь медленно приближается, напевая глухим голосом единственную песню, которую знал и которую привез когда-то со своей родины — Смоленска:
Эх ты, ноченька,
Ночь бедовая…
Хоть бы поторопился, с Яниса Вридрикиса вода льется ручьем — что мне с ними обоими делать?
— Фурман!
Извозчик знать ничего не хочет. Те двое, говорит, слишком мокрые и подозрительные. Напоминаю ему, что мы те самые богатые и щедрые господа, которые несколько часов назад заплатили чистыми ассигнациями, и старик сдается. Помогает поднять в кибитку окоченевшую даму, накрывает попоной.
— Куда везти?
Да, куда везти? В шикарных апартаментах «Ромы» Янису Вридрикису в таком непотребном виде нельзя показываться. Мою комнатку в Гризинькалне за это время наверняка сдали другому (как-никак два месяца не платил и глаз не показывал), остается махнуть к незнакомке. Но она лежит без сознания. Мы даже не знаем, как ее зовут. Что нам делать? Не ехать же в полицию…
Извозчик — душа-человек.
— Только не туда, — говорит, — не в полицию, это звери… Поезжайте ко мне. Моя старуха поворчит, поворчит для порядка и перестанет. Велю чай вскипятить с малиной, накроем матушку потеплее, чтоб прогрелась, а завтра видно будет, что и как. А ты, сударь, высушишь свое цыплячье ряженье и поедешь домой к мамаше за поркой!
Аптекарь втягивает голову в плечи и молчит. Сердце его ликует.
Маргарита! Маргарита!
Благодарю тебя, ночь, святая, великая, звездная ночь,
что ты принесла мне любовь
прозрачную, как розовый кристалл, с маковыми лепестками.
нежными в твоей лилейной белой рученьке.
Благодарю тебя, о ночь!
X. ТАИНСТВЕННЫЙ DOCTOR ORDINARIUS
Занавески слегка зыбятся, светясь розовыми брызгами, таковы мои утра, зато дни — серые кадры, наполовину — небытие… понедельники, вторники, среды… понедельники, вторники, среды… Самыми печальными бывают воскресенья, но за ними снова бегут понедельники, вторники, среды… Двадцать седьмое число, месяц листопад, 1940 год…
Миновал октябрь, а doctor ord. будто бы нашел у меня бациллы. Бациллы! Разумеется, работать с открытым туберкулезом в наше время никому не разрешается. Умереть — да, это пожалуйста. Я получил письмо от Янки Сомерсета, он меня успокаивает. Велит готовиться, дескать, я не забыт: место второго дирижера по-прежнему свободно. Как только выздоровею, так…
Читаю газеты, журналы. Мне открывается новый неведомый мир. Писатели, композиторы, чьих имен я никогда раньше не слышал: Шолохов, Эренбург, Шостакович, Хачатурян. По радио передают стихи Маяковского.
Прошу Леонору разыскать в санаторной библиотеке что-нибудь в этом роде. Но doctor ord., говорит она, хмыкнул и сказал, что для агитации, мол, средства пока не отпущены. И велел мне передать «Сказку про дурачка и ежа». Я слишком миролюбив и удручен одиночеством, чтобы усмотреть в поступке доктора насмешку и глумленье — он ведь всегда так доброжелателен ко мне, так мил…
Зибель только что восстановил «Травиату», пишут в «Яунакас Зиняс»[14], поэтому «Тихий Дон» отложен до весны. Белый святой храм искусства воспрянул к новой жизни и обновился бессмертной «Травиатой», так сказать, «Дамой с камелиями». Шапку долой! Это они в своей башне из слоновой кости поистине здраво придумали.
Я получил от врача разрешение писать, сестричка снабжает меня нотной бумагой и письменными принадлежностями. Doctor ord. лично купил мне особый блокнот для заметок, расщедрился — не узнать.
Мой товарищ по палате — старый учитель — относительно сносный человек: много гуляет, много спит, много читает, между нами нет никаких трений, старикан даже не интересуется, что и как я пишу. Лишь в первый день, когда мы познакомились, пробурчал: а, значит, музыку сочиняете? Как вас угораздило? В мире и так шуму много, а вы еще добавляете — не понимаю. То ли под влиянием его здравомыслия, то ли по скудности музыкальных идей — я стал уделять главное внимание поваренной книге. Меня точно кто-то подстегивает: пиши да пиши! Наверное, потому, что все это время я тайно фантазировал и уже добрался в своих мыслях до того места, где мы с Янисом Вридрикисом спасаем у Понтонного моста незнакомку. Кусок написан только наполовину, притом набросан впопыхах, кое-как, без стилистической элегантности, перенасыщен событиями, испещрен грубыми и нецензурными словечками. Когда допишу до конца, начнется главное: художественная отделка «П.П.П.», на это уйдут месяцы, а может, и годы.
Наконец мне разрешили прогулки! Санаторий стоял на замшелом береговом крутце Гауи. За рекой раскинулись синие боры, боры, боры… Где-то в далекой дали можно было разглядеть серые силуэты дюн Лиласте. Я имел право ходить час, полтора. Предписывалось бродить по ельнику, усыпанным шишками пешеходным дорожкам, низом не шастать и по отвесным скалам не лазить — мои грудные черева, дескать, еще слабы. Как назло, отвесный берег манил меня куда больше дорожек. В рыжем песчанике река выгрызла пещеру Велнала, внизу росли исполинские дубы, под дубами на опавших листьях с треском лопались «дубовые» орешки, выстреливали из-под ног пулеметной очередью. Словом, я с усердием проделывал все, что не разрешалось, чем вызволял себя из плена неполноценности и одиночества.
Стена песчаника была облупившаяся и мокрая. Пыхтя и цепляясь за густые побеги плауна, я вскарабкался на вершину. Макушка слоистого обрыва обросла белым ягелем, летом, наверное, он сплошь усеян горьковатыми лисичками. Боже мой, я начисто забыл привести в своей поваренной книге рецепт приготовления лисичек в сметанном соусе. Деревенский народ часто портит их отвариванием. А сваренные лисички теряют свой аромат: осенний запах сосновой коры, комьев лесного перегноя.
Я должен попасть к реке, сколько раз я уже бывал возле нее, несмотря на все запреты doct. ord. С берега можно увидеть, как посредине Гауи в коричневой заверти кружится вода. Там глубоко, попадись я в ту воронку, мне не выбраться, разом кончились бы все мои страдания и мучения — о-ля-ля!
По наваленным половодьем ольховым сучьям перебираюсь через ручей, иду по раскисшей елани, где трава присыпана легким инеем. Стоит глухая осень. Конец ноября, но снегом еще не пахнет.
Вдруг проваливаюсь не то в калугу, не то в мочажину… Вылезаю по колено заляпанный илом и грязью. Вот незадача! С мокрыми ногами возвращаюсь обратно, норовя потихоньку пробраться в свою комнату. Хочу незаметно переодеться, согреться, высушить штаны, но белое создание, как всегда, на высоте своего долга: перехватывает меня у входа. Леонора, святая Иоанна скотобоен, знаменосица армии спасения, доселе не раз закрывавшая глаза на мои прегрешения, вдруг поднимает скандал: стыдит, попрекает, все больше и больше распаляясь сердцем: своим поведением, мол, я нарочно рою себе могилу… Если жить так легкомысленно, не исключено, что у меня могут появиться бациллы.
Бациллы? Разве до сих пор у меня их не было?
Нет, до сих пор не было… сестричка спохватывается, что проговорилась… Наконец признается: бацилл нет уже второй месяц, но доктор велел это скрыть, чтобы я вел себя поосторожней. Doctor ord. желает мне только добра. Чтобы я блюл себя и берег, а не безобразничал как сегодня — вымазался в болотной жиже по уши. Что, если снова вспыхнет процесс?
Значит, меня тут зря продержали, я уже давно мог бы работать в опорном…
Требую доктора. В голове моей зреют кровавые замыслы. Но доктор, к своему счастью, отбыл в Цесис, вернется только через неделю. Вот тебе, Либерсон, троицын день!
Безрассудство наградило меня ангиной и высокой температурой, я почернел и скукожился, как червь. Леонора, однако, меня не предала, и происшествие мало-помалу забылось. Я решил дождаться удобного момента и поговорить с доктором начистоту. Спросить, доколе решил он держать меня колодником в этом остроге. Случай подвернулся очень скоро.
Я снова стал ходить на прогулки, теперь уже по суше. Но почему-то получалось, что всякий раз, когда я выходил на моцион, навстречу мне попадался доктор, первым здоровался, осведомлялся о самочувствии и некоторое время шел вместе со мной. Знать, приспела человеку охота поболтать, оттого и взял манеру подстерегать меня у выхода. Круг наших бесед касался музыки и изящной словесности, из композиторов, правда, он знал только Бетховена и Нико Досталя, зато о писателях имел твердое убеждение — они, дескать, соль земли. Что я пишу, спрашивал он, какие у меня задумки?
Я всегда терпеть не мог людей, что суют свой нос в чужие идеи и замыслы.
— В голове у меня одна задумка, — отвечаю со злостью, — по возможности скорее выбраться отсюда.
— Ну-ну! — по-отечески успокаивает он. Дирижировать и сочинять музыку, мол, никогда не поздно, а литературное дарование надобно развивать с младых ногтей, особенно человеку со столь хлипким и крушливым здоровьем. Я, наверно, питаю интерес и к химии?
— К химии? — спрашиваю я с изумлением. — Почему вам так кажется?
— Ну как же! Когда лежали в беспамятстве, вы бормотали какие-то формулы.
Неужто в горячке я проболтался о чем-то? Силюсь не выказать беспокойства, отшучиваюсь:
— Химия — пугало моих школьных лет, самая темная из всех премудростей. Когда меня вызывали к доске, я дрожал словно овечий хвост. Казалось, спасения не будет от всех этих реакций и диффузий. Должно быть, вспомнил в бреду своего учителя химии.
— Как звали вашего учителя химии? — въедливо спрашивает доктор.
— Дубина. Простите — Дуб… в школе был еще второй Дуб (тот преподавал закон божий), его мы называли Божьей палицей.
— Гм, гм… да.. — недоверчиво покашливает доктор.
— Видите? — Я нагибаюсь и срываю растеньице, похожее на ромашку. — Это собачий ромень. Matricaria discoidea… Отвар его цветков успокаивает дух и унимает чрезмерное любопытство, его употребляли еще древние земгальцы.
— Занятно, — произносит доктор, — и все-таки о химии вы знаете больше, чем говорите.
— Исключительно о фармацее. Я питаю большой интерес к простейшим, почтенный доктор, я знаю даже, что у меня давно нет бацилл.
— В вашем положении нужно предполагать, что они есть… это значит: практически их нет, а теоретически существует опасность… опасность распространить болезнь.
Тут я рассудил: нечего мне больше канителить и тушеваться!
— А-а, вот почему вы отказались выписать меня из санатория?
— Да, поэтому… Здесь вы можете делать, что душа пожелает, здесь вы ни для кого не представляете угрозы. А там — здоровые люди. Я понимаю, если б возникли какие-то чрезвычайные обстоятельства, но господин Зибель, слава богу, держится великолепно, точно юный отрок, несмотря на свои семьдесят лет. Вы бы видели, как он выглядел на своем юбилее…
— Значит, я в ваших руках? — кричу страшным голосом.
— Отчасти — да! Успокойтесь, молодой человек! Эта новая чудесная власть требует максимального соблюдения санитарных правил. Сейчас в ходу девиз: человек — это главное. Человек с большой буквы, в дырявых штанах, но с большой буквы (доктор как-то странно скосоротился)… И я хочу оправдать доверие, которым она меня одарила и так далее, и так далее (при этих словах он скалится и острым взглядом вперяется мне в лицо), вы ведь тоже хотели оказать услугу новой власти, да вот не выгорает, не выгорает…
Чего этот гаер хочет от меня?
— Значит, зиму мне придется проторчать тут? — спрашиваю я, стиснув зубы.
— Гм… это зависит от вас, молодой человек… На мой взгляд… Поближе к весне… если все пойдет, как должно… надо слушать радио… вот ближе к весне…
Он снова непонятно скалится, затем пожимает мне руку и изрекает:
— Все будет хорошо! Старайтесь при ходьбе поглубже дышать. Задержите дыхание, а потом с силой вытолкните — так советует один индонезийский ученый… Эх, запамятовал его имя… — Doctor ord. демонстрирует, как это делается. — Скоро я переведу вас одного на верхний этаж. Там очаровательный вид на реку. Работайте себе, сколько влезет. Но на первом месте, не забывайте, здоровье и еще раз здоровье… Человек с большой буквы…
Он прищуривает око и удаляется, а я в ярости бью каблуком замерзшую землю и глотаю слезы.
На меня наползает туча подозрений: не Зибелю ли принадлежит та черная рука, которая удерживает меня в заточении? Я чую явную злонамеренность — это происки врага! Но тут же на память мне приходят слова Янки Сомерсета, и я пристыженный затихаю:
«Те, кто причины своих личных неудач объясняет кознями и заговорами ближних своих, — «конченые люди»!» Решаю молчать и не поддаваться отчаянию.
У меня есть свой отдельный закуток, работаю, записываю рецепты, выдумываю сюжеты — и черпаю в этом занятии духовное успокоение. Раз меня не выпускают туда, за дверь, живу в выдуманном мною мире. Люди — они разные, иной — скундыга, копит добро, набивает сундуки да коробьи, другой — обжора, ненасытная утроба, все, что наживает, проест, промотает. Но есть ведь еще и такие существа, которым дано лишь вегетировать, подобно растущим на камне лишаям или плавающей в воде ряске, о ужасающая неприхотливость! Хотя, пожалуй, нищенское прозябание все же во сто крат лучше самой роскошной смерти, самого дорогого надгробия из мрамора Санта Кроче… Ты бы могла подтвердить это, моя дорогая, незабвенная… Моя несчастная, погибшая любовь, лишь ты одна…
Ладно, забуду о тебе, погляжу лучше на Леонору, белое существо, она милое создание, святая Иоанна скотобоен, знаменосица армии спасения. Терпелива, вынослива, заботлива, самозабвенна. В разговоры не пускается, лишь трудится да молится богу.
Когда я валялся пластом, как последний заморыш, Леонора пеклась обо мне, будто сестра, но стоило мне чуть поправиться, и я почувствовал, что не устраиваю ее. Ей необходим хиляк, доходяга, тогда она расцветает белой лилией. Я, грешный, не прочь приволокнуться за нею, но она, когда ни посмотришь, — сама торжественность, и что-то меня останавливает. Должно быть, ее прохладный взор. Глаза Моны Лизы не загораются от моих двусмысленных шуточек, напротив, подергиваются туманом, как бы говоря: прости ему, господь, прегрешения, ибо не ведает он, что творит. Леонора чувствительна, безумно чувствительна. Но именно эта ее черта подбивает меня на еще большую подлость, я посвящаю ей свою сатанинскую улыбку — настоящий щучий оскал. И когда она в ответ мне улыбается, а потом теряется и бледнеет, я считаю, что забил один гвоздь в гроб, где покоится ее непорочность, и, буде так пойдет дальше, сумею предать его земле с музыкой и подобающими почестями… Надо бы как-нибудь поцеловать ее. Но тут меня неизменно охватывает стыд: она же святая… Святая Иоанна скотобоен, возлюбленная Спасителя…
Так, мелким бисером, бусинка за бусинкой катятся мои дни. Уходит Новый год, проходит масленица, а вслед за ними Пепельный день. Это отличный день, когда посыпают голову пеплом в честь той субстанции, из которой ты вышел и в которую тебе суждено обратиться. Ныне в Пепельный день произошли удивительные вещи.
Вернувшись с прогулки, я шустро потопал по устланной мягкими коврами лестнице на третий этаж — к своей клетушке. Распахнул дверь и, пораженный, остановился на пороге. Doctor ord. рылся в моем письменном ящике, еле успел его захлопнуть. В первое мгновение он смешался, но тут же ударился в лицедейство.
— Слава богу, что вы пришли. Пропала «История болезни». Она должна быть где-то тут, на столе, что за беспорядок! Сестра! — кричит он. — Сестра!
Первый раз слышу, что «История болезни» хранится в моем письменном столе, вот так номер! Услышав докторский голос, вбегает Леонора.
— Что за безалаберщина, сестра! — выговаривает doctor ord. — Я помню, что «История болезни» лежала тут.
— Я не видела ее, господин доктор, — испуганно отвечает Леонора.
— Вы, как я замечаю, вообще перестали видеть. Была она или не была на столе? — Доктор пожирает сестру гипнотизирующим взглядом. — Была или не была?
— Да… Наверно… Нет! Определенно была… — побледнев, запинается белое существо, — я, вероятно, отнесла ее в лабораторию! Я стала такая рассеянная, — шепчет она.
Инцидент улажен, нет сомнений: «История» сейчас же найдется. Но я утратил покой. Странные делишки, ничего не скажешь. Какого рожна доктору понадобились мои бумаги? Внимательно разглядываю манускрипт «П.П.П.»: страницы перепутаны, в запарке не успел вложить что куда надо. Значит, пришел вынюхивать… С чего бы? Заподозрил, что я замышляю политическую диверсию? Никак, листовку сочиняю. Доносом хочет смыть свое коричневое прошлое, свой айзсаргский мундир? Коли так, хватило бы простого сообщения: подозрительный хлыщ… Считаю долгом довести до вашего сведения… Я бы ничего, но…
Под вечер в комнату заходит Леонора. Спрашиваю, не может ли она для письменного стола достать замок поздоровенней. Висячий!
Леонора краснеет. Да, пожалуйста, она едет в Ригу и с удовольствием выполнит мою просьбу.
Спрашиваю, не может ли она оказать еще одну услугу. Дело в том, что у близкого мне человека, уже покойного, завтра день рождения, не будет ли она так добра и не отнесет ли цветы? На кладбище…
О, она может… Это даже ее долг перед богом…
— Это была одна дама… совсем молодая… она похоронена на Мартинском кладбище, — объясняю. — Недавно там поставили надгробие из мрамора Санта Кроче, его прислали из Германии, я, правда, еще не видел… Если бы вы были так добры и купили три красно-желтые розы, на памятнике должно быть ее имя — Маргарита Шелла.
Леонора оживляется, она обязательно сходит, обязательно. Это в Пардаугаве, говорит она, в Заречье, кладбище небольшое, она найдет. Кем мне приходится дама? Родственницей? Не заказать ли молебен за упокой ее души?
— Да, я был бы очень обязан, — говорю.
Под белым халатом проснулась женщина, она чует божественную тайну, горит желанием узнать ее, но я в дальнейшие объяснения не пускаюсь, зато, воспользовавшись ее внезапным порывом, осведомляюсь, что за птица наш doctor ordinarius.
Доктор, оказывается, был богатым человеком. Но недобрые друзья обманули его, довели до банкротства, за что их несомненно постигнет божья кара…
Спрашиваю, как его фамилия, — до сих пор меня это не занимало, слишком бледной личностью казался мой лекарь.
— Зовут его Айвар Джонсон. В Цесисе ему принадлежал дом, а в Райскумской волости хутор. Когда его сняли с должности окружного доктора, он пришел к нам ординатором, случилось это в позапрошлом году.
— Джонсон? — вскрикиваю я.
— Да, теперь, правда, когда звонят по телефону, спрашивают гражданина Айвара Волдисовича, — наивно добавляет Леонора.
XI. СОБЫТИЕ, ВЗБУДОРАЖИВШЕЕ ГРАЖДАН
В то утро все газеты Риги разразились сенсационным сообщением: у Понтонного моста утопилась поэтесса Маргарита Шелла. Труп пока еще не найден, но дежурный полицейский принес в участок вещественные доказательства: брошенную на мосту сумочку и выуженную из Даугавы черную шапочку с вуалью. В сумочке обнаружили паспорт несчастной, ключи от квартиры и вырезанную из слоновой кости фигурку Будды.
Происшествие широко осветила вся пресса от христиан до умеренных левых. Версии были самые разнообразные. Поэтому в поисках объективной правды мы почли за нужное привести в этой главе выдержки из всех источников:
«Листок христиан»: «…довольно трудно догадаться, что подвигло М. Ш. на столь ужасный шаг. Нашему корреспонденту удалось установить, что в роковой вечер поэтесса сидела в круглом зале кафе Шварца, нервно курила и неотрывно смотрела в окно на большие часы, находящиеся перед колоннадой киоска. Около полуночи она вдруг поднялась и вышла, после чего ее видели в районе Бастионной горки. М. Ш. принадлежала к группе левых поэтов, являлась членом организации «Чайка», и в связи с опубликованием одного аморального стихотворения (в коем богоматерь сравнивалась со стоящей на бульваре блудодейкой (!) с накрашенными губами) ей было отказано в месте машинистки в министерстве Н.
Вот наглядный пример, к чему приводит так называемый «левый фронт» и красная агитация. Мы можем лишь сожалеть о погибшей деве и просить Всевышнего, чтобы он на том свете простил несчастной ее заблуждения».
Газета «Rundschau»: «…трагическое происшествие на набережной Даугавы — предупреждение всем балтийцам. Барышня М. Ш. родилась в семье уважаемого немецкого колониста крестьянина Иршской волости. После приезда в Ригу, всеми заброшенная, не получив никакой поддержки от Культурбунда, она попала под влияние чужой среды, утратила чувство национального единства, примкнула к враждебным силам, и вот — результат! Спрашивается, где был Kulturverein? Где руководители союза девиц IFK? Позор!
Корреспондент «Rundschau» побывал в министерстве, где работала покойница. Ширится слух, будто М. Ш. находилась в интимной связи с директором департамента господином Ф. Не тот ли это господин Ф., который в 1919 году с пеной у рта выступал против ландесвера? И по чьему приказанию в том же году была расстреляна баронесса Вальтер-Винтенхейм якобы за участие в шпионаже? Если так, то все ясно: М. Ш. очередная жертва зоологической ненависти господина Ф. к немцам. Свое слово по этому делу обязан сказать наш уважаемый земляк министр юстиции фон Берент. Наша фракция в сейме не преминет выступить с запросом».
«Голос центра»: «…нашим сотрудникам удалось выяснить биографию поэтессы М. Ш. Покойница родилась в семье бедного крестьянина. В возрасте шестнадцати лет начала самостоятельную жизнь в Риге, кончила вечернюю школу, одновременно трудясь то рассыльной в рекламной конторе, то продавщицей, то корректором. В последнее время она училась в университете, где познакомилась и сблизилась с левыми студентами. Долгое время числилась интеллигентной безработной, но затем небезызвестный директор департамента господин Ф. принял М. Ш. секретаршей, назначив ей невиданно высокий оклад — 120 латов в месяц. Чем объясняется подобная щедрость?
Рассказывают, что господин Ф. сам имеет весьма красное прошлое: во время Керенского скупал иконы, провез их через границу и реализовал за валюту.
За день до смерти М. Ш. сказала: «В жизни я познала одни лишь разочарования, непостоянство, неверность… Мне опостылела жизнь, хочу покоя…»
«Бульварный листок»: «Новое сенсационное открытие! Вместо самоубийства — убийство! Сегодня к нам в редакцию вошел человек, который утверждает, что поэтесса М. Ш. не прыгнула в Даугаву сама, а ее туда насильно толкнули. Вскоре после полуночи человек, который хочет, чтобы его имя временно оставалось неизвестным, увидел на мосту Бастионной горки бегущую женщину, описание внешности которой полностью совпадает с наружностью барышни М. Ш. За женщиной гнались два подозрительных типа. На одном из них — он смахивал на гомосексуалиста — были цыплячьего цвета штаны, а в руках — нож. Три раза прокричав имя несчастной, он стал угрожать ей финкой. Человек, который все это видел, поначалу не сообразил, что происходит. Думал, обычное выяснение отношений между супругами на свежем воздухе, но сегодня, когда он прочел газеты, его будто щелкнули по затылку: это они! Он убежден, что девица сначала была кокнута пятью ударами ножа, а уж потом брошена в реку.
Уваж. читатели! Наш сотрудник дежурит на набережной Даугавы, где проводятся спасательные работы. Сразу же после вскрытия трупа мы дадим специальный выпуск газеты, ждите его не позже 21.30. Цена — 10 сантимов».
Газета «Налево»: «Группа сотрудников нашей редакции посетила скромную комнатушку скончавшейся поэтессы Маргариты Шеллы на улице Вальню в Старой Риге, где покойница провела последние два месяца. Кто бы мог подумать?! Еще позавчера Гретхен пришла в редакцию веселая, улыбающаяся, как всегда остроумная, принесла стихотворение, нам и в голову не могло прийти, что оно последнее.
Иду мостом я хрупким из теней,
Внизу зеленый, холодно шумя,
К небытию поток широкий мчится…
При подробном осмотре жилища группа редакционных работников обнаружила, что Маргарита вместо обоев оклеила стены рукописными страницами своих стихотворений, Шелла недавно жаловалась, что обывательские издательства ее не печатают, националисты поносят, а самой выпустить сборник стихов ей не по карману, и вот теперь после смерти — как оригинально! Будто в святилище.
На стене книжная полка… Книги, книги, книги… Да, поэтесса предпочитала не обедать, а покупать книги… Как оригинально!
На другой стене — небольшой финский нож, оплетенный засохшими розами. Несколько банально! Может, навеяно каким-то событием…
На третьей стене — изображение мадонны. Гм…
Трудящаяся девушка вешает над изголовьем кровати мадонну… Боттичелли. Да хоть четырежды Боттичелли, но это же богоматерь, притом над постелью!
Член союза «Чайка», а пишет стихи о четках. Странно… «Хоть давно не верю в бога я и в черта…» Да, такая она была. Неужто нам судить ее после смерти… А вот и Будда из слоновой кости… О боже, сколько богов. И хотя небезызвестно, что была она безбожницей, ей-богу, убеждаешься, — не стопроцентной. Что ни говори, но в этом вопросе редакция не может присоединиться к покойнице… Не может!
И тем не менее группа редакционных работников поедет к лидеру своей партии, нынешнему владельцу центра бывшего Акенштакского имения, адвокату и директору банка Петерманису просить денег на памятник Маргарите, не будем излишне принципиальными в этот раз, поэтессу должны проводить в последний путь с подобающей честью — не правда ли, товарищи!»
Следует объявление «Чайки»:
Когда Кристофер Марлов, сидя возле печки в извозчичьей хибаре на острове Кливерсала, все это прочел, волосы у него встали дыбом. Янис Вридрикис не успел еще высушить штаны, а покушавшаяся на себя дева, ублаженная женой извозчика, напоенная лекарственными настойками, нанежиться в объятиях сна, как в комнату ввалился старый колча, швырнул на стол утренние газеты и угрюмо сказал, катитесь, мол, подобру-поздорову, делишки принимают дурной оборот, он-де не хочет наживать неприятности из-за всяких там убивцев и утопленников (при этих словах старик перекрестился), они, дескать, бедные, но порядочные русские люди, сделали, что могли, матушка осталась жива, — но боятся полиции, видит бог: ихний сын со дня забастовки портовых грузчиков в тюрьме гниет.
Янис Вридрикис и Кристофер переглянулись: положеньице — не обрадуешься. Полиция, наверно, давно рыщет по следам мужика в светозарных штанах. А тот сидит и в ус не дует, посматривает на белые руки спящей девы да расплывается в улыбках и сияет…
Янис Вридрикис праздновал победу: то была всамделишная Маргарита, притом поэтесса, мало того, немецкого происхождения.
Будь благословенна, ночь,
в твоей лилейной рученьке…
О создатель, как же быть дальше, однако?
И, глядишь, ангел господень, вняв его мольбам, подсказал Трампедаху нужные слова:
— Кристофер Марлов! Встань и ступай. Сними в самом фешенебельном квартале Риги апартаменты для двух иностранцев, объясни: господа путешествуют инкогнито. Скажи, богатые Reichsdeutsche за ценой не постоят. Купи мне в самом дорогом магазине на глазомер кетовей и черные окуляры в черепаховой оправе. Засим найди для этого ангела (он показал на спящую) самое роскошное манто и самую нежную шаль из брюссельских кружев, дабы, прежде чем приобрести туалеты по размерам и вкусам моей королевы, мы могли бы с достоинством, чинно и благородно, как подобает истинным Reichsdeutsche, перебраться в наше жилище люкс.
Янис Вридрикис вынул из кармана своего пиджака (перед тем как сигануть в воду, магистр позаботился о том, чтобы не подмочить деньги) пятьсот латов в крупных ассигнациях, потом, подумав, достал еще триста помельче и втиснул всю пачку Кристоферу в руки. Старый извозчик побледнел и вдругорядь перекрестился. Гости испросили у него разрешение остаться до полудня.
— Нет ли у хозяина еще какой-нибудь повозки? Побогаче на вид? — искушал старика Янис Вридрикис, держа в пальцах десятилатовую банкноту. Они, мол, заплатят небывалую цену.
Извозчику в самом деле принадлежало еще одно небольшое ландо — потешная старая калоша, в каковой по особой таксе он катал новобрачных и пьяных студентов. В конце концов фурман согласился — лишь бы поскорее отделаться от окаянных заказчиков… Договорились, что старик подъедет с закрытой каретой (к счастью, зарядил мелкий бусенец), все трое сядут, спрячутся за кожаны пологом, и лошаденка перетянет их через железный мост, чтобы обойти стороной Понтонный, где в тот день колотились искатели трупа.
Когда Кристофер отбыл выполнять поручение, старик со своей колымагой уехал на заработки, а его половина со страху заперлась в дровяном сарайчике, проснулась Маргарита.
— Где я?
— Вы в надежном месте, Маргарита.
И, подойдя поближе, Янис Вридрикис воззрился на нее сияющими очами, протянул руку и помог встать со скрипучего ложа.
Дева с удивлением смотрела на приятного юношу, чье лицо светилось беспримерной кротостью и покорностью.
— Кто вы? Как вас зовут?
— Альгимант Амбрерод, писатель и доктор химии Кладу все, что имею: талант, богатство и безграничную преданность — к вашим ногам. Я обожаю вас, я вас люблю.
Маргарите смутно вспомнилась вчерашняя ночь.
— Как я сюда попала?
Амбрерод показал на разбросанные по столу листы утренних газет. На самом верху чернел жирный заголовок:
«С надломленными крыльями в пучине Даугавы». Под ним фотография улыбающейся Маргариты с цветами в руках.
Дева, словно не веря, начала листать страницы и пробегать глазами некрологи, то и дело испуская стоны а хватаясь за голову, а под конец дико расхохоталась… Смеялась все громче и истеричней, пока из ее глаз не полились слезы.
Рыдала она долго и безутешно.
Альгимант перепугался, жена извозчика в дровяном сарайчике повернула ключ еще на один оборот.
— Ну, полно, Маргарита! Не надо! Успокойтесь… все это позади, начнем новую жизнь, можете на меня положиться: я никогда вас не покину… Даю честное слово!
При этих словах на устах Маргариты мелькнула улыбка — короткий просвет в облаках.
— Почему вы меня спасли?
— Потому, что не хотел, чтобы вы погибли. Я вас увидел на мостике у Бастионной горки… Сердце подсказало: это Маргарита, моя единственная, моя «божественная возлюбленная», как у Бетховена… После всего того, что мне довелось испытать в «Алхамбре»… Ужас! Вначале я ошибся, полагая, что вы полячка… Но так еще лучше: могу вас в сем заверить на языке моей матери, она родом с Куршских дюн.
Маргарита сидела в ободранном халате извозчичьей жены, босая, и не знала, за что приняться. Увидела на столе деревянный гребень с поломанными зубьями, попыталась привести в порядок свои льняные волосы, которые в воде сбились в колтун… Со странным ощущением внимала она страстным речам молодого человека. Не сон ли ей снится? Будда учит, что после смерти человек возрождается в новом облике. Может, божок из слоновой кости решил над ней пошутить? Но нет, утренние газеты свидетельствуют, что Маргарита по-прежнему находится здесь же, в этой грязной, проклятой юдоли скорби. И чтобы после всего она возвратилась в жизнь? В общество, чьи нравы стояли ей поперек горла, в атмосферу, где она задыхалась? Никогда! К ее беде прибавятся насмешки, изощренные анекдоты о незадачливой поэтессе Маргарите Шелле. О поэтессе, жаждавшей красоты, человеколюбия, справедливости…
Нет, ей нельзя туда возвращаться. Альгимант единственное спасение! Другого выхода в эту минуту она не видела…
И Амбрерод повел рассказ о себе. Он был достаточно умен, чтобы избегать откровенного хвастовства, тем не менее успел в самом начале как бы между прочим обронить, что его доходов хватит за глаза, чтобы зажить свободной и независимой жизнью. Маргарита, вероятно, возмутится, но Альгимант уже снял для нее замечательные апартаменты в самом фешенебельном районе Риги. Скоро вернется заведующий хозяйством, его импресарио, и принесет необходимые принадлежности туалета (такой помятой ей нельзя показываться прислуге), отведет ее в новое жилище, и Маргарита сможет устраиваться по своему вкусу. Никому даже в голову не придет, что в апартаментах, жива и невредима, обитает знаменитая поэтесса Маргарита Шелла. Пока не утихнет мерзкий тарарам… В конце концов, за деньги, ежели понадобится, он в любое время сумеет достать ей иностранный паспорт. У него есть знакомства в влиятельных балто-немецких кругах.
— Несколько месяцев, само собой, придется жить очень тихо и замкнуто… Нельзя будет показываться на людях. За это время мы разовьем наши таланты. Я себе оборудую небольшую лабораторию для химических исследований, вам — кабинет, где можно предаваться стихотворным занятиям и чтению… К вашим услугам будет большая библиотека. Словари, латышские дайны, кулинарные энциклопедии…
— Кулинарные энциклопедии? — пораженная, переспрашивает Маргарита.
— Они тоже нужны, поэту необходимы разные источники, чтобы черпать вдохновение. Разумеется, вы найдете там и Гёте.
— Вы, наверное, имеете в виду его «Фауста». Я лично предпочитаю «Фауста» Марло. О боже, до чего мне мил этот Марло. Как он умеет бичевать официальную мораль своего времени, хлестать пуритан! Всю жизнь мечтала перевести «Трагическую историю доктора Фауста», сегодняшние ханжи взвыли бы от его иронии. Да, я люблю Кристофера Марло!
Янис Вридрикис застыл с разинутым ртом, затем вспомнил об искусственных зубах, быстро замкнул его и проворчал «Гм!..». Что значит заявление: люблю Кристофера Марло! Может, это следует понимать как шутку? Аббату показалось, будто костлявая рука сжимает сердце и поворачивает наискосок. К счастью, чуть-чуть, так что его не совсем еще перекосило от ревности… Желая прервать недоуменное молчание, Амбрерод продолжил:
— Ваши стихи выйдут в самых элегантных изданиях на меловой бумаге с иллюстрациями Видберга;[15] естественно, придется взять псевдоним. О финансовой стороне позабочусь я… Ни слова, ша! Я сам тоже литератор, хотя мою лучшую работу у меня хитростью выманил и теперь собирается испакостить один дилетант-шизофреник. Но я не обделен идеями. «Сатирикон» скоро обогатится новеллами о выживших из ума генералах и усохших девицах из бара. Как верно вы это схватили в стихотворении «Мадонна на бульваре»!
— Вы знаете мои стихи? — обрадованная, спрашивает Маргарита.
— Да… Как бы вам сказать… частично. (Янис Вридрикис только сегодня утром узнал о существовании поэтессы по имени Маргарита Шелла.)
Все, что наговорил юноша, успокоило Маргариту. Сама того не замечая, она почувствовала доверие к рыжему идеалисту, стала проникаться нежностью, потому что Альгимант ни словом, ни намеком не дал ей понять, что у него могли бы быть какие-либо эгоистические, сугубо мужские цели, как это неизменно случалось каждый раз, стоило Шелле остаться наедине с мужчиной, который признавался ей в любви. Внешняя суровость богатого талантливого человека, его кроткий взгляд и аристократический нос показались Маргарите весьма и весьма привлекательными. Прошлое отодвинулось, точно дурной сон. Смешными представились те, из-за кого Маргарите пришлось так тяжко страдать.
— Почему вы это сделали? — спросил Альгимант, пересев к ней на скрипучую постель и робко взяв прохладную девичью ладонь в свою руку.
— Не нашла другого выхода… — печально ответила Маргарита. — Когда я удрала в Ригу, я была еще девчонкой, но планы вынашивала необъятные: работать, учиться, стать писательницей. Родители меня не поняли, поэтому не поддержали и бросили на произвол судьбы. Все эти годы, назло голоду и нужде, я трудилась свыше человеческих сил, дотянула до университета, собрала первый томик стихов, но беды мои лишь начались. Я стала интеллигентной безработной. Вы знаете, сколько боли и унижений вмещает это слово? Я искала себе единомышленников среди левых студентов, интеллигенции, но мне не повезло. Никто, никто мне не помог. Они боролись со злом и несправедливостью на словах: на деле лишь — если это сулило выгоду… Позднее я связалась с политиками. Люди осторожные, они сами себя называли умеренными левыми. Народ это был состоятельный: директора, владельцы хуторов, уполномоченные больничных касс, юристы. Как-то раз я не выдержала: вломилась в кабинет директора департамента господина Ф. в министерстве Н., он считался одним из самых прославленных рабочих вождей, ударила кулаком по столу и потребовала, чтобы он дал мне работу и хлеб, как сам пообещал всем в своей предвыборной речи. Сказала, что знаю иностранные языки, умею печатать на машинке, но уже полгода числюсь в интеллигентных безработных.
Господина Ф. мой поступок необыкновенно умилил. Он встал, сказал «Браво!», поцеловал мне руку и в весьма хвалебных выражениях отозвался о моей храбрости. У него, мол, как раз освободилось место машинистки. Господин Ф. будет счастлив, если я не откажусь занять его.
Я стала секретаршей директора с приличным жалованьем. Работала на совесть, после службы много читала, регулярно посылала стихи почти во все газеты, они охотно их печатали.
Но тут господин Ф., считая, видимо, что я перед ним в долгу, стал все чаще и чаще оказывать мне знаки внимания: то букет цветов поднесет, то коробку шоколада. Иногда просил остаться после работы, помочь составить отчеты.
Господин Ф., старый пень, с золотыми зубами и голым черепом, пропахший одеколоном и коньяком. О боже, если б я могла вам описать, до чего мне противны старые мужчины, особенно такие, которые омолодились с помощью косметики, побрились, сияют, розовые как поросята, и думают, что стали неотразимы.
Тайно я любила известного художника, привязалась к нему всей душой. Пожениться мы не могли. Он женат, у него прелестная девочка. Воскресенья он проводил в семейном кругу, лишь в будни по вечерам приходил ко мне, потому что тогда мог оправдаться перед женой: задержался, дескать, на работе. И тем не менее я любила его безумно, безгранично.
Но затем разразилась катастрофа: я влепила господину Ф. пощечину в его же кабинете (шлепок наверняка был слышен в передней комнате, где сидели другие машинистки). Меня немедленно уволили, назвав причиной увольнения мое стихотворение, появившееся за день до этого в «Балсе», оно якобы восхваляет безнравственность. Уходя, я громко сообщила всем служащим, что директор Ф. в кабинете в грубой и непотребной форме приставал ко мне и потому получил по уху.
Я опять стала безработной… Левые круги критиковали меня за то, что воспеваю мадонну, христиане — за то, что богохульствую и поношу ее. Адвокат Петерманис, лидер рабочей партии, высказался, что таких религиозных фанатичек, как я, нужно гнать в шею из рядов трудящейся молодежи. Мои товарищи, левые студенты, перестали со мной здороваться и отвечать на мои приветствия.
Но самый болезненный удар, вернее сказать, пинок ногой я получила позавчера. Мой милый, мой единственный, художник, у которого дома красавица жена и хорошо воспитанная девочка и которого я до смерти любила и обожала, сказал мне в глаза, что я круглая дура: стоило ли поднимать крик, кусок бы отвалился от меня, что ли, если б директор, господин Ф., со мной… это самое… место уж больно хорошее…
«В твоем департаменте все знают, что ты совсем не такая уж недоступная. Да и я это знаю», — сказал мой возлюбленный и убежал.
Я не понимала больше, что делаю… Написала записку и отнесла к нему домой, попросила служанку передать лично ему.
«Дорогой!
Я требую, чтобы ты в субботу (то есть завтра вечером) от десяти до двенадцати пришел в кафе Шварца, где я буду ждать тебя в круглом зале. Требую, чтобы ты подошел ко мне, публично поцеловал и извинился за слова, которые я не в силах повторить.
Если ты не придешь, я сразу после полуночи покончу с собой, потому что тогда мне нет смысла больше жить.
Само собой, что он не явился, ибо по природе он трус. Что бы сказали его красивая жена и дочка? Завтра же воскресенье, его следует проводить в кругу семьи… Письмо он, надо полагать, сжег, пепел высыпал в клозет, спустил воду, после чего облегченно вздохнул: слава богу, он в этом темном деле не замешан.
Неизвестно, понял ли Янис Вридрикис печальную исповедь девы, слушал ли он вообще… Он лишь глядел в необыкновенные, объятые темными тенями глаза (одна радуга зеленая, другая каряя), взгляд их то вспыхивал сдержанной яростью, то затуманивался. Рот был маленький, приятный, губы полные, два передних зуба чуть выдавались вперед, во время разговора иногда кокетливо обнажались, а когда она заканчивала фразу, прикусывали нижнюю губу — это выглядело на редкость трогательно и мило. Лицо кругловатое, чем-то смахивает лик мадонны, решил Янис Вридрикис, потому-то, видимо, у нее над кроватью и висел Боттичелли. Ей-богу, такая женщина способна на подвиг и на преступление. Пойти добровольно на смерть — тоже геройство. Большинству людей это не под силу: они трусы, предпочитают дожидаться конца, трясясь в постели.
Рассказывая, Маргарита куталась в поношенный халат, пыталась закрыть стройные босые ноги. Янис Вридрикис уже собрался было товарищеским жестом погладить нежное колено, которое строптиво вылезало из-под оторванного подола, но спохватился — слишком рано…
Стрелки показывали первый час пополудни, когда явился Кристофер с здоровенными коробками в руках, узлом за плечами, кобеняком на шее и сумкой под мышкой. Пинком распахнув дверь, он встал на пороге и, смущенный, уставился на Маргариту, которая пыталась привести в порядок свою растрепанную гриву перед щербатым тусклым зеркалом.
Выглядел он до того бойким и стрёмным, что Маргарита невольно засмеялась. Начал смеяться и Кристофер, так и стоял он — неуклюжий, этакий ломыга, и заливался. Янису Вридрикису подобная резвость показалась неуместной, положение-то серьезное, какие могут быть шутки?
Магистр втянул Кристофера в комнату, плотно затворил дверь, освободил юношу от груза и представил своей королеве:
— Кристофер Марлов, музыкант!
— Кристофер Марлов? — потрясенная, воскликнула Маргарита. — Может ли быть! Вас, выходит, зовут точно так же, как…
Кристофер чуть приблизил к губам палец… Что могло означать лишь одно — молчите!
— Музыкант и странствующий студент, — сказал он с легким поклоном.
«Смотри какой, — думает про себя Маргарита, — странный. Шрам через всю правую щеку от глаза до уголка губ. Напали на него, что ли?»
Магистру, однако, что-то в этом не нравится. Надобно раз и навсегда поставить юнца на место!
— Марлов — мой импресарио… Ему вменялось без проволочек достать уважаемой поэтессе манто и кружевную шаль, дабы она, никем не опознанная, могла бы доехать до своей квартиры. Исполнено ли поручение? — спрашивает Янис Вридрикис.
— Да, мой господин, — отвечает Кристофер и, нахально лыбясь, ест глазами Амбрерода.
— А кетовей с полосатыми портками, серый жилет, крахмальная тельница и темный пластрон? Купили вы их?
— Да, мой господин! Надеюсь, будет как раз по вашей фигуре.
— Ах, вы надеетесь? Я весьма тронут. Будьте любезны, поднесите госпоже манто! Дайте мне мой сверток. Благодарю вас! А теперь ступайте со мной на кухню, поможете мне облачиться… Мы оставляем вас одну, madame. Одевайтесь, через полчаса вам будет подано ландо.
Маргарита скидывает халат. Туфли ссохлись, не напялить, темный костюм помялся, о Господи, на кого она похожа!
Ее бьет легкий озноб, вероятно, простыла в воде. Что будет, чем кончится эта сумасшедшая игра? Одно ясно: она переступила порог, за которым осталось ее прошлое, туда ей больше не вернуться. Сегодня она уже не могла бы покончить с собой, ей даже не верится, что минувшей ночью без всякого раздумья и страха бросилась в воду. Теперь появилась надежда, не исключено, обманчивая, но забрезжило что-то… ради чего имело смысл продолжить игру. А может, заговорило упрямство?
Маргарита взяла так называемое манто: это было дорогое пальто из зеленоватой ткани, довольно длинное, такие в ту весну начали входить в моду — с накладными карманами и широким поясом. Накинула на волосы прозрачную кружевную шаль. Как приятно, тепло! Из зеркала на нее смотрела элегантная, но чужая дама, никто ее не узнает.
Потрясающий малый этот импресарио: сумел купить пальто по размеру… Такой странный… (Подмигнул, чтобы я не произнесла имя Кристофера Марло. Тайна, что ли, какая? Или это его псевдоним? Вспомнить бы гравюры, не пересекал ли похожий рубец щеку несчастного поэта из Кентербери?)
Вот они идут: впереди Альгимант в визитке и в полосатых брюках. Зачесанные назад волосы ниспадают на высокий стоячий ворот, под ним черный пластрон со стеклянным глазком посредине. Господин Амбрерод похож на молодого дипломата: утонченные манеры, сдержанная поступь, но главное — в его глазах Маргарита видит безграничное обожание. Такому человеку, ей-богу, можно довериться. Импресарио рядом с ним — линялый воробей. Поношенный спенсер, штиблеты невесть когда чищены… От бедности или от безалаберности? Кажется, все-таки от бедности, а то не пошел бы служить к богатому писателю да еще рассыльным.
Альгимант нетерпеливо поглядывает на часы. С минуты на минуту должен подъехать фурман. Чтобы скоротать время, Кристофер продолжает сообщение, которое начал еще на кухне:
— Итак, апартаменты я снял в самом центре, на бульваре Райниса, рядом с английским посольством, со стороны двора. Сказал: господин и госпожа только что из Берлина, заправляются в гостинице «Рома» первым завтраком…
— О боже, когда мы наконец сумеем поесть? — испуганно спрашивает Альгимант. — В «Роме»-то нам нельзя показываться… а желудок у меня прямо к хребту прилип.
— Скажем, чтобы принесли на дом, — успокаивает Кристофер. — Там же, за углом, в «Империале», на худой конец у Домовладельцев.
— Какая чушь, у Домовладельцев! Маргарита и — Домовладельцы! Нам необходимо»нечто небывалое, в высшей степени изысканное. Ленч сегодня готовить вам, Кристофер, покажите, на что способны. «П.П.П.» теперь ваша… Ну, а завтрак, как только мы прибудем, пускай принесет прислуга из Малого Верманпарка… Es stimmt!
Столь резкий переход к теме насыщения вверг Маргариту в изумление, ее нежный господин и повелитель заговорил точно мясник или повар, с глаз слетела пелена влюбленности, губы зашепелявили, то был отнюдь не душевный голод, которым глаголили его уста, ему, видимо, действительно хотелось есть… «Бедненький!» — подумала Маргарита и нечаянно глянула на Кристофера. В уголках его губ притаилась ироничная усмешка. Над чем он смеялся? Быть может, над Маргаритой в зеленом пальто и в кружевной накидке? Госпожа почувствовала легкое раздражение.
— Вы, господин Кристофер, говорят, музыкант?
— Да, уважаемая поэтесса, играю на рояле и на мандолине.
— И на мандолине? С такими длинными ногтями!
— Вы хотели сказать, грязными… Испачкал прошлой ночью, когда бросал в воду просмоленный канат. Но для мандолины чем длиннее, тем лучше.
«Шрам нисколько не портит его лица, Марлов — приятный парень», — думает Маргарита.
— Кристофер, сходи посмотри, не подъезжает ли ландо, — ревниво приказывает Альгимант, после чего Марлову остается только скрыться.
— Он хороший музыкант? — спрашивает поэтесса.
— Да ну, дилетант!.. Притом нигилист. Если б вы знали, как он рассуждает о женщинах, о любви. Циник! Пробует руку в сочинительстве, голь перекатная. Живет на мои средства и моими идеями. Разумеется, когда вы поселитесь у меня, я откажу ему: наймем другого импресарио. Этот у меня уже в печенках.
— Вы сказали: пробует руку в сочинительстве. Пишет стихи? Или сочиняет роман?
— Нет, поваренную книгу.
— Что?! — пораженная, восклицает Маргарита. — Какую еще поваренную книгу?
— Перерабатывает уже однажды переработанную и пополненную поваренную книгу.
— Но это же идиотизм! Возиться с поваренной книгой.
— О нет, не скажите, сударыня… Важно только, кто перерабатывает. Если раньше мы сталкивались с проблемой, что пишут и как пишут, то в наше время в писательском деле добавилась еще одна — кто пишет. Очень важно знать позицию писателя и его отношение к высшим сферам.
— Вы серьезно? Ну и какова ваша писательская позиция?
— Я немец. Этим все сказано, комментарии излишни…
— Альгимант Амбрерод звучит не очень-то по-немецки.
— Это временный псевдоним. По рождению я Трампедах, Йоган Фридрих. Разве вы не видите по моему носу?
— Я тоже немка. Но вы, по всей вероятности, читали в газетах, что я принадлежу к левым. Не хочу вводить вас в заблуждение. Я очень, очень, очень левая!
— Маргарита, милая, «бессмертная любовь» моя, как сказал Бетховен. Левая? Что за глупости: я люблю вас, а не ваши политические убеждения. Скоро мы все уподобимся друг другу. Будет новая Европа, новое человечество — сверхчеловечество. Именем Вотана, именем Зиглинде и Альбериха Нибелунгов…
При этих словах в комнату вошел Кристофер и объявил, что приехал извозчик.
Они сели в черное лакированное, местами облупившееся ландо, фурман облачился в поношенный пожарный мундир с блестящими пуговицами, напялил на голову цилиндр, из которого, как из старого зонтика, торчала проволока, взобрался на высокий облучок, стеганул кобылу кожаной ременницей, и ландо с помпой тронулось. Не путешествие — фантастика! Даже жена извозчика вылезла из дровяного сарайчика и несмело помахала отъезжающим вслед. Счастливого пути, дорогие гости! До не свидания!
Кому из стражей порядка и речной полиции, занятых поисками трупа, могло прийти в голову, что надо бы поинтересоваться счастливым женихом в очках «Гарольд Ллойд» и невестой в дорогой кружевной накидке и зеленом солнечном манто, которые в шикарном драндулете важно прокатили мимо? Все было сработано так, что лучше не придумаешь.
В апартаментах господина с госпожой встретили хозяйка квартиры, слуга и старая горничная. Разговор происходил на чистейшем немецком языке, посему Кристофер, как и подобает подчиненному, в нем не участвовал, а стоял в стороне. Хозяйка квартиры мадам Берзлапиня передала Янису Вридрикису ключи, получила деньги за квартиру за месяц вперед (сразу видать — иностранцы!) и оставила господ на попечение слуги и горничной. Чувствуйте себя как дома.
Кристофер долго и придирчиво разглядывал слуг, их особенно следовало опасаться: они могли опознать в новой госпоже несчастную поэтессу (фотографии Маргариты украшали почти всю латышскую печать) и сообщить об этом полиции. Но вскоре выяснилось: лакей — немец (маловероятно, чтобы он читал латышские газеты), а горничная — неграмотная деревенщина; на вопрос молодого господина, что это за журнал (Кристофер указал на «Отдых»[16]) и то не сумела ответить. Она-де не знает. Тем лучше!
Янис Вридрикис приказал слуге нимало не медля бежать на центральный рынок и купить продуктов согласно составленному им списку. Еще в дороге придумал он, что и как, отметил нужные рецепты и блюда. Такое занятие, пусть иллюзорно, но хоть как-то утолило неописуемый голод магистра. Проезжая мимо плавучего рыбного павильона Кезбера на набережной Даугавы, где, нанизанные на нитки, снаружи благоухали копченые сиги, золотисто-карие бока лососей, а в витрине виднелись груды красных вареных раков и серебристой кильки, Янису Вридрикису стало совсем невтерпеж, он едва не лишился сознания. Магистр хотел было рвануть дверцу, сигануть на ходу из колесницы и ринуться в павильон, но тут к нему вернулся здравый смысл: неразумно из-за живота терять голову, когда он еще не успел утвердиться в своих правах.
Сейчас они осматривали покои. Обитый дамаском салон: посредине большая пальма, паркет, ковры, рояль красного дерева — Julius Heinrich Zimmermann, почти пустые полки, если не считать нескольких сотен журналов «Отдых» и «Сенсация». На стенах безвкусные олеографии, с потолка свисала люстра со стеклянными подвесками. Комната была светлая, с видом на Бастионную горку, прямо на то место, где они познакомились.
— Здесь надобно все перестроить, — заявляет Янис Вридрикис. — К черту эту пачкотню, купим ценные картины, сколько бы они ни стоили! Каких художников вы почитаете?
— Свемпа, Падегу, Тидемана, — в восторге выпаливает Маргарита.
— Гм… я полагаю, для пейзажа лучше подойдет Пурвит, на худой конец Свемп (Падегу он не знал, Тидемана терпеть не мог, а о Свемпе слышал лишь краем уха)…
«Альгимант разбирается, — думает Маргарита. — Тидеман действительно тут не вписывается, слишком ярок. И Падега чересчур оригинален».
— Ну а книги?
— Да, книги. Закажем! Все сразу. (Глупо, конечно, выбрасывать такую уйму денег… Можно бы послать экспресс-носильщиков за моими собственными книгами, приказать Керолайне, чтобы выдала. Да ладно уж.)
Затем они заходят в следующую комнату.
Рядом с салоном расположен будуар Маргариты сплошь в розовых и кремовых тонах. Зеркала и маленькие пуфики, туалетные столики. Все как в сказке!
Маргарита в полном восторге, она опасалась, что Альгимант покажет ей двуспальную кровать и семейную спальню. Но он — сама тактичность.
— Ну как? — спрашивает.
— Очаровательно, божественно! — со слезами на глазах отвечает Маргарита. — Навек ваша должница! (Ей хотелось бы подойти и поцеловать рыжего идеалиста в лоб, но импресарио всюду следует за ними и усмехается себе в усы… Над кем только он смеется?..)
Дальше — трапезный зал, небольшое помещение для лаборатории, рабочий кабинет и спальня Альгиманта, кухня, каморки прислуги. Две ванные комнаты, ватерклозет. Чудно, великолепно!
— За коридором есть еще одна комната, вход в нее с лестницы. Ее я, с вашего позволения, сниму для себя, — нахально сообщает Кристофер Марлов.
Как, разве Марлов тоже собирается здесь жить?
— Мне некуда деваться… Комнатка в Гризинькалне с кипятком по утрам и вечерам наверняка давно сдана другому. А денег у меня ни сантима, вам это хорошо известно, почтенный друг, доктор химии, оккультных наук et caetera, et caetera! Принимая в Соображение, что мы с вами находимся в договорных отношениях… (Тут Кристофер полез было в грудной карман своего спенсера за договором, но Янис Вридрикис знаками стал показывать, не надо, мол, я и так помню.)
— Ладно, ладно, — говорит Янис Вридрикис… — То, к чему я имел душевное рвение, исполнилось. Ваши услуги понадобятся мне, самое большее, месяц, от силы полтора… Затем я верну вам свободу, можете возвращаться обратно к вашему резиденту, предаваться литературным занятиям, музыке… Но в нынешней ситуации, по моему разумению, будет не совсем целесообразно, если вы останетесь жить в моей квартире. Сами понимаете: расследование, сплетни… В апартаментах остановились два Reichsdeutsche. А вы? Кто вы такой, какое отношение имеете к путешественникам? Свою «П.П.П.» вы получили? Получили. С жизнью познакомили? Познакомили, Что еще общего между нами?
— Я интеллигентный безработный! — с отчаянием восклицает Кристофер Марлов.
— Ну и что? Вы не единственный! Безработных — сотни, тысячи, это еще не значит, что я, Альгимант Амбрерод, в ответе за них. Ответственны те, кто правит. Всякие директора Ф., министры Х., художники с красивыми женами и послушными детками. Не правда ли, Маргарита?
— Истинная правда… — глубоко тронутая, отвечает дева, и на глаза у нее навертываются слезы. — Истинная…
— Ну вот… Образуется новый порядок, новая Европа… Тогда все будет иначе. Именем Зиглинде и Альбериха Нибелунгов. Однако как же вы так сплоховали? Разве у вас там тоже безработица? (Янис Вридрикис имел в виду геенну огненную и шишей.) Ладно! Не буду скаредом, между прочим, вы мне еще должны… Скоро пора готовить обед, он обязан стать шедевром кулинарной мысли двадцатого века. Покажем наивысший взлет нашего искусства. Маргарита это заслужила. Идите получайте мои апартаменты в «Роме», я вам дарю их… Вот мой паспорт и доллары, заплатите за месяц вперед… Я решителен, но добр душою. Через полчаса жду вас обратно…
Кристоферу Марлову не осталось ничего другого, как поклониться и уйти. Надо обернуться за полчаса, дабы своевременно приступить к торжественному ритуалу приготовления пищи, его место на кухне среди слуг. Да будет так!
Покамест он отсутствовал, старушка горничная в магазине Фейгельсона Jockey Club, что напротив бульвара, успела купить Маргарите лососиного цвета пижаму с белыми отворотами, шелковые рубашечки, трусики и красные тапочки с горностаевыми помпонами у щиколоток. После ванны поэтесса почивала в будуаре. Она в свою очередь отдала горничной старый помятый костюм и покоробившиеся туфли. Осчастливленная крестьянка благодарила со слезами на глазах — туфли были из пятнистой змеиной кожи, чем не царский подарок.
Янис Вридрикис шел навстречу Марлову и сиял — ему удалось удовлетворить свой титанический голод непритязательным и простым способом, — пробравшись в чулан и обшарив лавки, он сожрал половину тушеного свиного окорока и вылизал сметану. Почтенный слуга лишь покосился да покачал готовой. Неужто в неметчине такой голод? Слыхал он, что там-де экономят масло на пушки, но чтобы положение было столь бедственным, этого он не мог и представить.
Теперь за работу! Надобно составить меню для первого «динера» в этом доме. Оно должно быть в равной степени утонченным и питательным. Трапезе надлежит стать эпиграфом ко всем грядущим трапезам за здешним столом. Какие имеются предложения, Кристофер Марлов?
Кристофер приметил, что в кладовке на крюке висит небольшой зайчонок.
— Что скажут господа, коль скоро для первой подачи (Der Vorschmack) мы выберем блюдо, упомянутое в одиннадцатой главе второй части капитального труда по поваренному делу «П.П.П.» под названием potage? Предписание гласит — potage из прошпигованного молодого зайца — смачное и полезное для здоровья кушанье.
Магистр, довольный, поддерживает предложение: в самом деле, для начала недурно. И напоминает, в этот раз на латышском языке, на курземском диалекте, приведенный в книге рецепт:
— Возьми добротно прошпигованного зайца, рассеки его вдлинь, разрежь поперек на три-четыре куска, кроме того, прихвати кладеного петушка и несколько тушек хорошо протухших рябчиков, мякоть молочного теленка, все почищенное и на мелкие глызки порубленное. Швырни в кастрюлю шматок масла, распусти, дабы оно подрумянилось, поклади туда кусок оного зайца и все прочие вещи, из коих то блюдо potage состряпать желаешь, Возьми чистого мясного взвару, поставь на сквару, чтобы закипел, и кинь туда мелко нарезанный кухонный овощ, как-то: савойскую капусту, сельдерей и шпинат, затем разлей все по маленьким серебряным мискам, дабы остыло. Подай блюдо на стол холодным.
«Sie sprechen ja glänzend holländisch!» — произносит про себя лакей, в молодости он ходил на судах и жил в Антверпене.
Горничная тем временем понеслась искать оскопленного петушка и протухшую дичь, найдет ли? Здесь вам не городок на Венте, где все лежит под рукой. Тут столица, метрополия, тут никто рябчиков гноить не станет… Старуха, однако, втиснулась в змеиные шарканцы и, припадая на обе ноги, улепетнула — бог с нею!
Кристофер разыскал белый халат и ревностно принялся за дело: схватил сверкающий колодей и набросился на бедного зайчонка, трудился он самозабвенно, с упоением, в конце концов и это было искусство! Симфония специй, музыка шипящих в масле жарких. Potage, опус 109, № 1, фа мажор. Кристофер вдруг вспомнил, что его дед служил поваром в имении, преуспев в своем ремесле, сделался фаворитом барона, ездил с ним за границу. Возможно, Кристоферу талант передался по наследству? Так и быть, покажем, на что мы способны. Слуге позволяется лишь рубить, крошить, помешивать, счищать, поддерживать огонь и подносить вароток; работать надо быстро, проворно. Маргарита скоро проснется, потребует есть.
Что на первое? Янис Вридрикис долго листает записную книжку, там у него было отмечено, как готовят бульон из бычьих хвостов. Этот харч он выбрал, еще сидя в ландо. О, склероз проклятый.
— Бульон из бычьих хвостов? — улыбаясь, переспрашивает Марлов. — Неострым ножом возьми и порежь ошпаренный хвост не вдосек, а так, чтобы обрубыши остались в одном куске, распластай на рашпере, ставь над горящими можжевеловыми углями и держи, покамест не закапает жир. Затем вари бульон с чесноком, морковью, сельдереем…
— Довольно, довольно! — бурчит магистр. — Зачем же по-немецки? Ишь, слуга все мотает на ус. Попрошу не разглашать секреты. Also, после супа жаренная в тесте телячья бризоль. Тихо, не надо! Пускай он лучше замешивает песочное тесто.
— Mensch, как тебя зовут?
— Антон, — отвечает слуга.
— Меня больше устраивало б, если б ты был Михаил.
— Могу стать Михаилом, если вам угодно, почтенный господин.
— Вот это ответ, ты, вижу, стопроцентный! Also, Михель, беги скорей за коньяком, вот тебе пестерь. Госпожа простудилась, выручить может лишь Huile de Vénus Aunis et Saintonge пять звездочек, достань хоть из преисподней, но чтобы было. Он помогает от насморка, коли употребить в первые двадцать четыре часа. На обратном пути купи у Дашкова виноград и груши. Ясно?
— Ясно, мой господин! — говорит Антон, и след его простыл.
— Вы прогнали моего помощника; как я один справлюсь? — сетует Кристофер.
— Я помогу… Мне этот Михаил не нравится, у него слишком плутовские бельма, он у меня непременно что-нибудь да слямзит, я имею в виду рецепты, — говорит Янис Вридрикис, снимает пиджак, засучивает рукава и начинает мыть овощи. Маргарита, чай, проспит еще часок, потом наверняка потребует есть.
Хозяин моет овощи и думает о Маргарите. А Кристофер подсекает хвост и размышляет о переработанной и пополненной поваренной книге. Не получится ли она слишком нудной и однообразной, коль скоро так выпячивать яства и питие?
Все получилось на славу. Маргарита превозносила potage до небес, бульон из бычьих хвостов она вкушала первый раз в жизни, а бризоль уже не лезла ей в горло, однако на столе еще ожидали своей очереди ореховый торт, фрукты, кофе и французский коньяк. За обедом, само собой разумеется, сидели только Маргарита и господин Амбрерод. Кристофер Марлов и Антон перекусили на кухне, в то время как горничная не удостоилась даже такой чести, она свою тарелочку супа опустошила в девичьей. В этом доме господствовали феодальные нравы: в восьми комнатах обитали три разных сословия.
За столом обслуживал Антон, а коньяк разливал сам импресарио.
«Ну почему он все время усмехается, — недоумевает поэтесса. — Может, я что-то неправильно делаю? О мадонна, какой вилкой и каким ножом едят бризоль? А для чего поставлены эти маленькие хрустальные блюдца?»
— Нет, теперь мне действительно хватит, — говорит Маргарита. — Вы меня перекормите, я лопну. Разве что выпью чашечку крепкого черного кофе. Могу я попросить сигарету?
Выяснилось, что никто из мужчин не курит. Снова поднялся переполох, снова погнали Антона к Дашкову за английскими сигаретами.
— Застольную музыку! — спохватившись, кричит в отчаянии Амбрерод. — Пока принесут сигареты и мы продолжим трапезу, играйте что-нибудь, Кристофер, дорогой, бога ради, играйте!
Марлов не заставляет себя долго просить. Ему давно не терпится коснуться клавишей новенького инструмента фирмы «Циммерманн», до того соблазнительно они белеют, отражаясь в полированной крышке. Кристофер садится, задумывается и, смотря на Маргариту жуликоватыми глазами, говорит:
— Уважаемая поэтесса, я сыграю вам музыку, которую Бетховен посвятил женщине, своей Unsterbliche Geliebte, Соната-фантазия, опус 27, № 2, до диез минор, стало быть, розового цвета. Слушайте внимательно!
— Моя бессмертная возлюбленная! — в упоении бормочет Амбрерод. — Моя божественная возлюбленная с маковыми лепестками…
И Кристофер начинает сонату, столь сильно отличающуюся от прочих сонат Бетховена. Это нежная, полуфантастическая, полуреальная и, по словам самого автора, «очень деликатно исполняемая музыка». Кристофер знает ее наизусть. Первая часть по технике исполнения довольно легка, зато третья — финал — твердый орешек, развернутое развитие сонатного аллегро требует не только проникновения, но и художественной выдержки, стоит лишь на мгновение отвлечься, снебрежничать, и нить утеряна.
Инструмент хрустально чист, с гудящими басовыми сутугами, верхний регистр звучит почти как у челесты. Особенно внятно удается выделить певучую тему первой части: триоли сопровождения проигрываются настолько легко, что появляется почти неуловимый второй гармоничный план.
Кристофер забывает все: и себя, и Маргариту, и Амбрерода, и поваренные книги, и безработных: он исполняет бетховенский гимн женщине. Ни одной циничной ноты! Только тут и выясняется, что налет бравады и нигилизма на душе Кристофера совсем-совсем тонок, и кто знает, есть ли он вообще?
Когда музыка затихает, все молчат. Молчит и Амбрерод. Похоже, что он напуган.
— Кто была в самом деле эта Unsterbliche Geliebte? — спрашивает Маргарита, закуривая сигарету, которую ей принес услужливый Антон.
— Бетховен посвятил сонату Джульетте Гвичарди, легкомысленной и заносчивой даме, но исследователи полагают, будто бессмертная была совсем другая… Если вас интересует мое личное мнение, то я убежден, что «бессмертная» — вымышленный образ гениального композитора, — говорит Марлов.
— Вряд ли поэтессе интересно ваше личное мнение, ворчит магистр.
— Разве можно влюбиться в вымышленный образ? — смеется Маргарита.
— Господи, и еще как! — вздыхает Амбрерод. — Сперва я вас выдумал, затем увидел и только после этого полюбил.
— Вы играете потрясающе, — говорит Маргарита. — Если так же хорошо и пишете, то мне бы хотелось познакомиться с вашими произведениями. (Откуда у него этот шрам? След рапиры, дуэли?)
— Его произведения — вон, на столе: телячья бризоль, можете познакомиться на месте. Лишь испанский соус; не оригинален. В будущем из вас, господин Марлов, выйдет отменный повар, — говорит Амбрерод, поднимая рюмку коньяка. — Выпьем за бессмертную возлюбленную с маковыми лепестками…
— Пусть и Марлов выпьет, тогда я согласна, — говорит Маргарита. — Это была Лунная соната?
— Да, — отвечает Кристофер, налив себе изрядный глоток коньяка, — так ее называют другие, не Бетховен… Композитор эту сонату сочинил у Фирвальдштатского озера летней ночью, поэтому людишки, обделенные вкусом, приписали первой части луну, а второй — танцы эльфов. Им во что бы то ни стало хотелось укоротить Бетховена (неудобно как-то с великаном!), чтобы можно было погадать, посплетничать: Миньона законное дитя гения или нет… Ваше лицо, госпожа Маргарита, очень похоже на лицо черной Мери из Челси; да будет земля ей пухом, подымем кубки за тех, кого благополучно вытаскивают на берег… Прозит, моя новая повелительница, да не покинет вас мадонна Боттичелли!
— Я должен вам напомнить, господин импресарио, что урок элоквенции окончен, — говорит Янис Вридрикис, весь красный и надутый. Нетактичное поведение, фривольные манеры подчиненного действовали ему на нервы. Нужно как можно скорее избавиться от этого захребетника. Только никаких скандалов, упаси бог, юноша знал то, чего нельзя было знать никому на свете: ему было доподлинно известно, сколько Трампедаху лет… — Мы договорились, что вы пойдете к мадам Рубинштейн, вызовете модистку, которая придет к госпоже снять мерку и выбрать фасон. Потом пришлете продавца от Мушата с образцами обуви… Время близится к половине седьмого, в восемь закрывают магазины, не понимаю, чего вы еще ждете…
— Иду, мой господин! — говорит Кристофер. — Мне кажется, однако, что не я рвался к роялю, а вы меня пригласили.
— Вы должны делать лишь то, что вам велят, Об остальном позвольте думать мне!
— Слушаюсь, мой господин! — И, громко рассмеявшись, Марлов выходит за дверь.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Почти месяц провел Марлов в снятых Янисом Вридрикисом апартаментах. Maitre de hôtel, правда, спросил с подозрением, куда, мол, подевался сам господин, но, услышав, что шеф Марлова коммерсант и убыл в Эстонию основывать частное нефтяное акционерное общество, успокоился. Хозяин лишь удивился, почему молодой повеса не заказывает ни завтрака, ни ужина, на каковой предмет у Кристофера был припасен ответ: он, дескать, с детства страдает сахарной болезнью, должен соблюдать строжайшую диету, поэтому питается в молочном ресторане. Ну раз такое дело, все ясно, maitre de hôtel понимает, у него самого племянник мается этой хворью. Ответ клиента его вполне удовлетворил.
То была чистая правда. Марлову и впрямь пришлось соблюдать диету… Потому как полученные весной отпускные были растрачены, а на те жалкие латики, кой он сэкономил, покупая Маргарите манто и кружевную накидку, нельзя было себе позволить ничего иного, кроме похода в рыбные ряды за копченой треской и в студенческую столовую за черным хлебом. Ежели так будет продолжаться и впредь, ему скоро придется перекинуться на черные сухари и заедать их похлебкой из намоченных в воде хлебных крошек, как в самые худшие времена.
Высшее общество нежилось на взморье, настал великосветский сезон. Усеянный коричневого цвета телесами кишмя кишел наш Côte d’Azur, то бишь Лазурный берег, от Билдериней и Эдинбурга до самого Карлсбада включительно. Те места, признаться, были уже переименованы на латышский лад в Булдури, Дзинтари, Асари, однако ж господа и госпожи по-прежнему называли их по старинке — это звучало шикарнее. Дабы отправиться в гости на сей берег достатка и сытости, требовался особый повод, но у Кристофера, сказать без обиняков, его не было. Махнуть на рижский штренд просто так, на свой страх и риск не имело смысла, ибо он был связан договорными отношениями. Раз в день импресарио надлежало появляться у господина и осведомляться, нет ли для него какого-нибудь поручения, но из-за Маргариты Кристофер стеснялся приходить во время трапезы, не станет же он по причине нищеты поступаться своей гордостью. Тем паче, что Янис Вридрикис не замедлил принять на службу ученого повара, что имело один-единственный смысл: в кулинарных услугах Марлова он больше не нуждается. Когда госпожа попросила о том, чтобы Кристофер пришел как-нибудь вечером помузицировать, Янис Вридрикис такого вечера, хоть тресни, не мог изыскать: то надобно было обставлять библиотеку, то мастера приколачивали к окнам гардинные штанги, то в доме толклись художники, сапожники, электрики да печники. Кристофер мыкался неприкаянный, ненужный, как стертый гривенник, Рига опустела, Фрош путешествовал за границей, Цалитис гостил у предков на водяной мельнице в Бучауске, а Брандер хлестал пиво и купался в море, никто не знал достоверно то ли в Куйвижах, то ли в Пабажах. Тщился в одиночестве побороть хроническое похмелье: купил, как сказал дворник его особняка, полбочонка светлого, четверть лагунца портера «Ливония» и скрылся в неизвестном направлении. Кристофер валялся в апартаментах Яниса Вридрикиса на зеленой, как мох, тахте, читал прессу, проклинал жизнь и щелкал зубами. Неужто придется снова наяривать на крестинах и свадьбах, чтобы заработать на гороховую тюрю и хоть какое ни на есть ледащее пряжмо. Скорее бы кончилось лето!
Две недели прошли со дня печальной кончины поэтессы Шеллы, но поднятый газетами гвалт не утихал. Чуть ли не в каждом газетном номере появлялось по стихотворению (и незабвенное имя автора в траурном четырехугольнике). Газеты изобиловали воспоминаниями друзей, посвящениями, очерками. Три раза выходил спецвыпуск «Бульварного листка», однако ж репортеры не могли сообщить ничего, кроме того, что «утопленница пока не найдена и поиски трупа продолжаются». Граждане, зазря потратившие десять сантимов, разражались проклятиями. Но затем добавлялись новые ценные, впрочем, непроверенные сведения: кто-то видел под Болдераей прибитую к берегу синюю кофту, а кто-то узрел в море не то стог сена, не то муфту. Не удивительно: течение нынешней весной столь вертко, что Маргариту (хотя это и случается редко), видно, занесло волной под песчаные банки Рижского залива. Поднялся чудовищный крик, поскольку полиции так и не удалось изловить убивца. Беда была в том, что желтые портки носила пропасть народу: таков был последний крик моды. Сам цвет вышел из недр магазина Камарина, но породил его король парижских моделей Диор. Штанами цвета фернамбук был наводнен земной шар, и что тут мог поделать ничтожный префект не менее ничтожного городишка Рига, бывший директор департамента полиции Фридрих Роде? Незадача, срамота, да и только! Приказал арестовать примерно двадцать подозрительных личностей в портках цыплячьей окраски, начиная от яичного желтка и кончая оттенком детского помета — kindergelb, как охарактеризовал оную вапу сам префект. Все двадцать оказались из «Черной гвоздики», до сего места происшествие совпадало со свидетельствами очевидцев. Двое из двенадцати, допрошенные с вящим пристрастием, признали себя виновными. Фридрих Роде мигом стал легендарной персоной и уже надеялся получить место начальника Лудзского округа. Но тут оказалось, что преступная пара в злополучную ночь до Риги даже не добралась. Оба «гостили» в Даугавпилсе, где взломали и обчистили ювелирный магазин «У Давида Буша». Признание было не более чем ловким приемом, которым они хотели ввести в заблуждение достославного префекта и задешево присвоить украденные вещи. Однако бдительные очи стражей порядка обсударить не удалось: брильянты у злодеев отобрали, золотые часы изъяли, а самих прохиндеев выслали чуть ли не в одном трико в Мехико на судне, отправлявшемся в Пуэрто-Рико. На второй день Фридрих Роде купил лимузин и с той поры и поныне в самых почтительных выражениях поминает о сплине поэтессы Шеллы, потому как, смело шагнув в пределы неземные, Маргарита косвенно помогла ему набить карман и приобрести шестицилиндровый «кадиллак».
В сейме и литературных кругах буря только-только началась. По требованию фракции меньшинства — на сей раз их поддерживали христиане и крупные землевладельцы — большинством голосов с превеликим позором был уволен со своего поста директор департамента господин Ф., видный деятель умеренных левых, которого на второй день нашли повесившимся в уборной его собственной квартиры. Газеты на время забыли о трагедии поэтессы, все страницы заполонили посмертные снимки директора, описание клозета и его план: черные стрелы на фотографиях вели к закорюке, на которой была прикреплена роковая шейная повязка. Члены фракции умеренных левых поднялись для ожесточенной контратаки. Они провозгласили Маргариту мученицей, которую допекли христиане, дабы нагнать страх на всех поэтесс, кои в своих стихах проехались или собирались проехаться насчет богоматерей.
Через неделю на кладбище намечено было открыть памятник героине — безвременно усопшей любимице муз. У символической могилы рекой польются речи, направленные как против меньшинств, так и правительственной коалиции, а равно и против обложения налогами собственников, владеющих усадьбами бывших баронских имений. Лидер умеренных, владелец усадьбы Акенштака, адвокат Петерманис собственноручно пожертвовал на памятник триста латов, кто-кто, но уж он теперь имел право блеснуть речью. Свою лепту внес и журнал «Чайка», подбрасывали также вожди больничных касс, лишь из безработных ни хрена не удалось выжать.
В великой спешке заказали обелиск из розового гранита: посредине барельеф Шеллы, а под ним слова, кои изрек некий знаменитый художник, муж красавицы жены и отец пригожей дочурки, когда первый раз услышал о смерти Маргариты: «Какой удар нежданный для любящих тебя!»
Все вдруг воспылали любовью к поэтессе, всем она стала близка и незаменима… Реакционная «Зеленая могута» и то прикинулась другом и вознесла хвалу страстотерпице, каковая, мол, в отдельных стихотворениях обращалась к крестьянской тематике и воспевала романтику сельской жизни в Иршской волости. Орган умеренных левых «Чайка» поднял по сему поводу жуткий хай и перепечатал на своих страницах опубликованную в «Зеленой могуте» год тому назад поносную статью «Жрица разврата». Статья пестрела мерзопакостными выражениями. Христиане покупали ее на всех углах, читали и упивались осквернением памяти почившей. В стане обывательских издательств тем временем пошли междоусобицы за право издать стихотворный сборник Шеллы. Те, кто еще недавно отверг ее стихи, теперь без зазрения совести охотились за рассеянными по журнальным страницам строками, собирали их по всей периодике. Самым настырным оказался владелец издательства «Желтая роза» Янис Штерн (ему принадлежала и книгопечатня). Господин Штерн, прослышав краем уха о кончине Маргариты, немедленно помчался к хозяйке меблированных комнат и скупил старые обои, к которым в комнате поэтессы были приклеены машинописные листы со стихами. Приказал содрать и увезти к себе. Вынюхав, что у Маргариты вся родня повымерла, господин Штерн объявил себя законным владельцем ее поэтического наследия. Что с того, что он совсем недавно обозвал Маргариту «красным соловьем» и выставил из кабинета, свидетелей при этом не было…
«Не сон ли мне снится?» — думает Маргарита. Она внимательно следит за событиями, которые ей кажутся ирреальными, нелогичными. Когда она первый раз прочла посвященные себе некрологи, восхваления и воспоминания, с ней приключилась истерика, теперь она воспринимает все с яростным злорадством. Отомстить! Всем и за все. Несчастный старичок господин Ф., стало быть, уже поплатился. Мир его праху! Пожалуй, он был не самым подлым.
«Какой удар нежданный для любящих тебя»… Ха-ха! Друг мой задушевный, удар тебя еще только ждет, держись! Маргарита преисполняется ликованием, к сожалению, оно не светоносно, не возвышает, то ликует кровь и ненависть. Раны и язвы еще не зарубцевались, хотя и сама она, худо-бедно, оправилась. Ей хочется выбежать на улицу и крикнуть: «Распните его, распните этого распрекрасного человека, которому принадлежит красавица жена и дочка-милашка. Распните!»
Маргарита начинает понемногу писать, до сих пор она не могла собраться с мыслями, на душе царила смута. Но сейчас она осознала: ей лично принадлежит роскошный будуар, библиотека, рабочий кабинет и сердце верного друга. И все это ей дал Янис Вридрикис, ее спаситель и оплот, который ныне называет себя прежним именем.
Импресарио, прикинувшись экскурсантом, незаметно стибрил на старой квартире Маргариты по улице Вальню увитый засохшими розами кинжальчик — ее талисман. Маргарита когда-то купила его на барахолке у старика армянина, который уверял, будто оный резак принадлежал Тимуру и приносит своему хозяину счастье. Кристофер приволок его, протянул госпоже и сказал — вот ваша коковяка. Янис Вридрикис в свой черед подарил ей маленького Будду из слоновой кости, точь-в-точь такого, какой ей уже однажды принадлежал. И глядишь: ее талисман и Будда снова водворились на письменном столе. Божок сидит, созерцает раскосыми глазами поэтессу и ждет. Чего он ждет? Все в порядке. Маргарита сегодня сочинила небольшую поэму. Интерьер квартиры прямо создан для вдохновения: Тонэ, Свемп, Скулме — восхитительные полотна. Она может гордиться, не хватает лишь мадонны, но мадонн она больше не выносит. Терпеть не может смиренных покорных жен, тех, кто прощает…
Она сейчас сочинит памфлет о товарище господине Петерманисе. Да, да, именно о господине Петерманисе, невзирая на то, что упомянутый сударь раскошелился ей на монумент. Ох! С «Зеленой могутой» поэтесса разделается в эпосе. Уж она опишет райскую жизнь крестьян Иршской волости in natura! А издателю господину Штерну вчинит иск за кражу обоев. Янис Вридрикис умаслит прокурора, чтобы тот придал делу характер шпионажа и посадил господина Штерна в кутузку. Маргарита заявит на суде, что на обоях были записаны зашифрованные сведения для разведывательной службы некой иностранной державы касательно технического состояния имеющихся в распоряжении правительства бронетанковых сил, а равным образом и их дислокации в республике. Это подействует. Понеже правительство очень дорожит своими двумя танками, что ни говори, на них зиждется его ударная мощь! После того как однажды во время парада на Эспланаде один из танков внезапно испортился и был утащен с места демонстрации лошадками, главнокомандующий армией генерал Шмерлинь подал в отставку. Вот это была афера так афера, дух замирает!
— Красный соловей еще споет вам, господа! — говорит Маргарита.
Йоган Фридрих Трампедах теперь — немецкий подданный Reichsdeutsche, элегантный иностранец. С Маргаритой он более чем внимателен, изнежил холею, чуть ли не по глазам угадывает каждое ее пожелание. Что ни день Маргарита получает царские подношения. То палантин из черно-бурых лисиц, то плиссированное муаровое платье с разводами. Дева, которую в жизни никто не баловал, с глубоким признанием отнеслась к чувствам Яниса Вридрикиса. Мало-помалу она прониклась любовью к своему рыжему идеалисту и вскоре отдалась его ласке, которая, впрочем, особой радости ей не доставила. Было бы просто жестокосердно не откликнуться на столь бескорыстное чувство. Маргарита оказалась бы неблагодарным созданием. Хотя, надо признаться, некоторые странности Яниса Вридрикиса ее весьма и весьма озадачивали, сказать по совести, просто огорошивали. Во-первых, старомодная манера речи у столь молодого человека, его болтовня об общеизвестных материях, феноменальная прожорливость, но прежде всего — маниакальное пристрастие к лекарствам. Капли, декокты ее сердечный принимал утром и вечером, перед едой и после оной, натирал мазями чресла, умащивал пятки, капал снадобья в уши, в глаза, вдыхал их с помощью ингалятора. Перед сном принимал укудик, а продрав утром глаза, глотал сушеных мух, хотя на здоровье не жаловался, спал как сурок, храпел как бык, зубы трещали, когда он скрипел ими во сне. Маргарите иногда прямо дурно делалось, однако настоящая любовь велит сдерживаться и терпеливо сносить чудачества избранника. А у кого их нет, скажите на милость? Маргарита, например, сидя в ванне, любит плескаться, брызгаться, оглашать воздух громким пением и верещанием, — но, несмотря на это, разве она не прелесть? Кроме того, она тайком таскает из кладовки селедку и жрет ее, запершись в будуаре. Это пережиток тяжких дней, когда Маргарита работала рассыльной в рекламной конторе, с той поры ее организм приучен к селедке. И еще у нее имеется странность — через каждые пять минут всматриваться в зеркало, но, собственно, этой слабости подвержены все женщины — беспрестанно проверяют, в каком виде фасад, совершенно забывая при этом о задворках.
Янису Вридрикису теперь часто приходится бывать вне дома, то у него совещания, то пивные вечера. Занят он ныне по горло, потому что познакомился и сошелся на короткую ногу с Книримом из редакции «Rundschau». Маргарита скучает в одиночестве. Ей очень хотелось, чтобы Кристофер пришел поиграть на рояле, но стоило Янису Вридрикису услышать об этом ее желании, как он приходил в исступление и стервенел: госпожа, дескать, должна блюсти дистанцию в отношениях с импресарио: их разделяют классовые препоны. Затем со страстью начинал порочить юношу в глазах поэтессы. Кристофер, мол, коломыка и жулик: хитростью выманил у него манускрипт и хочет выдать за свой. У Трампедаха имеются подозрения, что Кристофер за ними шпионит.
Вначале Марлов не нравился Маргарите, парень себе на уме, не в меру ироничен («У него щучий оскал!» — однажды подумала она). Но потом стала догадываться, что юноша несчастен и одинок, а ухмылочка — всего лишь маска. Однажды Кристофер явился как раз в ту минуту когда госпожа и магистр собирались садиться за уставленный изысканными яствами стол. В скудели благоухала жареная утка с румяной корочкой и трюфеля по майонезом. Маргарита пригласила Кристофера сесть и разделить с ними ленч, но юноша наотрез отказался убежал. По лихорадочному блеску его глаз Маргарит смекнула, что Кристофер был страшно голоден. Ясно видно: человек заброшен, отощал… Знать, перебивается с хлеба на воду… Чепуха! О таких вещах Шелла больше думать не хотела. Те времена остались за горами, теперь — подальше от нужды! Кристофер не мог тогда выручить ее, и она сейчас не в состоянии помочь ему. Такова жизнь.
«Неужто я позабыла идеи, которыми восхищалась? — спрашивает себя Маргарита. — И пусть! Лучше из грязи в князи, лучше в выскочки и шалопутки, лишь бы не обратно в преисподнюю! Меня спас Янис Вридрикис. Спасибо тебе, мой добрый благородный друг, твое желание для меня закон. Кристофер не придет».
Но однажды вечером, когда магистра не было дома, госпожа облачилась в свою самую элегантную справу, дорогой помадой Chanel накрасила лукавые, чуть выпяченные губы и вышла на бульвар прогуляться. В конце концов, до каких пор она будет сидеть взаперти, точно колодница? У оперного театра она наскочила на Яниса Вридрикиса. Магистр сей же час простился со спутниками, озабоченно подозвал такси и нежно запихнул беглянку в машину. Но Маргарита не сдалась, она потребовала, чтобы Трампедах повез ее развлекать, все едино куда, такую жизнь она, мол, больше терпеть не в силах.
В тот день в зале Улеи шел литературный вечер, посвященный памяти утопшей поэтессы Маргариты Шеллы. Едва лектор, художник, примерный муж красавицы жены и отец ядреной малютки дочки, завел свои воспоминания о героине-покойнице и ее безотрадном детстве в семье бедного батрака из Иршской волости (он любил преувеличивать, себя, например, выдавал за сына нищего фабриканта), в зал на всех парах влетела молоденькая ваятельница Эльфрида Алсупе (та самая, которая только что кончила вытесывать из камня барельеф Маргариты), запыхавшись подбежала к устроительнице вечера и шепнула ей на ухо:
— Кошмар! Маргарита сидит в кафе Шварца и курит!
— Что ты порешь! Какая Маргарита? — у руководительницы сперло дыхание.
— Шелла.
— Ты рехнулась?
— Она! Честное слово левых! Разряжена в пух и перья. Под боком рыжий дипломат… Швейцар у двери шепнул: подъехали сами на своем лимузине… Иностранец, миллионер… Узрела меня, помахала ручкой: «Как дела, Фридочка?»
— Что теперь будет? — руководительница схватилась за голову. — Какое несчастье! Жива! Что теперь станет с нашей фракцией?
Эльфрида Алсупе резко прерывает лектора:
— Товарищи! Случилось невообразимое! Маргарита Шелла жива, сидит у Отто Шварца и передает вам всем привет.
Зал сперва оцепенел, затем задрожал в суматошном гуле:
— Что-о-о!
Лектор побледнел, точно белый рушник, и на трясущихся ногах покинул трибуну.
Тишина, звенит трамвай… На улице кто-то смеется.
Жуткая катастрофа. Возможно ли большее бесстыдство? Впрочем, от нее такого коленца можно было ожидать. Вот к чему приводят мадонны! Вдырились мы теперь и, похоже, настал нам конец!
Что хотите, но к такому позору никто не был готов. Героиня-покойница — и вдруг жива!
Руководительница вечера и еще несколько членов фракции побежали в помещение бюро. По телефону подняли с постели предававшегося послеполуденному сну товарища господина Петерманиса. Нужно действовать без проволочек, принять немедленно решение, завтра об этом узнает вся Рига. Надобно отмежеваться.
И собрание фракции приступает к отмежеванию.
— Вы сказали, она сидела у Шварца вместе с иностранцем? Все ясно — ренегатка! — резюмирует Петерманис. — Я всегда говорил: сорвите маску с этой мадонны! А вы? Воздвигаете монументы, намогильники! Позор! Шантаж! Где редактор?
— Тут, господин Петерманис, — отвечает плотный юноша, стоящий рядом.
— Никакой не господин Петерманис, а товарищ… Слишком крепко засело в вас барство, редактор! Расхлебывайте теперь кашу, которую заварили. Шевелите мозгами… Безвременно усопшая героиня… Страстотерпица! Вам не смешно? Шелла решила потешиться над нами а вы попались на удочку… Можете считать себя уволенным с должности редактора, товарищ Белоножка!
— Что мы будем делать с памятником? — спрашивает Эльфрида Алсупе.
— Памятник останется! — громко отвечает Петерманис. — Мы его поставим жертве Маргариты — невинно пострадавшему директору департамента, приснопамятному и верному нам навеки депутату умеренных левых господину Ф. Освятим надгробие, как и предполагалось, в следующее воскресенье. Сделаем вид, будто статьи и речи о монументе были всего лишь одиозной шуткой, чтобы сбить с панталыку врагов и завистников директора Ф.
Затем Петерманис поворачивается к ваятельнице.
— За эту ночь вы должны высечь из намогильника барельеф, вышибить его вон, чтоб духу не было! — приказывает он.
— Не желаю! — взвизгивает Эльфрида Алсупе. — Это моя лучшая работа. В этот раз я была в ударе.
«У-у, кривая твоя рожа… — рычит про себя начальник, глядя на ваятельницу. — Еще скульптор называется!»
— Тогда дайте молоток мне! Интересы фракции прежде всего!
— Я не позволю! — вопит Эльфрида Алсупе.
— Хотел бы я посмотреть! — смеется Петерманис. — Кстати, слова «Какой удар нежданный для любящих тебя!» можно оставить. Это следует понимать: удар будет дан преподлой Маргарите, которую любил директор Ф., отныне это не тайна, после кончины директора мы имеем право смело заявить: он пал жертвой беспутной поэтессы. Предлагаю немедленно исключить Шеллу из рядов нашей фракции.
— Мы исключили ее еще в прошлом году, товарищ Петерманис, — вставляет секретарша, — после смерти не успели принять обратно, то есть оформить ее восстановление в наших рядах.
— Гм… скверно. В таком случае надобно сегодня же ее принять, чтобы завтра можно было с треском исключить, надеюсь, вы смекаете? — говорит Петерманис. — Всегда вы, секретарь, что-нибудь да провороните!.. Даю вам возможность исправиться. Возложите на себя обязанности редактора «Чайки». В завтрашнем номере ни слова об утопленниках! Пишите о намогильнике директору Ф., а на последней странице дайте сообщение — об исключении недостойного товарища М. Ш. в связи с тем, что она продалась иностранным банкирам и миллионерам, предав таким образом латышских предпринимателей, предоставляющих работу классу трудящихся. Точка! Подайте сие на самом высшем уровне журналистики!
После этих распоряжений все разбрелись. Кошмарная камарилья политиканов, помои общества…
Утро пришло мудренее вечера. Умеренные левые первыми кинулись раздувать скандал, дабы спастись от верного срама. Через месяц выборы! Помилуй бог! Партия на краю пропасти. Очередным героем-покойником на скорую руку был коронован директор департамента Ф. Умеренные подали в сейм запрос о непотребных действиях оппозиции, которая ничем не обоснованным исключением довела до гибели честного депутата господина Ф. Они потребовали вотума доверия правительству, и — ура! — правительство пало, коалиция оказалась в глубокой луже.
Известный художник, муж, отец и пр. срочно выехал в Лиепаю к родственникам жены. Поговаривают, что с ним приключился нервный шок и он занедужил манией преследования, лечится в Бернатской водолечебнице, посещает баптистские богослужения и колется инсулином.
А в высшем свете только и делали, что колотырили и чесали языками про Маргариту и Яниса Вридрикиса, над их головами реял нимб таинственности. О сказочном богатстве аристократа, элегантных апартаментах на бульваре Райниса, обоях из Дамаска и шубах Маргариты складывались легенды. Члены правительства, эксминистры, генералы и их супруги наперебой стремились попасть в высокородный салон.
Высшее общество приглашало Маргариту почтить своим присутствием карнавал в Латинском квартале, посетить бал Прессы, однако ж она никуда не ходила, знакомств не искала и в своем салоне никого не принимала. Янис Вридрикис, как подобает иностранцу, встречался лишь с бывшими баронами, графами и патрициями Старой Риги, потому что соучаствовал в банкетах и собраниях, имевших место на улице Кениню, куда латышском высшему свету вход был заказан. Слишком он был неотесан, кого ни копнешь — все родом из холопов, а на помянутых сходках говорилось о вещах, которых туземцам и вовсе слышать не полагалось: о скором «Drang nach Osten» — крестовом походе на Восток, который обещал провозгласить вожак мейстерзингеров Уриан-Аурехан. Судили-рядили еще о том, каким образом верну себе экономическую власть, отобранные имения, как из вести богатых парвеню — серых баронов.
А милые беспечные латыши тем временем сколотили еще одно гражданское правительство, члены его — министры и генералы — поживали в полнейшем спокойствии, ничтоже сумняшеся занимались интригами, мелкими склоками, содержали любовниц и по своей дремучей наивности не замечали, что на Западе сгущались темно-бурые тучи, которые ширились и росли ввысь. То были клубы нибелунгских туманов.
Поэтесса всю эту возню и ажиотаж восприняла с откровенной насмешкой. Она писала мемуары. Газеты не выписывала, с репортерами ни в какие разговоры не вступала. Днем она читала и работала над стихами, а по вечерам бродила по кофейням. Маргарита сумела уговорить Яниса Вридрикиса, чтобы тот позволил Кристоферу сопровождать ее в этих походах, поскольку у Трампедаха с каждым днем оставалось все меньше и меньше времени на личную жизнь. В те часы, когда Трампедах обретался на важнейших заседаниях, импресарио вменялось в обязанность выгуливать госпожу. Трампедах ежевечерне бывал на собраниях балтийских немцев в институте Хердера или у Крепша, реже — в погребке ратуши. Штаб магистра, если можно так выразиться, находился в особняке Concordia Rigensis, в тупичке напротив кафедральной церкви св. Якова. На этой улочке беспрерывно происходили драки между латышскими и немецкими студентами (вспомните — De bellum beveronicum), пускались в ход трости, резиновые стеки, времена были беспокойные, воздух наэлектризован. «В подобной обстановке лучше, чтобы Маргарита не разгуливала одна», — подумал Янис Вридрикис и уступил. В конце концов, Кристофер был не тот мужчина, который мог бы с ним соперничать.
Дела Марлова понемногу пошли на лад, ему стало фартить: он получил недурно оплачиваемое место органиста в богатом приходе, которое ему выхлопотала мадам Цауна, считавшаяся там председательницей дамского комитета. Юноша прилежно изучал контрапункт и подрабатывал частными уроками.
К Новому году он сумел обзавестись великолепным костюмом, лакированными мокасинами, пальто с бархатным воротником и черным котелком, каковой в те годы называли «октобером». Маргарите больше не приходилось стесняться, когда ее сопровождающий, благородно помахивая желтой камышовой тросточкой, вышагивал вместе с нею по бульварам. Барышни, посетительницы кафе, с явной завистью рассматривали пару, сидящую за дальним столиком, — даму в вишневого цвета костюме дерби, униформе всадницы (она вертела в руках хлыстик для верховой езды), и ее стройного спутника. Наипаче удивляло всех то обстоятельство, что недоступная госпожа выбрала своим кавалером Кристофера Марлова.
— Что? Чип? Друг дома? Родственник? Любовник?
Акции Чипа повышались не по дням, а по часам. К нему подлизывались те, кому что-нибудь нужно было от Яниса Вридрикиса, его засыпали приглашениями, чтобы в застольной беседе поближе узнать о легендарном богаче и его гордой и сдержанной подруге. Пошли слухи, Кристофер-де родственник Маргариты со стороны матери.
И вот в один прекрасный день к Кристоферу Марлову (он снял себе дешевую меблированную комнату) явился с визитом владелец издательства «Желтая роза» господин Штерн. Он подарил юноше серебряные часы, долго жал длань, хлопал по раменам и поздравлял с песней «Элегия пишущей машинки» (на слова Маргариты Шеллы), Господин Штерн горел желанием сию песнь издать. Кстати, не может ли Кристофер замолвить словечко, чтобы Шелла прекратила тяжбу касательно присвоения обоев, сиречь стихотворных манускриптов. В таком случае господин Штерн заплатил бы ей семьсот латов авторского гонорара, а сборник выпустил бы в роскошном переплете… Положа руку на сердце он весьма уважает Шеллу и как поэтессу, и как человека.
Гм… Кристоферу было известно, что Янис Вридрикис обещал напечатать опус Маргариты на собственные средства, но круги балтийских немцев, ознакомившись с его революционным и отнюдь не прогерманским содержанием, приказали Трампедаху воздержаться от публикации, Ослушание могло бы самым нежелательным образом повлиять на карьеру Яниса Вридрикиса. Магистр присягнул мейстерзингерам, поклялся Альберихом, Фрикой и Фрейей из Нибелунгов. Надо было глядеть в будущее. Что сказал бы Уриан-Аурехан? (Грязь, преследования, супость…)
Янис Вридрикис как-то признался Кристоферу со слезами на глазах: он, мол, находится сейчас между двух огней. Маргарита настаивает, чтобы он доказал свою великую любовь деянием, а господа из «Rundschau» стращают неприятностями. Что делать? О боже, найти кого-нибудь, кто пожелал бы издать эту дрянную книжонку! И волки были бы сыты, и овца осталась бы цела, потому что свершилось бы сие без моего участия, — вопиял Янис Вридрикис.
Импресарио оказался именно тем человеком, который все уладил. Маргарита отступилась от своего иска к владельцу «Желтой розы» Янису Штерну. Издатель выплатил поэтессе неслыханный по тем временам гонорар — семьсот латов, сборник вышел на мелованной бумаге в специально пронумерованном количестве экземпляров, украшенный виньетками знаменитого графика, и продавался по баснословной цене.
Вот это была сенсация! Высший свет, все прежние супостаты поэтического таланта Маргариты не щадили сил чтобы раздобыть книгу. А как же? Отныне обладание ею входило в великосветский набор хорошего тона. Сборник стоил дорого, и всякой гниде он был не по карману. Случилось, что вредоносное революционное содержание, обряженное в утонченную форму, попало отнюдь не в руки простого народа, где оно причинило бы ущерб неизмеримый, как идеологический, так и моральный, а водрузилось на книжные полки сытых читателей, где покоилось среди мемуаров княгини Бебутовой и романов Мориса Декобра в красных сафьяновых обложках. Произведение редко вынималось из шкафа и еще реже перелистывалось. Все мероприятие с изданием оказалось прехитрейшим культурно-политическим ходом, и организовал его не кто иной, как владелец «Желтой розы» Янис Штерн.
После поражения умеренных левых на выборах господин Петерманис переметнулся к крайним правым, его внешний вид вполне это позволял: худощав, с седыми баками, в золотых очках, весьма пригожий и ладный. А что ему оставалось? Рабочие перешли на сторону левых профсоюзов, их уже ничем не удержишь и не обманешь. Обыватели опасались: скоро-де грянут ужасы коммунизма, поскольку чуть ли не каждую неделю в каком-нибудь из городов республики шли судебные процессы над подпольщиками. Национальный клуб надрывался в крике, требовал диктатуры, железной руки. Лишь в одном не могли сойтись: кому должен сей кулак принадлежать. Кто будет вождем? Старые земельные хозяева настаивали на том, что они, дескать, — соль земли и класс избранников, а националисты протестовали, шатались по улицам, громили вывески евреев, сдирали с афишных столбов лозунги старохозяев. Кончилась междоусобная возня тем, что Национальный клуб ликвидировали, а крестоносцев, дабы они опамятовались, рассовали по тюрьмам. Минула осень. По Матвеевской улице в сторону Гризинькална проплыло шествие с красными флагами и плакатами: «Хлеба и работы!» Шли безработные и члены профсоюза. Поговаривали, что было всех их тысяч тридцать. Ничего подобного Рига еще не видала. Вызвали полицию Фридриха Роде, расставили стражей порядка шпалерами до самого Гризинькална и вокруг оного.
А Трампедах знай себе трудился, терпеливо и тихо, как крот. Он жил полнокровной насыщенной жизнью. Мастерство сочинителя и ученого вступило в новую фазу. Махнув рукой на разработку древних форм латышского языка, которыми увлекались его предшественники Молодой Стендер и Эльверфельд, он вернулся в лигу проповедников балто-немецкой культуры. Магистр больше не утверждал своего латышского происхождения, теперь это было бы излишним. Все реже жаловался он на тяжкую утрату — потерю «П.П.П.». Не те нынче времена, чтобы думать о пупетонах и жарких, теперь на первое место выходили стадионы да цеппелины. Янис Вридрикис ломал голову над себестоимостью препарата Т-1, производить яд из сливовых косточек смешно. Во что бы в подобном случае обошлись десять тысяч галлонов Т-1 (по расчетам мейстерзингеров, такое количество понадобилось бы уже в первые дни войны)? Книрим запретил производить эксперименты в домашней лаборатории. Трампедаха познакомили с директором Шрейенбушской фабрики красок и лаков господином Н., у него имелись связи с IG Farbenindustrie, завод обладал определенным правом экстерриториальности: в великолепно оборудованные лаборатории не совали носы ни шпики, ни правительственные надзиратели; концессию иностранное общество получило от христиан незадолго до падения кабинета. В этой первоклассной лаборатории и пропадал ныне Янис Вридрикис всю первую половину дня. После обеда он работал в ставке Concordia Rigensis, официально она называлась Обществом любителей балто-немецкой литературы и истории. Магистр неустанно штудировал походы крестоносцев, написал поэму о графе из Глейхена, изучал литературу рижских патрициев и ее зачинателей. Ему удалось доказать, что родившийся в Риге в шестнадцатом веке поэт Вастлавис Плиенис или Плиене — немец по происхождению, ибо свою благохвальную песнь Риге, достолепную поэму «Enconium inclitae civitatis Rigae metropoli Livoniae», подписал именем (conscriptum) Basilius Plinius Rigensis lione (1595). Разве латыш сумел бы столь блистательным слогом воспеть рыбаков Даугавы, рижские башни и рынки, порт и приезжих земгальских, лагальских, а равным образом селийских мужиков с возами, и притом на чистом латинском языке. Совершенно ясно: он был никаким не ливонцем (как сам подписывался) Плиенисом, а балто-немецким Плиниусом. Магистр откопал и другие любопытные вещи, а именно: напечатанную в 1869 году в первых номерах «Балтийского вестника» и переведенную фон Мирбахом на латышский язык легенду-сочинение об Эмбутском Индулисе и его друге Пудикисе, литовском кунигайкште Миндауге, немецком рыцаре — комтуре Гронингене и его дочери-красавице Арри. Оказывается, великий поэт Райнис создал свою драму «Индулис и Ария», прочитав балто-немецкое сказание (интересно, сколько ему могло быть лет в ту пору Silentium, corona! Все хорошо, что посылает нам Roma!
В газете «Rundschau» Трампедах открыл отдел «Сатирикон» (в этот раз на немецком языке), он набил его своими язвительными фельетонами, которые и поныне не утратили актуальности в отношении смертельного магистрова врага Джонсона. Если раньше Янис Вридрикис меньшей мере не называл свою жертву по имени, то теперь в фельетоне ясно указывалось, что речь идет о лекаре Айваре Джонсоне, к каковой указке был присовокуплен адрес и короткая характеристика: Цесис, улиц Гауи, 85, окружной доктор, шарлатан и протобестия Джонсон несказанно удивился, узнав, что его преследователем из «Rundschau» является молодой и страшно богатый иностранец. С таковым, разумеется, нечего было и тягаться, тем не менее каждая статья ударяла по Джонсону, точно гвоздь, вколачиваемый в гроб его заходящей славы. А заместитель Джонсона Ивбулис спал и видел уже тот день и час, когда фортуна поднесет ему освободившееся местечко начальника.
Маргарита не понимала смысла и сути помещенных в «Сатириконе» фельетонов, ее лишь пленял остроумный старогерманский язык Яниса Вридрикиса (он им овладел параллельно со штудированием древнелатышского наречия, совершенно интуитивно), а также превосходный стиль. Янис Вридрикис наловчился применять в прозе аллитерацию, ритмичные структуры, рифмы и прочие атрибуты поэзии — подобная дерзновенность духа восхищала поэтессу. Виделись они, правда, крайне редко; лишь самую ночную темень Янис Вридрикис проводил в своей квартире. И то всякий раз являлся домой такой усталый, что сразу же плюхался в постель, а через десять минут начинал храпеть и устрашающе скрипеть зубами.
Какой была бы жизнь Маргариты, если б ежедневно не прибегал Кристофер? Едва кончались лекции, Марлова уже несло посидеть часика два-три в обитом дамаском будуаре поэтессы. Маргарита была интересным собеседником. Ведя уединенный, замкнутый образ жизни, она много размышляла и много писала. Ее стих обрел утонченную форму, изящность стиля. Она, как никогда прежде, нуждалась в человеке, с кем можно было бы поговорить, кому можно было бы доверить свои творческие замыслы. Читала вслух свои стихи, ждала оценки. Кристофер судил беспощадно. Маргарита вначале переживала, а потом привыкла. Нельзя сердиться на мальчишку, чьи скепсис и ирония не признавали никакого пафоса, никаких романтических украшений. Да, таков он был, этот музыкант. Ха-ха! Маргарита прозвала его помесью Рабле и Гофмана, сравнение пришлось парню по душе. Кристофер только что сочинил цикл песен «Поэма о пишущих машинках» на слова Маргариты Шеллы. Эти стихи она написала задолго до покушения на самоубийство. Тексты звучали сурово реалистично, с некоторым привкусом экспрессивного натурализма. В такой манере она тогда работала. Музыка Кристофера, однако, все смягчила и подняла в мелодическом великолепии. Она удивлялась: бездонное отчаяние освещено надеждой. То больше не было отрицанием жизни. Кристофер открыл в душе Маргариты задатки позитивизма. Неунывающий мальчишка был этот Кристофер, всегда умел выкручиваться… И хотя поэтесса и музыкант сильно разнились характерами, их объединило скептическое отношение к людям. Оба они потеряли какие-то идеалы, а может, не имели их никогда, этого они точно не знали. Во всяком случае, сейчас их обуревало желание искать новые. Маргарита видела спасение в позитивизме Кристофера, а Кристофер в ее жажде человечности.
Что-то должно было произойти. Чудо было в пути. Быть может, Ренессанс?
Маргарита частенько просила юношу сесть за рояль и помузицировать: то были самые радостные мгновения в их близости. Кристофер дождаться не мог, когда поэтесса, взяв сиреневые листы бумаги (только на таких он писала теперь стихи) и полдюжины остро наточенных карандашей, сядет за письменный столик в углу салона и скажет: играйте, музыка вдохновляет меня, а еще паче ваши странные рассказы…
Можно ли было назвать подобное времяпрепровождение музицированием? Кристофер больше говорил, нежели играл. Как только угасал аккорд, он начинал рассказывать свои фантазии о Ренессансе, искусство Возрождения было его коньком, в особенности английские вирджиналисты и мадригалисты шестнадцатого века.
Кристофер исполнял произведения для вирджинала Вильяма Бёрда, Джона Булла, Орландо Гиббонса и Джона Доуленда: ричеркары, фроттолы, вилланеллы и падуаны. Желая со всей строгостью придерживаться стиля, Кристофер попросил у Маргариты кружевную накидку с волнистой каймой и накрыл ею струны, дабы звук сделался глухим, как у спинета, и резким, бряцающим, как у китары, — именно так звучал вирджинал!
Кристофер начал с Томаса Теллия (Tallis), попросил обратить внимание на восхитительные модуляции, такие и поныне могли показаться слишком дерзкими, на приемы, запрещенные нидерландскими контрапунктистами, на увеличенную кварту. То был Ренессанс! Даром, что ли Джона Марбека (Merbecke) присудили к сожжению на костре как еретика за то, что он ввел в мотет два тритона — сатанинскую мелодию? (Позже, правда, епископ Винчестерский его помиловал.) Пуритане доказали, что два тритона суть не что иное, как чертовы рога и хвост: один тритон уходит в дискант — в рога, другой в бас — к хвосту. Ренессанс-де дьявольское изобретение, что уже доказали «Nobleman and Gentleman Catch-Club». Ox эти веселые и озорные «catch», там каждый мог петь как бог и а душу положит, единственное, что требовалось, — держаться канона и помнить слова следующего куплета!
— А сейчас, Маргарита, я спою вам лирическую монодию из «Nuove musiche», ее, верно, сопровождали на лютне, но я умею подражать ей, эффект получается такой, будто играет гитара. Текст взят из «Эдуарда II» Кристофера Марло — Praise the lord o ye gentiles all. Я потрясающе исполнил ее на премьере, честное слово.
И тут он с безупречным английским произношением спел речитативом насыщенную метафорами блистательную монодию Марло. Она предназначалась для баса, мелодию создал Вильям Бёрд, потому что именно он в те времена писал для театра Блекфрейра в Лондоне (Blackfriars-Theater) монодии, вилланеллы и морески.
Маргарита слушает и начинает улавливать, почему Кристофер, знакомясь с нею, подал знак молчать, когда она спросила его, чем объяснить, что у юноши и английского писателя одинаковые имена и фамилии, а также одинаковые рубцы на лице, от глаза до уголка губ.
— Это — двойники, они — одно и то же, — шепчет Маргарита. — Praise the lord. Уж если не одна плоть, то по меньшей мере одна идея.
Глаза Кристофера, когда он декламирует, сверкают мефистофельским блеском, Маргарите делается жутко.
— В театре работали Лили, Пиль, Бен Джонсон, Герик и я, — продолжает Кристофер. — Шекспир поначалу руководил репетициями. Мы с Вильямом родились в одном году (1564), в том самом году, когда в Италии явился на свет астроном Галилео Галилей и скончался Микеланджело — не чудесно ли это совпадение? А еще чудесней, что Ренессанс английских вирджиналистов проблаговестил отец Галилео — Винченцо Галилей, крупнейший композитор «Nuove musiche», поэт и реформатор музыки. Послушайте, Маргарита, стихи и музыку Винченцо Галилея «Il rapimento cefalo». — И Кристофер запел речитатив, сопровождая на инструменте найденную в альбоме «Fitzwilliam Virginal Book» монодию, не забыв перед этим прочесть презабавнейшую декларацию Винченцо Галилея и Джулио Романо.
«В анно 1589-м, когда кружок друзей Йогана Барди, графа Верни, именуемый еще и camerata, собрал в старинном граде Флоренции великое скопище поэтов, музыкантов, мыслителей и ученых, мы оба обрели во взаимных беседах больше мудрости, нежели за тридцать лет прилежного изучения контрапункта. Нас осенила догадка, что существующий до сей поры порядок — пренебрегать в пении произношением и смыслом слов, нисколько не считаясь при этом с поэзией, — вельми неправилен и нелеп. Потому как в угоду контрапункту, сему несуразному губителю поэтического слова, слога то сокращают, то вытягивают или же немилосердно обрубают, через каковы действа весь смысл и благолепие из них исчезают. Платон провозгласил мысль, что для монодии прежде всего надобны речь, за сим ритм, и только после оных — тон, а ни в коем разе не наоборот. Ибо звуки должны возвеселить дух (intelletto) не только гармониями, каковые лишь для уха предназначены. А посему мы со всей твердостью должны настаивать на нашем высоком требовании — в пении (nobile spezzatura del canto) пуще прочего радеть и пещись о поэзии, лишь изредка допуская какой-либо дельный диссонанс — квинту или терцу, а бас оставлять в глубоком покое, за исключением тех месте где мы хотим его выпустить совокупно со средними голов сами немного порезвиться для веселия духа».
Золотые слова Ренессанса: радеть и пещись о прекрасном и о поэзии! Контрапункт являл собой застывшую догму, от него освободились, и расцвела вирджинальная музыка, а назло пуританам — и театр. Самые уморительные комедии, самые жуткие драмы писали мы для нашего театрика Блекфрейра, какого там театрика — скорее всего, балагана комедиантов на берегу Темзы. Вильям был всех нас выше. Бен Джонсон не выдержал, движимый завистью, опубликовал памфлет, в коем напустился на «Виндзорских кумушек».
Оба они соперничали еще из-за женщины, Черной Мери. Божественная святая! Она досталась мне, однако какой-то ревнивец подкупил Депфортского аббата и во время очередной ссоры тот чиркнул меня ножом…
— Молчите! — нетерпеливо прерывает его Маргарита. — Я не люблю слушать о страшном. Вам же близок юмор, расскажите что-нибудь смешное.
— Елизавета была самой страхолюдной из всех владычиц, а Джеймс I — самым бездарным стихоплетом. Когда Чапмен позволил в своей комедии выразиться: «Джеймс само воплощение юмора, а Елизавета прекрасна, как древнегреческая Елена», то чуть было не угодил на виселицу. С тех пор и пошло выражение — юмор висельника.
— Вы язва и болтун, — несколько обидевшись, заявляет Маргарита. — Рассказываете вроде бы о серьезных вещах, а между тем расхваливаете самого себя. Вам только дай похвастаться.
— О, нет! — горячо возражает Кристофер. — Музыканты, верно, привыкли бесконечно распространяться о собственной персоне, собирают пенсионеров и школьников, чтобы разрядиться и заодно внушить себе, будто все, что им сию минуту пришло в голову, — святая правда. Я лишен этой радости: гляжу на себя со стороны.
Я немного эгоист, немного честолюбец. Мой двойник, тот, кто наблюдает за мной, — не лучше. Мы друг друга не жалуем. Он ухмыляется, видя дешевый, белыми нитками сметанный спектакль. Дистанция чуть уменьшается, лишь когда потягиваешь сладкое винцо. А вот после двух бутылок мы сливаемся в единое целое и тогда можем наговорить друг другу такие вещи, что наутро — волосы дыбом.
— Лучше поиграйте! — говорит Маргарита и грозит пальцем.
— Кто мог вообразить, что пуритане возжаждут моей жизни? — упрямо продолжает Кристофер, начиная ригдону Джона Булла. — Сколько крови пролили христиане, чтобы остановить вращение Земли, по крайней мере — чтобы о нем не трепались. Ученых мужей сажали на костры или подкупали, один лишь дух не удавалось покорить. Галилей, тот дал себя подкупить, он слишком любил удобства, он согласился промолчать, ибо знал, что Земля все равно вертится, нравится это начальству или нет. Вы, Маргарита, очень похожи на Галилея: любите удобства и прекрасно сознаете, что все устроится и так, без вашего участия. Втайне надеетесь на чудо, но вам не хватает смелости выйти на улицу и изрыгнуть проклятие: «Распните его!» Барельеф на памятнике расколошматила та самая ваятельница, которая его создала. Художнице ничего другого не оставалось. За свое послушание она получит дополнительное вознаграждение. Стерпит и будет молчать. Пуритане рыщут кругом, ищут, не осталось ли еще какого-нибудь античного памятника, какой-нибудь бесценной статуи или обнаженной Дианы в золотой раме, каковые потребно разнести на куски. Но Ренессанс, назло им, грянет! — Свои слова Кристофер заключает плагальной каденцией, видно, потому, что не может предсказать, когда его пророчество сбудется и дождется ли его поколение этого или нет.
— Вы странный человек, Кристофер, — говорит Маргарита. — Янис Вридрикис уверяет, будто вы боитесь пентаграммы и не переносите пения петуха по утрам. Это верно?
— Да, шантеклер меня приводит в волнение. Всякий раз, когда слышу его голос, жду: взойдет солнце или нет? Кукареку! — импульс, исходящий из столь мизерной головки, точнее, астрономических часов, но мне сдается, шантеклер однажды проспит и тогда что-то произойдет…
— Крушение мира! — смеется Маргарита. — Кстати сказать, петушок моего аппетита пропел уже третий раз, а Антон запаздывает с обедом.
— Я пойду, — спохватывается Кристофер и протягивает руку.
— Никуда вы не пойдете! — говорит Маргарита. — Очень, очень прошу, пообедаем сегодня вместе. Затем выйдем побродить, у вас ведь вечер свободен?
— Я могу прийти попозже, — говорит Кристофер и норовит выйти.
Но Маргарита берет юношу за руку и ласково вопрошает:
— Почему вы всегда избегаете оставаться на обед? Это что, заносчивость? Вы ведь так или иначе побежите куда-нибудь поесть. Кстати, как теперь ваши дела? Я имею в виду хлеб насущный. Снова на мели?
— Ко всему этому, сударыня, я неплохо притерпелся, — не поднимая глаз, отвечает Кристофер. — Вспомните остроумную сентенцию Бальзака, он пишет от имени Мерсье. Литература, поэзия и искусство — создания человеческого мозга — еще никогда не сумели никого накормить. Окропленный чернилами урожай, мол, созреет (буде вообще созреет) лет через десять — двадцать после посева. Так долго, естественно, никто ждать не может. Поэтому молодые художники иногда возводят в ранг хлебных злаков даже сорняки. Сими сорняками, госпожа, время от времени я добываю себе на пропитание.
Раздается гонг, и дверь в трапезный зал распахивает Антон.
— Уважаемая госпожа, кушать подано!
— Доставьте мне эту радость, Кристофер, пообедаем вместе… Антон, накройте и для господина импресарио, сегодня я задержу его, я должна пойти за покупками, и мне нужен провожатый.
Кристофер уступает, хотя поклялся никогда более не садиться за стол этого жмота и сколдыры Трампедаха. Ноздри щекочет благовоние нежных подливок, аромат ананасного мороженого, он садится возле десницы госпожи.
— Что вы нам предложите? — спрашивает Маргарита.
Melone auf Eis,
Bouillon,
Rheinlachs kalt mit Krebsschwänzen garniert,
Ravigote Sauce,
Rindfleisch mit Kohlen,
Pflaumpudding
Ananas —
das ist alles, gnädige Frau!
Кристофер лакомится сдержанно и с достоинством, внимателен к госпоже. В конце концов, он никакой не обжора, к говядине не прикасается, ему, правда, страшно нравится лосось, так бы и навалился, но он и виду не подает.
Маргарита с улыбкой поглядывает на него, она чувствует себя большой барыней, из тех, кто может не обращать внимания на этикет, велит подкрепляться и ищет на немецком языке каламбуры с рифмами, госпоже удается рассмешить даже лакея. Но Кристофер уже не в форме, вымучивает пару острот, весьма и весьма жиденьких. Когда оба насытились, настала пора пройтись по магазинам. К Дженгелю за перчатками, к Талю за шляпками. Кристофер вообще-то имел намерение после обеда поработать. Но — подумаешь! — мало ли у бога часов?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Мглистый февральский день, по улицам снуют сани, звенят бубенцы на оглоблях, это катят знаменитые рижские фурманы. Хрустит снег под полозьями, изредка проносится таксомотор, спешат пешеходы — мороз крепчает. Над крышами Старой Риги к сине-серому небу поднимаются позеленевшие медные шпили церквей и соборов: долговязый Петерис, скромный готический Янис, перст святого Екаба, плечистый Домский собор и прочие божьи храмины, которые ни в одном описании стольного града не упоминаются, ибо у них нет своего собственного лица, они лишь придают полноту панораме, как театральному представлению — статисты.
Маргарита, держащая под руку Кристофера, выглядит настолько привлекательно, что встречные фланеры, пройдя мимо, оглядываются: «О дьявол, что за поступь, что за ножки! Наверняка полячка!.. Счастливчик — дылда с котелком на затылке! Такого ангела сподобился под ручку водить!»
Добравшись до Старой Риги, они замечают на улице Екаба черную толчею. Мужчины, женщины, подростки…
Что тут происходит? Это собираются рабочие. На набережной Даугавы у президентского дворца митинг. Вот-вот объявят всеобщую забастовку, будут требовать справедливости. «Мы не просим, мы требуем!», «Чаша нашего терпения переполнена!» — кричат плакаты.
— Подумать только! — ворчливо роняет мужчина в золотых очках и быстро проходит мимо. Маргарита тем не менее успевает заметить, что это господин Петерманис, бывший «товарищ Петерманис», который расщедрился ей на памятник. Сытому, обряженному в пижонское пальто Кристоферу делается не по себе, он предлагает Маргарите обойти столпотворение, не ровен час, всякое может случиться. На поэтессе дорогая шуба из норковых шкурок: на такое богатство могли бы прожить полгода шесть семейств. Но Маргарита словно в трансе.
— Пойдем! — говорит и тянет Кристофера в самую гущу…
Жесткие, угрюмые лица… обросшие щетиной, укутанные платками, — лики, меченные печатью смерти. Какая-то женщина плачет… Идет и плачет… Костыляет старик… Кругом жертвы непостижимой нужды. К Кристоферу устремляются налитые ненавистью глаза. А Маргарита продирается по узким заснеженным, улочкам, тащит его за собой. Вдогонку им летят замечания, шепот. «Глянь, филер с улицы Альберта[17], точь-в-точь как из фильма — котелок на кумполе, в руке тросточка», — язвит мрачного вида парень. Раздается хриплый смех. Девица рядом добавляет: «Еще невесту прихватил, барышню-мамзелю…»
Кристоферу кажется, будто ему обожгли спину. Вдруг он замечает Сомерсета, тот выходит из-за угла, вместе с ним незнакомый мужчина, оба спешат сюда, однако Янка, бросив на Кристофера неуверенный взгляд, поспешно поворачивает назад и исчезает в проулке.
— Янка, Янка! — зовет Кристофер, но Маргарита тянет его вперед.
Еще немного, и они выйдут к набережной. Неужели Янка его не узнал? Хотя, возможно, то был вовсе не Янка: Кристофер никогда не видел, чтобы он ходил в жокейской кепке, скорее всего это чужой человек, только очень похожий на Сомерсета.
Они уже у Даугавы. Все вокруг оцеплено конной полицией, Маргарита и Кристофер втиснуты в самую середину толпы, как раз напротив возвышения, сооруженного на скорую руку из ящиков и коробок. Люди стоят плотной стеной, чуть отстранившись от них, как от прокаженных. Всюду грубошерстные платки, синие фуражки, на ином, несмотря на мороз, надет лишь пиджак или дырявый вязаный камзол. О господи, как их много! Идут и идут. По мосту со стороны Агенскална, с цементной фабрики, от судоверфи. Черные, покрытые копотью… Навались они всем скопом на президентский дворец, что бы от него осталось? Но можете не беспокоиться, на этот случай поставлен полицейский кордон.
Кристоферу страшновато, Маргарита жмется к нему поближе, ее бьет мелкая дрожь… Из тысяч ртов поднимается в воздух белый пар — задул ледяной всточень, тянет со стороны красных лабазов, там, где упрятан в будке Большой Кристап[18]. Православные поставили перед изваянием свечки, положили пучки бессмертников, а вдруг святой прогонит безработицу, вреда, во всяком случае, от даров не будет.
Вскарабкавшись на помост, оратор начинает громкую и яростную речь, глаза мечут молнии, десница показывает в сторону замка, он обвиняет и правит суд над теми, кому даны власть, кто не стыдится коварства. Тут наконец до Кристофера доходит, что говорящий — тот самый, с которым из переулка вышел мнимый Янка. Стало быть, кто-то из профсоюзных вождей. Раз так, бесспорно, что тот, второй, не мог быть Сомерсетом.
Площадь оглашается криками: «Правильно!», «Да здравствует!», «Долой!». Люди начинают песню, лица оживают, эхо ударяет в стены Старой Риги.
— Шапку долой, буржуй! — несется со всех сторон злобное шипение. Кристофер спохватывается, в испуге срывает котелок, ледяной ветер больно обжигает лоб, оказывается, он совершенно взмок.
А Маргарита поет вместе со всеми. Откуда только она знает слова? Вообще это несколько бестактно — стоять в норковой шубе посреди оборванной толпы и петь вместе с ней революционные песни.
Митинг кончается без происшествий, конная полиция, правда, приготовилась к беспорядкам и дракам, но спектакль не состоялся. Националисты в такую лютую стужу пе пожелали вылезать из своих жилищ и пивных погребков, умеренные наложили в штаны, а христиане подобную конфронтацию сочли недостойной себя, не стоило марать руки. Пусть их начинают всеобщую забастовку. Посмотрим, чья возьмет. Промышленники объявят локаут. Им такая стачка что слону дробина. Экспорт в связи с финансовым кризисом свернулся, склады набит товаром. Пускай бунтовщики и их подпевалы кладу зубы на полку. Владельцы фабрик и торговцы от этого не пострадают.
Конная полиция процокала в угрюмом безмолвии. Стало смеркаться.
Маргарита и Кристофер подождали, пока толпа разойдется, оба страшно продрогли, Маргарита жаловалась, что ветер пронизывает даже шубу, а затем поспешили к Шварцу выпить горячего кофе и согреться.
Тут был иной мир, не то слово — рай. Слышалось легкое позвякивание ложек о нежную фарфоровую посуду. Девушки в белых наколках сновали с подносами в серебряными кофейниками. По белым мраморным ступеням спускались элегантные бездельники, очаровательные дамы, почтенные лысые господа, прилизанные офицеры в черных мундирах, ноги утопали в мягком пушистом ковре. Сливки общества не волновало происходившее на набережной, журналисты с ухмылкой стряпали репортажи для утренних газет: «Несколько десятков старух и профессиональных бродяг собрались вчера вечером на набережной Даугавы, где к ним с подстрекательной речью в очередной раз обратился известный возмутитель и коммунистический агент, студент экономики К.».
Маргарита заказала ромовый торт с орехами, черный бальзам и кофе по-турецки, сама она к еде почти не прикасалась и молчала. Кристофера тоже удручало увиденное, однако он хоть пытался острить.
— Имею слабость запоминать рецепты самых разнообразных напитков, поскольку они необходимы для моей переработанной и пополненной поваренной книги. Главная составная часть черного бальзама — нигроперуин, или отвар почек перуанского дуба, — содержит вещества, которые повергают граждан в леность и дремоту. Как вы считаете, не обратиться ли мне к правительству с предложением выделить забастовщикам бочку рижского бальзама, каковое питье в 1715 году изобрел на острове Вейзакю знаменитый мореплаватель Липст Фейзак? Рабочих легче всего унять алкогольными возлияниями.
— Кто вы такой, Кристофер? — спрашивает Маргарита. Щеки ее пылают.
— Кулинарный романтик. Музыкант, но тешу себя надеждой, что со временем из меня вылупится писатель.
— Писатели и поэты всегда вставали на сторону угнетенных.
— Не все. Есть и придворные поэты, чья обязанность печься о том, дабы ничто не угрожало их хозяевам, они верно служат своему начальству. Насколько я раскумекал, вы, Маргарита, решили помочь обездоленным стихами особо утонченной формы. Желаю успеха.
Маргарита обижается.
— А вы? Чем вы собираетесь помочь?
— Я вовсе не собираюсь помогать, потому и не тянул вместе с вами песню. Хотя, может, и надо бы…
— Поваренной книгой? — спрашивает со смехом Маргарита.
— Дражайшая госпожа, те, кто прочтут ее, насытятся хотя бы духовно…
На поэтессу напал приступ кашля, она прижала руку к груди и странно согнулась, но вскоре все прошло, и она попросила сигарету.
Беседа завяла, оба сидели рассеянные и мрачные. Видения прошедшего дня подавляли своей суровостью. Кроме того, Маргарита почувствовала себя плохо: жало в висках, щеки пылали. Наверное, простудилась. Чуть погодя госпожа бросила сигарету и попросила, чтобы Кристофер проводил ее домой. Так завершился день, который, как им показалось, начался для них столь значительно. Грубая, грубая, бесконечно грубая явь смяла их сон о Ренессансе…
На следующий день Маргарита занемогла. Янис Вридрикис тотчас вызвал врача, какого-то допотопного старичка из общества друзей литературы. Старичок заподозрил воспаление легких. Рыжий любовник впал в отчаяние, ни на мгновение не отходил от ложа больной, не разрешил впустить Кристофера, когда тот, прослышав о беде, прибежал с визитом. Трампедах сообщил Книриму, а также начальнику лаборатории, что не скоро явится на работу, поскольку не может оставить Маргариту одну.
Через неделю ей стало хуже: температура подскочила, недужная начала бредить. Янис Вридрикис совсем пал духом, созвал консилиум и узнал наконец правду. Маргариты двусторонний туберкулез. Положение чрезвычайно серьезное.
Когда эскулапы удалились, рыжий упал на колени перед постелью возлюбленной (Маргарита как раз забылась тревожным сном). Новообращенный язычник-германец снова принял протестантскую веру и начал неистово молить бога: «Отче наш, иже еси на небесех! Неужто ты хочешь отнять чудо, которое мне подарила звездная ночь? Мою любовь с маковыми… Господь Саваоф!»
Прошли две недели в борьбе со смертью. И еврейский бог внял мольбам Трампедаха (о чем магистр, естественно, никому ни словом не обмолвился) — Маргарита одолела кризис; жизни опасность больше не угрожала, но туберкулез — злобная и коварная хворь. Янис Вридрикис по-прежнему сидел дома и ухаживал за больной. Он запретил Кристоферу приходить в гости, так как Антон, он же Микелис, пожаловался господину, что импресарио, дескать, в тот злополучный день, несмотря на двадцатиградусный мороз, водил занемогшую до поздней ночи по улицам. Кристофер как-то расспросил одетую в домотканое пальтишко горничную, которую случайно встретил на рынке, и бывшая крестьянка поведала ему все, что знала о телесном недуге своей госпожи. Злая немочь стала лепиться к ней уже давно, но госпожа от всех ее скрывала. Тайком даже харкала кровью. В последнее время чуть ли не каждый вечер ее лихорадило, болела грудь, она, однако, уповала на то, что все пройдет само собою.
Как переживал Кристофер скорбь госпожи? Спроси его об этом сама Маргарита, он не преминул бы ответить, что собственная судьба ему всегда представлялась куда важнее, в действительности же музыкант был близок к отчаянию, особенно после того, как лакей Антон, по-иному Микелис, сообщил, что господин Трампедах просит Кристофера не досаждать им своим присутствием. Юноша, точно раненый зверь, метался и буйствовал в своей каморке на шестом этаже. В воображении он видел Маргариту мертвой, посреди ночи бегал в парк возле бульвара, к тому месту, откуда можно было увидеть ее окно. Смотрел вверх: огонь горел до рассвета, затем гас; продрогнув, Кристофер возвращался домой, пытался работать, но все валилось из рук. Мысли его вились вокруг страдалицы. Музыкант молился богу, он проклинал того невидимого, который наградил мир столькими мерзостями: болезнями, медленной гибелью, беспомощностью, страхом смерти. Куда девается человек, венец творения и повелитель всего и всея? Куда испаряется дух, когда на него наваливаются миллионы микроорганизмов? Такие и подобные мысли истязали Кристофера, его натура была не из выносливых.
Узнав, что Маргарите полегчало, он послал букет белой сирени. Шли дни, наконец Кристофер получил от Трампедаха весть: они-де уезжают в Баварские Альпы. Маргарите необходимо лечение в горном санатории. Просит явиться, надобно уладить несколько важных деловых вопросов.
Когда Кристофер прибыл на бульвар Райниса, его принял сам хозяин и провел к себе в кабинет. Сегодня вечером они отчаливают, положение Маргариты тяжелое, но горный воздух должен ей помочь. Они отбывают в Берхтесгаден, а весной Маргариту устроят в один из санаториев Давоса, сие, разумеется, будет стоить огромных денег, впрочем, Янис Вридрикис к этому готов. Магистру предложен доходный пост в Мюнхене, следовательно, уезжают они надолго… Однако рижские апартаменты он намерен оставить за собой, так как вложил в них немалые средства. Служащие уволены, и Трампедах назначает Кристофера своим уполномоченным. Он полагается на порядочность юноши, их по-прежнему связывают договорные отношения, за что Кристофер будет получать десять латов в месяц. Это весьма крупная сумма. Его обязанность еженедельно проверять, в каком состоянии находится квартира, не подверглась ли она ограблению и т. д. Ключи он передает Кристоферу сей же час, адрес сообщит, как скоро устроится. И пусть Кристофер на пасху пошлет открытку Керолайне и передаст привет также и от него. Быть может, Кристофер желает попрощаться с госпожой? На вокзал провожать не надо. За ними приедет Книрим с супругой и отвезет на своем собственном автомобиле.
Янис Вридрикис тихо постучал, и оба вошли в спальню. Маргарита в черной пижаме полусидела-полулежала на тахте, завернувшись в одеяло из верблюжьей шерсти. Лицо ее осунулось, побледнело, на щеках играл нездоровый румянец. Она протянула Кристоферу руку, ладонь была горячая и беспомощная, как у ребенка. Маргарита силилась улыбнуться, но улыбка ее походила на гримасу, казалось, вот-вот она заплачет.
— Видите, каков получился Ренессанс? Не знаю, увидимся ли мы еще. Жаль, что больше не услышу, как вы играете вирджиналы… Это было восхитительно, я всегда буду помнить об этом в горах… А может, и там, выше…
Янис Вридрикис велел поторапливаться: Маргарите нельзя напрягать голос, не то может разыграться кашель.
— Желаю вам выздоровления, госпожа Маргарита, — говорит Кристофер. — О квартире не беспокойтесь, буду стеречь ее как цербер. Возьмите только с собой кинжальчик Тимура, или, как мы его называли, коковяку, — приносит счастье…
Таково было прощание, спокойное, едва ли не равнодушное. Но, вернувшись домой, Кристофер упал на кровать и разрыдался. Все-таки был он наивным мальчишкой.
Мне заказали увертюру «Зеленый шум весны» для первомайского концерта в только что организованно филармонии. Да, именно — заказали, до этого мы такого термина не знали. В санаторий приехал Янка Сомерсет и еще двое служащих из комиссариата, привезли договор, просили подписать, дали аванс и наказали, чтоб за неделю до концерта партитура была бы готова и переписана, так же и голоса. Когда гости уехали, я, смущенный, вертел в руках новые банкноты, такое в моей жизни случилось впервые. Получить деньги за композицию, которая еще не была и начата… В первое мгновение я почувствовал странное недовольство: в искусство проник какой-то утилитарный стимул, не вытеснит ли он возвышенное целомудрие творчества? Еще не было случая, чтобы я хоть раз получил мзду даже за готовые труды, никто мне ее и не предлагал. Я влачил ярмо своего нищенства, убежденный, что за музыку нигде не дают и ломаного гроша. Видимо, все это придумал Янка, чтобы поощрением воздействовать на мое подавленное настроение…
Я написал увертюру за две недели. Лекарь Джонсон был донельзя удивлен, что я забросил свое прелюбопытнейшее занятие, сиречь сбор и классификацию блюд и питий (необходимые заготовки для следующих глав «П.П.П.»), и взялся сочинять и переписывать какую-то там потребовавшуюся новому правительству партитуру. Doctor ord. больше не скрывал от меня, что предмет его увлечений тоже диетическая медицина. Он-де ненароком прочел несколько рецептов, якобы валявшихся на мое столике, смекнул, что у него таковых не имеется, и поэтому просит познакомить с остальными. Я ухмыльнулся. Неужто этот господин принимает меня за идиота и полагает, что я за здорово живешь подарю открытие, сулящее мне мировую известность? Хорошо, что Трампедах в свое время рассказал про этого окружного лекаришку и шарлатана, — сейчас, когда судьба забросила меня к помянутому гаду, я знал, чего следует остерегаться. Свои заметки я стал хранить в поясном кошеле, который носил всегда при себе, так как у меня возникло подозрение, что в мое отсутствие кто-то повадился копаться в ящиках письменного стола.
Мой белый ангел — Леонора ходила с погасшими очами и обиженным выражением на лице: у нее не осталось больше ни одного смертельно больного доходяги, коего следовало бы с особенным рвением опекать и призревать. Поскольку личная жизнь для милосердной самаритянки не существовала, она вся ушла в штудирование священного писания и житий святых и не выпускала из рук черный томик Нового завета с тисненым золотым крестом на обложке. Женские прихоти, внезапные приливы нежности и кокетства были надежно упрятаны в глубинах ее просветленной души, осели там, как мусор на дне прозрачного ключа. Тщетно пытался я иной раз пошутить, говорил, что в нее можно влюбиться. Лишь недоумение и робкий взгляд были мне ответом, после чего она отворачивалась. Странное создание, думал я. И все же какой-то бесенок во мне так и дергал посмотреть, что же в самом деле плавает в тех бездонных омутах за радугами Леонориных глаз. Что ни день, то больше наполнялись они сиянием, казалось, набухают почки — в крови начинала колобродить непонятная жажда.
Настала весна, здоровье мое окрепло, было решено, что на иванов день я буду отпущен с диагнозом — практически здоров. Доктор с Зибелем добились своего: продержали меня в изоляции, сколько им было нужно, сезон окончен. Оперой «Тихий Дон» дирижировал гость — маэстро из Ленинграда, потому как господин Зибель не сумел ею проникнуться. В музыке Ивана Дзержинского явственно слышались дифирамбы революции и интонации массовых песен, а предреченных Зибелем флейт, арф и тихого голубого Дуная не оказалось и в помине. То была первая неудача «великого комбинатора», в коей он признался себе, глядя сквозь подслеповатое окошко своей курной избы, то бишь кабинета главного дирижера, казавшегося ему башней из слоновой кости, на входную дверь гостиницы «Рома», в которую только что вошел приглашенный маэстро. Скорей бы уж возвращался обратно к себе в Ленинград.
О, неописуемые часы блаженства, которые я провел за сочинением «Зеленого шума весны»! Весна пел окрест, накрапывал теплый ситничек, моросило с рассвета до позднего вечера. С заречной стороны Гауи поднимался туман, а за окном слышался «concerto grosso». О доносился из мелколесья пониже ельника. Там состязались три группы — две obbligato, одна concertante; pizzicato — дождевых капель и гибкие кларнеты березовых макушек, что брали от нижнего фа до второго си. По этому тритону со скоростью ветра пробегало еле слышное дуновение, даже пуритане не нашли бы в нем ничего бесовского. Затем начинал партию болотный скворец. Да простят меня все скворцы мира: их импровизации я содрал, записал, переписал и описал в своей партитуре, заработал денег, просадил их, прокутил и извел на швейцаров гостиниц, но не будем торопиться — это произошло много, много позже.
В конце апреля doctor ord. разрешил мне погостить один день в Риге, мне действительно нужно было там побывать, поскольку начинались репетиции увертюры. Вытолкнутый из жизни, всеми забытый, дольше года прожил я в белой двухэтажной лечебнице под крутым склоном древних берегов реки (белый дом еще до всех войн нашего века построил известный шведский торговец лесом для своей чахоточной возлюбленной, говорят, она была немножко полячкой). Я повез с собой переписанные голоса и партитуру. С дрожащим сердцем двинул с вокзала к зданию Старой Гильдии, что расположено неподалеку от кафе Торчиани и Сохо, пользовавшихся самой сомнительной славой. Теперь в Гильдии разместился концертный зал: вдоль стен блистали обновленные гербы, расписанные пестрыми кошенилевыми красками, в окнах, отбрасывая темно-синие и желтые блики, светились витражи, в зале стояли ряды новеньких кресел, обтянутых алой кожей. Помещение наполнял хаотический, но спокойный гомон оркестровых инструментов. Музыканты настраивали свои орудия. Меня охватили трогательные воспоминания: то звучала милая сердцу, давно знакомая фермата на ля. Вскоре слева и справа прорезались квинты и началось однообразное воркование, беспрерывное, как шелест листвы под дождем.
Меня приветствуют друзья и знакомые: я, мол, необыкновенно изменился и возмужал — видать, взялся за ум! Еще бы не возмужать, если незадолго до отъезда я дал обрезать свои патлы и ровными прядями, наподобие древних римлян, начесал их на лоб; раз уж на открытых концертах начинают исполнять мои увертюры, смекнул я, значит, приспела пора обрести артистический вид. Друзья говорят: настали совсем другие времена, старые обывательские нравы и законы полетели вверх тормашками. На художников и артистов больше не смотрят, как на господских слуг и проповедников учрежденного господом богом неравенства. Прихвостни вождя забились в щели, одни махнули вслед за пруссаками в неметчину, другие все еще тут колотырят, сплетничают, разжигают вражду, от таких, мол, я должен держаться подальше.
Из рассказов знакомых я понял, что времена действительно наступили другие. В санатории мне о многом умолчали, похоже, кое-что даже скрыли нарочно, доктор Айвар Джонсон, видимо, чаял прожить по старинке. Может, и вправду начинается столь долгожданный мною Ренессанс?
Скрипач Нарун поведал, что дома́ и суда́ хозяина пароходства Цауны национализировали, сам старик работает в конторе счетоводом, с горя запил, а Дайла учится на курсах машинописи…
— Что делать, каждому жить надо, всяк человек хочет зарабатывать на хлеб, — сочувственно добавил я, не зная, как реагировать на такое известие.
Младшего Цауну в прошлом году вождь за поношение и клевету упрятал в тюрьму, а когда новая власть освобождала политических, его по ошибке выпустили. Он сей же час улепетнул в деревню и затаился где-то на болоте. Милиция прочесала все чащобы, но без успеха. Поди сыщи козяву в конопле! В конце концов махнули рукой: сколько он высидит в своей дыре? Грянет мороз, жрать будет нечего, — выползет.
«Улучу свободную минутку, зайду к мадам Цауне, она в свое время немало мне помогла… Когда человек в беде, надо помнить о нем, иметь сострадание», — решил я про себя.
Перед началом репетиции пришел Янка Сомерсет с представителем комиссариата, который теперь заведовал делами искусств и сочинительства. Представил:
— Товарищ Краулис, вот наша надежда — Кристофер. Послушаем, что он сочинил.
— Я не специалист, — застенчиво отмахивается Краулис. — Пусть лучше судят знатоки и критики!
Внимательно вглядываюсь, где-то я уже его видел. Горящие глаза, сильная, чуть сутуловатая фигура. Почему-то она помнится мне стройной? И тут у меня в памяти всплывает тридцать первый год. Набережная Даугавы. Митинг безработных на двадцатиградусном морозе. Агитатор, который призвал ко всеобщей забастовке. Точно. Это он! Боролся и победил. Такого человека было за что уважать, шапку долой! Я давно привык, что во времена вождя о музыке с умным видом рассуждал любой начальник, кому только не лень. Каждый папаша-хуторянин считал себя вящим специалистом: по литературе, и по живописи, и по музыке. Сам вождь однажды на открытии выставки придрался к какой-то картине — почему, мол, у лошади не видно четвертой ноги. Неужели живописец так редко выезжает в деревню на предмет ознакомления с сельской жизнью, что не ведает, сколько у лошадей конечностей? Ракурс? Поворот? Какой еще там поворот, обормот ты этакий, не умеешь, не малюй. Футурист, стрекулист!
О моей песне старший инспектор из Камеры искусства и словесности высказался примерно так: «Знаете, не удалась она вам, молодой человек, слишком мрачная. Зачем только такую жалостную музыку сочиняете? Наше время знаменательно сплочением народа, возрождением духа предков — сыновья народа поют, красавицы девы в хороводе плывут… Так надо, так есть и так будет… чего нет, того нет!» Вот такие советы вспоминал я из недавнего прошлого. Новый начальник точно с другой планеты явился.
Пришел дирижер, мой бывший однокурсник Лео Шульц, и репетиция началась. Лео на редкость одаренный парень, на два года старше меня. Кончил курс у Шнефогта и вскоре выдвинулся в передние ряды дирижеров. Мою партитуру он видит впервые, поэтому требует, чтобы я стоял рядом и помогал вносить исправления. Слава богу, ошибок оказалось мало, оркестр звучал, это я усек мгновенно. С души точно груз свалился. Я приметил, что композитор всегда первый чует, удалась его работа или провалилась. Лишь отъявленный глупец ищет тут какой-то третий исход. Обычно этого не показывают ни в первом, ни во втором случае. Скорчив отчаянную рожу (в подобном спектакле нуждается каждый художник), я подошел к критикам. Они явились никем не замеченные и сели на полутемном балконе. Один из них — седой элегантный и сухощавый джентльмен в гетрах, второй — лысый в очках, необычайно острый на язык, тенора боялись его как огня. Я изрек стереотипную фразу:
— По-моему, это ужасно. Придется, видимо, застрелиться…
— Да? — насмешливо спрашивает лысый. — А вы, значит, могли бы лучше? «Зеленый шум весны»! Рамтай-риди! Название недурно, музыка только слишком зелена. Но в общем свежо… Почему вы этот опус не нарекли, скажем, «Свежей капустой»? — и лысый начинает неудержимо хохотать, вытирая белым платочком слезы в уголках глаз.
Джентльмен в гетрах молча пожимает мне руку, это выражало многое… Крупнейший музыкальный рецензент крупнейшей газеты. Писал сам по одной сольной песне в год, на большее его не хватало. Уж больно требовательный к себе сочинитель.
«Ликуй, мое сердце! Vittoria, vittoria! Гм… Лео сказал, чтобы я спокойно ехал обратно в санаторий — все, мол, будет в порядке. Ага! Хочет один получить овации и цветы, ах ты прохвост! Такая уж у дирижеров повадка, что с ними поделаешь, главное для них быть во фраке. Тренируются перед зеркалом, выпендрилы и только!»
Когда репетиция окончена, Краулис, пожелав успеха, уходит, а Янка, оттянув меня в сторону, говорит:
— Не воображай, конечно, будто это невесть что! Работать придется по-настоящему. Ты ведь лентяй первостатейный, слишком много у тебя интересов… На концерт не приедешь? Пожалуй, оно и лучше, слава может тебя только испортить. Ну, будь…
Он тычет меня своим жестким кулаком и уходит гибким спортивным шагом.
Музыканты, переговариваясь, разбредаются. Настроение у меня — хоть воспари, чувствую себя властелином поднебесной, а потому делаю вид, будто не понимаю намеков — двинуть в Янов погреб обмыть результат, в трактир АТ у Заламана топить первых котят; в Черном шаре подмазывать струны, чтобы не скрипели, в Пивном роднике исправлять обнаруженный в партии фагота фальшивый «дис», подкрепляясь сырными палочками каковую снедь музыканты называют «мерстами пердвецов» (правильно было бы «перстами мертвецов»). Это старый-престарый жаргон лабухов. Странно, времена меняются, а проделки музыкантской братии остаются неизменными, это цех, который слабого композитора может выставить в полном блеске, а талантливого угробить, была бы только у самих музыкантов искра божья. С лабухами не плошай, с ними надо по-хорошему! Мне тем не менее хочется побыть одному, пусть себе думают что хотят. Добредаю до бульвара Райниса, прохожу угловым пассажем Римского погреба, по обеим сторонам которого выстроились ниши, — сколько раз я, бывало, сиживал тут! — попадаю в большую комнату, где в прежние времена не было большей радости для Брандера, чем, привалившись к прилавку, с обеда до ужина, стоя на ногах, поцеживать пиво. Обижался, когда буфетчик в белой насовке предлагал, — не лучше ль присесть?.. Брандер спешил. Сидящие за столиком держали пари: сядет, не сядет. Так и не сел, простоял до вечера, ему было некогда — университет надо кончать.
Разные забрезжили воспоминания, да и немудрено.
Я подошел к белому зданию оперы, посмотрел на афиши. Оперники готовились к декаде, повезут «Банюту» в Москву, в Большой театр, грандиозный готовится праздник! Малость защемило сердце: превосходно обходятся без меня.
Вижу, по тротуару навстречу мне ковыляет Цалитис. О, человече, на кого ты похож?! Одет в какую-то ветошь, грязный, в старых забрызганных бахилах не по сезону, в темно-синем ватнике с открытым воротом, на глаза надвинута засаленная кепка, руки в карманах брюк — так вот и прется. Вдруг замялся, нахлобучивает кепку пониже на лоб, поворачивается, неторопливым шагом переходит улицу и исчезает за углом книжного магазина. Не видел или не хотел видеть? И почему вырядился так чудно? Им в Бучауске принадлежит лесопильня, а в Риге два больших дома. Ах да, лесопильня и дома-то национализированы! Видно, Цалитис сделался чернорабочим, вкалывает у пилорамы, дурачок — постеснялся своей наружности. Бедный флауш, я бы дал ему взаймы из своего гонорара. Янка сунул мне в карман конверт, там, говорят, остаток моего заработка.
Тотчас ударяет в голову — надо навестить семейство Цауны, им, кажется, тоже не ахти как живется. Худо, бедно ли, но они всегда меня выручали. Ехать надо на одиннадцатом трамвае. Цауны живут в Межапарке на улице Порука. Неподалеку от них — Фрош, может, заодно зайду и к нему.
Покупаю самые дорогие шоколадные конфеты. Самую большую, какая только есть, коробку «Лаймы» с улыбающейся цыганкой на глянцевитой крышке, перевязанную наискосок розовыми ленточками. Не прихватить ли еще цветы для Дайлы? Хотя лучше не надо — вообразит невесть что…
Меня встречает сама мадам. Раскрывает объятия, всхлипывает и прижимает к персям, как блудного сына.
— Видите, как нам всем теперь приходится! — не своим голосом причитает она и ударяется в плач. Ощущение такое, будто кто-то отдал концы и в соседней комнате стоит гроб со свечами. — Кто бы мог себе представить, господин Кристофер…
На шум в коридоре является Дайла, удивленно всматривается, наконец узнает:
— Господин Кристофер! Пардон, теперь, наверно, нужно обращаться — товарищ Кристофер. Здравствуйте!
Она заметно подурнела. Волосы не чесаны, лицо пепельное, опухшее. Прошло по меньшей мере девять лет с тех пор, как я прекратил уроки фортепьянной игры. То была безнадежная затея. Дайла переметнулась на теннис. Игра есть игра. Сейчас она упражнялась на Underwood’е — может, это и был самый подходящий для нее инструмент?
— Заходите, — приглашает мадам. — Ах, конфеты, такой дорогой гостинец! F-fabelhaft. Я всегда говорила: господин Кристофер — истинно латышский джентльмен и всегда им останется. Помните, как мы тогда с этим профессором Аперкотом…
— Амбреродом, мама, — поправляет Дайла.
— Да, вот именно! Сидели у Шварца. Вы сказали тогда: черт побери этих социков-социалистов!
— Разве я так сказал? — дивлюсь я.
— Сказали, сказали… Видите, как теперь с нами… Нижний этаж отобрали, вселили истопника латгальца с женой и пятью маленькими детьми. Ужас! Мы тут стиснулись — не продохнуть, четыре человека в шести комнатах.
— Три человека, мамочка!
— Да. Три человека в пяти комнатах. Вы тогда сказали: черт подери этих красных!
Я начинаю волноваться:
— Разве я так сказал?
— Сказали, сказали… Дайла! Ставь приборы на стол: угостим старого друга обедом. Да, времена нынче: служанки больше нет. Ушла на конфетную фабрику бригадиром. Хорошо, что ушла, а то уж зарилась на маленькую комнатку со стороны двора. «Не выйдет, товарищ! — сказала я. — Только через мой труп! Мы и так уплотнены — хотите, чтобы из нас кишки поперли наружу? Тут вам не Гомель!» После чего она устыдилась и убралась. Я ее вышколила, из деревенщины и пастушки дипломированной горничной сделала. Дайла! Накрывай на стол, чего ты канителишься?
Надо отдать справедливость, Дайла стала проворной хозяйкой. Повязав запон, резво бегает и хлопочет. Как бишь там в поговорке? Холод учит бегать, а голод… Здесь вообще-то голодом еще и не пахло. Благоухало, как в деревне после забоя свиней. На столе появилась изысканная посуда. Среди серебряных ножей и ложек посверкивало настоящее золото, сколько все это стоило! На хрустальных боках исполинской фруктовой вазы временами загоралась семицветная веселка, в ее отражении даже Дайла становилась краше.
— Знаем, знаем, вы дока по части рецептов и кушаний. В тот раз, кстати, когда этот Антрекот…
Идет Дайла. Тащит из кухни дымящийся терин с варевом.
— Вот и скажите теперь, что это за сыть? — тряся двойным подбородком, доброжелательно похихикивает мамаша. — Отгадаете — половина королевства и королевна ваши…
У меня душа в пятки. Не дай бог, угадаю?
Дайла стоит покрасневшая, теребит запон. Ну?
Накладываю на тарелку изрядную кучу. Пробую… Мерзость! Что-то невообразимое!
— Не могу определить, — признаюсь. — Весьма своеобразное угощение.
— Пастила из гауйских линей под грибным соусом! — победительно сообщает Дайла…
Значит, рыба… Чуял я, чуял, что рыба… Но чтобы так ее испакостить! Это ж надо уметь!
— Рецепт пастилы ваш секрет? Если нет, может, вы мне его откроете, — спрашиваю заинтересованный. — Я коллекционер, но ничего подобного мне еще не доводилось…
— Дело проще простого! — прерывает стряпуха. — Бери линей, выловленных в Гауе (можно также и выуженных в Венте, Лиелупе, даже в Абаве), — фунтов пять. Соскреби чешую, вынь черева и быстро обдай варотоком. Так! Затем швырни в чан, где уже лежат жареные навозники.
Фу, Дайла, нельзя говорить — навозники, нужно говорить — шампигноны, — поучает мать.
— Народное название — печерицы, — замечаю я.
— Печерицы… Да, на чем я остановилась? Печерицы, шампиньоны, навозники — разницы нет — перемешивают с соусом, состряпанным из плодов дикой яблони, добавляют подрумяненного масла, соли, луку и черного перцу. Дабы придать блюду аромат, рекомендуется подсыпать в варево толченого мускатного ореху. Все это перекладывают в кастрюлю и томят на медленном огне. Пока брашно тушится, бери пять боровиков, натри солью и шелудями кардамона…
— Шелушами! — поправляет мать.
— Шелухой, — подсказываю.
— Шелухой… На чем я остановилась… Да! Затем ставь все на огонь и жарь.
— На жаровню ставь, а не на жар, — возмущается мадам.
— Я не говорила — на жар, — кричит Дайла. — Затем помешивай черпаком соусик…
— Господин Кристофер сказал тогда в «Роме»: к чертям социков!
— Мама!
Завершить рассказ Дайле не удалось, мадам перебивала ее, так что под конец обе чуть было не подрались, по каковой причине пастила из гауйских линей под грибным соусом навеки осталась для меня загадкой. Не буду жаловаться на колики и резь в кишках, от коих мне порядком досталось в поезде на обратном пути. Скажу только, что ощущение у меня было такое, будто в моей робе в поисках выхода бесновалась стая линей.
Я не съел всего, что навалил в тарелку. Сделал вид, что увлекся творожными хлопьями в деревянной кадке, по словам хозяйки, были привезены из деревни, потому как очень нравятся Фредису. Свежий, неподдельный товар, не сравнить-де с продукцией этих теперешних молочных кооперативов, черт знает что за кислятину выпускают, — жалуется якобы Фредис.
— Фредис? — спрашиваю. — А где же он?
— Сгинул наш единственный, — спохватывается безутешная мать. — Такова моя доля: дети то исчезают, то появляются, то появляются, то исчезают, — сетует она, бросая тревожные взгляды на потолок, над которым послышался какой-то шум. Странно, кто бы там мог разгуливать по чердаку? — Я не скажу, что новая власть не делает ничего хорошего, — продолжает она. — Мы накупили черной икры, крабов в жестяных баночках. В жизни не едала столь вкусных вещей. Фредис говорит…
Дайла нервно встает и подходит к матери.
— Да, бедный Фредис! Как зверь вынужден скитаться по лесам и пожням, скрываясь от преследований злобных извергов… Такие вот нынче времена… Затем мы еще накупили цинандали, саперави, кавказские вина…
Внизу загремела лестница, кто-то долго отпирал входную дверь.
— Папочка возвращается с работы…
В комнату, выписывая ногами кренделя, вваливается старый Цауна. Потертый портфелишко под мышкой, пальто нараспашку, без пиджака, рубаха выбилась из-под портков — жалкое зрелище… Вышел на середину комнаты, зырит на меня красными зенками и качается.
— Пшш! Шипшанго?
— Это господин Кристофер, Дайлин учитель музыки, — кричит ему в ухо мадам, — не узнаешь?
— Шипшанго, танго, маланго… — бормочет Цауна и плюхается в кресло, аж треск раздается.
— Папочка утратил все свои идеалы, — печально вздыхает мадам. — Большой дом на улице Мельничной отобрали, суда заграбастало управление порта. Старик теперь служит у них счетоводом. Издевательство! Получает двенадцать червонцев в месяц. Разве на такие деньги можно содержать жену и детей? Бастовать надо было, а не работать на такое бессердечное правительство. Дайла продала бриллиантовое ожерелье за полцены… А что было делать? Полгода проучилась на курсах машинописи, но от пишущей машинки портятся руки, к тому же и доход мизерный. Пусть уж лучше таскает на барахолку вещи и торгует тряпками — скоро в магазинах станет пусто.
— Шипшанго, — пыхтит Цауна, тупыми гляделками уставившись на жену.
— Какими дураками мы были, какими дураками! — негодует мадам. — Могли же выдать себя за Volksdeutsche и репатриироваться… Как семейство Цалитов. Вы ведь были с ними знакомы, Херберт с вами учился в университете. Цалитиенихе пришло на ум, что сестра ее дедушки по отцовской линии подписывалась в документах — Kunigunde Zahl, уличные мальчишки даже прозвали ее Унигунде фон Цал. Они тотчас побежали в посольство (это было сразу после переворота, новое правительство еще не успело объявить закон о национализации), сдали свою лесопильню «Утагу», получили немецкие паспорта и с последним судном отбыли в Германию. На рождество получаем открытку с ангелочками. Счастливого праздника, мир на земле и благодать людям, в течение часа выбросили поляков — получили дом с мебелью, посудой и одеждой и в придачу лесопилку в пятнадцати километрах от Познани. Еще, мол, поживем…
— Не может быть! — говорю. — Только что я видел Херберта на улице. Какой-то совсем опустившийся, никуда он не уехал.
— Я сама проводила их на пароход, — сердится мадам. — А вы мне рассказываете.
— Почтенная сударыня, клянусь, что сегодня на улице я встретил Херберта Цалитиса… Мы с ним дружили. Увидев меня, он, правда, повернулся и перешел на другую сторону, вроде бы не хотел узнавать… Мы как-то раз немного повздорили.
Распахивается дверь, ведущая из гостиной в коридор. На пороге появляется Фредис, одет в пижаму, в глазах неистовый блеск, ни дать ни взять — полоумный.
— Фред! — разом вскрикивают мать и Дайла.
— Заткнитесь! — говорит он. — Начинается! Каценэлленбоген, ты золото! Только никому ни слова… Ты — наш… Неужели это был Цалитис?
— Могу поклясться.
— Тогда дело в шляпе… скоро начнется! — Фреда явно распирает от оживления. — Ты принес добрую весть.
— Что начнется? — спрашиваю.
— Дурак ты, Каценэлленбоген! Если тебе когда-нибудь придется туго, приходи… Здесь ты всегда найдешь друзей. Но смотри, не вздумай предать.
Зачем я стану предавать Цауну? Бледный, заросший щетиной, увядшее лицо. Прежнего элегантного красавца нет и в помине. Да, да! Выходит, многим жилось еще хуже, чем мне. Фредис скрывается. Столько же времени, сколько я провел в лечебнице. Мне по меньшей мере можно было находиться на свежем воздухе, а Цауна сидел взаперти на чердаке. И за что? За то, что по молодости и глупости связался с нациками? За то, что требушил и сдирал со стен призывы вождя?
Прощаюсь и ухожу. Будь спокоен, Фред, я не Иуда Искариот. И все же как-то странно, размышляю я, покупая билет на вокзале. Будто весь мир вдруг разделился на два лагеря: преследуемых и преследователей. Люди, люди! Простите друг друга, и бог простит вас. Поставим крест на старых счетах и предрассудках, начнем новую жизнь!
Гудят рельсы, поезд, покачиваясь, несет меня обратно в санаторий. Там пропавшую овцу еще со вчерашнего дня ждет с волнением Леонора, — нет, святая Иоанна скотобоен. С голубыми подснежниками глаз, желтыми завитками волос, выбивающимися из-под белого чепчика.
— Вам было дано разрешение только на двадцать четыре часа; что теперь скажет doctor ordinarius?
Волнения Леоноры лишены оснований. Сын кентерберийского сапожника не имеет никаких протекций, он нищ, как крыса Истенда, однако выбился в бакалавры, настоящие кембриджские бакалавры.
— Что вы говорите?!
Помог оптимизм. Вы слыхали, дорогая, как меня прославляют в уличной песенке, которую вскоре после моей смерти, коротая время, сочинили актеры, из труппы нотингемского принца: ее поют на старинный мотивчик морески «Пусть бесится Марпрелат черноризец». Вот это шутка! В песенке утверждается, будто я позволил себе непристойный выпад по отношению к дамам: пытался склонить к распутству пятую жену Тита Андроника.
Все происходило совсем не так. «Кит! — сказала матрона, указывая перстом. — У меня за лиф провалился апельсин, помогите мне его оттуда достать».
«Госпожа! — ответил я: — Я вижу там три; который взять первым?» Вот и все. Остальное вымысел чистейшей воды, равно как и шутка, будто в Блекфрейре я сломал ногу и с тех пор боялся играть любовников и что моя жизнь была одним сплошным dumb show. Чепуха!
Гудят рельсы… Поезд уже миновал Вангажи. Кит, скоро твой выход!
Вернувшись в санаторий, я прилежно засел за продолжение поваренной книги. Добрался до того места, где Трампедах с Маргаритой в первый раз уезжают за границу. В этой главе я допустил большую оплошность: своевременно не попросил магистрова слугу Антона взять у повара рецепт блюда, которое он приготовил в тот день, когда я в последний раз обедал у Маргариты, — Rheinlachs kalt mit Krebsschwänzen garniert. Все слуги разбрелись, и я остался с носом. Помню, от рыбы в той снеди не было и крошки, тем не менее она источала божественный аромат лососины, что меня несказанно поразило. Убедить и околпачить едока — вот искусство так искусство! На примере Дайлы мы видели, к чему приводит антитезис — кулинарный дилетантизм, — ее пастила из линей с таким же успехом могла бы сойти за спаленных голубей. Притом воняла собачьим дерьмом.
Едва только я вошел в полнокровный ритм прерванного творчества, как мне стал докучать doctor ord., то и дело приставая с вопросами касательно моих исследовательских трудов. В один жаркий июньский послеполуденный час Джонсон ни с того ни с сего спросил, неизвестно ли мне чего-нибудь об индонезийском биохимике и философе Пех Кхаке и его теории обновления клеток. Вопрос удивил меня, но я сделал вид, что слышу имя Пех Кхака впервые. Джонсон поведал мне, что узнал от комплектных лиц, будто академик господин Пех Кхак изобрел какой-то эликсир, который обновляет изношенные клетки организма, но не успел опубликовать технологию изготовления лекарств, потому как умер от инфаркта. Doctor ord. высказал предположение, что эликсир выпаривался из колы — сиречь взбродившей толчи кокосового молока, и все… О существовании таинственного «Рагги» понятия не имел, в этом можно было не сомневаться.
— В результате описанной вами перегонки получится весьма приятный и душистый напиток — арак, — говорю я — Но его в любое время можно достать у Шара и Кавиля, стоит он ненамного дороже виски, так что есть ли смыл самому надрываться.
Затея выманить у меня секрет «Рагги» потерпела поражение. «Изыди, сатана!» — сказал я про себя. Джонсон сжал губы и с досадой удалился. Все-таки чует что-то, проныра… Странно, каким образом мог он напасть на след моего эликсира КМ-30?
Ответ на мое недоумение дал материал, который был обнаружен лет пять спустя в Эдоле, в брошенных немцами архивах секретной службы — письмо Яниса Вридрикиса Трампедаха Айвару Джонсону, помеченное маем 1940 года. Но в июне 1941 года я еще ни о чем не догадывался.
Позволю себе опубликовать копию письма, которое: после победы помогло разоблачить военного преступника Джонсона, бывшего афериста и шарлатана. В настоящее время он, по слухам, прячется где-то на границе Уругвая с Парагваем в глубоких тропических лесах среди обезьян и попугаев в городе Долорес Санкруцифико Сакраменто.
(Публикуется впервые)
Geheim! (Секретно!)
Berlin 10, V 1940
Sehr geehrter Herr Johnson!
Протягиваю Вам руку для великодушного примирения, хотя в те времена, когда работал в Цесисе, Вы причиняли мне одни неприятности. Но за козни свои Вы понесли должное наказание: осмеянный моими сатирическими фельетонами и отставленный от поста, сделались заурядным ординатором. Однако сейчас политическая ситуация требует, чтобы мы забыли о прежних распрях. Вы нужны мне так же, как я нужен Вам.
Незадолго до репатриации между мной и некоторыми лицами произошел острый конфликт, я находился в состоянии аффекта, так что одно лицо было мною убито, а другое тяжело ранено. Совесть моя не омрачена, ибо я сознаю, что являюсь арийцем, а пострадавшие суть опозорившие свою расу отщепенцы. Мне удалось своевременно попасть на корабль, и Ваши судебные инстанции мне, уже повредить не могут.
Человек, коему я причинил телесное повреждение и который лежит сейчас без сознания, знает важную государственную тайну: рецепт эликсира для обновления клеток, каковой открыл индонезийский биохимик доктор Пех Кхак. Сам Уриан-Аурехан дал тайное распоряжение людям, оставшимся с заданием в Риге, поместить тяжело раненного юношу в больницу Диаконис, где за ним будет вестись наблюдение и записываться выражения, кои раненый обронит в горячечном бреду.
Именем Уриана-Аурехана (я уполномоченный вождя и его поверенный в делах) поручаю Вам проследить, дабы названный мною человек выздоровел. За это время всеми дозволенными и недозволенными средствами, добром или силой, постарайтесь вырвать у него вышеупомянутый рецепт. Сделайте ему инъекции, кои ослабляют сопротивление духа. Когда придет наша рать, эликсир понадобится для омоложения престарелых сверхчеловеков арийской расы. Тогда Вы нам его выдадите, за что получите щедрое вознаграждение, место главного врача в концентрационном лагере, а также титулы и прочие почести. Но ужо Вам! — буде Вы ослушаетесь, попытаетесь скрыться, окажете сопротивление или начнете действовать наперекор нашей воле.
Раненого зовут Кристофер Марлов, ему 30 лет, род занятий — странствующий музыкант и неудавшийся писатель. Немедленно разыщите его и возьмите под свой надзор!
Как я уже говорил — о происках обоих заговорщиков мне тогда было невдомек, поэтому я жил беспечной вольной жизнью, уходил гулять на две версты, бродил по околице, развивал выносливость, закалялся, исходил все пущи и кустарники, облазил все дрягвы и топи и всячески забавлялся — срезал ольховые прутья, мастерил пастушьи жалейки, чтобы подудеть скуки ради, от нечего делать. Этому искусству меня научил один пацаненок с выгоревшими волосами, в рваных штанишках и с сосулькой под носом. Неизвестно откуда взявшись, он всегда возникал на берегу Гауи.
Малец, показывая пальцем в небо, сказал: «На этом облаке мозно кататься. Я почти поймал его на клыше». Он показал на маленький белый клубочек, который медленно тащился по небесному большаку с моря на восток, как раз в нашу сторону. Одно-единственное облачко, удивительное дело — погода стояла тихая, ясная, под сенью ольхи еще блистала роса. У шкета, видимо, как и у меня душа тянулась к возвышенным материям, он был рад, что нашел еще одного легкого на подъем чудака. Мы даем воображению разбежаться и, как неторопливые бипланы, поднимаемся ввысь, вообще-то мы не можем точно определить миг, когда, оттолкнувшись от земли, начинаем парить. Так незаметно взлетаем мы на облако и присаживаемся, двоим тут еле хватает места. «Не егози, говорю, — смотри сиди спокойно, не то в два счета на землю сверзишься».
Когда я был маленький, дедушка жаловался: «Гауя притягивает облака, сбивает с пути ветры, оттого-то у нас засухи. Вона сейчас: полыхнула зарница, громыхнул гром, а как подошла гроза к реке, — разделилась и поволоклась направо и налево, голодный год, и только…»
Что будет в этот раз? Перелетим через русло, или река опять потянет нас неизвестно куда?
Смотрим на голубоватую ленту Гауи: она вьется-стелется по еловым, сосновым борам и суземам, а в дальней дали заходит в белые пески моря. Речные берега меняют свою внешность каждую весну, яроводье заносит песком пожни, пойменные и мочажинные луга и пажити, следующий год на их месте маячат сухие отмели с торчащим из песка и прибитыми водой жухлыми снопами прошлогодней соломы. Со своей высоты мы видим и отмели и пожни. Там, где земля темно-зеленая, усеяна круглым листьями лопуха, там пойма, а там, где ветлы, точно развеселые рябины, украсились красными и горькими распуколками, там мочажины и отмели. Ну не райская ли это езда, полет на белом пуховом ковре? Как легко определить страны света: птицы и летчики узнают их по небесным светилам, а мы по елям. Та сторона, которая снизу до макушки поросла серебристыми лишаями, северная. Значит, мы летим на север, к запряженным в сани оленям и собакам, вот это будет езда, хейя, хейса! Держись!
Наверное, мы угодили в воздушную яму, облачко качнулось, держись за рога! Рядом выросло еще одно, вот так диво! Такое же махонькое, как наше. И вдруг резкий удар, точно молотом по железу. В небе вспыхивает свеча и гаснет, — третье облачко… Что-то тут не так… Спускайся скорее вниз, пацан, беги домой, это не облачка, а снаряды… стреляет зенитная артиллерия! Глянь туда, в само поднебесье, — видишь, чужие самолеты с черными крестами. Мчи, пострел, со всех ног! Спрячься за каменную ограду, это не кузнечики скачут по траве, это осколки.
Так началась война.
В больничных палатах смятение, испуг. Все рвутся домой, к родным, а doctor ord. издал приказ — не поднимать панику! Ближайшее время покажет, что делать. Часть хворых записывается в добровольцы, приглашает всех, кому позволяет здоровье, присоединиться и организовать ударную часть — истребителей: в округе замечены заброшенные в тыл немецкие разведчики, взорван мост. Джонсон стоит за больных словно отец родной, никому не разрешает уйти; недужные доверены его попечению, до фронта сотни километров — есть ли смысл подымать тревогу. Подумаешь, вражеские лазутчики рядом! На четвертый день doctor ord. повелевает всем обитателям санатория сдать книги, письма и заметки, таковы, мол, предписания свыше, так сказать, шаги предосторожности по отношению к находящимся поблизости вражеским шпионам, он-де все это доставит в милицию.
Распоряжение Джонсона никого, кроме меня, не взволновало. Что теперь значили какие-то два-три письма и книжки. Все затмило предательское нападение немцев, дикое, необъявленное начало войны. Для чего тогда существуют международные нормы и договоры? Всю Европу хотят проглотить, что ли? Чтоб им подавиться! Я был в тревоге: судьба моего манускрипта в опасности. Отдать рукопись Джонсону означало потерять ее на вечные времена. Сверлила меня и смутная догадка, что приказ doct. ord. был задуман специально ради меня. Рано утром я вынул манускрипт из письменного стола, обернул газетами и спрятал в поленнице у забора.
— Ну, музыкант, — злорадно усмехаясь, обратился ко мне Джонсон на утреннем визите. — В Риге уличные бои… Радио молчит, красные бегут. Жаль, что у вас с этой оперой вышла такая незадача, очень жаль. Как бы еще неприятности не нажить. Впрочем, вы не сдали, как было приказано, своих книг и бумаг. Ровно в час буду ждать вас у себя в кабинете, — уходя, doctor ord. окинул пристальным взглядом ящик письменного стола, на нем висел купленный Леонорой замок.
Моя судьба решилась бы через десять минут, если б ко мне тихо не вошло белое создание — Леонора и дрожащим голосом не предупредила бы:
— Бегите! Доктор по телефону вызвал каких-то там айзсаргов или стражей порядка, милиция, говорит, уже эвакуировалась. Они хотят вас забрать. Пройдите через прачечную в подвале, вот вам ключ! Окно выходит во двор, держитесь поленницы, и вы незаметно попадете в лес. А я тем временем задержу шефа в кабинете. Да поможет вам бог и дева Мария! — она осенила меня крестным знамением.
Дорогое ангельское создание! Она спасает меня уже второй раз. Жму прохладную руку и на цыпочках выхожу за ней в коридор. Стою, жду, пока сестричка зайдет к доктору. Словно чего-то ища, спускаюсь на первый этаж и ловко отпираю дверь прачечной. Окно уже открыто. На бегу выхватываю из поленницы свой сверток.
В лесу прижимаю манускрипт к сердцу — спасен! В столе остался лишь изданный в 1880 году томик Яниса Вридрикиса, но его я уже знаю наизусть.
Начинается мое насыщенное приключениями путешествие в Ригу. Засунув под рубашку рукопись, осторожно, с оглядкой пробираюсь по зарослям и кустам в сторону главной дороги. Ратный шум: грохот артиллерии и взрывы бомб доносятся откуда-то с тыла, чего я совершено не понимаю. Через добрый час ходьбы замечаю за песчаным пригорком большак. Выхожу на простор и смотрю: над лесами и борами на рижской стороне расползаются черные столбы дыма. Горит… На душе делается жутко: неужели немцы уже в Риге? Дорога словно вымерла, лишь в воздухе реют самолеты, откуда-то долетает стрекот отдельных пулеметных очередей. Решаю идти вдоль дороги, за канавой и держаться под прикрытием кустов, а то в лесу легко заблудиться. Неподалеку вздыхает горюн-вятютень, бормочет свою арию: кукру, кукру… Ему накакать на войны и воителей, у него своих напастей хватает. Собираюсь уже сигануть через канаву, как в кустарнике впереди меня раздается пронзительный окрик:
— Halt! Wer kommt?
На большак выходят два серо-голубых существа в длинных шинелях и в касках. Тут же рядом замечаю маскированный сосновыми ветками мотоцикл с коляской. Они не спеша приближаются, направив на меня дула автоматов.
Впервые в жизни вижу обращенное на меня оружие, поэтому послушно останавливаюсь. Картина похожа на ту, которую я запомнил по детским книжкам: два волка с разинутой пастью приближаются к белячку — весеннему ягненку, а тот, поджав хвост, покорно ждет своей участи. Немцы подходят. Один прикладом автомата ударяет по карманам брюк — по одному, другому. Пустые. Дальше они меня не обыскивают, пиджака-то нет. Кто я такой, куда иду? — спрашивают по-немецки.
Решаю изобразить из себя дулеба и простачка, а может, мне и стараться не надо, они уже сами догадались.
— Вышел из дома посмотреть… Парит, гроза, поди, собирается, — говорю и расплываюсь в улыбке.
Гм… отвечает по-немецки, полунаг, придурковат. So.
В каком доме, мол, я живу?
Показываю наугад на аллею из цветущего чубушника на горе, примерно в полукилометре от дороги. Аллея проходит мимо старой клетушки, там наверняка должен быть хутор. Свой пост ведь немцы не покинут.
— Марш! На дороге запрещено показываться. Если еще раз увидим — пиф-паф! — Тот, что подлиннее, выразительно показывает на ствол автомата.
Мне не нужно повторять дважды. Сворачиваю с дороги и напрямик чешу «домой», косясь одним глазом назад. Но я их больше не интересую, вдали возник какой-то странный воющий звук, как будто там сопит и ревет не меньше сотни мамонтов, гул нарастает, а когда я подхожу к цветущим чубушникам, на дороге появляются первые танки с черными крестами на боках. За ними следует целый поток чудищ, устрашающий, железный, жуткий… Хочу ладонью утихомирить сердце, которое колотится в груди как одуревшее… И лишь тут постигаю, что произошло… Hannibal ante portas! Эти бесформенные железные маньяки крушат мечту о человечности, на нас опускается черная ночь Уриана-Аурехана: Нибелунги валят на Восток!
Усталый, захожу во двор. Дома только две женщины и маленький ребенок, в их глазах я читаю тихий ужас.
Прошу пить. Они заводят меня в горницу, усаживают на лавочку, приносят парное молоко и лусточку хлеба. Ничего не спрашивают, только смотрят на меня сочувственно и вздыхают… Когда собираюсь уходить, старушка предлагает мне пиджак.
— Куда ты, сынок, без пиджака!
Я благодарю, но не беру. Без пиджака не так буду бросаться в глаза.
— Что-то будет, что-то будет, — тихо говорит старушка. — Неужели ты не мог пораньше уехать? Мой сын и внук взяли винтовки и ушли, они решили драться там, у эстонцев, бог им поможет, ушли стоять за правое дело. Одного не знаю, как мы обе тут выдержим?
Целый день я плутал по лесам и болотам, определяя но солнцу и запаху гари направление к Риге, а вечером достиг городской окраины, вышел к берегу озера к рыбакам. Добрые люди уговорили ночью в город не соваться: объявлен комендантский час, напорюсь на жандармов, а те цацкаться со мной не станут.
Был аккурат петров день, как говорится, младший брат иванова дня. В это лето песен лиго не пели, хороводов не водили: вместо лиго и хороводов выли юнкерсы, визжали пули, гремели пушки. Но девушки все же высыпали на берег: рвали рогоз и дубовые листья, плели венки и попытались было запеть, да старые рыбаки прикрикнули: «Плетите плетеницы, но жабры не раззевывайте, а то как бы вам не угодить в мережу, не те нынче времена!» Были среди них и старички, которые, приложившись к бражке, стали потягивать: «Немчуру я плясать заставил бы на горячих на камешках…»[19] Но тех жены сразу потащили домой, уложили вниз ртом и на всякий случай придавили сверху подушкой — они такой могли каши наварить, что ввек не расхлебаешь. Поговаривают, кстати, что крупы больше не будет, все запасы из магазинов велено отдать немецкой армии.
Меня нарекли Петерисом, надели на голову дубовый венок и принялись величать, я был единственный молодой мужчина на десять километров окрест. Все юноши разбрелись: кто на войну ушел, кто выказывал рвение в волостном управлении, набивался в помощники новой власти, а большинство подалось в леса, потому что про шел слух, будто завоеватели всех мобилизуют в армию. Так якобы сказал Адольф Бумбиер, сын владельца местной бумажной фабрики, который вернулся в первые дни войны — спустился с парашютом в тыл, чтобыик фаб сеять панику и показывать вражеским летчикам цели для бомбежки. Теперь наследнриканта сделался комендантом поселка, ходил в немецкой форме с красно-белым щитком на рукаве. Все боялись его, потому как он сулился учинить беспощадную расправу над оставшимися коммунистами. Особенно грозил он каким-то неарийцам. Кто из жен рыбаков мог поручиться — ариец ее старик или не ариец, у всех бороды черные да лохматые.
Выспавшись в сарайчике на прошлогодней соломе, как следует умывшись у огороженного деревянным срубом родника, побрившись и причесавшись, следующим утро окраинными улочками я пробрался в Ригу. Какие картины я застал! Неубранные баррикады, раскопы, покореженные машины, выдавленные окна, выбитые гранатами щербины на стенах домов свидетельствовали об отчаянных оборонительных боях. Кое-где еще дотлевали пожарища. Собор святого Петра сгорел, стройная, живописна башня его обвалилась, кварталы старого города вокруг порушены. Дом Черноголовых, самое прекрасное здание Риги, уничтожен немецкой зажигательной бомбой, прям плакать хочется. Лишь Роланд стоит, как студент после дуэли, — с отсеченным осколком носом.
Вдруг словно ледяная рука стиснула сердце — моя партитура «Зеленый шум весны»! На том месте, где находилась нотная библиотека филармонии, — лишь стены и провалившиеся стропила. Может, библиотеку успели вывезти? Слабое утешение… Если не успели, то я лишился своего лучшего музыкального сочинения. Непроизвольно ощупываю засунутый за чресельник сверток, таскаю его, как кошка котенка, единственный свой уцелевший манускрипт — переработанную пополненную поваренную книгу.
На набережной еще дымился сгоревший танк, на люке я увидел опаленный труп. Жуткая картина. Люди, люди!
И все же — есть среди нас герои. Танкист сопротивлялся захватчикам до последнего, держал под огнем предмостье. Когда кончились боеприпасы, врезался в гущу врагов, рассказывает старичок-очевидец.
Я беру себя в руки, нужно решать, что делать дальше, где остановиться… Фред в тот раз сказал, если тебе когда-нибудь будет худо, иди к нам… Так и быть, пойду к Цаунам, пока раскину умом, что да как.
До Межапарка приходится топать пешком, трамваи не ходят. Но здесь, в зелени дач и особняков, никаких следов войны не видать, все чисто, ухожено.
Звоню в дверь цауновской квартиры. Высовывается какое-то отталкивающего вида мурло с зеленой лентой на рукаве. На ленте намалеван череп. Занятно, что за общество такое?
— Хочу повидать госпожу Цауну, — говорю.
— Они опять живут в бельэтаже, — отвечает мурло. — А здесь помещается штаб команды безопасности. Вы по какому делу?
— Личному. Я друг семьи.
— Ах, так… Сейчас позову.
Мерзкая рожа возвращается в квартиру, оставив дверь открытой. Оттуда доносятся голоса, похоже — спорят.
Выходит Фредис. Защитного цвета полувоенный китель, высокие лакированные сапоги, на поясе кобура с пистолетом, на рукаве такая же лента с черепом, как у того ублюдка.
— А, это ты, — недовольно говорит Фредис. — Знаешь, сейчас не до тебя, есть дела поважнее. Сегодня начинаем акции… всех красных по заранее составленным спискам. Евреев оставим на потом. Ты, наверное, по своему вопросу. Вообще, это больше относится к Херберту, он теперь начальник специальной латышской полиции безопасности, руководит оперативной частью… Жаловался, между прочим, на тебя: ты, говорит, участвовал в первомайском торжественном концерте, какой-то там гимн сочинил Надо бы тебя маленько потрясти. Я, правда, вступился: ты ведь тогда видел Херберта на улице, также и меня на чердаке и не выдал… Короче говоря, сейчас тебе лучше не показываться на глаза. Цалитис очень зол. Я тоже крут, но справедлив. Теперь не имеет значения — друг или комильтон[20]. Сотрудничал с красными? К стенке, без длинных разговоров.
— Но могу ли я, по крайней мере, повидать госпожу Цауну?
— Мать наводит порядок в квартире, ты ее сейчас не беспокой. Истопника-латгальца выбросили со всеми пожитками и детьми. Сам он уже в яме, в Бикерниекских соснах, с ним разговор был короткий. Теперь нужно выгрести дерьмо, все промыть, вычистить. Немцы пригнали евреек, пусть натирают полы. А матери приходится присматривать, легко ли старому человеку… Сейчас ей не мешай!
Цауна без лишних церемоний захлопывает дверь. Идти к мадам? Но там трудятся еврейки. Никогда еще я не чувствовал себя таким грязным, замаранным, как в ту минуту, когда закрывал двери цауновского особняка. И я был их знакомым, домашним учителем…
Что же дальше? Осталась меблированная комнатушка на улице Акас. Хозяйка прислала мне в санаторий несколько писем. Тогдашнее происшествие ее страшно огорчило, она справлялась о моем здоровье, писала, что молит бога о моем выздоровлении и каждый раз напоминала: если захочу вернуться в Ригу, то могу опять поселиться у нее, комнатку она никому другому не сдаст. Она, видимо, чувствовала себя виноватой в том, что впустила тогда в квартиру убивца.
Я двинул на улицу Акас, хотя жить мне там не хотелось: слишком много тяжких воспоминаний… Да и помещение мрачное, свет в него проникал из глубокого колодца между каменных стен, лампы надо жечь днем и ночью. Но что поделаешь, другого выхода я не видел.
Звонок был сломан, поэтому я долго колотил и дубасил дверь, покуда она не открылась, правда, всего лишь на цепочку. В щель испуганно смотрела тетушка Амалия.
— Господин Кристофер! — шептала она. — Сегодня вас уже дважды искали. Такой длинный, в пенсне, с пышной шевелюрой… А с ним четверо вооруженных мужчин, па рукавах зеленые ленты с черепами. Разворошили всю комнату, бумаги, книги. Допытывались, не спрятано ли в ней каких-либо лекарств или бутылок. Заставили меня поклясться: как только вы явитесь, чтобы сразу сообщила в полицию безопасности. Так что я вас не видела и не слышала. — С этими словами тетушка Амалия тихо затворила дверь и повернула в замке ключ.
Я, обалделый, остался стоять на сумрачной лестнице. По ступенькам поднимались люди. Бесшумно, как летучая мышь, я взбежал на самый верх и прижался к чердачным дверям. Люди вошли в квартиру этажом ниже.
Когда я наконец выбрался на улицу, то понял, что дело мое швах. Ищейкой и взломщиком, несомненно, был доктор Джонсон. Он хотел вырвать у меня тайну «Рагги», завладеть эликсиром КМ-30. Одного лишь я не мог взять в толк, как сей авантюрист удостоился такой чести, что его сопровождает целый эскорт вооруженных громил. Может, потому, что он бывший командир айзсаргов? Выходит, айзсарги снова у власти? В прежние времена — самые ярые латышские националисты, а теперь — самые закадычные друзья и пособники захватчиков? Этого мой ум постичь не мог.
Я сообразил, что так запросто расхаживать по улицам мне нельзя. Меня ведь знает уйма народу, особенно свет и высшее общество. Рижские сливки снова вздулись, из раскисшей жижицы преобразились в хорошо взбитую сметану, правда, стали несколько пованивать. Мне там искать было нечего. Нужно сматываться, пока не поздно. Денег у меня осталось немного, я купил сигарет, бутылку белой, порядочный круг курземской колбасы и кусок свиного окорока. Пошел на Торнякалнскую товарную станцию: там формировались пустые составы военных эшелонов, пассажирские поезда больше не ходили. Показал толстому ефрейтору сначала сигареты, затем курземскую колбасу и сказал, что мне нужно домой к детям, в сторону Лиепаи. Это помогло, через час мы оба сидели в пустом товарном вагоне, я его угощал шнапсом, а он выражал уверенность, что раз я еду в тыл, то не могу быть опасным человеком. Все, у кого рыльце в пушку, бегу на Восток.
Когда я на чистом немецком языке запел: «Lebe wohl du stille Gasse, lebe wohl, mein altes Haus», ефрейтор с слезами на глазах затянул вместе со мной, поскольку один вылакал почти полштофа (это происходило между Елгавой и Добеле). Затем он начал изливаться и уверят меня, будто из-за всего, что творится, болит душа, ибо сам он, дескать, бывший социал-демократ.
Rot ist die Liebe und rot ist Tomat,
Rot ist der Schlips vom Sozdemokrat! —
пели мы, пока не подъехали к Салдусу. Сойти на остановке мой друг мне не позволил, тут, сказал он, охраняемая зона. Лишь когда поезд тронется и наберет скорость, вот тогда пожалуйста… Чуть погодя ефрейтор раздвинул двери и сказал:
— Ну, камрад, валяй!
Я прыгнул в кромешную тьму и, больно ударившись, упал в заросли крапивы и чертополоха. Я был спасен!
В девяти километрах от Салдуса жила сестра моего отца. Муж ее умер, и она одна тянула свое небольшое хозяйство. Я был желанным помощником — надвигались трудные времена.
XIII. СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВЕРТЕРА
Когда Янис Вридрикис с Маргаритой уехали за границу, Кристоферу было всего двадцать два года. Иной юноша с художественными наклонностями в этом возрасте уже сумел себя проявить. О Марлове же, кроме того что он веселый малый, хорошо одевается и мило играет на рояле, никто ничего сказать не мог. Правда, Янис Штерн, вынужденный обстоятельствами, издал его сольные песни, но покупатели их не брали, они считались неудавшимися. Кристофер избегал соблазна сочинять музыку в духе знаменитой песни «Хотел бы тебя убаюкать», в единственном стиле, который в ту пору господствовал в Риге, не хватало ему на шее и тесемки с народным узором.
Юношу явно испортили импрессионисты: в его руки попали партитуры младофранцузов — Равеля, Русселя и Сати. Непостижимая легкость всей фактуры сопровождения, каскады параллельных квартаккордов, воздушная форма, близкая к декламации манера пения (Кристофер помнил наставления графа Верни и Винченцо Галилея) не оставляли никаких надежд на популярность. Учение в консерватории казалось сухим и нудным, но Марлов был достаточно разумным малым, чтобы, стиснув зубы, прилежно штудировать традиционные формы, постигать кашеобразную инструментацию и приобретать обширные знания по музыкальной энциклопедии, что ему как молодому писателю могло когда-нибудь пригодиться. Через два года он кончил курс фортепьянным концертом собственного сочинения в ми миноре (слащавая тональность, почти желтого цвета!) и удостоился степени свободного художника без права занимать оплачиваемую должность в субсидируемых властями учреждениях… Вот те, выкуси!
О правах, естественно, в дипломе не было сказано ни слова, но неписаные законы иногда соблюдаются куда строже, чем писаные.
Беда была в том, что Кристофер впал в немилость. Притом в величайшую. Все это время, пока он учился, велись скандальные фракционные войны. Старохозяева, подсмотрев, каким способом захватил власть в неметчине Уриан-Аурехан, рассудили, что пора и им взяться за дело. Депутаты грызлись и сшибались в лютых схватках, торговались и спекулировали своей корысти ради, процветала коррупция, граждане роптали: правительства приходили и уходили, роясь точно пчелы, — что ни месяц, то новая власть.
Вождь ударил кулаком об стол и сказал — хватит! Снесшись со своим другом, главнокомандующим армией господином Шмерлинем, однажды ночью устроил переворот и провозгласил вечное и неделимое государство новую Талаву[21], иными словами — диктатуру.
Притихли мелкие лавочники, места за столом заняли крупные прожоры, воцарилась могильная тишина. Лишь в замке раздавались речи и песнопения во славу мудрейшего и светлейшего из вождей.
В этой-то атмосфере Кристофер имел счастье или несчастье получить степень свободного художника и на выпускном вечере лично исполнить свой концерт ми минор. Дирижировал Лео Шульц.
Случилось так, что концерт состоялся спустя неделю после великого сбора старохозяев, на котором вождь провозгласил свои принципы и в отношении к искусству вообще, и к музыке в частности. Это личное мнение возымело силу закона, высказывания великого человека был застенографированы и перепечатаны во всех газетах старохозяев (потому как другие газеты за ненадобность были ликвидированы, а критики и редакторы за грехи посажены в кутузку). Смысл новых принципов был прост и ясен. В музыке необходимо пестовать старолатышский дух, воспевать почву, прославлять единство и дружбу классов (очень резко вождь высказался против ехидны опевальных песен!), но прежде всего — добиваться мелодичности, мелодичности и мелодичности!
Дабы реализовать сии принципы, надобно воспрепятствовать проникновению чужих влияний в наше искусство, например, применению несвойственных нам стилей — русского тягучего (Чайковский), итальянского щебечущего (Пуччини), но больше всего французского декадентского (Дюка, Дебюсси, Равель), не говоря уж о распространенной по ту сторону границы — в России — манере Прокофьева и Шостаковича, из музыки этих сочинителей мелодия вообще изгнана, на то они и красные — вредный нам, старохозяевам, мир.
— Не имея возможности вредить нам прямо, — крича оратор, — они хотят своим искусством посеять в наши рядах смуту и сумятицу. Но я говорю: только до порога господа, и ни шагу дальше!
— Ура! — оглашали воздух воплями и рыками телохранители. — Ура.
Критики, каковые желали и впредь писать в газетах, подумали и сказали так, чтобы слышно было и другим:
— Гляди, как мудро рассуждает этот убеленный сединами муж, коего мы мнили всего лишь великим агрономом и знатоком народного хозяйства. Да будет единый латвийский стиль. Ступайте же и собирайте по весям старинные цимбалы, свирели и древние обычаи пастухов.
И явились на божий свет старатели, что пешком исходили сотни и тысячи верст до самой далекой Алсунги, извлекали там из хлама допотопные игральные орудия, основали капеллу суйтов[22] и каждое утро и вечер под окном спальни вождя бряцали на струнах «В ворота барин проскакал».
Дебют Кристофера в зале консерватории слушатели приняли с отзывчивостью, большей частью это были те самые студенты консерватории, которые, так же как и Марлов, успели познакомиться не только с новейшей советской, испанской и французской музыкой, но равным образом и с произведениями венских атоналистов — Шенберга и Альбана Берга. На концертах исполнялись «Пасифик» и «Регби» Онеггера. Марлов, правда, продолжал придерживаться ладовой структуры, потому что писать иначе никто его не учил, а дело это было хитрое. В раздумье топтался он по ми минору, во второй части переводил на аквамариновый цвет ля бемоля, а финал выкрасил в кричаще красный до мажор, это звучало весьма оригинально.
Единомышленники скинулись по монетке и потащили Кристофера в артистический клуб на улице Вальню — к святому Лукасу отпраздновать успех под готическими сводами. Но увы! Радость победы оказалась преждевременной. На второй день газеты разнесли Марлова в пух и прах.
«Запущенность национально-идеологической подготовки у студентов консерватории». «На скользком пути». «Отсутствие таланта под прикрытием псевдомузыки». «На поводу у евреев и всемирного коммунизма». «Большое разочарование для рижских любителей музыки».
Заголовки говорили сами за себя. Кристофер даже не пытался читать дальше, судьба его была решена — свободный художник-интеллигент! Его музыку не будут ни исполнять, ни издавать — он перестал кого-либо интересовать. Это был конец всех творческих дерзаний, без моральной и материальной поддержки ни одна душа прожить не может.
Кристофер с удивлением поглядывал на некоторых единомышленников, на выдающиеся таланты: наученные его прискорбным примером, они всеми силами старались заплыть в указанный вождем тепленький водоем. Собственная карьера волновала их больше всего. С глазу на глаз они поносили хозяина, могли рассказать о нем анекдотец, но публиковали панегирики, песни на слова, составленные из его лозунгов, и жалкие подделки под народные мелодии — вечерние посиделки в духе предков при свете лучины.
Для Кристофера продолжалась все та же сладкая жизнь учителя музыки, странствующего тапера и танцмейстера. Кинотеатры перешли на звуковые фильмы, прежнее доходное занятие — сидеть в углублении сцены перед экраном, следить за кадром и сочинять к нему музыку — после внедрения новой техники стало ненужным. Жаль! Марлов набил руку в этом деле, вырос в крупного специалиста. Утехи любви, скажем, сменяют изображение грозы (тремоло на басах октавами, правая рука рубает ноны — такая лапа у Кристофера от бога, уникальная подвижность суставов — немцы это называют ein fenomenales Handgelenk), за медленным фокстротом следует лай собаки, да, да, даже тявканье пса умел он воспроизвести на рояле, а если инструмент был не бог весть какой справный, то лаял сам. Платили хорошо.
Так и влачил он пестрый груз своих дней, словно впрягшийся в бричку осел. Годы шли, уплывали, замыслы, забрезжив, исчезали — ничего не удавалось доделать до конца. Сам того не замечая, Кристофер превратился в так называемого трепача, вступил в общество болтунов.
Что оно из себя представляет? Это каста художников и артистов, которые ежедневно проводят определенные часы в кафе, курят, пьют мокко и спорят об искусстве и путях его развития. Всемудрые, все понимающие, со временем из таких нередко вылупляются критики. Но пока что они еще тешат себя надеждой, что их ждут сияющие вершины: в один прекрасный день они поразят предков гениальным приемом, блистательным трюком. Лиха бед начало: поэту необходимо найти самое хлесткое название, живописец должен натянуть холст на мольберт, сделать кисточкой первый мазок. Мазнуть? А может, лучше брызнуть? Затеваются дискуссии: брызнуть или мазнуть? Обстоятельной обработке подвергаются все, кто уже мазнул.
«Да ну его, — морковный кофе. Совершенно исписался. Ты читал его последний роман? Стерильно, жонглирует сюжетами, все на фокусах… Умишко гладенький как задница новорожденного младенца; подтексты, поток сознания — ни сном, ни духом. Я, например, это сделал бы так…» — и несостоявшийся молодой гений излагает свой вариант, которого вовек не напишет, даже не набросает, потому как завербовался в трепачи.
Кристофер за четыре с лишним года не начертил ни одной ноты (а ведь наступала его двадцать восьмая весна), ни одной фразы, хотя за куревом испустил столько интеллектуального дыму, что хватило бы на целые энциклопедические словари и еще бы осталось колбасы накоптить.
Но таков уж был удел молодых искателей того времени, и грешно над ними теперь насмехаться. Что им оставалось делать? Их книги не печатали, на концертах их произведений не исполняли, картины на официальные выставки не принимали. Наиболее предприимчивые увешивали своими полотнами и картонами забор Верманского парка на улице Меркеля под липами (напротив университета). Арендную плату там никто не требовал — сад никому лично не принадлежал, какая-то престарелая фрейлина в незапамятные времена преподнесла его в дар горожанам. А разве ребята в испанских шляпах с желтыми шарфами на шее и в лакированных штиблетах на босу ногу не были горожанами?
Полицейские обходили выставку и, если явно голых не обнаруживали, не приставали. Вообще-то они затруднялись сказать точно, что намалевано на картинах, а поэтому быстро успокаивались.
Свободные художники под липами были покладистым народом, они не задавались и вместе со стражами порядка иногда пропускали по маленькой. С ними можно было поторговаться, так же как на Мариинской у Шмускина. Сколько стоит, например, эта вон картинка? Муж в испанской шляпе запрашивает баснословную сумму. Когда заинтересованный гражданин пугается и хочет дать деру, художник хватает его за пуговицу и сбрасывает с первоначальной цены восемьдесят процентов. А когда несчастный (он ведь спросил просто так, для интересу) в отчаянии показывает кошелек, в котором притаились всего лишь два лата, муж в испанской шляпе скатывает полотно и торжественно объявляет:
— Натюрморт ваш!
Таким манером кое-кому из обывателей достались картины, которые потом после смерти художника несказанно поднялись в цене. Большая часть колоритных полотен Падеги ушла именно этим путем, сам он умер от туберкулеза. А известный книгоиздатель устроил посмертную выставку его произведений. Бизнесмен, оказывается, тихо и терпеливо копил его вещи, кои приобретал на липовой аллее у забора.
Унижаться до такой степени, чтобы играть на скрипке под сенью деревьев, Кристофер не желал. Да он и не сумел бы конкурировать с ансамблями, которые ходили по домам и постоялым дворам на Мельничной. Иного скрипача сопровождала цыганка с тамбурином, а то и с шарманкой, другие за те же деньги точили ножи и ножницы.
У Марлова были свои преимущества: он мог греться в высших сферах, а там, как известно, денег за угощение ни с кого не требуют. Он был, как говорится, причислен к рангу номенклатурных денди. Приглашения на свадьбы, юбилеи, дни рождения шли потоками, особенно когда выяснилось, какие близкие отношения его связывают с Трампедахом.
Чета богачей уехала, но опекуном их апартаментов по-прежнему считался Марлов, хотя старый скупердяй только первые два года посылал обещанные десять лат в месяц. Теперь юноша просто так, без всякого вознаграждения, по старой привычке захаживал удостовериться, не взломана ли дверь, хотя куда лучше с этой обязанностью справлялась сама мадам — госпожа Берзлапинь. Квартира находилась в ее доме и принадлежала ей — лишь мебель, картины и библиотека были собственность Трампедаха.
Кристофер снял комнату на улице Акас, она стоил двадцать пять латов в месяц, деньги он кое-как наскребал частными уроками. На столе покоилась раскрыта рукопись — дело его жизни «П.П.П.», двенадцатая страница… Уже который год! Дальше двенадцатой страницы он не продвигался, не хватало времени…
Сегодня — поездка студентов в Кокнесе. Еще со студенческих лет он считался душой всех песен — magister cantandi. Руководитель пения, сказитель и зачинатель Si mihi mollis fidu-cit! Без Кристофера они просто не могли.
В среду в корпусе женской помощи устраивается вечер для господ мужчин. Господ мужчин, господ мужчин — тра-ля-ля-ля! Нужно вести турвальс, полонез, никто не умеет пройтись таким кандибобером, как он.
В пятницу бал дает студенческая корпорация Имерия, надо взять напрокат фрак. Кристофер уже внес Шнейдеру пять латов, перебьется неделю всухомятку. Имерийки слыли самыми красивыми и элегантными студентками, поближе к утру там, говорят, понадобится играть Шопена и Шумана, то были девы экзальтированные — топили камин, пичкали пирожками, заставляли пить мерзкий глинтвейн, но больше всего обожали романтическую музыку! Иногда Кристофер порывался сыграть что-то свое, но всякий раз бывал жестоко осмеян. Имерийки были достойными дочерьми своего времени, напевали вполголоса «Хотел бы тебя убаюкать» или же «Мой милый — наездник, наездник лихой». На второй день Кристофера всегда мучило похмелье, он не понимал, с чего бы оно…
В воскресенье — свадьба. Замуж выходит сестра Фроша, красавица Кунигунде. Кристофер, само собой разумеется, один из семи маршалов, дружков жениха. Во фраке с белой лентой через грудь, с розой в петлице, со свечой в руке. Ему поручено сопровождать счастливую пару на церемонию, упаси бог облить парафином взятый напрокат фрак или наступить наряженным в шифоновые платья подружкам невесты на шлейф. Они похожи на белых ангелов, разве что крылышек не хватает, но не вздумай коснуться, даже пальцем дотронуться, девушки втискиваются в ландо вместе с маршалами, все едут в свадебный дом. Кристофер очередной раз оказался на высоте, провел все честь честью, браво!
Во вторник… дальше ему не хочется думать… Лучшие годы проходят словно в какой-то баламутной мистерии или в роскошной театральной постановке, где лично ему отведена роль статиста.
— Кристофер? — в кругу дам растабаривает барышня Около-Кулака. — Вот уж действительно веселый малый, сколько юмора… Пьет не пьянеет.
— Ну что ты, милая! — смеется вторая. — Он просто наловчился вовремя смываться, потому никто и не видит его пьяным.
— А мы однажды решили над ним пошутить, — говорит Нина Около-Кулака. — У фабриканта Нейланда была большая пьянка. Заключили пари: возьмем Кристофера в плен и не будем выпускать, пока его не развезет у всех на глазах. Заперли внутреннюю дверь, на входной повесили амбарный замок. Ждем, когда его потянет в бега. Под утро спохватываемся — исчез. Оказывается, сообразил, что попал в капкан, он вылез в комнате горничной из окна, спустился по водосточной трубе во двор, сшиб камнем замок на воротах и был таков. А утром смотрим — он уже тут, сидит за завтраком, опохмеляется. Занятно, на что он живет?
Да, Кристофер сам часто не понимает, на что он живет… И почему живет? Хорошо, что не остается времени на размышления.
Из такого полулетаргического-полуманиакального стояния утром пятого мая его вырвала потрясающая новость: Маргарита и Трампедах вернулись в Ригу. Сказать правду, вернулись еще в конце апреля, но Янис Вридрикис, найдя квартиру в образцовом порядке, решил, что благодарить Кристофера необязательно; для него было лучше всего, если б тапера вообще не оказалось в Риге.
Беспечно насвистывая, Кристофер уже собрался бы отправиться на five o’clock tea dance в Общество прессы, как в дверь постучали, вошла хозяйка тетушка Амалия и протянула записочку.
— Тут, сынок, один человек письмо принес… На старого Визуля вроде бы смахивает…
Кристофер с неохотой взял сложенный вчетверо клочок бумаги. Уже целый год он был должен портному Визулю, теперь, наверное, тот извещал его, что чаша терпения переполнена и он передает дело в суд… (O tempora!)
«Многоуважаемый господин Кристофер!
Мы вернулись. Я не знала, где Вы и что с Вами. Наконец сегодня мы получили Ваш адрес — я послала Антона (он опять служит у Йогана Фридриха) в адресный стол. Буду рада видеть Вас у себя завтра в первой половине дня.
На второй день Кристофер явился в апартаменты в бульваре Райниса. Его впустила сама госпожа. О боже, как она изменилась! Немудрено, семь лет минуло с того дня, как они простились. Кристофер тогда не чаял еще когда-нибудь увидеть ее. Лицо Маргариты заметно осунулось, на лбу над переносицей, а также возле уголков рта прорезались мелкие морщинки. Лишь губы остались прежние: лукавые, чуть выпяченные. На ней совсем простенькое черное шерстяное платьице (черное ей всегда шло). Янис Вридрикис, сообщает она, на службе, приехал в Ригу по делам репатриации, работает в Утаге.
— Репатриации? Что это такое?
Всем балтийским немцам предложено возвратиться на родину своих предков — в Германию, правительства уж договорились. В этой связи организовано общество Утаг. Ее благоверному поручены хлопоты по вывозу немецкого культурного наследства, сами они, мол, уедут последними.
— Значит, приехали ненадолго? — спрашивает Кристофер, опускаясь в шикарное салонное кресло напротив госпожи, которая сидит на такого же стиля диване.
— Не знаю, — рассеянно отвечает Маргарита, разглядывая Кристофера. («Так вот какой он на самом деле», — думает госпожа, и в глазах ее отражается легкое разочарование.)
В тот раз Маргарита уехала в отчаянии, разбитая, не надеясь вернуться. Ах уж этот Кристофер! Долгие часы, проведенные вместе, прогулки, музицирование так сблизили их, а юноша все равно замыкался, вел себя сдержанно и с прохладцей. Маргарита втайне надеялась, что он затеет с ней легкий флирт. Все молодые люди, познакомившись с Маргаритой, рано или поздно теряли голову.
(«Я интересная женщина, — сознавала Маргарита, — я поэтесса, умна, красива».) С наслаждением разглядывала она по утрам в зеркале свое тело, упругую грудь, золотистые, ниспадающие на плечи волосы, а Кристофер притворяется, будто всего этого не замечает, ходит насмешливый. Никогда нельзя было догадаться заранее, какую колкость извергнет его щучий рот, госпожа часто обижалась.
Например, тогда — уезжая… Ну хоть какой-нибудь намек прочла бы она в серых глазах музыканта. «Не забудьте захватить кинжальчик Тимура». И все.
Семь лет Маргарита жила памятью о прошлом, она была одна среди чужих, больна и одинока, воспоминания стали ее единственным развлечением, они вились вокруг вирджиналов, сказок Кристофера о переселении душ и его бродячей жизни. Наконец, из воспоминаний выкристаллизовывались мечты, они обрели форму, и Маргарита принялась писать новеллы. Кристофера она в своем воображении наделила бесстрашием, гениальным талантом, сделала его идеалом мужественности, себя вообразила она вдохновительницей и добрым гением. Да, Маргарита стала экзальтированной мечтательницей. В Давосе она велела отвезти себя высоко в горы к лесорубам и прожила три дня в бревенчатой хижине, глядя на розовато-голубые вершины, там она сочинила посвящение «Вирджиналисту снежных Альп».
Но сейчас образ ее мечты сидит перед ней в салоне и выглядит довольно потасканным. «Какие глаза, какие у него глаза, пустые, невыразительные! — с отчаянием видит Маргарита. — Куда подевались искорки смеха, пляшущие бесенята? На челе гримаса подавленности и мощи. Сидит вяло, привалившись плечом к спинке кресла. Выглядит буднично, вульгарно».
— Как поживает господин Трампедах? — устало и без интереса спрашивает Марлов.
— Спасибо, он очень занят, — отвечает Маргарита губы ее вздрагивают.
Отношения с Янисом Вридрикисом стали совсем странными. Магистр относится к Маргарите, как собственник, который, покупая дорогую мебель, неосмотрительно переплатил. Его тщательно скрываемую скупость вдруг словно прорвало. Магистр начал экономить даже на еде. Косвенный намек, что он ее, как щенка, вытащил из воды (в переносном смысле, конечно) и устроил ей хорошую жизнь, а она только и знает, что улыбаться каждому встречному, у кого рожа посмазливей, — свидетельствовал о совершенно новом и поразительном свойстве, которое росло и увеличивалось обратно пропорционально интенсивности и частоте его любовных вспышек (все реже взывал он к ночи с молитвами благодарности, в реже вспоминал маковые лепестки в лилейной рученьке) — магистр разваливался на глазах… Временами Маргарите казалось, будто она спуталась с восьмидесятилетним старцем, хотя на вид ему можно было дать не более тридцати пяти — сорока. Три года назад он сделал Маргарите предложение. В Берхтесгадене они уже хотели пожениться, но, когда Яниса Вридрикиса попросили предъявить паспорт, он нигде не мог его найти, хотя о его арийском происхождении ни у кого не имелось ни малейших сомнений. Свадьба расстроилась. После это случая Трампедах своего предложения не возобновлял. Маргарита и не настаивала, несмотря на то что ее общественное положение — быть метрессой миллионера — не делало ей чести, особенно в Германии, где на торжества и в гости приглашали одного только Вридрикиса. Приглашать любовницу считалось неприличным, могли обидеться порядочные жены господ обывателей. Маргариту это не задевало, так как спаситель ей опостылел. Яниса Вридрикиса временами обуревала какая-то паскудная подогретая страсть, тогда он как бешеный требовал от Маргариты ласки, но потом проходило полгода, и он даже не удостаивал ее взглядом, лишь глотал сушеных мушек.
В Берхтесгадене Маргарита затеяла невинный флирт с одним альпийским стрелком, старшим лейтенантом Бенно. Разразился ужасный скандал. Янис Вридрикис тотчас отправил Маргариту скорым поездом в Давос, а там нанял шпиона, который повсюду ходил за красоткой, пока не выдержал, влюбился и пал к ее ногам. «Ах, эти ножки, почти как у полячки!» — сказал павший, но Маргарита, которая догадывалась, что ее воздыхатель — сыщик, не доверилась ему и предпочла предаваться мечте о прекрасной и нерасцветшей любви на оставленном ею севере.
И вот ее мечта сидит перед ней и спрашивает, как поживает господин Трампедах, ничего лучше Кристофер придумать не мог.
Господин Трампедах чувствует себя хорошо, он жив, здоров, только стал не в меру ревнив, поэтому она, дескать, пригласила гостя в первой половине дня. Что господин Кристофер сочинил за эти годы? Сколько симфоний, опер? Конечно, та забавная поваренная книга уже вышла в свет? Маргарита засмеялась.
— Это так комично: серьезные люди и занимаются поваренными книгами, — говорит она.
Кристофер не смеется, он даже не улыбается.
— Уже пять лет, как я не написал ни одной ноты.
— Наверно, ушли с головой в литературу?.. О, понимаю! У меня теперь есть и новеллы… Хотелось бы вам их прочесть, — говорит Маргарита.
— Ни одной строчки не написал я с тех пор, как вы уехали. Я не читаю ничего и не хочу слушать вашу новеллу, потому что искусство, сочинительство — все пустое. Я мечтаю об истинном народном табачном и пивном заведении. Вы сказали — балтийские немцы скоро уберутся восвояси, наверное, освободится какой-нибудь трактир. На радость вам начну зашибать деньгу и сделаюсь почтенным толстопузым членом общества. Может, до этой славной поры вы мне одолжите пару сотенок, — говорит Кристофер.
Маргарита с досадой встает и вдруг замечает, что от гостя несет мерзким духом перегара, он пьян и у него красные глаза.
— Как вам не стыдно показываться мне в таком виде? — с болью спрашивает Маргарита.
— Я вам не навязывался: вы сами просили зайти. Итак, что госпоже будет угодно?
— Чтобы вы сейчас же встали, пошли домой и выспались, — кричит Маргарита. — Это уж слишком!
Кристофер молча поднимается, окидывает ее долгим отчаянным взглядом и направляется к двери. Маргарита успевает заметить стоптанные каблуки и ужасные зеленые носки. Когда захлопывается дверь, госпожа запирается в своем будуаре, падает на постель и пустыми глазами смотрит в стену.
— Неужели это так? Неужели это так?..
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Однако от правды не скроешься, на five o’clock tea dance в Обществе прессы произошел чрезвычайно неприятный инцидент.
Танцы были в полном разгаре, когда к столику, которым сидел Кристофер с супругой ресторатора Кезбера и двумя его дочерьми, писаными красавицами, подошел издатель и директор старохозяевской газеты Элстынь, уже изрядно подвыпивший, и проехался волосатой лапой по декольте барышни Ирены от затылка до ягодиц, да так, что жвакнуло на всю комнату.
Кристофер как ужаленный вскочил и дал Элстыню в ухо. Элстыню! Тому самому, которому принадлежал особняк на улице Парка, боссу старохозяев и директору «Бекона». Звуковой эффект был потрясающ. Со всех сторон к месту происшествия неслись господа, спрашивал что случилось.
— Черная свинья! — не выдержал Кристофер. — Старохозяевский кабан!
— Вы ответите за это! Полицию! — задыхался Элстынь. — Оскорбляют правительство.
— Что за скандал? — интересуется подошедший господин.
— Сопляк, провалившийся музыкант осмелился поднять на меня руку. Полицию! Кто впустил его в Дом прессы? Вон, макаронина! Социк! Шляется тут, деньги вымогает!
— Вам мало, еще хочется? — кричит Кристофер с пылающими глазами, но сердобольные люди уводят пострадавшего, который, оглашая воздух воплями и стенаниями грозит издали музыканту кулаком:
— Вы еще у меня поплачете! Сопляк!..
— Ужас, как вы себя ведете! — шипит Кезбериха. От Элстыня зависят наши магазины… Идите немедленно извиняться, просите прощения…
— Я же защищал честь вашей дочери от наглеца, — говорит Кристофер.
— От какого наглеца? Что вы вмешиваетесь в мои дела, сами вы наглец! — негодует Ирена. — Ну, погладил меня слегка. А вы сразу нападать на человека. Не жених вы мне, не помолвленный… Да за такого голодранца я в жизни не пошла бы. Вы же действительно побираетесь, деньги выклянчиваете… Постыдились бы!
— Уходите скорее от нашего столика, — взволнованным голосом говорит мадам Кезберис. — Вон полиция идет, подумает еще, что мы с вами друзья… Просто несчастье с такими голоштанниками, стыд и срам навлек на нашу голову.
Кристофер встает, хочет удалиться, но к нему подходит полицейский и отводит юношу в соседнее помещение.
Страж порядка составил протокол, хотя Кристофер и уверял его, что зачинщиком беспорядка был директор, который оскорбил даму.
— Даму? — ухмыльнулся полицейский. — Знаете что, молодой человек. За свои деньги он может себе позволить и не то…
Статья закона, карающая за оскорбление правительства, отпала, поскольку обозначение домашнего животного «свинья» в те времена употреблялось исключительно в значении благородном. Свиней экспортировали в Германию, Англию, за них получали валюту. Элстынь сам был директором акционерного объединения «Бекон» и успел вопреки закону впихнуть на суда не одну сотню собственных свиней, отчего, узрев в протоколе слово «свинья», струхнул и приказал его стереть. «Был я также и бит!» — добавил для важности Элстынь, что полицейский, потрепанный и тщедушный человечишка, незамедлительно занес в протокол…
— Это удовольствие будет стоить вам пятьдесят латов, — сочувственно пояснил он Кристоферу. — Удивляюсь, что вам мешает начать добропорядочную жизнь? Я, например, кабы мне ваши годы, снял бы киоск и стал торговать пивом да табаком. Ведя разумный образ жизни, я вскоре разбогател бы. Возьмите хотя бы того же Элстыня, он аккурат так и начал, а теперь ишь какая шишка, живет, в ус не дует и не дерется, как фачист (полицейский краем уха слышал новое и, по его разумению, ругательное словечко). — С этим наставлением он и отпустил Кристофера, лишь напоследок тихо спросил:
— Как следует огрели?
— Куда там, — говорит Кристофер, — промазал, только и было что шуму!
— Эх, надо было хорошенько его вздуть! Деньги-то платить одни и те же, — поучает полицейский, оборванный, жалкий червь. Подмигивает Кристоферу и удаляется. Штраф надобно внести в двухнедельный срок.
Вот тебе, Либерсон, и троицын день! Визулю пятьдесят, префекту полиции пятьдесят, за комнату двадцать пять, долг Фрошу шестнадцать, об обеде и нечего мечтать. Придется с горя пойти к Широну. Там еще дают в долг. Хейя, хейса!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Такое вот выдалось утро, и так выглядел Кристофер, когда предстал пред очи Маргариты. Ему не следовало идти к ней, но он все-таки потащился.
К Маргарите, которая все эти годы была для него отдушиной, его мечтой в часы поражений. «Если бы Маргарита не уехала, из меня вышел бы человек», — оправдывался он сам перед собой… «Если Маргарита когда-нибудь приедет, я приду к ней, пожалуюсь на свои беды, выплачусь, положив ей голову на колени… И начну новую жизнь…»
В действительности же все получилось наоборот. В это утро после семи лет разлуки он не мог выдавить из себя ни одного нежного слова, которые во сне и наяву шептал своей воображаемой Маргарите. Вместо этого наговорил грубостей и был выдворен из дома.
В высших сферах инцидент на второй день уладился. Ирена самолично пошла к господину Элстыню в редакцию, они провели в кабинете почти час за завтраком, после чего юная дева, раскрасневшаяся, убежала, а шеф приказал позвать заведующего отделом последних новостей Лау, сам вытащил из его папки статью «Криминалист — домашний друг известного торговца» и сказал: «Пока что modus suspendi» (Ирене полагалось еще два раза явиться на переговоры, а засим дело можно будет считать законченным). Как-нибудь особенно насолить Кристоферу шеф не мог, потому что музыкант и без того был вне закона: в печати давно запрещалось упоминать его имя. Марлов лишь удостоился прозвища Шрейенбушский Дон Кихот, это было недурно придумано, поскольку он и впрямь ринулся в драку с ветряными мельницами. В высших кругах от Кристофера не отшатнулись, нет, — Элстынь для многих был бельмом в глазу: они бы с удовольствием разыграли б этим музыкантом еще и следующий ход в партии против всесильного босса. Только семейство Кезберов заявило ясно и без обиняков, что не знает и знать не желает никакого Кристофера Марлова.
С этого дня музыкант перестал принимать приглашения. Одевался как попало, бродил небритый по улицам, вечерами торчал под деревьями на бульваре Райниса, в уже известном нам месте, откуда было видно окно Маргаритиной спальни. Он смотрел на него долго и безо всякой надежды, а когда поздно вечером оно погружалось в темноту, продрогший от ночной сырости возвращался домой, бросал взгляд на двенадцатую страницу открытой рукописи и, махнув рукой, валился спать. Не все ли равно!
Однажды утром он решительно встал, побрился, отправился на бульвар и дошел до парадной знакомого дома. Дальше идти не хватало смелости. Юноша рассудил, что лучше подождать внизу, прогуливаясь взад-вперед по тротуару. Таким образом он прошагал до обеда и собрался было уже бежать в студенческую столовку, чтоб подкрепиться хлебом (на треску не хватало), как увидел Маргариту. Госпожа вышла из парадной и направилась прямо в его сторону. У Кристофера замерло сердце, на всякий случай он ухватился за решетчатую ограду подвального окна. Когда Маргарита поравнялась с ним, музыкант сорвал с головы свой потершийся котелок и поздоровался.
— Ах, это вы, Шрейенбушский Дон Кихот! — (И до нее дошло его прозвище). — Что вы тут делаете?
— Жду вас… — с трудом выдыхает Кристофер. — Я последний, последний…
— Да? А мне и в голову не могло прийти… Она красива?
— Кто? — удивленно спрашивает музыкант.
— Ну, эта Дульцинея… ради которой вы были готовы стереть в порошок всемогущего шеф-редактора. Какая-то курочка Ирена хочет сделать из вас торговца пивом, браво! Надо же, что за идеалы у вас, Кристофер!
— Я должен с вами поговорить, — хрипло произносит музыкант, — нам обязательно нужно встретиться.
— Боюсь, у меня не хватит больше сил выдерживать ваши грубости.
— Я знаю, я ничтожен. Но выслушайте меня, а уж затем наказывайте!
Маргарита не слушает и продолжает путь, а Кристофер, как побитый пес, тащится за ней следом.
— Кто красивее: Ирена или я?
— Какая чушь! Ирена? Да она простая случайность. Этот самый шеф-редактор Элстынь пять лет назад напечатал критику, которая уничтожила меня… Я поддался чувству мести…
— Кто красивее: Ирена или я?
— Маргарита, только потому, что вы…
— С маковыми лепестками? — разражается безжалостным смехом Маргарита (ее лукавые губы растягиваются, бог ты мой, какие они алые). — Куда подевалось ваше остроумие, Кристофер? Вы сейчас заговорили в стиле Яниса Вридрикиса.
— Можно ли мне когда-нибудь навестить вас?
— Нет, нельзя! Мой друг и спаситель стал вдвое ревнивей, он нанимает частного детектива, видите, он идет… в десяти шагах за нами… Не оглядывайтесь так заметно! Прощайте! Привет! К счастью, вы стали похожи на бродягу, скажу Янису Вридрикису, что ко мне на улице пристал попрошайка, которому я дала лат на водку. — С этими словами Маргарита втискивает в протянутую для прощального приветствия ладонь Кристофера серебряную пятилатовую монету и быстро переходит улицу, оставив музыканта в полном смятении, тупо разглядывающего деньги.
— Серебряные пять латов, — потерянно бормочет Кристофер. — Серебряные пять латов за крах, плата за несчастье…
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
В этот же день к нему пришел Янка Сомерсет. Кристофер сидел на тахте в своей сумеречной комнатушке на улице Акас, уперев голову в ладони, и размышлял, как лучше покончить с собой: застрелиться, утопиться, повеситься или броситься под поезд.
Вешаться, пожалуй, мерзко! Лицо покрывается синими пятнами. Под поезд — неэстетично, паровоз ужасно изувечит. Утопленников он видел — тоже мало привлекательного… Уж лучше всего застрелиться. Кристофер будет лежать в гробу красивый, недоступный. Маргарита подойдет, взглянет и все поймет: музыкант пошел на смерть из-за нее… Из-за серебряных пяти латов… Со всхлипом Джульетта упадет на гроб, хотя, кажется, в той постановке в театре Блекфрейра было наоборот, падал как раз Ромео. В общем, один хрен… Труп есть труп, тут уж ничем не поможешь, рыдай не рыдай, о гордая жестокосердная Мери, плачь, черная Мери, плачь. Твои слезы не оживят одаренного Кристофера Марлова. Плачь, жестокая!
На этом месте внутренний монолог оборвался, в комнату вошел Сомерсет.
— Только что встретил Фроша; ты, говорит, дошел до ручки… Флауш, флауш! Что с тобой творится?
Кристофер опускает голову, все именно так, нечего прятаться.
— За твое геройство в Доме прессы я не дам и ломаного гроша, — продолжает Янка. — С подобными людьми нужно бороться другим способом… Ты почему не работаешь? Все ждали от тебя великих дел.
— Кто это — все? — спрашивает Кристофер. — Критика сделала из меня посмешище. Мои произведения запрещено исполнять, а ты говоришь — все.
— Все те, кто еще не разучился думать.
— За всех нас думает вождь, — отрезает Кристофер.
— Я не говорю о старохозяевах и их припевалах. Не имею в виду также и то общество, в котором тебе так нравится вращаться. Я говорю о тех, кто идет своей дорогой, не шарахаясь то в одну, то в другую сторону.
— Так что же я, по-твоему, должен делать?
— Пиши, работай!
— Для кого? Я убежден, что искусство предназначено для людей понимающих. Как мне добраться до них? Через какую дверь?
— Не думай, что такое мракобесие долго продержится! Катастрофа неминуема, молнии и громы очистят воздух, бой предстоит суровый. А ты? Истинные таланты всегда интуитивно предсказывали ход развития людского общества.
— Ты думаешь, что-нибудь изменится?
— Притом очень скоро… Не будь как те фефелы-девственницы из Библии, помнишь, наверное, по бабушкиным рассказам; когда надо было зажигать лампады, они еще только елей искали.
— Не хватает вдохновения, — говорит Кристофер. — Еще вчера была надежда, но сегодня и ее не стало, никому я не нужен.
— Коли так, ты не художник. Гений — это терпение это выдержка, это вера в себя. Если ты обделен этим тремя качествами, тебе не поможет самый блистательны талант, ты останешься пустоцветом. Что дает твое выпендривание в дамских салонах у рояля? Неужто ты раньше не чуял, что стал модным шутом? Хотел к ним подмазаться?
— Янка, ты в точности положительный герой из скучного романа. Поучаешь других, а сам живешь независимой жизнью в мире каких-то странных идеалов. Да тебе и не трудно: богатые родители, нахватался французской культуры (тоже на отцовские деньги), изучаешь то философию, то математику, кончил консерваторию, все вперемешку, потому как можешь себе позволить все, что твой ум пожелает. Я родился бедным и посему пытаюсь, выбиться в люди и прошу к себе снисхождения. Тебе даны противоестественные преимущества, они меня раздражают.
— Ну а если я эти свои противоестественные (и, верно, нелогичные, поскольку у других людей таковых нет) преимущества использовал бы ради дела, которое в будущем должно устранить подобные нелогичности, что б ты тогда сказал? У каждого свой талант, мне кажется я выявил свой, стараюсь его усовершенствовать. Мне требуется неизмеримо больше терпения, выдержки и веры в свое дело, чем тебе, мой путь также не застрахован от опасностей: это все равно что ходить по натянутой веревке, по острию меча, и притом не своего удовольствия ради, а чтобы честно служить идеалам. Вот тебе и мои преимущества!
Кристофер мало что уразумел из длинных тирад друга, он был поглощен собой. Слова Сомерсета о терпении, выдержке и вере не воспламенили его.
— Ты действительно полагаешь, что эта мрачная эпоха скоро кончится?
— Уверен, — говорит Янка. — Смотри в письмена! Ты вообще читаешь что-нибудь?
— Нет, — отвечает Кристофер, — ничего, кроме составленных официантами счетов, векселей от ростовщиков и угрожающих писем, которые мне присылают портные.
— Да, трудно тебе живется… И сколько у тебя долгов?
— Разве тебя это может интересовать?
— О, да! Допустим, я из своих неестественных преимуществ (мой отец по-прежнему мелет белые денежки) сколько-нибудь предложу тебе. Ты что, откажешься?
— Мне думается, нет… Иначе или зубы на полку, или вешайся. Таково мое положение на пятнадцатое мая[23], то бишь день сытых утроб. Врать тебе не имею права.
— Только с одним условием. Сегодня же начнешь писать симфонию.
— Нет, этого я еще не потяну… Начну с «Сарказмов» — так я назову цикл сонат. Сарказмы о счастье, о любви… гимн ко дню набитых утроб, сказ о пятилатовом сребренике.
— Пиши что хочешь. Но — правду. Одна внешняя форма и сарказм ничего не выразят. Проникни глубже: за сарказм… Что было бы, если б случилось невероятное и ты сумел бы удовлетворить свои духовные потребности. Опять только смех? Издевки? И ничего, что стоило бы воспринимать по-другому? В таком случае ты — лягушка, которой дано лишь квакать. Но я хочу дожить до того дня, когда ты закурлычешь, как лебедь в высоком полете.
— Эх ты, положительный герой! Deus ex machina. Наверно, Фрош примчался к тебе на Кукушкину гору?
— Нет, я иду с Шишкиных гор[24]. Живу теперь сам по себе. Вторая поперечная линия, номер пятнадцать.
— Значит, с Гималаев.
— Сколько тебе не хватает, чтобы выбраться к кисельным берегам?
— Префекту пятьдесят, Визулю пятьдесят, квартплата — 2×25, итого пятьдесят, Фрошу…
— Фрош велел сказать, что ему сейчас не к спеху.
— Pereat tristitia! Ну а коли я в этот месяц засяду за сочинительство, мне захочется раз в день пожевать, это выходит — тридцать.
— Красивая суммочка! Дражайший друг мой, хорошо, что старый Сомерсет мелет, на́ тебе два «дуба», круглые сотенки. Поклянись, что пива в рот не возьмешь!
— Клянусь!
— Клянись именем Тримпуса, Бахуса, Горация…
— Именем Тримпуса, Бахуса, Горация!
— Именем черной миноги…
— Черной миноги!
— Клянись, что весь этот месяц по салонам и гостя шляться не будешь…
— Клянусь!
— Именем Эвридики!
— Дики!
— Ну, тогда, сын мой, бери деньги, которые в пот лица заработали батраки моего отца. Они знают им цену.
— Благодарю от имени комитета вдов при обществ взаимопомощи непризнанных гениев. У меня еще один вопрос.
— Спрашивай, сын мой, твой благодетель слушает тебя.
— Как насчет коньяка? Его тоже нельзя?
Янка влепляет Кристоферу увесистый тумак и уходит.
Конец первой картины.
Вечер утра мудренее: Кристофер бежит в цветочный магазин, расположенный напротив апартаментов Маргариты, покупает три желто-красные розы, небольшую коробочку с подкладкой и шелковой подушечкой, тщательно укладывает серебряную пятилатовую монету, выбирает кремовый конверт и надписывает: «Бескорыстной и щедрой госпоже Маргарите Шелле». Затем он нанимает на углу дежурного экспресс-посыльного с тачкой и железной бляхой-номером, проторчавшего весь день без работы чтобы тот за пятьдесят сантимов поднялся наверх и отдал дары в восьмую квартиру. Кристофер остается вниз ждать его возвращения. Узнав, что цветы и коробочку принял сам Янис Вридрикис Трампедах, Кристофер приходит в жеребячий восторг. Вернулся-таки к магистру его сребреник.
Сомерсет за эти годы неплохо изучил повадки своего флауша — только и знай, что подпирай его да тормоши. Леность Кристофера не поддавалась описанию. Но коли уж он попал в колею, то некоторое время тянул и трудился исправно. Выдержка у юноши была, не хватало характера, который эту выдержку регулировал бы да подстегивал. Теперь он целыми днями не выходил из своей кельи, писал музыку, силился нащупать свой собственный стиль, найти достойную форму. Рассчитался со своими кредиторами, тете Амалии за квартиру уплатил за месяц вперед. Словом, Кристофер почувствовал себя точно птица в поднебесье, осталось лишь взмахнуть крыльями и лететь.
Техника письма успела заметно поржаветь, он это тяжко переживал. Музыкальные идеи не желали укладываться в нужные объемы и конструкции, он вымарывал, безжалостно перечеркивал написанное, сердился, кричал. Ночью, когда наконец являлось вдохновение, мешали соседи. Стучали сверху и снизу в такт его музыке. Мещане! Спать, что ли, не могут? Колошматят по стенам как оголтелые. Дикари!
От уроков музыки Кристофер отказался, они тянули его обратно в высшее общество, откуда он только что сбежал. Средства на пропитание он добывал в церкви, играя на органе хоралы. Мошну для пожертвований, кою заполняли богомольцы, Кристофер делил поровну с пономарем и меходуем органа (воплощенными в одном лице, которое поэтому загребало две трети подаяний, в то время как господин артист получал одну) и влачил с горем пополам свое скромное существование.
Так в трудах и хлопотах Кристофер проработал все лето и осень. Чуть вперед продвинулась и рукопись «П.П.П.», главное — была преодолена тринадцатая страница, которая вселяла в молодого человека суеверный страх, ибо как раз на помянутой странице требовалось описать первую встречу с Янисом Вридрикисом. Кристофер только что приехал в городок на Венте, дабы извести старого грымзу соблазнами и покорить своей воле. А вышло наоборот. Посланец Люцифера, тяжко униженный, страдал по Маргарите, в то время как доктор Фауст, обретя демоническую власть, безнаказанно глумился над ним и потешался.
Примерно полгода Кристофер не видел Маргариты. Госпожа нисколько не интересовалась несчастным юношей. «Потеряна навеки», — думал Кристофер. Свое горе и ненависть он постарался излить в «Сарказмах»: теперь они были готовы.
Его друг Фрош, желая подбодрить композитора, решил, что Кристофер должен в первый раз продемонстрировать свое детище на литературно-музыкальном вечере, каковой надумал устроить на рождество в своем межапаркском особняке отец Фроша, один из самых знаменитых рижских торговцев колониальными товарами. Фрош был наполовину немец, но водился с латышами — поэтами, художниками, музыкантами. Особую слабость питал к живописи. Особняк на Визбийском проспекте напоминал картинную галерею. Консерватор из консерваторов по своим воззрениям, старый Фрош в то же время души не чаял в современных ультрамодернистах — кубистах, экспрессионистах и прочей братии: возможно, в пристрастии к авангарду проявлялся его снобизм, кто знает! В салоне вращались лишь те дарования, которые держались в стороне от официального курса и академических направлений. Здесь свободно спорили, дискутировали, случалось, отпускали и язвительные шуточки. Молодой Фрош, товарищ Кристофера студенческих лет, впитавший сызмальства атмосферу дома, пекся, дабы в салон не проникали старохозяевские парвеню, хвастуны и пустобрехи. Так что редко кому из рижских сливок удавалось погостить в этом изысканном артистическом обществе. Уж не указывало ли сие обстоятельство на близкий апокалипсис: крайние консерваторы раскололись на враждующих между собой торговцев и земледельцев, кубистов и наивистов?.. Да, такая парадоксальная мысль блеснула голове Кристофера, когда он переступил порог особняка Фрошей и через вестибюль, увешанный экспрессивными и почти абстрактными полотнами фовистов, направился в ярко освещенный салон.
Там уже стояли группами и переговаривались художники из «Синей птицы», известные, но преследуемые писатели и поэты, всех объединяло негодование: толстопузый диктатор закрыл «Синюю птицу», искусство модерн объявлено вне закона.
Поэтому сегодня в салоне особенно приветствовали тех, кто обещал поразить утонченных потребителей прекрасного чем-то еще небывалым, экстравагантным и сногсшибательным. Много судачили о Кристоферовых «Сарказмах». Фрош уже кое-что прослушал — потрясающе, настоящий переворот в музыке, вызов академикам! Затем свои стихи будет скандировать Олаф Заляйскалн. А Зара Лея, тонкая и изящная еврейка, будет играть на скрипке, в первый раз в Риге прозвучит соната Прокофьева — она ее разучила вместе с Кристофером специально для этого вечера.
Марлов уже сидел за блестящим концертным роялем с поднятым крылом, когда открылась дверь и хозяин дома — седовласый негоциант — ввел Маргариту. Большая часть артистов уже знали ее по имени, хотя в этом обществе она появилась впервые. Госпожа дала себя уговорить и согласилась прочесть несколько своих произведений, ходили слухи, будто Маргарита начала писать в манере немецких экспрессионистов, а экспрессионизм, как известно, был слабостью семейства Фрошей. Покровитель поэтессы в этот раз всемилостивейше отпустил ее, потому как полагал, что у бананового Ханса (так он называл старого Фроша) собираются лишь старые маразматики. Альпийские стрелки или охотники за сернами там не должны были попадаться, поэтому сам он почел за благо остаться дома и отдохнуть.
У Кристофера сперло дыхание, однако он заставил себя сдержаться. Надо было выждать, пока Маргарита перездоровается со всеми и займет место. Она была одета б короткое черное вечернее платье, вокруг шеи двойная нитка жемчуга, на плече желто-красная искусственная роза. Поэтесса двигалась свободно и властно, нарочно выставляя напоказ свои стройные необычайно красивые ноги. Госпожа была уже не так молода, глаза ее казались темными, чуть печальными, зато губы по-прежнему растягивались в соблазнительной улыбке, обнажая при этом два белых зуба. У Кристофера просто сердце обмерло, эту улыбку он так хорошо знал. Она едва ответила на его приветствие издали, села рядом со смуглым художником-графиком, который рисовал виньетки для ее первого сборника, весело, даже фамильярно поздоровалась с ним и умолкла. Хозяин дома попросил начать.
— Соната в трех частях, которую я назвал «Сарказмы», — говорит Кристофер. — Часть первая — «Самоистязатель».
Марлов начинает mezza tasto, как далекие колокола, гудит мотив Джона Булла. Маргарита должна вспомнить: этот вирджинал он играл ей много раз, теперь мотиву дана иная задача — создать фон, над ним, словно крик, раздается речитатив, фраза из двенадцати тонов, она повторяется назойливо и безжалостно. Затем акцент! — и музыка рассыпается. В следующее мгновение тот же душераздирающий крик поднимается из среднего регистра, вламывается в басы, как пламя перекидывается на дискант, — и больше не удержать его.
Доводилось ли вам когда-нибудь лицезреть полунатуралистические полуфантастические мясницкие картины Сальвадора Дали? Точно скальпелем художник разделывает живую плоть, вскрывает грудную клетку, препарирует сердце по жилочке, по волокну. Лишь бы было больно! Так обращался Кристофер со своим сердцем…
После первой части слышится одобрительный шорох, маститые старцы оживились.
— Ишь прохвост какой!
Кто-то со звоном роняет чайную ложечку. Тс! В этом салоне подают лишь чай и малюсенькие-премалюсенькие сандвичи, которые подцепляют палочками…
Вторая часть — «День набитых утроб».
Отвратительный пляс. Карикатура на шестнадцатый век, в которой обрисованы типы лондонского дна: мерзкие оскаленные рожи, слышатся характерные приемы моресок — закончился пост, толстопузые ногтями хапают свиной студень, все жрут, жрут, жрут!
Слушателю, который догадался бы, что в качеств материала здесь использован деформированный и изувеченный до неузнаваемости ригдон Вильяма Бёрда, следовало бы вскочить на ноги и крикнуть с негодованием: пощадите вирджиналистов!
В перерыве две экзальтированные художницы не могут сдержать стона, Маргарита сидит, закрыв глаза ладонью, Кристофер боится глянуть в ее сторону.
— Третья часть — «Голодающие получают пятилатовый сребреник».
«Пустыня… бескрайняя пустыня. Ничего победного ничего бетховенского. Отощавшие люди вопиют, падаю на колени, простирают с мольбой руки. И глядишь, на ними начинает реять господь бог. Он дарит каждому по пятилатовому сребренику. Голодающие падают ниц, посыпают головы песком. Людишки испускают дух, но у каждого в руках сверкает пятилатовый сребреник» — эти слова Кристофер прочел как эпиграф к последней части.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
К молодому гению ринулись седовласые мудрецы одни обнимали, другие трясли руки, третьи, наоборот были сдержаны и скупы на похвалу. Как-никак здесь собралось общество, которое могло себе позволить сказать в глаза то, что думало.
Некоторые заявили: Кристофер превзошел все, что до сих пор создано в латышской музыке. Старые ве́жи, однако, сошлись на том, что он, конечно, крепко лягнул Юрьяна и Мелнгайлиса, но ему еще далеко до Яниса Залитиса[25]. Сдержанные и скупые на похвалу, в целом оценили работу Марлова как шаг вперед, но выразили сомнение, нуждается ли музыка в подобной литературности, музыка должна говорить сама за себя. Может, основу «Сарказмов» легло какое-нибудь автобиографиеское переживание? Откуда взялись столь странные названия частей?
— Нет, нет, — поспешил ответить Кристофер.
Маргарита в разговоры не вмешивалась, к Кристоферу не подходила, сидела и точила лясы с чернявым графиком.
Затем поднялся Олаф Заляйскалн — и салон притих. Он-де проскандирует поэму, которую отверг старохозяевский литературный журнал.
Олаф Заляйскалн был одним из самых любимых поэтов Кристофера. Стеснительный, с желтыми волосами, пятнистым лицом и голубыми детскими глазами. Кристофер как-то попытался сочинить музыку на его текст, но вскоре обнаружил, что не дотягивает до яркой и в то же время чрезвычайно нежной выразительности стиха. Марлов отказался от своих композиторских притязаний на поэзию Заляйскална, и правильно сделал, — знать, был достаточно умен, чтобы не обрекать себя на провал.
Олаф тихим, несмелым голосом объявляет:
— Лирическая поэма. «Червонная дама и бубновый валетик».
Просто уму непостижимо, почему литературный журнал отказался от столь тонкого художественного произведения. Тут следует особо заметить, что Олаф Заляйскалн раньше примыкал к умеренным левым, видимо, этого греха вождь не мог ему простить. Поэт, собственно, никакого прощения и не просил. Заляйскалн был слишком честен, чтобы угождать. Поэма его была убийственно хороша, публика аплодировала, и Кристофер вместе со всеми кинулся пожать автору руку и сказать ему несколько ободряющих слов.
Затем встала Маргарита Шелла, подошла к Олафу и поцеловала его в щеку. «Такая красота, такая красота!» — воскликнула госпожа, и робкий стихотворец покраснел, как свекла, он не очень понял, к чему относилась похвала Шеллы — к поэме или к нему самому. Маргарита выглядела возбужденной, стала оживленно разговаривать и смеяться.
Так одним-единственным бубновым валетиком Заляйскалн отправил Кристофера в нокдаун.
— Charmant!
— О-ля-ля! Червонная дама целует бубнового валета, — закуривая сигарету, недовольно говорит смуглый график. Ему все это не нравится. Маргарита побежала к Заляйскалну, бросив его на полуслове.
Но тут начинает настраивать инструмент Зара Лея, у нее карие миндалевидные глаза и иссиня-черные, коротко стриженные волосы, прямая противоположно мадонистой Маргарите. Кристофер ударяет — ля! Струны издают легкий звон. Лея улыбается, кивает. Звучит соната Прокофьева. Поначалу музыка кажется простой, но вскоре под смычком Зары начинают потрескивать стаккато, спиккато и мелкие деташе; тонкие гибкие пальцы красавицы извлекают из скрипки прозрачнейшей чистоты флажолети и трели, затем она словно всем тел припадает к нижнему регистру струны «соль», и под смычком рождается величественное и строгое вибрато. У Зары солнцем подаренный талант, скрипачи завидуют ей, после окончания консерватории она поедет совершенствоваться в Париж, девушке всего девятнадцать лет. Сколько чаяний, сколько надежд!
Снова аплодисменты и возгласы одобрения. Кристофер садится рядом с Зарой и целует ее худую детскую ручонку. Их сблизил великий Прокофьев, они чувствуют себя точно старые друзья.
«Нечего коситься туда, где Маргарита воркует с Олафом, довольно! Эта женщина того не стоит!» — выговаривает себе Кристофер и начинает рассказывать соседке допотопный анекдот о музыканте, который, ударяя большими тарелками (в симфонии Брамса), прищемил себе бороду и заорал дурным голосом. Лея благодарная слушательница, готова смеяться над любым пустяком. «Оттуда» может показаться, что им здесь чертовски весело. Кристофер так и сыплет остротами.
Веселье, однако, приходится прервать — старый Фрош объявляет, что настал черед Маргариты. «Нашей за замечательной и любимой поэтессы», — добавляет он. Так уже заведено: лучшее всегда приберегают под занавес. О Маргарите все слышали много, но ее последних стихов никто не читал. Присутствующие задерживают дыхание — будет сюрприз!
Поэтесса взволнована, достает из сумочки знакомые сиреневые листки и читает:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
На время я ушла из поэтического сада,
Училась всматриваться в ночь,
Сквозь камень видеть я училась,
Училась вниз спускаться к тем,
Кому невмочь к порогу моему подняться.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Когда же рухнул мост, воздвигнутый из света,
Я мост построила из теней хрупких…
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
В сад поэтический я снова возвратилась,
Меня узнали здесь,
Пришла оттуда я, где смерть врата открыла…
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
«Вот теперь она настоящая, — думает Кристофер, — я узнаю эти печальные строки, она больше не строит из себя госпожу. По сравнению с Олафом она необычайно проста, но простота ее рождена богатством чувств, остротой ума и хорошим вкусом».
В салоне, где собрались одни лишь снобы, царит тишина. Дамы и господа разочарованы, они знают Фрейда, читали Кафку и Макса Брода, Ведекинда и Верфеля, — это никакой не экспрессионизм, а сахарная водичка, пусть не пробуют их взять на пушку.
Разумеется, никто вслух не выражает своего протеста, все они стоят за свободу взглядов, уважают мнение других, однако восторг звучит неискренне, овации больше адресованы прехорошеньким ножкам поэтессы — что есть, то есть!
Кристофер аплодирует подчеркнуто холодно и сразу же обращается к Заре. Девушка взахлеб рассказывает о гениальном Тибо, которого недавно услышала впервые в жизни. Этот скрипач произвел на нее неизгладимое впечатление. Вот так хотела бы она играть когда-нибудь. Кристофер все же предпочитает Цимбалиста. Затем у них завязывается спор о молодой знаменитости — Ойстрахе, который недавно гостил в Риге. Кристофер находит его ослепительным, но Зара считает, Пшихода — ослепительней. Зара мило смеется и сверкает белыми зубами. Кристофер чувствует, как сзади подходит Маргарита, стоит слушает.
— Сударыня хочет нас покинуть, — говорит седой Фрош, галантно целуя ей руку. Господа вскакивают, встает и Кристофер. — Надеемся еще раз увидеть вас в нашем салоне… Нет, нет! Мы никуда не уедем, — говорит хозяин дома. — Здесь наша родина, тут мой дом, моя крепость. В царство Уриана-Аурехана я ни ногой! Это варвар страшнее которых нет! Я бы дня не мог там прожить.
— Мой муж убежден: надо ехать. («Маргарита говорит: мой муж, — отмечает Кристофер. — Значит, они поженились?») Что касается меня, наверно, лучше, если уеду… Меня тут ничего больше не связывает… я никому не нужна.
— О, не говорите! — взволнованно возражает хозяин дома. — Вас все любят… Может, вызовем такси?
— Меня проводит домой господин Марлов, — неожиданно заявляет Маргарита. — Он ведь наш управляющий хозяйством.
— Да, верно, — отвечает старый Фрош, — я слыхал… У вас, молодой человек, как говорится, девять ремесел…
— Я импресарио, — подтверждает Кристофер и спешит подать Маргарите шубу, помочь натянуть красные сафьяновые сапожки. Раскосых глаз Зары, ее сверкающих белых зубов он уже не видит (забыл даже проститься, не досказал до конца анекдот, таков уж этот вертопрах!).
На улице морозец, под ногами хрустит снег.
— Поищем такси? — спрашивает Кристофер.
— Нет. Дойдем до озера, — говорит Маргарита. — Мне торопиться некуда.
Они молча пересекают проспект и по узкой тропинке, протоптанной в снегах Межапарка, направляются к сосновому мелколесью. Светлый вечер, иней сверкающей пылью падает с веток и наполняет воздух странным сиянием, повсюду разлит великий белый покой. Маргарит шагает рядом. Кристоферу приходит в голову, что он уже однажды так шли по набережной Даугавы… Только теперь Маргарита прижалась еще ближе: тропинка узкая. Сквозь одежду, сквозь шубу он чувствует ее милое тело, чувствует нечаянное прикосновение плеча, но не осмеливается притянуть ее к себе, Маргарита — недоступна госпожа.
— Вам не холодно, Маргарита? — спрашивает Кристофер. — Помните, как кончилась наша прогулка семь лет назад?
— Вы? Разве мы не были на «ты»?
«Пожалуй, да, — думает Кристофер, — пожалуй, действительно на «ты».
— Да, мне холодно!.. Почему ты не догадываешься меня согреть, жестокий ты человек! — Вдруг она обвивает руками его шею, губы — красные, полные, чуть выпяченные губы ее — приникают к губам юноши и пьют долго-долго, словно голодные, словно хмельные. Кристофер ощущает прохладные влажные щеки, дрожащие ресницы, сбивающиеся из-под шляпы волосы, полные снежной пыли: от них веет свежестью.
— Маргарита! — шепчет Кристофер. — Маргарита!
Тогда она легонько отстраняет его и говорит:
— Не будем терять голову… Я не имею права тебя целовать. Со здоровьем у меня хуже, нежели вы все представляете. Мои легкие — дырявое сито.
— Молчи! Именно поэтому я поцелую тебя, — говорит Кристофер и поднимает ее как ребенка — под мышки, — Вот так!
— В тебе медвежья сила, — смеется Маргарита. — Ах ты медвежье ухо, я люблю тебя, хотя мне и не следовало бы это говорить, — ты моложе меня на шесть-семь лет. Не возражай! Женщины, как только состарятся, влюбляются в мальчишек, это древняя истина.
— Но я люблю тебя давным-давно… Тебе доставляло удовольствие унижать меня, доводить до отчаяния, — говорит Кристофер.
— А тебе — не обращать на меня внимания и презирать. Что ты сегодня нашептывал этой черноволосой скрипачке, над чем она так хохотала? Не надо мной ли? Над моими старомодными виршами? Ты думаешь, я не видела, как все они были разочарованы. Ты тоже?
— Я сказал Заре, что ты стала правдива, лишь когда начала читать свои стихи. Все остальное время ты играла, чтобы сделать мне больно.
— Ты так и сказал ей? — спрашивает Маргарита.
— Нет, только думал. Сказал бы, если б никого не было рядом.
— Ах ты лопоухий! — говорит Маргарита. Как котенок лапой, ударяет Кристофера рукавичкой по щеке. — Я знала, что ты будешь в салоне, иначе не пошла бы. Но то, что ты играл, меня убило… Ригдон Вильяма Бёрда, право, не заслужил, чтобы так над ним издевались, У тебя нет сердца, Кристофер! Это была не музыка, а злой кошмар. Почему ты добиваешься известности внешними трюками, манерностью?
— А серебряный пятилатовик?
— О, я тогда не соображала, что творю. Мне нужно было тебя унизить.
— Какая уж там манерность, то было отчаяние. Я думал, что потерял тебя…
— Да ты меня и не приобрел даже… Я предвижу трудные дни, если мы не возьмемся за ум.
— Маргарита, моя Маргарита! Я не хочу браться за ум.
— Может, продать шубу и пойти в служанки?
— Как ты можешь жить с этим выродком? Его душа и тело собраны из шурупчиков, как у робота.
— Молчи! Трампедах убежден, что я поеду с ним Германию. Но я решила — никогда. Клянусь тебе — никогда!
С закрытыми глазами Маргарита ищет губы Кристофера, целует, тихо повторяя:
— Никогда, никогда… Тебе трудно представить, какими они там стали. Это мой народ, но я его больше узнаю! Человеконенавистники, предатели — трудно описать, что я видела, что испытала. Уриан-Аурехан развратил всех, и Яниса Вридрикиса в том числе. Я решила в тот день, когда Трампедах соберется к отъезду, я убегу и спрячусь. Затем вернусь на бульвар Райниса и потребую свою комнату: считаюсь законной женой, у меня ведь должны быть какие-то права, господин импресарио?
— Женой?
— Да. На прошлой неделе я заставила Трампедаха официально зарегистрироваться.
— Маргарита! Значит, пойдешь обратно на бульвар Райниса? Обратно?
— Куда мне еще идти? Он мой благодетель и муж.
— Муж! Про этого мужа я мог бы тебе рассказа такие чудеса…
— Молчи! — говорит Маргарита. — Спи спокойно, буду думать о тебе. Янис Вридрикис целыми днями работает в своем кабинете, там и ночует. Я принадлежу тебе, лопоухий!
Кристофер вглядывается в потемневшие глаза госпожи, ему становится бесконечно грустно… Так это и есть то самое счастье?!
— Я принадлежу только тебе, медвежье ухо, но я не в состоянии отказаться от удобств. Мои легкие как сито: сколько я протяну? Год-два? Дай мне хотя бы это времечко прожить беззаботно. Я убеждена, что Янис Вридрикис будет поддерживать меня, если даже я наперекор его воле останусь в Риге. Этот человек болезненно ко мне привязан, и я этим воспользуюсь…
— Бог ты мой, что ты за женщина, Маргарита? — побледнев, говорит Кристофер.
— Я беспутница, которая вынырнула из пучины и больше не хочет туда возвращаться.
— У меня есть комната на улице Акас, мы там могли бы довольно сносно устроиться, — умоляет Кристофер. — Это же невыносимо!
— Я видела тебя голодного, в зеленых носках и стоптанных башмаках, когда ты пришел в мой дом. Я сказала себе: берегись! От него веет бедой!
— Значит, ты меня не любишь, только жалеешь…
— Люблю! Если бы жалела, то оставила бы тебя сегодня с черноволосой скрипачкой. Она так прекрасна! Боже, я подумала, как они хороши вместе, какие они молодые и счастливые! Зара — одаренная, цветущая и здоровая, ты — гениален! Какие у вас были бы умные и красивые дети!
— Я хочу только тебя, тебя! — кричит Кристофер и душит Маргариту в объятиях, поднимает, как ребенка, под мышки и бросает в сугроб, поднимает и бросает. Маргарите приходит в голову, что лопоухий тронулся в уме, и она говорит: «Хватит, довольно!» А когда это не помогает, срывает с него шапку и забрасывает далеко в снег. Пока медвежье ухо ее ищет, Маргарита уже повернула вспять и шагает по берегу в обратную сторону.
На противоположном краю белого простора мигают сотни огоньков, а небо усеяно большими и маленькими заездами, не поймешь, почему их так много. Вполне хватило бы двух, тех, которые должны принести счастье, говорят ведь — каждый человек рождается под своей звездой. Сейчас они молча возвращаются назад, на простор выскочил студеный ветер, треплет макушки сосен, иней прозрачными клубами катится по воздуху, оседая на плечи, на ресницы.
Они поймали последний идущий к центру трамвай. Окраинными улицами Кристофер вывел госпожу к бульвару, а сам, взволнованный и несчастный, еще долго бродил по заснеженной Риге. Маргарита показалась и скрылась. Как легко она с ним рассталась: спокойной ночи и так далее… Мой муж еще не спит, он ждет… Уходи побыстрей, держись ближе к стене: из окна видно, будь осторожен…
«Будь осторожен!» Маргарита заботится о том, чтобы Янис Вридрикис не заметил, с кем она провела вечер, — с горечью думает Кристофер, и в уголках его губ залегает кривая улыбка. — Муж!»
Этому мужу уже за восемьдесят.
— Гомункул! — Марлов разражается смехом. — Созданный мною гомункул! Я мог бы все рассказать Маргарите, но что бы это дало? У гомункула апартаменты и деньги, в холодную погоду нужна шуба, нужны дорогие сафьяновые сапожки, о Господи, в них еще краше выглядят ее прекрасные лодыжки и округлые икры.
Но, придя домой, Кристофер все забывает, его охватывает неистовая радость: он вспоминает теплые, немножко выпяченные вперед губы Маргариты, ее тело, да, даже выпуклость грудей. Он, правда, ощутил их через пушистую шубу, но от одного воспоминания в голову ударяет жар. В это мгновение Маргарита принадлежала ему, ему одному… Еще несколько часов назад руки Кристофер обнимали ее, пальцы гладили лоб, щеки, глаза… Еще пахнет ею ладонь. «Это запах Маргариты, — говорит юноша и касается губами своей ладони. — ее аромат… Эх брат, пропала твоя головушка!»
И Кристофер бежит посредине ночи на бульвар Райниса, прячется за дерево и смотрит вверх на окно Маргариты. Окно темно, темны все окна на той стороне. Маргарита спит. «Спи, моя хорошая, моя святая! Я люблю тебя!
А в третьей комнате за коридором, где кабинет Трампедаха, иссохший гомункул натирает спину гексаметилэнтетраминовой мазью. В свете тусклой лампы виден его злобный перекошенный лик. Гомункул читает молитву.
— Всемогущая ночь! Ты, что с маковыми лепесткам в лилейной рученьке… Накажи, о, накажи! Она возвращается в полночь, и каждый раз ее провожает какой-нибудь блудодей, она приказывает ему держаться поплотней к стене, дабы я не мог увидеть. На меня находит безумство, а она запирается в своей комнате, не открывает на мой стук, не отвечает на мольбу. Клянусь Фрейей и Фрикой, я сойду с ума. Ночь с маковыми лепестками! Уж лучше пусть она принимает их здесь, а я буду подглядывать в замочную скважину…
Но бульвар был пуст, точно вымерший, близился третий час, черт, обернувшись ветром, выл под замерзшим ветвями лип, плакал дурным голосом, еще немного и он тоже стал бы молиться.
Днем Кристофер не находил покоя. Пытался работать — не получалось, мысли кружились вокруг Маргариты. Почему они не условились о встрече? Как жить в такой безвестности? Вчера Кристофер заговорил было о свидании, но Маргарита ответила: «Жди, когда позову… Сам ничего не предпринимай!»
Не предпринимай! Так, терзаясь в ожидании, можно умереть от тоски, безжалостная! Под вечер он больше не мог усидеть на месте, оделся и поехал в Межапарк. Отыскал уединенную тропинку, пошел по ней, пока рядом в снегу не увидел маленькие глубокие следы. Их проложили красные сафьяновые сапожки Маргариты — тут она остановилась и обвила руками его шею. «Я люблю тебя!» Музыкант закрыл глаза, вытянул руки и что-то забормотал, он ведь был совсем простодушный мальчишка. (Дурень, ликовать бы тебе, а ты!)
Тропинка была плотно утоптана, видно, по ней прошло много людей, но странное дело — у озера она вдруг оборвалась. Дальше начинался замерзший простор. Тропинка выводила на маленький утоптанный пятачок под береговой кручей, где они оба вчера стояли, и там закончилась. Кристофер увидел сугроб, в котором искал свою шапку. Мгновение постояв, он обернулся и пошел назад той же дорогой, но не встретил ни одной живой души. Лес словно вымер, стало смеркаться…
Музыкант ждал день, ждал неделю. От Маргариты не было ни слуху ни духу. Хотя бы письмо прислала! А вдруг письмо по дороге пропало? Юноша, взволнованный, расспросил хозяйку квартиры. Нет, никаких писем на этой неделе не приносили, лишь счет за электричество… Как у него сейчас с деньгами?
— На следующей неделе, — говорит Кристофер. (Откуда возьмет, сам не ведает.) Может, сходить к Фрошу? Там остались ноты «Сарказмов», прекрасный повод… О «Сарказмах» больше не хотелось думать. Понял — неудавшийся опус… Такому дорога в печку — чем скорее, тем лучше!
О Господи, вторая неделя… Нет, дольше ждать он не в силах! Что делать? Вдруг Кристоферу приходит на память, что ключи, которые семь лет назад вручил ему Янис Вридрикис, лежат в ящике стола. Ключи от квартиры, целая связка — как и подобает управляющему барским домом с окладом десять латов в месяц. Янис Вридрикис, занятый трудами, забыл их забрать.
Каждое утро магистр спешит в контору, потом работает в заводской лаборатории… Кристофер тихо отопрет входную дверь, осторожно, чтобы не заметили слуги, проникнет в будуар. О боже, как она обрадуется его находчивости. Если паче чаяния Маргариты в этот момент не будет, он подождет. Почему его раньше не осенила такая прекрасная идея?
Решено. Он сделает это уже завтра!
Утром Кристофер нарядился (зеленые носки давно преданы огню, на каблуках новые набойки), взял связку ключей, дошел до бульвара и спрятался в телефонной будке. К счастью, никто не мешал: прохожим казалось, что молодой человек бросает в аппарат монеты и тщетно пытается кому-то дозвониться, плут, однако, одним глазом посматривал на дверь на другой стороне бульвара. Было без пятнадцати девять, прохожие неслись на всех парах, в девять начиналась служба в канцеляриях и бюро, и Трампедаху пора было поторапливаться. И вот он идет: по-стариковски аккуратный, шток с серебряным набалдашником в правой руке, толстый портфель — в левой. На мгновение остановился, зацепил шток за карман пальто, вынул часы, удивился и поспешным шагом направился в сторону Верманского парка. Почти тотчас же вышел Антон с рыночной сумой. Ну! Такого везения Кристофер не ожидал, будьте благословенны все добрые духи. Теперь можно пройти через черный ход — горничная явится только после обеда, — а затем темным коридором, никто не заметит.
Кристофер, как вор, прокрадывается на третий этаж, отпирает дверь и, затаив дыхание, прислушивается… Тишина. Лишь сердце ужасно колотится: от счастья, что увидит Маргариту, и от волнения — как-никак вломился в чужой дом… В ванной кто-то включил душ, слышите легкий плеск… Это она… Кристофер кошачьим шагом пробегает коридор, легонько нажимает на дверную ручку дверь подается — да, комната пуста… Тахта с отброшенным одеялом янтарного цвета, снежноподобными перинами и простынями. На спинку стула накинуты какие-то одежки. «Только что встала, — проносится в голове у Кристофера. — Вероятно, ждала, пока гадкий гомункул уберется?»
Юноша припадает к золотистому одеялу, целует раскинутые одежды — в них тепло ее плоти, отпечаток ее тела. Подняв глаза, Кристофер замечает на стене блестящий Тимуров кинжальчик — коковяку, как однажды он назвал его (госпожа тогда долго смеялась). Коковяка обвита засохшими розами. Не исключено, теми самыми которые он послал вместе с серебряным пятилатовиком? Кристофер осторожно снимает кинжальчик со стены и разглядывает: острый как бритва — почему Маргарита держит над самой постелью такое опасное оружие? Он едва успевает повесить ножик на место, как сзади с скрипом открывается дверь. Накинув на плечи купальный халат, входит Маргарита, от неожиданности вскрикивая и замирает на месте.
— Кристофер, — шепчет она. — Кристофер!
Госпожа не знает за что взяться.
— Как я выгляжу! — говорит она, кутаясь в свою роскошную накидку с пестрыми отворотами и манжетами и тщетно пытаясь прикрыть грудь. — О боже, да не смотрите вы! (На ногах у нее серебряные туфельки.)
— Мы были на «ты», — говорит Кристофер.
— Да, конечно… Но именно поэтому тебе нельзя смотреть, — сердится Маргарита.
— Ты прекрасна, как мечта, — говорит Кристофер (звучит высокопарно, чувствует он и заливается краской) — Я не могу сейчас найти точных слов, но я тебя обожаю (исправляет он свою оплошность)… Я вскарабкался по водосточной трубе и пролез к тебе через форточку (мальчишке мало взлома, хочет поразить ее чем-то большим).
— Сумасшедший! — дрожащим голосом прерывает его Маргарита (она раздосадована, купальный халат слишком короток: не прикрывает белые колени).
Кристофер застыл в блаженстве и смотрит.
— Не подходи! — кричит Маргарита. — Останься там же, где стоишь, я прошу, не подходи!
Но Кристофер не слушает, он уже возле нее. Глаза Маргариты широко распахнуты, зрачки потемнели, лицо бледное-бледное. Хорошо видны мелкие морщинки над переносицей и в уголках рта. Лишь губы горят, ярко-красные, чуть вытянутые, соблазнительные. Когда Кристофер дотрагивается до них, он чувствует, что госпожа дрожит.
— Ты так побледнела… — шепчет юноша. — Что с тобой?
Он нежно гладит ее лицо.
— Ты меня увидел такой, какой я не хотела тебе показаться. Некрасивой, больной, старой… Теперь можешь идти… Ты свободен, — глухим голосом говорит Маргарита.
— Нет! Для меня ты самая красивая, самая лучшая, самая благородная… Никуда я не уйду. Не смотри так, будто я причинил тебе зло. Без тебя я не могу. Будь моей!
— Ну тогда тебе самому за все отвечать, — говорит Маргарита, скидывая халат. — Бери меня! Это принесет мне смерть.
Обезумев, Кристофер поднимает Маргариту своими сильными руками и опускает на золотистое одеяло, целует и гладит нежную грудь, плечи. Милая, единственная! Маргарита гибка, как змея, она умеет дарить ласку, а Кристофер совсем неопытный юнец, ему бы ликовать, а у него от счастья на глазах выступают слезы, экий дурень!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
На бульваре звенит трамвай… Госпожа лежит с закрытыми глазами, Кристофер вытянул руку, а светлая головка Маргариты покоится у него на плече. Время от времени с ее уст срывается стон, Кристофер просит, чтобы она так не делала — ему страшно слушать.
— Этот день будет для меня роковым, — влажным голосом отвечает госпожа, и ее начинает душить хриплый кашель. Кристофер обнимает ее, целует, но приступ не унимается… Когда наконец Маргарите удается совладать с кашлем, она говорит:
— Со мной гораздо хуже, чем вы все представляете. Мои легкие как сито.
В входную дверь звонят — Трампедах! Кристофер вскакивает, ищет свою одежду.
— Это не Трампедах, — говорит Маргарита со странным спокойствием и надевает серебряные туфельки.
— Антон?
— Нет. Антона я послала в Елгаву, он вернется только после обеда. Это другой; пойду поговорю, а ты сиди спокойно и жди меня.
Звонят второй раз. Дольше и нетерпеливей. Маргарита не торопится: поправляет волосы, подкрашивает губы, рассматривает себя в зеркало и, улыбнувшись, говорит:
— Скоро вернусь.
Кристофер поспешно одевается. Нужно быть готов ко всему. Он только что прочел «Три мушкетера», это вам не шутки! Может, придется дать отпор налетчикам?
Он слышит, как Маргарита открывает дверь, слышит какой-то голос… Мужской? Голос становится громче, госпожа вроде бы осаживает его, после чего до него долетает лишь бормотание и тихое воркование. Затем дверь захлопывается, раздаются легкие шаги — входит Маргарита. В руках у нее темно-красные розы.
— Мои последние розы, — говорит Маргарита и опускает цветы в бурую китайскую вазу, которая стоит подоконнике. — Я бы подарила тебе, но боюсь, ты не возьмешь. Их мне принес Олаф Заляйскалн.
— Олаф? — ревниво хмурится Кристофер. — На каком основании?
— На фундаментальном, — шутит госпожа. — На таком вот основании, что я позвонила ему и пригласила сегодня утром зайти ко мне. Послала Антона в Елгаву, а Янис Вридрикис вернется домой только поздно вечером. Прошлую неделю я встречалась с Олафом. Что ты скажешь на это, мой дуэлянт? — спрашивает Маргарита, поглаживая щеку Кристофера и его шрам, который он заработал в бою, сражаясь с Цалитисом на рапирах.
Кристофер, обессилев, откидывается на спинку кресла, руки его трясутся.
— Маргарита! Ты хочешь меня убить! Что ты за женщина?
— Беспутница!
— Что мне теперь делать? — восклицает он в отчаянии.
Маргарита опускается к его ногам, кладет голову ему на колени и говорит:
— Я хотела бы исповедаться… Выслушай меня…
Некоторое время стоит тишина, слышится лишь болезненное дыхание Маргариты.
— Я мучилась любовью к тебе уже тогда, когда стала ненавидеть, — начинает она через силу. — Ты смотрел на меня с презрением и с усмешкой… Но меня тянуло к тебе. Я догадывалась, что долго сопротивляться не смогу, наши души слишком близки. Затем — болезнь, отъезд… Надеялась: теперь-то забуду, но куда там! Я только и делала, что беспрерывно думала о тебе. Там был один альпийский стрелок. Хотела вскружить ему голову, отдаться и освободиться от тебя, но меня уличили и послали в Швейцарию. Когда я вернулась, то поняла, что ты становишься каким-то наваждением… Если так будет продолжаться, я снова попаду туда, куда однажды уже попала. У меня была только одна любовь, в молодости. Художник с красавицей женой. После этого я поклялась: никогда в жизни! В тот вечер в Межапарке я потеряла над собой власть. Но, вернувшись домой, решила: нет! Прекратить! Вокруг столько интересных мужчин. Меня обхаживают, каждый вечер домой провожает другой: по понедельникам и пятницам чаще всего Олаф, по вторникам чернявый график, по средам и субботам атташе посольства из соседнего дома, по четвергам один офицер, писаный красавец, он водит меня в фокстротдиле танцевать. У всех у них на уме — рано или поздно переспать со мной… Теперь с этим покончено: Олаф убежал, как сумасшедший. Я призналась ему, что принадлежала тебе… «Кристоф сидит в моей спальне и ждет, лучше идите… Мой дорогой соскучился…»
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Так это началось. Дни, месяцы пронеслись в блаженстве. Маргарита перестала считаться с Трампедахом, чуть магистр за дверь, она бежала на улицу Акас, в темную и неприютную каморку Кристофера, к своему лопоухому медведю. То были часы наивысшего счастья, по которым они исстрадались за эти годы. После обеда Кристофер носился по урокам музыки — он набрал столько учеников, что для композиции не оставалось времени. Мальчишка хотел доказать, что может заработать кучу денег. Это были отчаянные и совершенно напрасные старания и Кристофер понял это весьма и весьма скоро. Оба мечтали о счастье, а мечты свои строили на песке, впрочем, их это не волновало, они были как дети. Трампедах знал, что у жены водятся поклонники, он дознался, что таковых великое множество, но большого тарарама не устраивал, необузданную ревность свою запрятал подальше, потому как тешил себя надеждой, что время уладит все сам собой: через месяц они уедут в Германию. Янис Вридрикис лишь требовал, дабы жена ночевала дома, распоряжалась слугами и руководила упаковкой имущества, да и сама не тянула волынку, а помаленьку собиралась в дорогу. На Наухеймских водах магистр рассчитывал вернуть утраченную мужскую силу — то была тяжкая утрата, даже укудик не помогал, а дух по-прежнему обуревал плотские желания. Воскресенья Маргарита обязана была проводить дома, таковы были установки — Янис Вридрикис желал вместе обедать, а затем он в кабинете разъяснял ей миф двадцатого века. Маргарита, мол, чистокровная немка, стопроцентная арийка, посему должна готовиться к новой миссии, коя будет возложена на нее в царстве Уриана-Аурехана.
Маргарита слушала и терпеливо отсиживала урок, не хотела себя выдавать. План бегства был уже тщательно продуман, она ждала лишь, когда настанет час и день.
Подоспело четырнадцатое апреля. Накануне вечером добро магистра было погружено на пароход, «зафрахтовано», как он сам изволил выразиться, лишь контейнер с одеждой и красно-черная дорожная сумка Маргариты остались в квартире, их Антон отправит завтра утром. Янис Вридрикис, правда, требовал, чтобы они последнюю ночь провели в гостинице, но Маргарита не поддалась уговорам. «Хочу ночевать дома!» — и хоть кол на голове теши. В сумочке у нее лежали ключи от квартиры на улице Акас. Маргарита принялась упаковывать свои вещи, но Трампедах не отходил ни на шаг, у них даже завязалась небольшая ссора. Магистр своей рукой снял со стены Тимуров кинжальчик, хотя он принадлежал Маргарите — это был талисман и госпожа хотела, чтобы он находился при ней, в сумочке. Янис Вридрикис оправдывался: он, дескать, боялся, как бы Маргарита не забыла его на стене. Магистр, известно, был жуткий сколдыра — увидел кинжальчик и хвать себе: чистое, мол, серебро, не какой-нибудь там завалящий резак. Армянин, который всучил его Маргарите, недаром говорил, что кинжальчик носил сам Тамерлан. Они спорили и препирались до полуночи, а затем отправились на покой, как привыкли, каждый в свою комнату, каждый в свою постель.
Маргарита с дрожью в сердце считала часы… Два… Три… Сейчас все должно решиться.
Госпожа начинает собираться. Не забывает прихватить серебряные туфельки, Кристоферу они очень нравятся… Половина четвертого.. В коридоре раздается вялое шарканье. Маргарита гасит свет и застывает. Мимо! Обычная магистрова ночная прогулка, по четыре-пять раз в нужник и обратно. Хотя по вечерам он не употребляет жидкости, организм знает свое дело: течет да течет, а сам он все сохнет и сохнет. Захлебываясь и шипя, низринулась в ватерклозете вода, шарканье удаляется в сторону кабинета.
— Святая Мария, — шепчет Маргарита, — и чего это ему не спится?
Она считает часы… Четыре… Половина пятого… В пять она рискует высунуться в коридор и подкрасться к дверям кабинета… Слава богу — заснул. До Маргариты доносится знакомый скрип зубов и неистовое всхрапывание — услышишь невзначай, станешь заикой. Верный признак, что сон магистра глубок, теперь уже никто не разбудит его до утра.
Маргарита берет пальто и сумку, отпирает входную дверь, с оглядкой спускается по лестнице, выбирается на улицу и с облегчением переводит дыхание… Спасена! Солнце уже встало, в воздухе разлита легкая прохлада, молочники катят по улицам тележки с молоком, дворники подметают тротуары и с любопытством глядят вслед госпоже, которая спешит с ношей и пальто на руке… Ку это ее так несет? Видать, на ранний поезд… Экая фидрилла!
Маргарита знает: Кристофер спит. О том, что собирается бежать сегодня ночью, она не обмолвилась ни словом, опасалась, что безумец надумает ее встречать и сгоряча, или, как говорится, в за́рях, чего-нибудь да натворит, поведение лопоухого никогда нельзя было рассчитать заранее.
Сейчас госпожа преподнесет ему сюрприз. Время — половина шестого, судно отвалит в двенадцать — значит осталось целых семь часов… Они пересидят их здесь в темной клетушке на улице Акас.
— Милый… — шепчет Маргарита, подойдя к его постели. Кристофер спит, свернувшись калачиком, ладонь под щекой, дышит глубоко и тихо. Милый (господи, до чего он еще молод!)… Маргарита открывает черно-красную торбу, вынимает связку жемчуга, золотой браслет, обручальное кольцо, круглое украшение с брильянтом (кстати, его госпоже подарил секретарь посольства!) кладет рядом с постелью.
— Лопоухий, — трясет она спящего, — лопоухий! Достаточно ли нам этих даров, пока я найду работу?
Кристофер продирает глаза, видит Маргариту, хочет встать, но она не дает.
— Я всю ночь глаз не сомкнула, — говорит она. — О боже, как мне хочется спать. Все опасности позади. Я твоя раба.
«Раба» раздевается и ложится рядом со своим медведем. Они спят, обнявшись, блаженные. Как легко все устроилось! Кристофер поражен. Ей-богу, он родился в рубашке. Музыкант замечает рассыпанные на полу драгоценности и говорит:
— Вот этого тебе не следовало забирать.
— На них мы купим рояль, — говорит Маргарита. — Этакий черный лакированный роялище «Стейнвей». Я хочу слушать, как ты будешь играть или сочинять музыку… Тебе придется ужасно много работать.
— Хорошая, хорошая моя…
Так они засыпают, счастливые, просветленные. Солнце поднимается все выше и выше, на улицах начинают грохотать кованные железом телеги ломовиков, то и дело падают, гремят молочные бидоны, приставные лесенки, ящики, из шахты двора несет дешевым оливковым маслом и кислой капустой, запашок, прямо скажем, препоганый, но счастливцы его не замечают — им снится забавный сон, и во сне они видят друг друга.
Буквы «П.П.П.» превратились в слова Pardoner, Poticary, Pedlar — мусорщик, аптекарь и дворник. Это комедия Хейвуда, вернее, моралите, каковую наш театр Earl of Leicester Men показывает во внутреннем дворе дворца графа Пембрукского Вильяма Херберта. Я играл аптекаря, который на самом деле был замаскировавшимся бесом. Кендел изображал собой мусорщика, бедного монаха из ордена нищих, который вызволил из преисподней и вернул дворнику его распутную жену. Содержание на редкость аллегорично, но это так, к слову…
До вчерашнего вечера я убивался в безутешном горе. Мери укатила в Лондон и не возвращалась целых три недели. Я знал, что она понеслась в очередной раз к Вильяму, накажи бог эту шлюху, развратницу и потаскуху из Джевсворта. Однако сейчас она снова у меня, божественная, сладкая, нежнейшая… И я не испытываю ни малейшей ненависти, читая 128 сонет Шекспира, в котором мой друг и приятель воспевает Мери Фитон, играющую пьесу для вирджинала примерно в таких выражениях: «Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам».
Знаю я также, кто является прообразом Шекспировой Клеопатры. Тем не менее со вчерашнего дня это больше не имеет для меня никакого значения: черная Мери снова моя! Ночь накануне мы провели в одной гостинице, в одной комнате, в одной постели, ибо она выдает себя за отрока и носит мужскую одежду. Женщинам в пуританской Англии играть в театре возбраняется, поэтому сей веселый малый считается extemporally нашей труппы. Я спрятал ее в дворцовой галерее, на коей висит надпись — Upper Stage. Это помещение — часть сцены, дворцовой челяди вход туда заказан, потому как мы там переодеваемся. Граф Вильям Херберт, однако, на вчерашнем спектакле что-то расчухал. Наша труппа показывала «Испанскую трагедию» Кида, и в исполнительнице Белимперии, дочери Кастильского герцога (которую играла моя возлюбленная), граф Пембрук учуял-таки женщину.
Перед спектаклем я, весь в мыле, тщился запихнуть очаровательный торс и восхитительные округлости Мери Фитон в корсет. Видать, не сумел. Две недели кряду роль Белимперии играли отроки из Олдгейта, плоские, как рыбья кость, шкеты, поэтому перемена так разительно бросалась в глаза. Граф Вильям Херберт после спектакля вломился в уборную (к счастью, Мери уже отбыла в гостиницу) и пригласил всех сегодня на ночь к себе дворец. В том числе и актера, игравшего дочь Кастильского герцога, в котором граф учуял женщину. Непременно и его тоже!
Весь остаток дня я уговаривал Мери бежать вместе со мной в Депфорт: контракт с Earl of Leicester Men кончился, мы свободны, как птицы. Гостить у Пембрукского графа вместе с Мери означало вляпаться в немыслимую историю: Вильям Херберт не пропускал мимо ни одной красивой женщины. На сей раз вельможный граф не посчитался бы с узами благородной дружбы, которые связывали его с Марло, лорд привык удовлетворять свои желания, на то он и лорд. В Депфорте живет крестная Мери, там мы нашли бы приют, пока не подыщем другую труппу комедиантов.
После спектакля мы поссорились: Мери все-таки тянет во дворец! Черная Мери никогда не имела любовника лорда, это я знаю достоверно, так что сейчас она не прочь его завести, боже, покарай эту шлюху, развратницу и потаскуху из Джевсворта! Выручили меня Джон Перкин, клоун Роберт Вилсон и Кендел. Мои дорогие коллеги и Leicester Men силой завернули Мери в шубу, запихнули в извозчичью кибитку, и теперь мы, счастливые, едем в Депфорт.
…Она снова принадлежит мне и только мне — божественная, сладкая, нежнейшая. Спит, прижав головку к мое груди, и плачет о своих несбывшихся надеждах.
Кибитка спускается вниз по крутому склону, вниз течет широкая и глубокая река, а по реке движется пароход, еле видимый сквозь туман и сумерки. Беру бинокль и смотрю: это корабль с репатриантами, названный гордо «Steuben». Труба, на которой кошенилевой краской намазан белый круг и черная свастика, извергает струю дыма и пара — раздается длинный гудок; но, может, то взревела морская корова. Уезжают последние репатрианты… Когда Кристофер отводит от глаз бинокль, Мери больше нет…
— Куда ты делась? — зовет он.
Кристофер просыпается от зверского воя. Дверь широко распахнута, хозяйка квартиры зашлась в крике. К нему бежит какой-то человек с ножом. Сумасшедший, глаза вылуплены, кошмарная рожа! Это Депфортский аббат, он срывает свой парик: череп гол, как колено, это он! Проснулась Маргарита. Она обвивает руками шею Кристофера, прикрывает его своим телом и кричит: «Иди, подлая душа, смотри, как я тебя презираю!» И в этот же миг испускает нечеловеческий стон и валится на Кристофера. Красная струя из ее горла хлещет юноше прямо в лицо. Он хочет встать, но боль, острая как шило, ударяет в грудь, у него спирает дыхание, Кристофер протягивает руку, тут следует второй удар, и кругом все погружается во мрак… Где-то в отдалении угасает звук… долгий… зудящий… дрожит… замирает…
— Боже, помилосердствуй, что там творится наверху! — раздаются голоса во дворе.
С нижнего этажа несет тушеной капустой и дешевым оливковым маслом.
Глядь, и разлилось тут небольшое озерцо с островком посредине, прозванное Ликайнис, стоит красный кирпичный дом — хутор «Ликайни», белый хлевок с сеновалом, сад и вокруг сада покосившийся прясельник. Лежу в клети и через тусклое оконце смотрю на лес. Вся военная суматоха отползла подальше на восток. Лишь поезда с танками, броневиками и амуницией все катят и катят мимо, иной, случается, взлетает на воздух, тогда бывают неприятности, не приведи господь! В «Ликайни» набегают жандармы и добровольцы в мятых пилотках со зверскими рожами, губы обветренные, в смаге, на локте зеленые повязки. Это те самые «славные латыши», только нынче и не узнать: заделались лиходеями, лютыми псами гончими. Их посылают прочесывать леса, сжигать дома — они идут. Их посылают убивать, они стараются до седьмого пота. Кто это такие — хозяйские сыновья, фабриканты, лавочники? Как бы не так! Ремесленники, издольщики и пьяницы, иной нанялся со страху, что в советское время карьеры ради записался в активисты, таковых немного, но есть. Невероятный сброд, где только они все это время обретались? Меня хватают, толкают, допрашивают, требуют документы. Когда моя тетка, сестра отца, цыкает (ее покойный муж был волостным полицейским), чтобы лиходеи не смели трогать честных и порядочных людей, они отстают и бегут ловить тех, «настоящих». Раз Ликайниете ручается, какой может быть разговор…
Умываю руки, лицо (полицаи-доброхоты сбили меня в грязь) и иду работать, я уже ничему не удивляюсь. Злу не сопротивляюсь: раз дали по морде, знать, было за что. Я утеклый и, быть может, меня разыскивают. В двухстах — трехстах километрах отсюда рвутся снаряды, льется кровь, гибнут люди, это куда похуже. А в нашей волости еще можно дюжить: отвези крейсландвирту столько-то масла, столько-то яиц, столько-то мяса и столько-то зерна, держи язык за зубами — Sieg heil — и трудись, в труде обретешь спасение свое. На тюрьмах и лагерях смерти висят транспаранты: Arbeit macht frei! Свободным? От чего свободным? От смерти? Работай, туземец, опосля подумаем, что нам делать с тобой… Вообще-то работник я был незавидный. Стоило мне взяться за косу или грабли, как меня тут же бросало в пот и я начинал хахать, словно пес. Зато запрягала и ездок я был хоть куда. Для хозяйки «Ликайней» наступили трудные времена — она осталась единственной труженицей, старый батрак Йост ни на что не годился, ему вот-вот стукнет восемьдесят. Прожив год на даровых хлебах (советская власть дала ему пособие и санаторий), он окончательно повредился и впал в ничтожество: только и делает что пыхтит и вспоминает былые добрые времена. А от меня проку мало — доходяга, и только. Вообще-то Ликайниете потихоньку подкармливает меня сметаной (я единственное оставшееся в живых родственное дитя), но это большая дерзость, потому как оккупанты в волостном управлении повесили приказ: всю сметану переработать в масло и сдать немцам. Тех, кого уличат в употреблении сметаны, ждет смертная казнь. Смертная! «Ну и дни настали, — дивится крестная, — сам свое добро не имеешь права издерживать. Поистине чумные времена!» Со злости она в тот вечер сбила все сливки, мы спрятались в тележном сарае и втроем их умяли. Волостному старосте поручено следить, выявлять неслухов и доносить. Он как истинный латыш посылает по домам ищеек и бдит, дабы никто не смел красть продукт правящей нации.
Прохожие, признаться, рассказывали, что в городе творятся дела почище, харч весь по карточкам: хлеб, крупа и жалкий кус колбасы. Селяне хоть как-то перебиваются: за поставки масла им выдают бумажки, в обмен на них можно получить водку и леденцы, что есть, то есть. Отцы хозяйства называют сии бумажки свиншайнами (Bezugschein). Водка, дескать, держит всех в повиновении и в постоянном помрачении рассудка. Не то поднялся бы лютый ропот: недовольство тлеет, точно угли под пеплом. Лютеране в волости, к примеру, шумели, будто явились та самая саранча и огненный воздух, кои предсказывались Библией, и что в скором времени нагрянет и сам князь тьмы.
— Вы имеете в виду Уриана-Аурехана? — уточнял прохожий, но лютеране пугливо потупляли очи: нет, мол, мы имели в виду того, другого, итальянца. Кого они имели в виду, знал разве что леший. Но что было, то было: в богатой Курсе потянулись четыре пустопорожних года! Вражеской рати подавай жратвы: уминают сине-серые, пьют коричневые, трескают черные, а больше всех наворачивают желтые. Фазаны! Не забудьте еще свору девиц с молниями на отворотах, сестер Зиглинде и Гудрун, ариек чистейшей пробы.
Мы же, туземцы, достаем из сундуков и ларей старинные поваренные книги и читаем, пока нужда не заставит бежать за угол. До того приспособились к духу времени, что умеем насыщаться одним только печатным словом. Правда, когда перечитываешь страницы «П.П.П.», все изложенное на них начинает казаться совершеннейшей фантастикой.
Взять хотя бы, к примеру, томленые сливки Энгеларта, я обвожу рецепт висельной петлей: в знак предупреждения, что оное лакомство запрещено законом. Лишь о жаворонках в циркулярах комендатуры ничего не сказано, тех, видать, лови и уплетай за обе щеки сколько влезет, равным образом ворон и галок. Только как их возьмешь? Всякое огнестрельное оружие, большое или малое, которое будет обнаружено у туземца, послужит достаточно веским основанием, чтобы сей же час поставить его к стенке или вздернуть на крюк. Поэтому те, кто поумнее, спрятали свои пистолеты в лесу и ждут, когда станет час и вся эта шатия желтых, черных и коричневых побежит восвояси. После Сталинграда (в этой кошмаре прошло уже два года) подобная перспектив видится каждому, у кого голова на плечах.
На Рейне, по слухам, кошки пожрали всех воркунов. Но в последнее время, говорят, перевелись и кошки. Зато собаки там в большой чести. Исповедующие веру Вотана причислили сию тварь к рангу святых. Что для индусов слоны, то для Уриана-Аурехана псы, он в них души не чает, пестует и лелеет. Бульдоги и шотландские овчарки помогают выискивать и уничтожать людей. Читай и дивись!
Далее — пупетоны. Это что за чудеса? Долой пупетоны и вообще к черту «П.П.П.», подайте мне Публия Вергилия (моя крестная два года проучилась в Дубултах у Берзиня и Шмитхе, с тех пор чтит античных классиков). Проскандируйте мне что-нибудь из «Буколик», хотя бы несколько строф. Вот наугад — третья строка сверху: Ars optima ad faciendum vinegreti divini.
Други, сбегайтесь смотреть, как божественный харч здесь готовят,
Яств и напитков рецепты Марон раздает преохотно,
Будь то файак перед ним или робкий простак из Мегары,
Словно богатства Приапа сияют дары огорода,
Радуя взор кабачками тугими и спелым люпином.
Лук и фасоль, что в стручках, да укроп колодеем нарежьте,
Лавра душистого лист в харч добавьте и масла оливок,
С Лесбоса трав ароматных, цветков майорана насыпьте,
Ставьте цукаты на стол и пахучие вина Хиоса.
Клянусь святым Эпикуром, грозным Лукуллой, это рецепт в стихах. Разве мог я подумать, что нечаянно наткнусь на секрет изготовления винегрета, который зафиксирован за двадцать два года до нашей эры, тысяча девятьсот шестьдесят лет назад, вот это везенье! Стих приписывают Марону, сиречь Публию Вергилию, в чем, между нами говоря, я далеко не уверен. Как бы то ни было, это самая антикварная поваренная мудрость, какую знает история, если не считать изобретенного Лукуллой фальшивого зайца и досужую кулинарную фантази; Эразма Роттердамского — «фальшивого Фауста» (имеете в виду опаленная на дегте брабантская утка). Хотелось бы в этой связи упомянуть также блюдо, весьма почитаемое нашим доморощенным Морицем Саксонским, — «пилтенских вальдшнепов под мордангским соусом», герцог впервые угощался ими посредине озера Усмы на заповедном острове, нареченном его именем, где за нарушение правил противопожарной охраны местный инспектор оштрафовал его на два дуката с занесением в личное дело. Да ну, не может быть? Что вы говорите! Так или иначе, но величественный полет из древнего мира через Пилтенское герцогство к нашим дням показался мне самому достаточно уважительной причиной, чтобы в «Переработанную, пополненную поваренную книгу» в качестве первого параграфа сразу за вступлением поместить рецепт Вергилия Публия, из-за чего я решил дать своему сочинению второе название — «Фальшивый Фауст», которое советую толковать исключительно в гастрономическом значении, в каковом воспринимается, к примеру, фальшивый заяц или фальшивый фазан, ни в коем случае не следует думать, будто я хотел надругаться над трудами тайного советника или же моего великого тезки Марло. Мне просто доставляет радость дразнить дам. Представляю, какое возмущение вызовет у них мое озорство: этот псевдописатель мешает стили, путает времена и события, он орудует, как слон в посудной лавке, для него нет ничего святого. А что для меня может быть свято? Откуда взять эту святость? Я изгой, опальный пес, бегляка и скиталец, по всей стране меня ищет доктор Джонсон со своими мясниками; вы удивляетесь, почему я до сих пор не пойман? В связи с этим я должен открыть одну тайну, смею надеяться, вы, почтеннейшие, не воспользуетесь ею мне во вред.
Едва я приволокся в Салдусский околоток и выплакал тетке свои беды, как ей, ангельская она душа, сразу пришла в голову дельная мысль. Как известно, из санатория я драпанул в одной рубахе, пиджак остался там, а в пиджаке все мои документы, как-то: паспорт, свидетельство о рождении и справка о том, что бацилл не имеется… Моя крестная обратилась к начальнику кулдигской полиции (все это происходило в самом начале оккупации) — начальник оказался знакомым ее покойного мужа. Сему вельможному начальнику Ликайниете и рассказала, что я потерял документы, и просила выдать мне новые — на основании ее поручительства. Тетке это обошлось в одну свинью, прямо жаль было везти в город столь славные окорока и вологу, но что поделаешь… Она выдала меня за своего пропавшего сына. Таковой у нее действительно когда-то был, лет пятнадцать назад подался море и исчез в неизвестном направлении. Благодаря ее стараниям я стал наследником «Ликайней» и единственным сыном — единственных покамест в армию не забирали, — в кармане у меня лежала карта УК и назывался я нынче Кристап Бессер, что звучало намного лучше. Так обстояли мои дела в тот злополучный день, когда в «Ликайни» нагрянули волостные шуцманы и собрались пересчитать мне кости.
С того раза меня больше не трогали, я никуда не хожу, не показываюсь, тружусь не покладая рук и в доме и в поле (уже притерпелся, ладони заскорузли, мышцам вернулась былая упругость), изредка пописываю (музыку забросил), больше всего боюсь погрязнуть в воспоминаниях. Мне по-прежнему больно, я тщусь не думать об этом и не писать, до сих пор мне это удавалось. Тем не менее воспоминаний не сотрешь ни кровью, ни силой воли. Ночью во сне она приходит — мы разговариваем и музицируем как ни в чем не бывало. Оказывается, Маргарита никуда не ушла, она живет все там же на бульваре Райниса, на третьем этаже. Спрашивает, почему я не навещаю ее больше, почему забыл. Мне, наверное, насплетничали, будто она лежит на Мартинском кладбище, на могиле белый памятник из мрамора Санта Кроче и т. д. Все это мура, даже если так и было… Потом мы бредем через иней и снег к озеру, последний трамвай уже ушел, на небе пропасть звезд, но нам было бы приятней, если бы там горели только две… Почему ты принесла все свои драгоценности и украшения? «Чтобы купить тебе рояль», — говорит она… Я действительно никогда не имел своего инструмента, всегда старался снять комнату, в которой уже громоздилась какая-нибудь многострунная рухлядь. Естественно, такие жалкие Тресельти и Шредеры не могут способствовать Ренессансу, моя подруга понимает это… Но случись бы все иначе? Изменил бы я свой эгоистический характер — или она свой? Что мы делали бы в эти страшные времена? Два индивидуалиста — это два индивидуалиста, как ни вертись… Одной плоти больше нет, остались идея и символ — и те только во мне одном. Значит, я вобрал ее в себя. Она не исчезла совсем пока я существую, будет жить и она. Лишь когда меня не станет, не будет и ее. Но пока я вижу во сне губы, соблазнительные, чуть выпяченные. С утра просыпаюсь: подушка в слезах. Завтра надо везти в город свинью, если хотите знать, я становлюсь сентиментальным… Это уже вторая свинья, которая приносится в жертву во имя справедливого дела, потому что мне, несмотря на карту УК и хилое здоровье, пришла цидулька от военного коменданта — прибыть в окружной город на мобилизацию. Вот тебе, Либерсон, и троицын день. Я, конечно, тешусь надеждой, что по причине никудышных грудных черев меня забракуют, но поди пойми этих антихристов, как говорит крестная. Хозяйка «Ликайней» жертвует второй свиньей, без меня она бы пропала! Хрюшку надобно отвезти непосредственно господину коменданту, господин доктор в этот раз должен довольствоваться лишь «шайнами» на водку, он в ней души не чает.
Великая Германия сокращает фронт, отодвигает потрепанные полчища на более выгодные позиции, так как под Москвой им было чересчур холодно, под Курском слишком жарко, наконец (в результате чрезвычайно мудрой тактики, которую никто не должен понимать) они пододвинулись к Латгале. Само собой разумеется, пора загонять милых латышей в легион, покамест они не сбежали в лес к партизанам. Таково положение на первое сентября, когда я беру и засовываю в мешок свинью и под ее отчаянный визг направляю оглобли к городку на Венте.
XV. ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ В ГОРОДКЕ НА ВЕНТЕ
Когда по белому большаку я въезжаю через красноватый мост в древнюю цитадель герцога Екаба, меня поражает, что по извилистым улочкам не бродят больше ни цыплята, ни поросята, бурые каналы высохли и источают дурной запах. На Сенной площади вокруг шкимбега толкутся семеро призывников, их силой пригнали с мукомольни, потому как нечего молоть. В доме, где в прежние времена ютилось Гимнастическое общество балтийских немцев, теперь находится госпиталь. «Эйфония» битком набита ранеными немцами. Из окон высовываются бледные лица, забинтованные головы, культи рук на перевязи. Снаружи на костылях маются серые тени с унылыми рожами. Жуткое, удручающее зрелище. Там же в подвальном этаже расположился призывной пункт: так что новобранцы сразу с места в карьер получают наглядное представление о светлом будущем, разумеется, в лучшем варианте. Есть и другой: деревянный крест на опушке леса. Один из мукомолов не выдерживает, хочет дать деру, но жандарм стреляет в воздух — Halt! Далеко не убежишь. Парень сдается, возвращается, получает по мордам, смывает у шкимбега с лица кровь и ждет, что будет дальше, чему быть, того не миновать.
Моя свинья в надежных руках, повар, честно говоря, страшно озлился, что она жива, хотел заставить меня заколоть ее, но я категорически отказался, я еще никогда никого не убивал и просто-напросто не знал, с какого конца подступиться. Моя свинья была не мелкая тварь, а солидный зверь. Я не пережил бы ее визга, ей-же-ей.
Спрятавшись в темном коридоре, я дождался доктора, подбежал, всунул ему в лапу шайны на водку и выпалил:
— Привет от хозяйки «Ликайней».
— Ладно уж, ладно, — пробурчал он, тотчас зазвал меня в кабинет, велел скинуть тельницу, прижал ухо к груди, прижал к спине и приказал произнести три раза — тридцать три, я сказал — девяносто девять, доктор сказал — «хорошо» и написал, что у меня ТВС-111-5847а, каковая бумажка осталась при мне. Комендант поставил на нее печать, выписал белый билет, вручил и заорал, дабы я скорее убирался ко всем чертям и не показывался людям на глаза. Никто, дескать, не поверит, что я ходячий труп.
Я не спешил. Раз притащился в город, надо оглядеться по сторонам. Повесил лошадке на морду торбу с овсом, привязал ее к коновязи, а сам решил: пойду прошвырнусь до аптекаревых чертогов. Может, Керолайна еще жива, угостит меня жареными гуменниками или отбивными котлетами. Но уже из церковного сада вижу: зря иду. Ставни закрыты, двери заколочены досками. Подхожу поближе, заглядываю через прогнивший забор: садик зарос чертополохом и колючками до самого берега мукомольной речки, кругом мерзость запустения.
— Ишь какое нынче лето, — говорит подошедшая тетушка, — река обмелела, нет электричества… Польет дождик, подымется вода на мукомольне, будет опять…
— В этом доме никто не живет? — спрашиваю.
— Жила… спранцуженка, кажись. Уехала, когда все господа уезжали… четвертый год уже будет. Хотите купить?
— Спасибо, приду другой раз…
Возвращаюсь обратно. Мне тут искать нечего. Собираюсь сесть в телегу, как мимо меня проходит немец, сказать точнее, не проходит, а шкандыбает на костылях. Он поворачивает голову, наши взгляды встречаются — батюшки, Брандер!
— Флауш!
— Чип! Это ты или твоя тень?
Правой ноги ниже колена как не бывало. Брандер неловко ковыляет ко мне, протягивает вспотевшую ладонь, веки у него подергиваются.
— От меня не осталось даже тени… Такие вот пироги. Gott mit uns.
Мое сердце сжимается: жизнерадостный выпивоха, женолюб, певец и хохотун.
— Где тебя угораздило? — невольно вырывается у меня.
— В бою за новую Европу, за дерьмо, — махнув рукой, со стоном отвечает Брандер.
Я испуганно озираюсь, не слышал ли кто.
— Не хочешь пойти куда-нибудь поболтать? — предлагаю. — Ты ведь большой охотник до пива, выпить тебе можно?
— Можно, нельзя — один черт, только разве это пиво?.. Настойка на кальсонах. Нет ли у тебя чего-нибудь спиртного? В кантину противно заходить, там эти хари с черепами.
Ощупываю карман. Одну шайну для господина доктора я зажал на черный день. Теперь пригодится, угощу друга.
— На берегу реки — парк, — говорю я, — давай сходим туда.
Тащимся к за́мковому саду. Брандер костыляет шумно, с натугой, видать, не привык еще, пыхтит, сыплет проклятиями.
— Давно тебя эдак?
— Прямо в иванов день… на мину напоролся…
По дороге нам попадается магазин, битком набитый папашами-хозяевами. Берем пол-литра. Хорошо, что у меня в кармане сукрой хлеба с деревенским сыром. (Ликайниете дала на дорогу, жалко — мало, но хватит.)
Сидим на зеленом пригорке, калякаем о том о сем. Я понятия не имею, что произошло в Риге за эти три с половиной года.
— Как это ты в штатском ходишь? — удивляется Брандер. — Сейчас же тотальная.
— У меня легкие что дырявое сито, ты ведь знаешь, после того случая… Забраковали. А что ты теперь буде делать? — спрашиваю.
— И думать неохота! — отмахивается Брандер. — Сам видишь, калека… на вечные времена. Могут оставить в интендантстве делопроизводителем. Но исход войны ясен как дважды два: этому делу нынче — капут! Уриан-Аурехан — капут! Цалитис — капут!
— Цалитис? Ты что-нибудь слыхал о нем? Где он теперь? — спрашиваю.
— Неужто ты не знаешь? — не верит Брандер.
— Клянусь черной миногой, понятия не имею.
— Командует полицейским батальоном СС. Штурмбанфюрер, расстреливает евреев, белорусов, женщин, детей. Не только отдает команды, но и палит собственноручно. Об этом нельзя говорить, табу. Все делают вид будто ничего не знают. Может, ты тоже? Когда после войны спросят, окажется, никто ни сном ни духом не ведал. Ха-ха-ха! А меня вот призвали в легион и заставили воевать. В первые годы удавалось откупиться, все у кого были деньги, так и сделали. Поначалу призывали лишь сыновей батраков и рабочих — самых подозрительных, дабы в тылу жилось спокойнее, тем откупиться было нечем. Если когда-нибудь, мало ли что, то на них тоже ляжет пятно. На работе отбирали тех, о которых ходил слух, что состояли в МОПРе или еще где-нибудь в этом роде. Толково придумано!
Я воевал недолго. Полгода — и подорвался на своей же мине, ой-йохайды! Недавно на фронте образовала прорыв, послали Цалитиса со всем батальоном в бой пусть-де герой покажет себя. Только начали русские стрелять, как они кинулись на попятную… Дезертировали… Молодчики Цалитиса не привыкли стрелять в вооруженных, им подавай только женщин и детишек. Скоро, говорят, понадобится чистить Курземе, так что подонки формируются заново. Аурехану такие позарез нужны.
— Но ты же был с ними, так сказать, заодно, вы ведь слыли единомышленниками.
— Все мы были единомышленниками, только не знали, что в каждом из нас кроется. Не могли догадаться Время показало, кто они такие, эти народолюбцы, идеалисты и герои. Дерьмо, и только! Страшно подумать, наш флауш убивает. И еще гордится, что не простой убойник, а тысячекратный, выводит, мол, клопов! И это наш Цалитис. Как такое могло произойти? Я, конечно, тоже убийца, но я воюю и стреляю в тех, кто не успевает выстрелить в меня. Эти подонки меня втянули в свое грязное дело. Отвечать все равно придется и мне, день этот близок, помяни мое слово. Нет сомнений, главари удерут в неметчину, забьются там в щели. Куда мне за ними с одной ногой? Кто меня укроет, кто спасет? Только земля. Я припрятал пистолет, припрятал и пулю, я не лелею никаких иллюзий. Пущу себе пулю в лоб, зароют меня как собаку — и все… Налей, Барберина! Песенке этой скоро конец, выпьем-ка пива, и делу венец!
— Ты не знаешь чего-нибудь о Янке? — спрашиваю я. — Успел он эвакуироваться?
— Эвакуироваться? — Брандер поднимает на меня налитые кровью глаза. — То ли ты прикидываешься, то ли вправду дурак? Эвакуироваться! Цалитис с подручниками заманил его в западню, случилось это перед самым началом войны, за день до нападения немцев. Прислали провокатора — чиновника из его комиссариата, тот сказал, что комиссар вызывает Янку по срочному делу на взморье. Там его заперли в погребе. Когда началась война, все пошло вверх тормашками, одни говорили — комиссар с важным заданием отбыл на фронт, другие — что организует эвакуацию, вполне можно было допустить, что он уехал на взморье.
— Ну ладно, а потом-то его выпустили?
— Ты помнишь, что Цалитис сказал в тот раз, когда мы трое навестили тебя в санатории? Как бы тебе, мол, Янка, не пришлось когда-нибудь горько пожалеть об этом… И глядишь, слова его сбылись. Цалитис сам лично отправил товарища Сомерсета на тот свет. Было время, мы пели, в том числе и Цалитис: «И если мы расстанемся, друзьями все останемся, да здравствует наш Янка» — и так далее. Перед экзекуцией Херберт издевался над флаушем, встал перед ним лицом к лицу, но Янка плюнул ему в глаза, назвал выродком и отвернулся. Это он, конечно, хватил через край. Херберт выстрелил, а когда Янка упал замертво и уже не шевелился, выпустил еще две автоматные очереди ему в голову, говорят, он был вне себя, рычал что-то нечленораздельное…
Я хватаюсь за голову, закрываю уши, я не могу этого выдержать.
— Негодяи, негодяи, негодяи…
— Тема для Шекспировой трагедии, верно, флауш!
— Негодяи, негодяи, негодяи… — мычу я.
— Что ты воешь и катаешься по траве, как припадочный. Еще заметят нас. Эх ты, штатская твоя душа! Так вот бывает с теми, кто не пережил ужаса, не нюхал пороха. Я-то испытал и не такое.
Беру себя в руки и спрашиваю, нет ли каких-нибудь известий о Фроше.
— Старика бросили в Саласпилс, а потом перевели в концентрационный лагерь в Эдоле. За то, что не поехал в Германию, распускал язык и собирал картины футуристов. Твоего друга и нашего флауша — молодого Фроша призвали, всучили винтовку и поставили сторожить отца. Это тоже, говорят, произошло не без ведома Херберта. Фрош по привычке стал толкать крамольные речи. За это он теперь должен нести вахту у колючей проволоки, ловить момент, когда старик отец попытается подобрать с земли сырую картофелину или ломоть хлеба, которые снаружи забрасывают сердобольные женщины, в этом случае Фрошу приказано стрелять, мне пока неизвестно, выполнил он возложенное на него задание или нет еще…
Я не в силах больше слушать. Брандер стал чудовищным циником. Как можно так злобно думать обо всех. Я ведь знаю этих ребят сто лет. Какие это были весельчаки, готовые всегда прийти на помощь. Фрош, сказать по совести, полунемец, зато философ. У Цалитиса в Бучауске водяная мельница, милый папаша и еще милее мамаша, я гостил у них, знаю. Брандер преувеличивает. Оно понятно, у самого жизнь зашла в тупик, оттого и поносит весь мир, обвиняет ближних своих в страшных злодеяниях.
Мы прощаемся. В этот раз, видимо, навсегда. Провожаю его до «Эйфонии» и смотрю, как тень человека, прихрамывая, заползает в открытые ворота ада и пропадает, как Ориген в катакомбах. Speculum maius — великое зеркало истории.
Я же сажусь в свою бричку и, хлестнув гнедого, смурной и одурелый, качу домой. Свиньи больше нет, но воз тяжел, словно набитый камнями. Все горести мира легли на куль с соломой, мы еле тащимся.
Все горести мира, все зло его. Любопытно, как на это реагирует мой приятель Трампедах в Виттенберге. Улучшил ли он качество своего препарата Т-1? Впрочем, со времен Елизаветы ничего в этом мире не изменилось к лучшему. Бен Джонсон оклеветал стрэтфордца. Пембрукский лорд нанял убийцу. Последнему я, верно, успел заехать в рыло, гори он синим пламенем, но он все же успел разукрасить мою щеку от глаза до уголка губ, некоторые леди меня успокаивают: со шрамом я, мол, выгляжу импозантней, так сказать, джентльменистей.
Дороге нет конца: пять миль до Фрауенбурга и еще кусочек. Я подох бы со скуки, если бы рядом не сидел Нэш. Бесподобный тараторка.
— Кит! — начинает он. — Извержения театральщины, ужасы, гротеск, всевозможные художественные преувеличения в твоих трудах не от хорошего вкуса, в жизни так не бывает. Тебе в этом видится дерзость Ренессанса, бунт против придворной драматургии. Ты велишь задавить Эдуарда II, как клопа, между двумя столешницами, в другой раз играешь Эдуарда сам — у меня твое штукарство уже в печенках сидит, все кости болят от твоих трагедий.
— Вылезай, Нэш! — говорю я разгневанно. — Не хочешь ли ты купить лошадь, которая нас обоих везет? Посмотри, пощупай… Сколько ты согласен дать?
— Сколько просишь?
— Сколько не жалко.
Но стоит Нэшу со мной расплатиться, как лошадь превращается в сноп соломы.
— Это надувательство, Кит. Трюк из Фауста, плакали мои денежки, как мы теперь доберемся, — в девять я должен быть в Виттенберге.
Недалеко от Фрауенбурга мы встречаем конюха Дика и Увальня. Все улаживается. Они заходят к крейсландвирту, выменивают на свиншайне забракованную армейскую кобылу, и — айда! — мы снова пускаемся в путь. Времена стали скверные, хуже не придумаешь: Салдус переименовали во Фрауенбург.
XVI. ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, КРЕСТНАЯ И Я
Да, времена стали паскудные: крейсландвирт увеличил дань, а рабочей силы нет. Зимой помер старый Йост (пользы вообще-то от него не было, одна морока, но все же), в околотке свирепствовал грипп, и сердце престарелого батрака не выдержало, а к весне занемогла и сама Ликайниете. Вот те на! Что я один буду делать, когда наступит пора сеять?
Но однажды вечером Ликайниете подали весть: хозяйству выделен работник — русский пленный красноармеец. Пленного разрешается только кормить, платить за работу — ни в коем разе. По утрам его нужно забирать это на мою ответственность, — а по вечерам возвращать лагерь, который разбит неподалеку от чугунки.
Однажды в городке я уже видел, как немцы провели по улице только что полоненных советских летчиков, пленные шагали гордо, высокомерно, не обращая внимания на вопли конвоиров, на них была чистая и щегольская форма: синие брюки и зеленые пиджаки с орденами, на фуражках золотые крылья, сами смуглые, загорелые, такими они остались в моей памяти.
Явившись в лагерь за работником, которого мне предстояло отвести в «Ликайни», я застал ужасающее зрелище: люди ели траву… Я похолодел и даже не заметил, что пленного уже подвели и какой-то фельдфебель машет мне рукой:
— Расписаться в получении!
Потом мы оба шагали прямо через оттаявшие поля луга к хутору «Ликайни». Я впереди, Василий Степанович (так было записано в документе, который выдал мне фельдфебель: Василий Степанович Кузьменко) за мной. Позже мне сказали, что глупее нельзя было и придумать, пленных всегда нужно пропускать вперед. Василий мог убежать или напасть на меня сзади. Надо же, я об этом совсем не подумал, хотя смутно ощущал — что-то тут не так… Василий шел с насмешливым видом, забавлялся наверное, что я веду его и озираюсь, поспевает ли он за мной.
Мои знания русского языка были более чем ничтожны, и я молчал, потому как стеснялся коверкать чужую речь. Зато Ликайниете наговорилась всласть за десятерых. Оказывается, Василий тоже был летчиком, зенитный снаряд сбил его ночью над железной дорогой, о спустился с парашютом, и тут его схватили. Он откровенно сетовал, что не успел разбомбить станцию, где это время стоял состав с боеприпасами. Взорвать сей транспорт как раз входило в его задание. Такой вот удалец был этот Василий, ни черта не боялся, даже плену. Две недели уже промыкался в лагере, изголодался, ослаб. У Ликайниете защемило сердце: может, и ее сынок (тот, кто подался на суда) бродит где-то на чужбине и голодает? Она отрезала Василию два ломтя солонины, а мне один (мясо на исходе, подсвинка колоть будем только осенью), а себе и вовсе ничего, тетка моя начала экономить.
Так или иначе, расспрашивать она была мастерица, если и не военные тайны, то по крайней мере про жизнь своего работника выведала все.
Василий Степанович кончил высшую школу, вуз называется, работал конструктором, жил в Москве, не женат, отец у него пенсионер. Оказалось, он знал даже немецкий, притом не хуже меня, если не лучше. Теперь мне было с кем поговорить. Выяснилось ко всему прочему, что мы оба родились в один год, в один месяц и чуть ли не в один день — он девятого, а я одиннадцатого числа. Какими разными, однако, были наши судьбы, какими разными — миры, откуда мы явились, но это лишь потом дошло до меня… Тем не менее мы подружились, — возможно, в нас было что-то родственное? Василий успел прочесть уйму книг, был сдержан, я бы сказал, духовно благороден, он мне напоминал Янку. Крестной пленный тоже пришелся по нраву.
Началась весенняя страда. Я признался Василию: пропадать теперь моей голове — пахать не умею, только запрягать и распрягать лошадь. До сих пор нашу земельку распахивал сосед Кретулис (за шайну на водку и мешочек белой муки). К сожалению, зимой эсэсовцы спалили его будку, а самого с женой увезли в Эдоле: оказывали, дескать, помощь лесным братьям. Им теперь не вернуться.
Ликайниете шептала: тут же под боком прячутся лесные-то, на большом, мол, болоте. Мстителями зовутся. Их там целая рать. Василий, упаси его господи, должен остерегаться, он ведь теперь работает на кулаков. Василий посмеялся и не сказал ни слова.
А мне, хоть кровь из носу, надо было поднять злосчастное поле, не то осенью будем щелкать зубами. И Василий, который в жизни своей не дотрагивался до орала, учил меня пахать. Работали мы посменно: покамест один курит, другой крепко держит в ладонях рукояти плуга и понукает гнедого, а гнедой, знай свое дело, тянет, что есть мочи, упираясь всеми четырьмя в пашню. К вечеру вся прибрежная низина и заросший травами перелог лежали изборожденные неровными полосами — но, худо-бедно, поле мы вспахали.
Русский стал почти что членом семьи. Прямо потеха была смотреть, как я доставляю его обратно в лагерь. Пока мы подходили к зоне, как Василий напоминал мне, чтобы я не трепался с ним на виду у охраны. Конвоиру, мол, строго запрещено разговаривать с преступником, этот закон блюдется одинаково во всех государствах. Таким макаром он дрессировал меня довольно долго пока я не преуспел в учебе и не сделался заправски конвоиром. По вечерам Василий всякий раз просил дать с собой лусточку хлеба или немного картошки, прятал и для тех товарищей по лагерю, кто уже не держался на ногах. Да, он был самоотвержен и добр. Я, например, в трудные мгновения думал только о себе: как выжить, как пережить. Когда я заикнулся об этом Василию, оказалось, он этого разговора давно ждал.
— Вы несчастный человек, индивидуалист, — глядя на меня, говорит Василий, — Я давно приметил. Об индивидуалистах, сказать откровенно, я до сих пор читал только в книгах. Мне даже представлялось раньше, что это досужий вымысел литераторов. Странно, вас интересует музыка, писательство. Но нельзя писать ни музыки, ни стихов, не адресуя их кому-то, изолируясь от людей. Могу я выложить все, что думаю? Вы не обидитесь? — спрашивает Василий.
— Нет. Продолжайте, мне это важно.
— Желая уйти от сопричастности, от ответственности за то, что творится в мире, вы сочиняете поваренную книгу. Рассудили, видимо, так: правительства приходя и уходят, а поваренные книги остаются. Так делает страус в пустыне, когда засовывает голову в песок. Неужели у вас никогда не было друзей или великих целей!
— Друзья? Что вы подразумеваете под этим? — спрашиваю.
— Людей, на которых можно положиться, кто разделяет те же идеалы, что и вы.
— Нас было пятеро друзей, — говорю я с горечью. — Первый хладнокровно убил второго, третий продал четвертого, а пятый кричит, требует возмездия. Миленькая компания, не правда ли? Но какое это имеет значение? Люди проводят свой век запертые в собственной шкуре, чужие друг другу. Жизнь человека — фатальная случайность, смерть обрывает ее, и конец… Все мы обречены на одиночество.
— Вот видите, — говорит Василий, — отсюда и начинаются бедствия мира и ваши личные несчастья. На самом деле один человек дополняет другого. На смену одному поколению приходит новое, уже в ином качестве, история доказывает духовное и материальное развитие человека. Все теснее становятся общественные связи, иначе и быть не может.
— Но разве наши дни по бесчеловечности не оставляют далеко позади самые мрачные времена средневековья? — не сдаюсь я. — Знала ли когда-нибудь история столь низкое нравственное падение человека?
— Фашизм, я не побоюсь сказать, не имеет ничего общего с человечностью. Это болезнь, повальная зараза. Обиднее всего, что к его возникновению приложили руку и вы: его питает та самая философия, которую вы только что проповедовали. Миф двадцатого века. Каждый из нас индивидуум. Каждый про себя полагает: я лучше других, я сверхчеловек. Другие ниже меня. Они вам не нравятся, они раздражают вас на каждом шагу, таких прочь с дороги, а если уж быть последовательным, лучше их просто уничтожить. Коммунисты, однако, верят в человечность и сопротивляются фашизму и будут сопротивляться, пока он не будет изничтожен, как и все прочие теории, подобные вашим.
— Я должен вам признаться, — говорю я, — что нахожусь в этом доме под чужим именем и с фальшивыми документами. Меня преследуют как друзья, так и враги, потому что в первый советский год я выразил желание сотрудничать с новой властью. Я не успел этого сделать, началась война… Теперь с таким же успехом меня можно принять за вашего врага — я ведь доставляю крейсландвирту масло и принуждаю работать пленных. Честность — понятие относительное.
— Неразумно выкладывать чужому человеку свои секреты, — говорит Василий, — но я был вынужден выслушать их. Конспирация — не самая сильная ваша сторона. И все-таки я считаю своим долгом спасти вас.
— Ха-ха! Спасти меня? Вы сами должны спасаться, ваше положение намного хуже моего.
— А я убежден, что лучше, — смеется Василий и показывает белые зубы.
Что он этим хотел сказать? Что у него на уме? Не вздумал ли пленный выдать меня, знаю я таких друзей.
После полудня все выясняется.
Когда мы подкрепляемся — хлебаем ячневую размазню, закусывая ее творожными хлопьями, — открывается дверь и заходят четверо мужиков. Они вытаскивают оружие и приказывают: руки вверх!
Ликайниете, побелев, встает, я тоже воздеваю длани и соображаю, куда запропастилась моя винтовка. Но Василий спокойно вступает в разговор с пришельцами, велит крестной сесть, а мне на время удалиться. Вот тебе и пленный. Когда я снова водворяюсь обратно, мне предлагают сесть, Василий говорит, а партизаны внимают.
— Вам нечего бояться. Мстители воздают по заслугам только злодеям и предателям. А теперь слушайте мой приказ! Вы (он показывает на меня) отправляйтесь в лагерь и скажите, что я по дороге сбежал. Не торопитесь, лучше, если попадете туда только к вечеру, когда мы уже будем далеко. И вы оба (теперь он показывает сперва на крестную, потом на меня) хорошенько запомните: партизан вы в глаза не видели, и никакие мстители сюда не приходили!
Затем Василий просит крестную выйти и говорит мне вполголоса:
— Вы, Кристофер, должны помочь партизанам… Хочу сделать из вас связного. Подумайте, решитесь! Ночью спите в клети. Примерно недели через две пришлю вестового, он постучит тихо три раза… Ступайте с ним. Но крестной ни слова. Учитесь конспирации!
Затем они впятером ушли.
Я приготовился к худшему, но, зайдя в лагерь, вижу: стража носится как угорелая, всюду слышится ругань. Дрожащим голосом рассказываю фельдфебелю: «Уважаемый господин, хоть бейте меня, хоть вешайте, но батрак удрал. Сбил меня с копыт и бегом в лес!»
Фельдфебель голосом кастрированного козла исторгает вопль:
— Еще один!
Я узнаю́, что все пленные, которые работали на полях, сегодня показали пятки. Не хватало двадцати человек, вместе с Василием — двадцати одного. Donnerwetter!
Ясно, что это был заговор. Нас, горемык-провожатых, обругали, а коменданта лагеря арестовало гестапо. Фельдфебеля отправили на фронт, лагерь ликвидировали. Только после войны я узнал, что бегство организовали Василий Степанович, который был вовсе не Василий. Не был он и летчик, а прославленный партизанский командир, который ночью с парашютом спустился чуть ли не на голову какому-то случайному патрулю. Четверо немцев связали его и доставили в лагерь. Так как Василия поймали в форме летчика и в ту ночь действительно был сбит советский самолет, немцы остались при убеждении, что это и есть сбитый пилот. В лагере Василий быстро нащупал связь с партизанским отрядом, вызвался на сельские работы и организовал побег.
Так в конце концов благополучно завершилось приключение с Василием, который вовсе и не был Василием.
Не Эрчер ли увидел нас с Мери, когда, укрывшись в кибитке извозчика, мы въехали в Депфорт? Моросил мелкий ситничек. Какой-то мужчина, закутанный в плащ, остановился возле нашей колымаги, заглянул вовнутрь, и мы с Мери проснулись. Похоже, то был сэр Корнелиус Эрчер, аббат при монастыре сестер-филаретинок, эсквайр. Позже мне рассказывали, что утром к аббату прискакал всадник с письмом от Пембрукского лорда. Вильям Херберт считался другом Эрчера, его протектором и меценатом. За это аббат разрешал лорду два раза в году (в день непорочного зачатия девы Марии и на масленице) посещать самых красивых монахинь-филаретинок Эстер и Кимберли непосредственно в их кельях — совершенно секретно после полуночной мессы. Пембрукский лорд высоко ценил прямое общение с божественными созданиями: оно омолаживало графа и укрепляло его духовно, чего ему от души желаю (об этом говорилось в письме). Сэр Корнелиус Эрчер, аббат Депфорта, в тот же день явился ко мне на обед, мы водились еще со времен Кембриджа. Интересовался, не имею ли я желания выпить с ним, потому как давненько мы вместе не закладывали за ворот. Я предложил гостю ростбиф под олстерским соусом с артишоками, но ответил, что я влюблен и бросил пить, по каковым соображениям прошу меня больше не соблазнять алкоголем, ибо ныне я предаюсь другим утехам.
Затем мы перешли к вопросам веры, любомудрия и сочинительства. Аббат воздал хвалу моему «Тамерлану», потому что драма всецело выдержана в пятистопном ямбе, а сцена убиения — три удара крохотным кинжальчиком промеж ребер — верх элегантности. Неужто Тамерлану в самом деле принадлежал столь восхитительный резак? Но как скоро мы повели речь о Моисее и вере вообще, начались трения: голоса повысились, кулаки то и дело ударяли по столу, и в конце концов воздух огласился такими криками, что из кухни выбежала леди Фитон и взмолилась, чтобы мы по возможности умерили пыл и попридержали глотки.
Потом Эрчер начал поносить мою «Трагическую историю доктора Фауста». Во-первых, за святотатство: черт, видите ли, шляется по белу свету, разражаясь подстрекательными речами. Во-вторых: что это за драматическое произведение, если в нем нет ни диалогов, ни картин, ни актов? Фауст и Мефисто заключили договор на двадцать четыре года — мало им было пятнадцати? Почему в этой драме столь странные отступления от темы, вкраплены шутовские сцены, реминисценции, демонстрация уэльского диалекта? Взять к примеру конюха Дика и его друга Увальня. Дик и Увалень! Совсем из другой эпохи! Действие ведь протекает в Виттенберге. Зачем понадобились жрецы черной магии — Вальдес и Корнелиус? «Мое имя тоже Корнелиус. Уж не вздумал ли ты, Кит, прокатиться на мой счет? Черноризник, Марпрелат — так меня теперь обзывают истэндские обезьяны, они видели ваш спектакль, это подлый спектакль, а ты — подлый человек, Кит! Дай выпить, или я от злости поперхнусь! Кит, я клянусь: твоего Фауста не издаст ни один порядочный книготорговец! А буде издаст, то по меньшей мере найдется фактотум, который поклянется перед богом: «От оного произведения меня тошнит, я в нем ничего не смыслю. Это каша, дичь несусветная. Не драма, а поваренная книга. Словом — ахинея».
XVII. КУРЗЕМЕ, ПРЕОБРАЗОВАННАЯ В КОТЕЛ, В КОЕМ КЛОКОЧЕТ ВЕСЬМА ПАКОСТНОЕ ВАРЕВО
Причастное к каше название «Курземский котел» впервые в анналах истории появилось в 1944 году в месяце паздернике в Эзере, где генерал-лейтенант Шернер громко воскликнул: «Господа, теперь мы в ж…!» — на каковое восклицание почетный адъютант фон Петухе ответил: «Не волнуйтесь, экселенце, дела не так страшны, пока мы только в котле». В поваренных книгах принято употреблять еще и другие наименования котлов, как-то: кастрюля, казан и даже корчага, но обозначение не меняет суть предмета, каша в помянутом сосуде пузырилась и поспевала дюже едкая. С Великой Германией сей котел теперь связывали только воздушные и корабельные пути, но в море вот-вот ожидался ледостав, а в воздухе стало так густо, что не повернуться. Тут-то и возобновил свою деятельность карательный батальон эсэсовцев, однако и до них доперло, что конец света не так уж далек, и эти ракалии ныне думали лишь о том, как бы подобру-поздорову перебраться морем в неметчину. И надо же, Цалитису и его команде всегда везло: их пригласили на гастроли в желанный край. Там тоже понадобились хенкеры-вешатели.
В эту-то лихую пору Кристофер и начал выполнять поручения партизан: снабжал мстителей анодными батареями, сообщал, в какую сторону направили стопы каратели, где устроены новые склады боеприпасов. Один из них под Циецере взлетел на воздух, трады-ралла! Солдаты дезертировали, и в округе повсеместно зашевелились партизанские группы.
Музыкант устроил в клети тайник, ночевал на сеновале и ждал партизанского связного. Иногда ему приходилось самому топать до назначенного места, откуда доверенное лицо доставляло его в лагерь.
Увидеть Василия удалось всего раз, он был командиром и посему занят важными делами. Встреча была сердечной. После рапорта он усадил Кристофера рядом, спросил, как живется в «Ликайнях», как чувствует себя крестная.
— Спасибо за внимание, — говорит музыкант, — крестной живется неважно. Мучается высоким давлением, сегодня осталась лежать в постели.
— Вот как? Мда…
Василий начинает рыться в какой-то сумке, долго ищет, пока не достает небольшой сверток. В нем стеклянная пробирка с белыми таблетками, это, мол, лекарство от кровяного давления, пусть Кристофер возьмет и отнесет крестной. Принимать нужно по одной штуке в день, тогда хватит на две недели.
— Владимир Петрович! — взвивается ражий малый. — А вам самому, Владимир Петрович? Если опять случится? Нет, я не дам!
— Успокойтесь, — говорит Василий (какого черта его называют Владимиром Петровичем?). — Старушке нужней. Вы мне достанете другие.
Малый ворчит, не может уняться… Старушке! С ума можно сойти…
— Поваренная книга готова? — смеется Василий, сверкая белыми зубами. — После войны пришлите ее мне в Москву, ей-богу, пришлите! Хочу, чтобы жена тоже научилась стряпать и отведала три блюда из курземского котлового довольствия: скабпутру, камы, пинкуцы. Как мы тогда наворачивали, когда учились пахать! — Командир заливается веселым смехом. — Хозяйка принесла целый горшок скабпутры с камами. Подчистую умяли!
Оказывается, у Василия, который не Василий, есть и жена.
— Оружия у вас нет? — спрашивает он.
— Нет, — отвечает Кристофер.
— И хорошо… Связному лучше без него…
Командир приказывает ражему молодчику провести Кристофера через посты до опушки леса, там они расстаются. Больше музыкант Василия не видел. Иногда Кристоферу приходит на память недавний разговор. «Интересно, какой у него адрес в Москве? Мне бы хотелось послать ему «Переработанную, пополненную поваренную книгу». Еще немного — и она будет завершена…» Всю зиму он прошагал по глубокой санной колее, чтобы не оставлять следов, и всю зиму ему несказанно везло. После Нового года повсюду рыскают жандармы, надобно быть начеку, сожжено много домов, расстреляно пропасть народу. В «Ликайнях» покамест все честь честью. Иногда, бывает, забредает какой-нибудь филер из волости, но ничего предосудительного не находит: крестная возится в клети, она снова на ногах. Безжалостный недуг пощадил ее — давление упало. Где молодой? Молодой запряг лошадь и укатил в город сдавать мясо. «Стало быть, свинью закалывали? — спрашивает филер. — Ведь не все мясо увезли в дань?» Попробуй после таких слов не дать попрошайке кусок сала, таковы нынче порядки в этом котле: что ни день, то откупайся какого-нибудь мелкого гада.
Кристофер бредет по оттаявшей пожне, по жухлому прошлогоднему старнику, крадется словно кот, пока не взойдет месяц. Наступил март, ночи становятся короче, музыкант должен остерегаться, как никогда, но в назначенный час он всегда на месте. Бродяге весело, когда не надо скрываться: вышел на шоссе, и немецкий военный грузовик за бутылку бражки сажает тебя в кузов. Кристофер поет и свистит разные арии собственного сочинения. Да, он наловчился возгонять «напиток курземского котла», тем не менее мы воздержимся приводить в поваренной книге технологию сего процесса, поскольку в мирное время полученную влагу во всех странах презрительно называют самогоном, и власти повсеместно карают своих граждан за серийное производство означенного напитка. Кристофер едет и свистит: это единственное музыкальное занятие, которое ему осталось. Инструмента в «Ликайнях» нет, а нотная бумага давно израсходована на растопку. Такова жизнь!
Каждый шаг чреват опасностями, но дни проходят прекрасные, богатые. Ей-богу, существование снова обрело смысл.
— Помогаю освобождать Курземе, — говорит Кристофер, подбадривая себя, подзадоривая. Он понимает, что в эту пору, когда кругом пылают пожарища и кровь убиенных вопиет к небу, его вклад весьма скромен. Не слишком ли снисходительна к нему судьба? «Человеку жилось бы лучше, если бог дал бы ему небесного света поменьше», — цитирует он Гёте. Неизвестно почему всплывает в памяти эта цитата. Но, как уже бывало с ним не раз, легким денечкам Кристофера быстро настает конец.
На исходе марта его остановил в городе жандармский патруль и подверг основательному обыску. Нашли только белый билет и карту УК на имя Кристапа Бессера.
— Она уже не годится, керл!
— Ты мне кажешься излишне здоровым, — говорит другой. — Часом не дезертир?
— Господа! У меня легкие, как сито, туберкулез в третьей стадии. — Кристофер вдохновенно закашлялся, руки его тряслись как у припадочного, но жандармы не слушали.
— Разве ты, керл, не знаешь, что началась тотальная мобилизация? Что нужно защищать Курземе от красного кошмара? Если вы, латыши, не будете драться, вашей безбедной жизни скоро капут, придут русские, узнаете тогда, кто такая кузькина мать. Поэтому иди и не рыпайся, — сегодня призываются все мужчины в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, ты вполне годен.
Кристофер умолял, чтобы его отвезли к врачу, в конце концов у него туберкулез в третьей стадии…
— Я тебе дам такую третью, что кишки носом пойдут! — на приятном баварском диалекте пообещал смуглый юноша, судя по ряшке, интеллектуал.
— Шагом марш! Halt Maul!
По разговорам жандармов Кристофер сообразил, что баварец приятной наружности из породы музыкантов, потому как сделал замечание командиру патруля, когда тот начал насвистывать «Шествие невесты Эльзы в Минстерском соборе» из «Лоэнгрина»:
— Хансвурст, не издевайся над Вагнером! Вместо си берешь ля-диез.
Тот, кого назвали Хансвурстом, побагровел и рявкнул:
— Тут тебе не мюнхенская опера, Клаус. Тут дирижирую я и свищу, как нравится мне. Ясно?
— Так точно, ясно! Но этого говнюка все-таки надо отвести к доктору. Слышь, как перхает, прямо тошнит.
— Да, да! — вскрикивает Кристофер. — Я требую, чтобы меня доставили к доктору! Я буду жаловаться!
— Ах, ты будешь жаловаться, дурья башка? Ладно! Будь по-твоему, — орет Хансвурст. — Клаус! Пихай его в машину и вези к трупному лекарю! Там его в два счета вылечат… Жаловаться будет, недоносок паршивый! В экспериментальный барак!
Кристофера втолкнули в серо-зеленый автомобиль, Клаус с нацеленным на него автоматом сел напротив, и они помчались в лазарет, который, по всей вероятности, находился за чертой города, в Аннафельде или в Петерфельде, где лет пятнадцать назад музыкант купил огурец.
— Бессер, Бессер, Бессер… Меня зовут Бессер, — повторяет про себя Кристофер. — Только бы не спутать, иначе конец… Кристап Бессер.
Бессер продолжал надрываться в кашле, поэтому Клаус прикрикнул:
— Перестань горло драть, или я прикончу тебя на месте.
Кристофер посмотрел на немца таким ненавидящим взглядом, что тот отвернулся и сплюнул.
«А ведь музыкант! — думает Марлов. — Небось абсолютный слух имеет… Работает в мюнхенской опере. Кто он такой: репетитор, оркестрант, дирижер? Почему служит в жандармах? Надо полагать — эсэсовец… Предал Баха, Моцарта, Шуберта, Шумана, Брамса, Лессинга, Хердера, Шиллера, Гёте… Куда подевалась немецкая культура, великий гуманизм? Чем объяснить тотальный упадок нации, столь низкий порог сопротивляемости? Неужели виноват один только Уриан-Аурехан? И не сидит ли в душе каждого гражданина этакий крошка Урианчик?
Взять хотя бы Клауса… Активный подлец. Сколько невинных людей отправил на тот свет? В боях, естественно, не участвовал, но, когда вместо си берут ля диез, его утонченная душа не выдерживает. «У этого человека душа музыканта», — говаривал старый профессор. Нашим старикам невдомек было, что и нелюди могут обладать музыкальным слухом».
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Машина одолевала песчаный бугор, мотор ревет в фа миноре, эсэсовец несколько оттаивает, тоже чувствует — это зеленый цвет. Кристофера обволакивает фа минор. Такое ощущение бывает весной, когда залезешь в куст черемухи. Цвет все тот же, но ощущения разные, как и души. Почему его увозят так далеко за город? Видны холмы, песчаные ложбины.
Шофер включает первую скорость, подъем стал круче, вот уже звучит чистый соль мажор, голубой, сентиментальный, трогательный: Мендельсон! Клаус перекашивает рожу — еврейская тональность…
«Жалкий тип, — думает Кристофер. — Влез в котел и не выберется из него, к счастью своему, он этого не понимает, уповает на чудо-оружие. Если б понял, совсем озверел бы. Но, может, он как-нибудь выкрутится?»
— Нет, — не выкрутится! — восклицает он.
— Чего ты вякаешь, керл? Не зыркай такими глазами, не то получишь по кумполу. (До чего прекрасен баварский диалект!)
Мы въезжаем во двор большого здания. Это бывший замок старинного имения, башенка с амбразурами, готические окна и портал. Теперь тут лазарет и перевязочный пункт.
Клаус спихивает молодого человека с сиденья, приказывает ступать вперед и заводит его в комендатуру.
— Выдает себя за больного, а похоже — дезертир… Вот документы, пощупайте его. Латыш, говорит по-немецки. Может, шпион? Сделайте из него котлету! — с этими словами мюнхенский эстет удалился. Кристофера поместили в арестантскую камеру, а полчаса спустя приказали раздеться догола и длинным коридором повели в кабинет врача.
— Бессер… Кристап Бессер, — при свете тусклой лампы рассматривает документы седой мужчина в пенсне с пышной шевелюрой. Затем поворачивает голову больному, и Кристофер каменеет: Джонсон!
— Бессер! — ликуя восклицает doctor ord. — Immer Besser! Привет, музыкант! Сколько лет, сколько зим?.. Сам бог прислал вас ко мне. Одевайтесь. Знаю, знаю, у вас туберкулез в третьей стадии и рубцы от старых ран и т. д. и т. п. Одевайтесь! Унтер-офицер, быстро! Одежду и вещи господина Марлова, простите, Бессера! Приготовьте машину, после обеда мы едем в Эдоле.
Это был самый счастливый день в жизни доктора Джонсона. Знаменитому лекарю до сей поры жилось из рук вон плохо — не сумел выполнить приказ Трампедаха касательно пленения Кристофера Марлова. Его обвинили в предательстве, ему отказали в месте главного врача концлагеря. Сейчас он работал в лазарете, где не предвиделось никаких шансов выдвинуться. Джонсон, правда, основал экспериментальное отделение, где проводил опыты на дезертирах и военнопленных: впрыскивал им под кожу Т-2 (новое запатентованное изобретение Трампедаха) и заставлял вдыхать Т-1 в мизерной концентрации, но все это были детские забавы. Намедни он послал Гиммлеру грандиозное предложение: если паче чаяния придется убираться из Курземского котла, то опрыскать все населенные места чумными бациллами, дабы жизнь в оном котле прекратилась. Чумную культуру доктор уже вывел, стеклянные сосуды хранились в леднике, необходимо лишь разрешение начальства, и курземские веси опустеют, как после повального мора в 1680 год. Пускай тогда организуют себе колхозы!
Таково было положение к первому апреля 1945 года.
Doctor ord. приказал Кристоферу тщательно помыться в ванне и тем временем лично обследовал его пиджак и брюки, он искал коробку из-под конфет с знаменитой культурой «Рагги», о коей ему рассказывал Трампедах, но так и не нашел ее.
Затем они вместе съели обед, который Джонсону приготовил повар из кантины, французский коллаборационист-саарец, сбежавший в Курземе, как некогда Мориц Саксонский, чтобы спрятаться от народного гнева и как следует налопаться перед смертью. Из сэкономленных и награбленных материалов мсье Шуман изготовил следующие блюда:
Consommé Marquise
Suprême de Sole Royale
Agneau rôti-Primeurs
Asperges en branches
Parfait glacé aux fraies
И вдобавок ко всему прочему огненное Vin Côte rôtie! (Украденное во Франции!)
Это и впрямь был пир во время чумы, тем более что чумная культура покоилась в том самом погребе, где и награбленное добро и вино.
Джонсон пребывал в великолепном расположении духа — семью он заблаговременно услал в Швецию, на всякий пожарный случай… За обедом сыпал остротами, как из рога изобилия. Пока Кристофер, мрачно насупившись, ел (он жутко проголодался), Джонсон объяснял молодому человеку, как приготовить красное желе.
— На три штофа варотока в медном котле клади фунт мытых оленьих рогов, томи на углях, сними пену, после чего держи четыре-пять часов на умеренной скваре под наглухо закрытой крышкой. Затем пробуй на холодной тарелке, достаточно ли варево вязко, сымай с огня, процеди через лоскут, дабы вся сила вышла, добавь четыре четвертушки Vin Côte rôtie, сдери шкуру с четырех апельсинов и все вместе размешанное пропусти через волосяное сито. Сначала пойдет гуща, пропусти оную гущу снова, дабы все стало чисто и приглядно на вид. Для красноты нужно подсыпать немного флора, но еще лучше плеснуть ревенного соку. Тогда, считай, блюдо готово, кушай его вместе с parfait glacé.
У Кристофера в голове звенит: «Первое апреля, первое апреля…»
Черный лазаретный «хорх» о восьми цилиндрах везет его к коменданту концлагеря, к восьмидесятипятилетнему штурмбанфюреру Йогану Фридриху Трампедаху. Рядом сидит доктор Джонсон и удовлетворенно улыбается.
Янис Вридрикис Трампедах, бывший зельник из города Цесиса, магистр фармакологических, оккультных и кулинарных наук, великий чревоугодник и смеситель напитков, сильно запаршивел. Открылось, что проведенный лет пятнадцать назад краткий курс омоложения был чистым обманом, несравненно больше споспешествовало самовнушение и ловко выкрашенные Кристофером Марловым волосы (позднее магистр приобрел соответствующей масти парик), изобретенный ворожеей из села курземских кёныней (вольных людей во все века) укудик и мухи, которые, как выяснилось позже, отнюдь не были местными, а доставленным контрабандным путем испанским товаром. Но сейчас магистра все это мало занимало. В начале войны адъютант, правда, написал генералу Франко письмишко с просьбой прислать штурмбанфюреру килограмм сушеных musca hispanica, но в ту пору великий инквизитор был занят подавлением мятежа в Каталонии и не ответил. «Вот тебе и закадычный друг германцев!» — воскликнул магистр и развел руками…
И глядишь, в возрасте восьмидесяти пяти лет, как это нередко бывает с великими обжорами и пропойцами Трампедах так сдал да измодел, что стал походить на облезлое чучело. Череп лысый, ни одного волоска, нос — слива «Виктория», такой же синий, как до примочек; шея красная, морщинистая, как у индюка. И хотя вместо старого сюртука он обрядился в черный мундир, разукрашенный блестящими пуговицами, золотыми нашивками и знаками СС, напялил на голову высокую и выгнутую кверху фуражку с лакированным козырьком, вид Янис Вридрикис имел прескверный. Лишь старые волчьи глаза из-под козырька злобно посверкивали, когда Джонсон, подведя к коменданту пленника, залихватски щелкнул каблуками и, вышвырнув вперед длань, проорал:
— Кристофер Марлов! Приказ Уриана-Аурехана выполнен: беглец схвачен! Sieg heil!
— Фрид! — пробормотал старец.
Как ни странно, Янис Вридрикис не проявлял никакой радости, лишь тупо глазел и затем обратился к музыканту:
— У меня к вам вопрос: ей там хорошо? Ей там никто не мешает? С маковыми лепестками в лилейной рученьке… Кровь была такой темной… она теперь спит спокойно, это хорошо…
У Кристофера мурашки побежали по спине.
«Старик тронулся в уме, — подумал он. — И такой управляет лагерем?!»
— Разрешите доложить, — вмешался в разговор Джонсон, — я готов начать работу с этим человеком. Прошу разрешения поместить его в изолятор и выделить мне двух помощников.
— Я сам… — бормочет Трампедах.
— То есть как это вы сами? — доктор озадачен. — Мы ведь договорились.
— Можете идти, — говорит старец, — я сам…
— Разрешите, штурмбанфюрер…
— Можете идти! — испускает жуткий каркающий рык Трампедах. — Я сам получу от него все, что мне надо.
— Но вы обещали мне место главного врача. И вознаграждение за поимку, — голос Джонсона стал нежным и вкрадчивым.
— Обещал место? А кто меня выжил из Цесиса? Кто уже украл половину моих рецептов? Кто хочет отхапать еще и «Рагги»? Прочь, болван!
Два эсэсовца схватили доктора и поволокли к двери.
Кристофера заключили в одиночную камеру: в погреб, где раньше хранились овощи, здесь им займется сам комендант. Через небольшое зарешеченное окошко музыкант видел лишь грязные сапоги охранника и слышал стук деревянных башмаков, когда по утрам заключенных гнали на работу, а по вечерам возвращали обратно. Изредка доносились вскрики, видно, конвой колошматил злосчастных узников прикладами и стеками, бывало, раздавалось по выстрелу — это усердствовали эсэсовцы. Атмосфера была адова, но Кристофер находился в привилегированном положении, его не гоняли на работу, а лишь вызывали на допрос, допытывались, откуда он взял поддельные документы, кто помогал? Нельзя было провалить крестную. Музыкант выдумал сказку, что белый билет и карту УК выкрал на базаре у незнакомца (к счастью, в документах не был указан адрес). А болен, дескать, он на самом деле. Показывал рубцы на щеке, груди и спине и начинал кашлять, как только замечал приближающегося охранника.
Кристофер считался особо важным заключенным (так выразился комендант), но в каких преступлениях его обвиняли, никто не знал, видать, то была государственная тайна.
Две недели музыканта не трогали, если не считать охранника, который приносил миску супа и кусок хлеба. Коменданта одолевали другие заботы: надо ловить беглецов, которые ухитрялись пролезть под колючей проволокой и дать деру. А из неметчины шли вести одна хуже другой! Потеряна почти вся приморская область, форсирован Одер и вокруг столицы, в коей укрылся сам Уриан-Аурехан, стягивается кольцо окружения. В плен. Сам в своей стране! Из котла уже никому не выбраться. Только Джонсон смылся, его жалоба на Трампедаха не имела успеха, и сам он еле унес ноги от гестапо. В лагере не хватало продовольствия, охрана дезертировала, эсэсовцы шастали по домам и грабили, Трампедах должен был найти на них управу.
Лишь двадцатого апреля Трампедах вызвал Кристофера на допрос. Комендант шикарно устроился: полы устланы дорогими коврами, на стенах развешаны натюрморты, которые всегда были его слабостью. Рабочий кабинет и квартира помещались рядом, за обеденным столом старец подписывал смертные приговоры и выдумывал пытки. «Я строг, но справедлив», — говорил он себе. Финская баня (с газовым устройством Т-1) была оборудована по его собственному проекту и чертежам, в этом отношении магистр был вершиной аккуратности.
— Итак, ввести заключенного Бессера, сиречь Марлова!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Когда охранник выходит, Трампедах приказывает Кристоферу сесть. Начинает издалека, толкует вокруг да около, о погоде и тому подобное, предлагает сигары.
— Благодарю, я не курю, — отвечает музыкант. — Что вы от меня хотите?
— Девятого мая истекает срок нашего договора, — поясняет магистр. — Я подписался кровью, это верно, но я понял, что вам удалось обвести меня вокруг пальца. Этот омолодитель клеток, эликсир жизни, как вы горда нарекли его, КМ-30 — чистый блеф. Век мой растрачен впустую, пущен по ветру. Что это за сладкая жизнь, которую вы мне будто бы показывали? Где наслаждения, кои вы посулили? Обман, фата-моргана! Даже ту единственную, которую я нашел, — действительно бесценную, — Маргариту и ту вы отняли у меня! Она сама выбрала свою судьбу, но пусть тогда не достанется ни тому, ни другому. Я прекрасно осведомлен, с кем имею дело и кто вас тогда прислал ко мне. Он! Ага! Ишь как перепугался. Я вас в первый же день опознал по козлиному копыту и по рожкам (старец, ей-богу, выжил из ума!). Сообщите Люциферу, что я свою душу забираю обратно, вы оба нарушили договор! Душа мне самому нужна, я решил снова вернуться в лютеранство и поклоняться триединому богу — отцу, сыну и духу святому. Они мне обещают искупление грехов. Поэтому давайте сюда договор! Я не испытываю ни малейшего желания отправляться с вами в… К черту, об авторском праве и не мечтайте!
Старик воистину спятил, то явно была речь помешанного. Считает меня нечистой силой, а сам готовится в рай, жаждет втереться в сонм ангелов, несмотря на все совершенные им гнусодеяния. Чего он так всполошился о душе? В договоре ведь речь шла только об авторском праве. Очевидно, хочет отобрать поваренную книгу. Нет уж, доктор алхимии, оккультных и кулинарных наук, не миновать тебе когтей дьявола. Где найдешь душу чернее твоей?
— Верните свой экземпляр, — говорит Янис Вридрикис, — вот вам мой, и я сей же час отпущу вас на свободу.
— Договора при мне нет, — говорит Кристофер.
(Он вклеил его в папку скоросшивателя вместе с манускриптом, а манускрипт лежит в «Ликайнях».)
— В таком случае скажите, где он: мои люди поедут за ним, привезут, — настаивает Янис Вридрикис.
«Хитрая уловка, — соображает музыкант, — отберут манускрипт, уничтожат договор и заодно обнаружат место, где я до сих пор хоронился…»
— Я забыл. Мне кажется, он остался в Риге, в моей комнате на улице Акас, — отвечает Кристофер.
— Не врите! Вашу комнату проверяли много раз.
— Тогда ума не приложу, куда он подевался, — безразлично отвечает музыкант и начинает рассматривать висящую напротив картину Тидемана «Натюрморт».
— Хорошо! Посидите — вспомните! — Трампедах краснеет от злости и приказывает охраннику убрать наглеца, запереть за семью замками.
«Нечистая сила может явиться в двух видах, — рассуждает магистр, — в человеческом и демоническом. С демоническим мне не справиться, но человеческий полностью в моей власти. Уж я ему истоплю финскую баню! Рябиновый кол в спину всажу, на дыбу вздерну!»
Поистине страшен мог быть Трампедах в гневе.
Кристофера обрекли на голодную смерть. Десять дней музыканту не давали ни есть, ни пить, только через каждые шесть часов осведомлялись, не вспомнил ли он где договор.
— Нет! — кричит Кристофер.
Он уже не держался на ногах, лежал на голой земле в погребе, где раньше хранились овощи, но упрямо твердил: нет! Это был дурной сон, кошмарный бред. Снова Кристофер слышал завывания морской кошки, видел; как летают ведьмы на реактивных колодах, как опускаются на парашютах лемуры, углы кишели циклопами и химерами. Иной раз ему мерещилось, что он Флорестан и лежит в застенках тюрьмы Пизарро, плененный фалангой. И тогда он в страхе звал то Маргариту, то Мери, но они обе давно умерли. Мери Фитон отравилась в возрасте сорока лет и покоилась на кладбище в Джевсворте, оставив двух внебрачных детей от лорда Пембрука.
«Может, вернуть договор и манускрипт, бог с ней, с крестной? Нет, нет, нет! Те времена прошли. Мстители! На меня можете положиться, те времена прошли. Выдержать, только выдержать!» — кричит Кристофер, но он один, никто не слышит.
Вот уже три дня в лагере царит жуткая тишина… Кристофер не ведает, что стража сбежала, заключенные или расстреляны или выбрались из бараков и скрылись, потому что пришла весть — Уриан-Аурехан покончил с собой! Сатанинская комедия окончилась!
Окончилась в хаосе: коричневые, черные и желтые, кинулись спасаться через море на лодочках, долбленках, байдарках и йоллах, а то и просто на плотах. Остался только комендант лагеря Трампедах, потому как сошел с ума. Магистра занимала одна маниакальная мысль: как уберечь душу, которая ему виделась уже в когтях дьявола, то есть Марлова. В то утро Трампедах наконец решился отправить Кристофера в баню и угостить порцией Т-1 (иного выхода он не представлял), но накануне все истопники, все выгребатели золы, а также фельдшеры дали стрекача. Так что магистр лично всю ночь таскал дрова и топил печь. Но в семь часов утра репродуктор на столбе, к которому была прилажена петля для повешения, ожил и изрыгнул умопомрачительную весть:
— Капитуляция! Полная безоговорочная капитуляция. Приказываю сложить оружие!
Янис Вридрикис завизжал как недорезанный кабан. Солнце поднялось довольно высоко, когда бывший комендант лагеря, захватив в сторожке охранников здоровенный ключ, спотыкаясь, как пьяный, направился к овощехранилищу, где в забытьи лежал музыкант и бредил.
Тук-тук…
Кристофер приходит в себя и замечает светлое пятно распахнутых дверей. Словно на экране, освещенный сзади, видится в проеме силуэт огромного паука, его кривые ножки, обтянутые блестящими сапогами, распростертые руки с растопыренными пальцами. Фуражка с лакированным козырьком глубоко надвинута на глаза. Стоит не шевелится…
— Пить… — в полуобмороке шепчет музыкант.
— Встаньте и следуйте за мной, — магистр вытаскивает из внутреннего кармана мундира скляницу. — Получите пить.
Кристофер напрягает последние силы. Приподнимается на колени, держась за мокрые камни стен, встает во весь рост, пошатывается.
— Пить!
Светлое пахучее майское утро. В парке свистят скворцы, поют зяблики, чирикают горобцы, голова кружится.
— Пить!
Янис Вридрикис аккуратно наливает в серебряную стопочку из плоской фляги, он, как всегда, выдерживает стиль: для каждого напитка свой сосуд… Впечатление такое, будто они собираются дегустировать охлажденные пары можжевеловых ягод (Old Dry Gin).
— На здоровье, Кристофер Марлов! Торчком колосок!
— Дай бог мужьям… — Кристофер уже протягивает руку, хочет ответить древнелатышской здравицей, но в это мгновение с неба, с серебристых облаков, из зелени деревьев брызнула музыка, весеннее concerto grosso. Хор дроздов, арфы березовых макушек, а посредине ясно слышится вирджинал Бёрда и голос Маргариты… К нему присоединяется альт — поет Мери Фитон. Звучит дуэт: «O stay and hear your true love’s coming»[26].
Солнечный диск мало-помалу начинает рдеть.
— Маргарита! — зовет Кристофер. Выбивает из рук магистра протянутую ему серебряную стопочку. — Маргарита! Маргарита!
Музыкант падает на траву, она росиста, влажна и сверкает, прижимает губы к серебряным каплям, стряхивает их на ладони, пьет. Маловато, правда, но ему хватает.
Диск солнца налился пурпуром.
Магистр в ужасе смотрит на него.
— Кровь! Это конец! Маргарита мертва.
— Нет, это начало! — кричит Кристофер. — Маргарита жива. Сейчас придут Мстители!
Трампедах быстро наполняет стопочку, безумным взглядом пялится на солнце, которое стало совсем огненным.
— А, — шепчут его побелевшие губы, — я понимаю… Это он. Он идет за мной. Теперь я помню все. Кит! Конец, кажется, был такой: «O, lente, lente currite noctis equi…»[27]. Светила движутся, несется время, пробьют часы, придет за мною дьявол…
«Это монолог знаменитого англичанина Кристофера Марло из «Трагической истории доктора Фауста». Депфортский аббат признает себя побежденным, его охватил страх», — думает Кристофер.
…Вижу, бог
Простер десницу, гневный лик склоняя.
Громады гор, скорей, скорей обрушьтесь
И скройте вы меня от гнева божья!
Нет! Нет!
Мне лучше в бездну ринуться стремглав.
Земля, разверзнись! Нет, меня не примет!
Вы, звезды, зревшие мое рожденье,
Вы, чье влиянье смерть несло и ад,
Умчите Фауста, как легкий дым,
В набухшие утробы грозных туч,
Чтоб их дымящаяся пасть извергла
Мои раздробленные члены в воздух,
Душа же вознеслась бы к небесам[28].
Янис Вридрикис всегда отрицал, что знает поэзию Кристофера Марло. Но то были чистые враки, старый хрыч знал не только поэзию, но и поэта… Как-никак встречались несколько сот лет назад.
Трампедах совершил последнее осознанное движение: поднес серебряную стопочку к губам и опрокинул яд, который сам измыслил, продал коричневым тельницам и тем погубил сотни тысяч жизней. После сего штурмбанфюрер грохнулся на грязную мостовую и остался там лежать раздавленным пауком. Крохотный тощий котенок, неизвестно откуда взявшийся, ластится у Кристоферовых ног. И хотя голова музыканта гудит и трещит и сил почти не осталось, он нагнулся и подобрал пискуна. Божья тварь изголодалась, котенок принялся лизать и покусывать его палец.
— Мне нечем тебя угостить, — сказал музыкант.
Они вышли из лагеря и остановились на обочине дороги, потому что не знали, куда идти. Здешние места Кристоферу были незнакомы. Но тут котенок, а за ним и музыкант повели носом.
— Чуют мои ноздри, что со стороны ельника тянет дымом костра и запахом бараньего жира. Пошли, котик!
Музыкант, прижав к груди маленькие мощи, идет прямо на аромат еды. Через кочки, через канавки. Чем ближе к лесу, тем горше запах дыма и слаще дух стряпни. На опушке стоят советские воины. Молодые ребята в зеленоватых гимнастерках со звездочками на лбу, загорелые, веселые. Завидев Кристофера, кричат:
— Мир! Победа!
А посредине походная кухня — котел на колесах распространяет райское благоухание.
— Иди к нам, отпразднуем день Победы!
Звучат песни, шутки. Не обходится и без гармони.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Кристоферу предложили жестяную миску, полную красноватой похлебки, и буханку хлеба, музыкант не выдержал, вонзил зубы в мякиш. В вареве плавали кусочки жирного мяса с рисом.
Котенку налили в глиняный черепок парного молока: какая-то крестьянка только что притащила ведро утреннего надоя: «Спасибо за мир», — сказала и оставила. Котенок лакал. Кристофер хлебал и закусывал булкой, оба мурлыкали, а загорелые парни смеялись и предлагали еще. Все понимали: гражданин и его кот проголодались. Старшина узнал, что оба явились из овощного подвала, где провели месяц под замком.
— Рубай, рубай, генацвале, хорошо, что жив остался, — говорит повар и все подливает. Кристофер начинает смекать, что похлебка состряпана из шарлотов и баранины, в нее добавлен рис, изрядное количество лаврового листа и красного перца.
Молодой человек накрепко запомнил рецепт и поместил его в третью главу новой поваренной книги, где вы можете найти его под названием могучей кавказской похлебки — харчо.
Так случилось, что cand. pharm. Янис Вридрикис Трампедах, некогда рассудительный зельник и эскулап, потайной врачеватель из города Цесиса, запятнавший последние десять лет своей жизни срамными поступками и гнусностями, заслуживший презрение ближних и наказанный богом, не смог сподобиться искупления грехов своих, ибо, как сказано в Ветхом завете, «кровь можно смыть только кровью, а не вином» (Новый завет, правда, допускает и последнее).
По сей причине меня взяло сомнение: хорошо ли с моей стороны, буде я в своей поваренной книге начну глаголить словами магистра, а также ссылаться на оные. Одначе, когда я изучил более древние труды по этой отрасли, мои опасения улетучились, как дым спорыньи. Оказалось, свою изданную в 1880 году поваренную книгу бесстыжий плагиатор и тать слово в слово списал с оттиснутого в 1790 году сочинения Стефенхагена и Хамана «Переработанное и пополненное поваренное искусство для мызных кухонь (стряпных)». Кажись, из помянутого произведения и пошел в мир сочный латышский язык и цветастый слог изложения.
Получается, что все наставления касательно угощений, искусства накрывать на стол, мудрые советы о том, как сберечь здоровье, а равным образом всякие приспособления для жарки, варки и прочей стряпни (изображенные на картинках) Янис Вридрикис стибрил у Стефенхагена и Хамана, не говоря уже о рецептах, в коих рассказывается о подаче из тушеной говядины, супа из спаржи с имбирем, жаренного на вертеле каплуна с печерицами под гвоздичным соусом и так далее.
Трампедах, будь он жив, наверняка стал бы оправдываться, дескать, он свою книгу назвал пополненной и переработанной поваренной книгой, тем не менее подобные ухищрения не дают никакого права похищать целые главы из опубликованной на сто лет раньше дополненной и переработанной поваренной книги, каковая в свою очередь вполне может быть списана с еще более древней и т. д. и т. п.
Так что, преисполнившись веселья и возликовав духом, я заканчиваю труд своей жизни и могу отныне с преспокойным сердцем дать всякому убедиться, сколь мало я спер у Трампедаха, а равно и у Стефенхагена и Хамана. Ваш одобрительный кивок и улыбка заставляют меня заранее благодарить вас за все, в чем вы со мной согласны, каковое согласие радует меня необыкновенно, ибо я терпеть не могу читателей, которые не разделяют моего мнения.
Микророман в семи частях

В громкоговорителе раздается голос ведущей. Неестественно жесткий и металлический. Ступени из пористого туфа заполнены певцами в пестрых одеждах. Букеты цветов, расшитые бисером веночки. Легкий шелест: развеваются флаги, перешептываются слушатели.
Поднимаюсь на дощатую трибуну, украшенную дубовыми листьями, пахнущую смолой. В который раз? Десятый, а то и сотый. Поднимаюсь уверенно, неторопливо. Не хочу показывать певцам, что робею перед ними. Стараюсь как можно чище задать тон. Услышав тихо звенящий отклик, властно воздеваю руки. Внимание!
Теперь я вижу только глаза… Сотни глаз смотрят на меня: с улыбкой, с глубокой серьезностью, с бесконечным доверием, как на полководца перед боем. Дородные краснощекие женщины, мужчины с загорелыми обветренными лицами; порывистые, восторженные девы с охапками цветов в руках, готовые в любой миг спрыгнуть с возвышения и бежать через эстраду одаривать меня. Старая бабуля с морщинистым челом. Теперь, на досуге, для нее нет больше радости, чем петь. С песней родилась, с песней росла и век прожила; с песней вспоминает молодые дни, наверное, и меня, юного, худенького хорового дирижеришку. Может, еще с того достопамятного праздника песни в Буртниеках, который не состоялся из-за дождя. О нем на следующий день (критик опоздал на автобус) в одной из рижских газет появилась восторженная рецензия.
А в этот раз будет рецензия? Что-то в первых рядах не видать Минги из «Советской молодежи»; прохвост, должно быть, тоже опоздал на автобус. Для меня очень важно напомнить людям, что я еще жив, дирижирую так же, как раньше, даже лучше, и что ни на какой заслуженный отдых идти не собираюсь, как об этом беспрерывно трезвонят охальные юнцы вроде Рамата с Пусбарниеком. С превеликим трудом сделал их мало-мальски сносными дирижерами, полагал, сгодятся для провинции поднимать хоровую культуру, и нате вам! Оказалось, змей подколодных пригрел на груди. Такова жизнь!
Замок начал полыхать с того конца, где покои госпожи. Камердинер Тисэ и горничная-цофе Розмария дают показания: бобыли через выбитое окно бросали внутрь зажженную солому. Занялись портьеры и гардины, затем пламя перекинулось на обои. Какой-то курносый малый орал: «Да сгинет сия юдоль в огне!» Поджигателей они не знают. Накануне в имение приходил председатель волостного революционного комитета Берзинь, с ним был и тот курносый. Спрашивали управляющего Хинценберга. Больше, мол, им ничего неизвестно. Просят господина ротмистра защитить их от лесных братьев: те вчера на дороге пристрелили Виеситеса Лиепиня.
Резкая волна ударяет в голову. Жезл в руке вздрагивает (это затакт). Певцы набирают дыхание (мелодии дайн никогда не начинаются с затакта) и —
Наклоняйся, лес великий, разлетайтесь,
голоса.
Разлетайтесь, го-о-о-лоса!
Эхо исчезает в розовато-серых глыбах туч за речными излучинами Гауи. Темно-синие вершины лесов. Суровая су́зелень дубов. Седоватая патина ельников.
Мелодия донельзя поэтична. Пробирает до слез. Кстати сказать, реву я только от радости, видимо это наследственное. Горе, внезапный гнев в моей нервной системе выбивают предохранители. В такие мгновения я ничего не чувствую, не соображаю. Склероз, наверно… Хорошая кинокомедия, превосходные артисты частенько заставляют меня хлюпать носом. В этом нет ничего постыдного. Знаменитый Вильгельм Фуртвенглер в Зальцбурге, дирижируя «Фиделио», говорят, тоже заплакал. Его слезы заразили солистов, а потом и хор. Когда залился ручьем и оркестр, спектакль пришлось прекратить, поскольку слякоть в глазах мешала музыкантам разглядеть ноты и паузы.
Сводный хор поет положенную мною на голоса «Вереницу дайн»:
Солнце поздно вечерком
В лодку золотую село.
Поутру взошло на небо,
На волнах покинув лодку…
Две мелодические волны с кульминацией посредине. Человеческая печаль. Поклонение природе. В песню надо вслушиваться издали, с большого расстояния — пианиссимо:
Почему так поздно встало,
Где ты, солнце, пропадало?
Знать, за дальними горами
Сирых деток согревало.
У церкви собралась пропасть народу. Все в праздничных одеяниях. Толпа ждала гроб с останками убитого карательной экспедицией Берзиня, чтобы тихо проводить его на Ванагский погост. Из открытых дверей божьего храма лились нежные звуки органа. Пастор что-то читал, но паства не пела. Все до одного столпились перед церковью. Со стороны рощи приближались похоронные подводы. Зазвонил надтреснутый башенный колокол: неестественно металлический звук. Мужчины с угрюмыми лицами обнажили головы.
Песни сирот всего прекрасней. Трагика, суровость старины. Я сейчас единственный, кто обрабатывает длинные, похожие на романсы, мелодии дайн. Рамат с Пусбарниеком бегут от них как черт от ладана. Они художники молодые, современные, им подавай застывшие в пределах двух-трех тонов песни сказителей, голоса руцавских пастухов, топтанье на одном месте. Они страшатся красоты, у них в башке тупость ostinato и пустота квинт. Поколение бигбита! — так они сами себя называют. Но не все же! Вон в сводном хоре: столько же молодых, сколько и старых…
Бросить класс композиции, бросить изучение пастушьего рога и кокле[29], разменять себя на мелочь, уйти головой в поп-музыку, рок и бигбит и черт знает во что еще, спутаться с шайкой бродяг, о боже, о боже!
И почему именно Пич? Мой солнечный, мой талантливый Пич! Чем прогневил я бога, за что именно он? Я не в силах спокойно стоять на подмостках, чувствую — жезл дрожит в пальцах, меня пронизывает острая боль… Фу!
Я старый несчастный человек. Хорошо еще, певцы и певуньи не догадываются об этом. Меня бы подняли на смех, запрезирали…
Ритм чуть-чуть покачнулся. Может, я не показал вступление? Что со мной творится?
Ястребок, куда летишь ты…
Надо было спокойно поговорить… Но попробуй это сделать, когда ты в запале: «Делай что хочешь, ступай куда хочешь! Но чтоб в моем доме ноги твоей больше не было! Убирайся!»
Восковым крылом играя…
Мелодия скользит вниз почти без взмаха крыльев, медленно огибая дугу над серебряной рощей…
Оркестр народных инструментов — это труд всей моей жизни. Реставрирую старинные кокле, пастушьи рожки, оленьи рога, свирели, сопелки, дудочки. Руководил ансамблем народной музыки (до тех пор, пока Пусбарниек не принялся за свои бесстыдные интриги).
Я лечу проведать липы…
Нежный и чувствительный парень. После смерти матери он так привязался ко мне. В двенадцать лет я стал его обучать игре на кокле. Абсолютный слух. Кроме классических и народных мелодий, никакой другой музыкой не интересовался.
Выросли ли пышны ветви?
Когда все это началось, где он откопал этот допотопный саксофон и электрическую гитару? Какие злодеи подкинули ему сии орудия? Кто сказал, что у саксофона такая же аппликатура, как у пастушьего рожка? Почему я не вытравил зло в зародыше?
Когда подводы подъехали к церкви, церковные старосты и пономари подняли гроб на плечи. Под трубные звуки органа вышел старый пастор в берете и в длинной черной ризе. Седой муж дал знак звонарю и встал впереди похоронного шествия. В это мгновение со стороны шоссе показался драгунский эскадрон. Не сдерживая коней, они ринулись прямо в толпу богомольцев. Женщины в смертном страхе бросились кто куда, покидав платочки на обочинах пыльной дороги, мужчины отступили вдоль наружной стены церкви в сад священника. Только один студент из Петербурга в недоумении остался стоять в дверях божьего храма. Начальник «зельбстшуца» кивнул командиру, командир кивнул всадникам, и четверо драгун по команде спрыгнули с коней, подбежали к студенту, приказали вытянуть вперед руки и исхлестали их нагайками. Когда юноша рухнул, драгуны вскочили на коней и помчались в Пилсмуйжу.
Позже стало известно, что студент был не кто иной, как сын перминдера — церковного старосты Широна из хутора «Ванаги». Эва! — тот самый, который против воли отца уехал в Петербург учиться играть на скрипке. Теперь с этой цыганской потехой для него было покончено раз и навсегда: левая рука что тряпка, некоторых пальцев, говорят, тоже не досчитался. Так вот случается, когда не слушаешься отцовского совета: оставляешь богатый деревенский дом, где так славно можно было бы похозяйничать…
Allegro giocoso. Теперь смена ритма, внезапное вступление басов:
Быстро, быстро катит речка…
Сотни певцов слились в одно. Я умею вдохновить, разжечь страсть. Показываю губами, что пою вместе со всеми. Глазами подбадриваю; правой рукой приказываю, левой прошу (в молодости говорили — левой охватываю).
Я колол дрова на камне,
Раздувал костер в речушке,
Грейтесь, грейтесь, злые люди,
Кто добра мне не желал.
Это имеет прямое отношение к Пусбарниеку и Рамату. Свистнули у меня самые выигрышные и выгодные песни для сегодняшнего концерта. Себе оттяпали. Рамат дирижировал «Замком света». Певицы десять минут его чествовали, благодарили, осыпали цветами. Мужчины качали, на голову нахлобучили дубовый венок: за что? За то, что темп растягивал и неправильно показывал вступления! Разве так исполняют классику? Я бы интерпретировал ее совершенно иначе. Куда смотрела праздничная комиссия, почему не предложила «Замок света» и «Иванов вечер» мне?
Боль прокалывает ладонь левой руки. Среднего пальца там нет… Может, из меня вышел бы скрипач? Однако после того случая осталась лишь карьера дирижера, кокле и пастуший рог, раз, два, три, четыре —
Овцы блеяли за речкой,
Стары девы голосили…
Слушателям нравятся слова про старых дев и холостяков. Что-что, но в этом отношении у них ушки на макушке, умеют оценить музыкальный юмор. Будут аплодисменты, будут, охапка цветов тоже обеспечена, также и неизбежный дубовый венок. А если только приличия ради? На праздничных афишах напечатано: почетный главный дирижер Теодор Широн. Почетный главный дирижер! Не само собой разумеющийся, не штатный или номенклатурный главный дирижер, а старший, которому в последний раз оказывают честь… Надо полагать, и качать захотят — подбрасывать в воздух, сопровождая каждый взлет криками «ура»? Мой солидный возраст такого обращения не позволяет. Где-то однажды случилось, что юбиляр выскользнул из рук чествовавших и, ударившись о каменный пол, сломал себе хребет.
Овцы блеют, просят сена,
Молодого парня — девы…
Яркие вспышки фотоаппарата слева и справа… Древнелатышская борода бегает вокруг да около, приглядывается. Следит за движением рук, осанкой, выражением лица. Явно ждет какой-нибудь нелепой позы… Начинаю нервничать. Борода ищет типажи, особенные экземпляры для своей фотовыставки. Публика еще помнит портрет одного знаменитого режиссера, выставленного с подписью «Старый отчаявшийся нищий»… Чем я этого фотоартиста так заинтересовал? Никак для альбома ветеранов старается — «Последний праздник песни Теодора Широна». Нет уж!
Никогда!
Бросаю на фотографа устрашающий взор. Такой взор способен испепелить сто белых лошадей… Древнелатышская борода приходит в неописуемый восторг, щелкает затвором. Вот тебе раз!
Песня заканчивается в тональности фа мажор, притормаживая на двух цезурах:
Овцам сена принесли,
Девок парни обошли.
Широким взмахом руки изображаю фермату, выдерживаю и быстро обрываю. Эффектно!
— Конец первой части! — произносит в громкоговорителе знакомый металлический голос. Слушатели встают, приветствуют меня. Мою голову украшает пышный дубовый венок.
— Качать будем? — бережно осведомляется один деревенский житель.
— Да не стоит, — отвечаю, — на сей раз лучше не надо…
Нужно решить, что делать. Прибежали Отынь с Лелде и принесли жуткую весть: наш ансамбль «Риторнел» ликвидирован. Сидим и дымим: одна сигарета за другой. Воздух до того сперт, что нечем дышать. Отынь хочет открыть ставни, но я в последний миг успеваю его остановить: окно выходит во двор, а на противоположной стороне спит папа. Он не выносит моего магнитофона, иными словами — магнитофон не выносит его. Лелде только что поставила «Rolling Stones». Эта музыка не успокаивает, наоборот — будоражит. А мы и не хотим успокаиваться! Пойду сварю двойной кофе, мои нервы вибрируют, как струны. Вдруг придет Пинкулис, подбросит дельный совет?
— Это из теории относительности, — говорит Отынь. — Сперва нужно решить самим.
Отынь и Лелде мои сокурсники по консерватории. Дезертиры. Такие же, как я. Отынь перешел на ударные инструменты. Лелде кончила по музыковедению. Теперь поет в микрофон и играет на бас-гитаре. Занятная комбинация, не правда ли?
Среди рижской молодежи наш «Риторнел» пользуется невиданным успехом, в то время как старикам он словно бельмо в глазу. Особенно классикам из консерватории, в том числе и моему папе. Долгое время ни один клуб, ни один Дом народного творчества не осмеливался оформить нас в законном порядке, мы были левым товаром (ну и терминология, скажу я!). Когда наконец над «Риторнелом» сжалился наш почитатель, руководитель Дома культуры из села Лапсуцием, принял под крыло своего заведения и под названием «Эстрадный ансамбль Гауйских заливов» внес в официальный список желающих участвовать в конкурсе на большой приз на фестивале рока в Кишиневе, то предок Лелде, директор какого-то рижского завода, и мой папа, профессор консерватории, устроили неслыханный скандал в районном масштабе. Вот и добились, что с сегодняшнего дня «Риторнел» ликвидирован, а руководителю Дома культуры объявлен строгий выговор за грубые ошибки, допущенные в эстетическом воспитании молодежи.
Ликвидирован с двадцать четвертого мая, прямо с сегодняшнего дня, когда мы должны двинуться в путь, чтобы успеть на конкурс.
Утром отец Лелде просто-напросто запер дочь в ее комнате на даче в Стирнасраге. Это бы еще полбеды: в узилище оказался телефон. Через час Отынь помог Лелде спуститься из окна и привез к себе. Лелде оставила записку, что навсегда покидает отцовский кров, дабы посвятить себя искусству и соединить судьбу с Отынем.
А мой папа из соседней комнаты прислал ультиматум в письменном виде (мы уже неделю, как не разговариваем): 1) в течение трех дней вернуться в консерваторию; 2) подготовиться к государственным экзаменам.
Ха! Ха-ха!
Отынь сам себе хозяин, ни от кого не зависит. Мать работает на колхозном рынке, делами сына не интересуется. Он кое-что подрабатывает, играя в ресторане. И вообще потребности у Отыня невелики: ему достаточно, чтобы был кофе, сигареты и общество художников. Это не значит, что Отынь пишет картины. Нет, картины он покупает и продает. Бизнес это или нет, сказать не берусь, только без картин и художников Отыня нельзя представить. Именно он привел ко мне Пинкулиса, этого своеобразного художника и богатыря духа, который напрочь изменил мои взгляды на жизнь и искусство.
Кофе готов и, когда я захожу с ним в комнату, Отынь говорит:
— Сын мой, соберись с мыслями!
Чтобы собраться, я должен импровизировать, поэтому выключаю «Rolling Stones» и сажусь за старый добрый «Блютнер».
Глубокий тон в контроктаве, нажимаю и держу педаль… только один звук… дун… дун… долго…
Лелде не выдерживает, распахивает окно и выбрасывает сигарету.
— Это что, проспект Сигулды? — спрашивает она.
— Нет, улица Порука… Ну и вопросы у тебя дурацкие!
Когда импровизируешь, включается комплекс спинного мозга, правда, это или нет, не знаю, но я могу не задумываясь сказать: которая главная партия, которая побочная. Решения ворочаются как змеи, тщатся сбросить старую кожу, но не могут…
— Нужно ехать! — говорит Отынь и встает. — Бас-гитара здесь, как с деньгами?
— О деньгах нечего и говорить, нету!
— У меня есть тридцать семь рублей пятьдесят копеек! — после долгого копания в расшитом бисером кошельке объявляет Лелде. (Ну и видик у нее! Макси-платье со всевозможными висюльками на подоле, босые ноги, волосы распущены. Потрясная девица!)
В кустах за окном показывается костлявая рука. Выныривает косматый чуб и вслед за ним черная бородка.
— Пич, как на горизонте? Чисто?
Это Пинкулис. Он боится папы. Всегда проверяет, нет ли в коридоре профессора.
— Чисто. Заходи!
Пинкулис влезает в окно. Он на удивление трезв.
— Художник Екаб Пинкулис собственной персоной, — говорит он с поклоном.
Оригинальный мужик, превосходный художник, но безнадежно травмированный человек. Страдает комплексом обид. Раньше, когда выставочное жюри постоянно отвергало его сверхсмелые полотна, Пинкулис чувствовал себя великолепно. Вкушал сладкую славу непризнанного гения, устраивал в моих комнатах «частные» выставки, заносился сверх всякой меры. Теперь же, когда его признали и разрешают свободно выставляться, оказалось: молодые куда модней, абстрактней и смелей его. Пинкулис обмяк, как проколотый воздушный шар. Мне его жаль, он действительно большой художник. Теперь он включился в борьбу молодых смельчаков за поп-музыку. Никто не ведает, как ему удалось опубликовать гневную статью против Бетховенов и ему подобных. Пинкулис в ней предрекал наступление эры бигбита и превозносил «Риторнел». С этого шага он снова сделался главой и теоретиком рижского авангарда, получил десятки уничтожающих ответных статей, но стоит скалой за наши идеалы. Должен признаться, что, несмотря на его человеческие слабости, я Пинкулиса очень люблю. Об искусстве он, правда, говорит только парадоксами, причем городит их в шесть этажей, зато картины его — блеск, это признают все. Из упрямства он нигде больше не выставляется…
— Так! — цедит Пинкулис. — Ликвидированы? Руки в кандалах? Во рту кляп?!!
— Каждый может погореть, кто первый раз с трубкой на крыше сидит, — говорит Отынь. — Прикажешь демонстрацию устроить, консерваторию поджечь?
— Не время шутить! — грозно осаживает его Пинкулис. — Вы должны поехать на фестиваль, и баста!
— Никак, ты оплатишь дорожные расходы?
— Не исключено… Отынь, за сколько ты можешь их толкнуть? — Пинкулис показывает на стену, где висят два подаренных им натюрморта.
— Сегодня я ничего не могу толкнуть. Нужно ехать немедленно или никогда.
— На поезде или самолете нам нельзя, — вставляю я. — Лелде в списке разыскиваемых лиц. Отец наверняка уже заявил в милицию.
— Скверная история!
— Гм, да…
Так мы просидели до полуночи, голова к голове. Затем Пинкулис пожелал нам попутного ветра и удалился, а мы трое немножко вздремнули. Жребий брошен: смелому принадлежит мир!
Рано утром мы вышли к месту сбора на Баусском шоссе. В джинсах, увешанные инструментами. Было прохладно. Лелде тряслась, она была босиком и мерзла. После недолгого ожидания нас подобрали две «Колхиды», они-де едут в Минск.
— Это в ту сторону, куда нам надо? — озабоченно спрашивает Лелде.
— Как можно задавать такие глупые вопросы, ты что, совсем географию не учила? — сердится Отынь.
Вскоре нам захотелось есть: мы как-то не подумали, что нужно взять с собой хотя бы кусок хлеба. Шоферы торопились и у магазинов, где можно было бы чего-нибудь купить, не останавливались. Поэтому в Минске мы первым делом пошли на станцию и как следует заправились. Лелде потом нам поставила бутылку шампанского и «Мишек на севере». Восторг был полный: мы свободны, и старики уже не в силах помешать, руки не достают. И посему нечего жмотничать, дальше едем на поезде!
Когда Лелде пересчитала деньги в кошельке, там оказалось только тринадцать рублей и пять копеек. На один билет хватало… Отынь сказал: пусть едет моя госпожа! А мы попробуем иным способом… Госпожа, однако, отказалась. Договорились держаться вместе и пробираться в Кишинев «с плацкартой» (что на нашем языке означало зайцем. Таким манером мы уже однажды прокатились в Таллин слушать трио Оскара Питерсона). Сейчас мы терпеливо сносили все несправедливости: контролеры беспрерывно нас облаивали, прогоняли со ступенек и платформ, один раз даже пригрозили отвести в милицию. Но так и не повели, наверное, пожалели, потому что выглядели мы весьма плачевно. Прокопченные и изможденные, мы прикатили в славный и желанный град, имя коему Кишинев. Как говорится, полдела было сделано.
Слава богу, грозный запрет из Дома культуры села Лапсуцием сюда еще не поступил. В списке черным по белому стояло: «Эстрадный ансамбль Гауйских заливов», художественный руководитель Петерис Широн.
Нам выделили две комнаты в шикарной гостинице: госпоже одну, нам с Отынем вторую. Завтрак, обед и ужин по талонам. Слегка ополоснув физиономии, кое-как почистив одежду (мыла и щеток у нас не было), мы отправились искать фестиваль. Обнаружили его неподалеку от города, посредине большого парка. Вокруг эстрады под открытым небом, расположившись лагерем, лежали, полеживали, сидели на корточках и просто сидели сотни парней и девиц. Повеяло знакомым сладковатым запахом парусины и немытой плоти. Уже с первых «чао!» мы поняли, что находимся среди братьев и сестер, все были наши — поколение бигбита! В таких же светло-голубых жеваных джинсах. Поджарые, за неимением кишечника особи. Мелькали оголенные спины, мохеровые кофты внакидку, рукава, завязанные узлом на шее. Пояса, застегнутые на последнюю дырку и печально повисшие над ширинкой. Грустные бородатые лица, глаза страдальцев, — святые нашего века. Голодные, с двумя рублями в кармане, назло папочкам и мамочкам, которые в это время загорали на морских пляжах и сгоняли жиры. Это наше поколение! Хорошее ли, плохое ли, но наше. Оно не охотится за добром, которое травит моль и ржа, но говорит: смотрите на цветы в поле! Они не едят, не пьют, а цветут ярко-ярко, наполняя долину Хеброна сладким благоуханием.
Нам достался несчастный № 1, но нас успокаивали: первый тур всего лишь отбор. Отынь установил микрофон и усилители, расставил полукругом piatti, tamburo, piccolo, bongo и тамтамы. Мы были вынуждены выступить без репетиции, без предварительной подготовки. Может, это и к лучшему? На площади воинственное настроение: все или ничего!
Голос ведущей объявил в громкоговоритель состав жюри. При виде комиссии, появившейся на трибуне, нас проняла дрожь: две озабоченные гражданки в одинаковых светло-серых костюмах, трое статных мужчин в снежно-белых нейлоновых рубашках с модными галстуками и в довершение всего двое папаш в соломенных шляпах и бабочках, каковые носили в тридцатых годах. Общий вид компании не сулил ничего хорошего.
Затем ведущая объявила в микрофон:
— «Эстрадный ансамбль Гауйских заливов». Художественный руководитель Петерис Широн.
Одобрительные свистки, доброжелательные «чао!».
Эстрада окружена живой стеной. Зрители облепили рампу. Какого-то бородача с бусами на шее ребята подняли на закукры и посадили на край возвышения. Целая толпа сидит прямо у наших ног. Черные глаза так и блестят. Ясное дело, эти разбираются в жанре: призна́ют годными — освистают, не понравится — встретят молчанием. Тут не до шуток.
Берем гитары. Лелде босиком и с bassetto под мышкой выходит, прилаживает микрофон. Отынь ударяет в piatti, начинает громыхать тамтамами.
Фантазия на тему «Superstar».
Короткие, монотонные удары бита: метрономически пульсирующее вступление, импровизация — блюз. Из нижнего регистра бас-гитары, лениво вихляя, поднимается диатоническая тема — грегорианский хорал. Пока это только силуэт, всего лишь набросок.
На полу эстрады, почти у моих ног, сверкая серьгами, сидит девушка в красном сарафане. Глаза черные, блестящие, как антрацит. Я заметил ее еще в самом начале.
Бас-гитара Лелде бьется в ритме рока. Стресс трех голосов в высоком регистре над фоном гитар. Отынь импровизирует на бонго и тамтаме, скрюченный, спина горбом, точно сидит на иголках (взмывает волна первых аплодисментов), — Santa Maria del Fiore. Грегорианский псалом звучит как passo diable. Лицом к лицу Иосиф и Мария в голубых джинсах. Рубашечки нынче носят коротенькие… Santa Maria del Fiore танцует. В полумраке. Припадая на колени, корчась в судорогах, барабаня голыми пятками по полу, притопывая. Это творит свое соло бас-гитара (аплодисменты).
Девушка с антрацитовыми глазами улыбнулась. Она косит, и на чулке у нее дырка… Но к волосам приколота красная роза.
Мировой рекорд принадлежит Фреду Харперу и Джейне Ли: три раза по двадцать четыре часа без остановки: лицом к лицу.
Тремоландо и резкий фальцет голосов. Близится оргазм, буйствует бонго и тамтам. Апокалипсис!
Когда замирает последний аккорд, слушателей охватывает шок. А-а-а! Девушки и парни нечеловеческими голосами визжат и кричат, лупят по краю эстрады, швыряют в воздух пиджаки… А-а-а!
А черная, с розой в волосах, испарилась…
Жюри не осмелилось пикнуть против сбесившейся толпы. Их бы тут же расщепили на молекулы и атомы, как выразился один физик.
Все следующие дни мы пребывали в центре внимания. С нами хотели познакомиться, пожать руку, выразить признание. Мы, дескать, высший класс. Эти ребята вовсе не были такими дикарями, как могло показаться с первого взгляда. Познакомившись, мы узнали, что среди них есть и математики, и физики, и архитекторы, и лирики, одни — бывшие, другие — выдохшиеся. Большие спецы по джазу и року. Говорили только чересчур заумно, чтобы все можно было принять за чистую монету, однако похвала всегда бальзам, кто бы ее ни произносил.
На второй день, когда мы пришли на репетицию и начали отрабатывать программу, снова объявилась черная с розой в волосах. Сейчас на ней был накинут зеленый платок с бахромой, а дырка на чулках заштопана. Она сидела как изваяние, пока мы не кончили репетировать, а когда спускались вниз с эстрады и собирались домой, подошла ко мне и сказала:
— Эй, мумия, ты мне нравишься!
Сообщив это, она убежала.
Отынь и Лелде целый день потешались: любовь на восточный манер!
Я, призна́юсь, стал как-то странно себя чувствовать. Только и делал, что думал о девице в зеленом платке. Она, правда, косила немного, но, пожалуй, именно поэтому у нее и был такой зазывно таинственный взгляд.
На концерте она снова была тут как тут. С целой оравой провожатых. Пестрая и необузданная компания. Но едва начались выступления, все словно обмерли. Я непрестанно ощущал обращенный на меня взгляд. Стоило мне поднять глаза, как она тотчас кивала и улыбалась. Черт подери, что со мной творится!
На третий вечер после концерта и вручения призов девушка подошла ко мне, запросто взяла за руку и потащила с собой.
— Пошли! — приказала она. — Отчепись от этих чучел и пошли со мной!
Я упирался, бубнил, что не один, должен дождаться Отыня и Лелде, они не будут знать, куда я делся. Черная рассвирепела и… (очень грубо, очень, очень грубо!) отрезала: пусть те двое катятся каждый на свой горшок.
Ну, прямо как поленом огрела! Я не привык к подобным выражениям, мой папа сроду не употреблял ничего подобного, поэтому, я решил, нужно отвязаться.
Без всяких церемоний повернулся к ней спиной и, разыскав Лелде с Отынем, потопал в гостиницу. Но черная, оказывается, двинулась за нами следом, и, когда мы с Отынем вошли в свой номер, из вестибюля уже звонили по телефону и требовали, чтобы тот, который с гитарой, спустился вниз.
Что мне оставалось делать? Отынь подначивал: ступай, не будь дураком. Это же приключенческий рассказ, сюжет отвезешь в Лиелупе и подаришь Айвару, он падок на такие штучки. Подумать: любовь на восточный манер!
О боже, если б я знал, сколько горя, сколько отчаяния принесет мне эта девушка, я бы не послушал ни Отыня, ни проснувшейся жажды приключений — заперся бы в номере гостиницы и снял телефонную трубку.
Увы, я слишком бесхарактерен. Проверив в зеркале, как выгляжу, я спустился в вестибюль, где она ждала.
Черноглазая повела меня к своему брату Грингле на окраину города. Грингле принадлежал домик с виноградником. Очевидно, здесь жила и она: брат ее содержал.
Не моргнув глазом, она представила меня как своего жениха, который приехал за ней с далекого севера. Пришли, мол, попрощаться.
Грингла на радостях выставил на стол лучшие вина, выпил со мной на брудершафт и начал без передыху нахваливать моих родителей. Возражать не давал, только выпивать да закусывать ранней молдавской вишней с орехами. Вскоре он окосел.
Когда Гринглу окончательно развезло и он смылся, я остался у нее ночевать.
Это было мое первое приключение, моя первая ночь любви. Я не в состоянии выразить это счастье словами, лишь музыкой — спеть в песне. Тогда мой восторг стал бы чист и прозрачен, как кастальский родник, вся физиология, весь мусор осели бы на дно.
Я люблю тебя! Я импровизирую тебе adagio на гитаре. Спи, нежная! Я импровизирую canto amore и благодарю чудо, которое мне прислало тебя.
Ты дышишь глубоко и чисто, над твоей бровью бледнеет шрамик… Почему у тебя такое темное лицо и волосы блестят словно бархат?
Тут она открывает глаза, начинает потягиваться и зевать.
— Как тебя зовут? — спрашиваю я.
— Меня, что ли? Сонэла. А тебя?
— Пич.
— Пичо, Пичо! — она начинает хохотать как безумная. — Это же собачья кличка! У тебя нет чего-нибудь покурить?
Я обижен. Пробую объяснить, что Пич — то же самое, что Петерис.
— Нет, никакой не Петро, ты есть и останешься моим Пичо, говна-пирога!
Выражения у нее кошмарные… ну, как-нибудь привыкну.
Высказавшись, Сонэла обвивается вокруг меня, как змея, зажимает между ногами мое колено и пытается вытолкнуть из постели. Это ей не удается.
— Ты — колдунья, ты меня околдовала, — шепчу. — Твои волосы как бархат…
— Нет, как паутина, — отвечает она. — Я кешалия, а ты джунклануш, это значит — собачья голова. Пичо — собачья голова! Ну, ищи свою лесную деву кешалию! Ну, ищи, ищи… Кешалии — дочери Анэ, зимой они спят в пещерах среди скал или в дуплах деревьев и видят сны. Весной их будят кукушки. Тогда кешалии начинают летать по воздуху на паутинах. А джунклануш гонится за ними и ищет. Пичо, ищи меня, ищи! Еще, еще… ман лаксав (я стесняюсь), суно шеро дукалла (у меня болит голова), но ищи, ищи! О курлендарис, о курлендарис, вэла енгелен паше (о, курземцы, о, курземцы, вы прямо ангелы).
Мы смеялись, целовались, были счастливы сверх меры. Я ударился в хвастовство: начал расписывать Сонэле наш особняк в Межапарке.
— У тебя там будет отдельная комната. Экономка Матильда по утрам будет подавать в постель кофе с пирожками.
Рассказывал о богатом папе-профессоре; лгал, что мне лично принадлежит «Москвич». Мы на нем поедем в свадебное путешествие в Крым. Теперь, когда «Риторнел» завоевал большой приз, нас пригласят в филармонию. Если там начнут придираться, мы перейдем на радио. Когда там тоже начнут придираться, вернемся обратно в филармонию: словом, будем водить этих стариков за нос.
— У тебя действительно есть «Москвич»? — словно не веря, спрашивает Сонэла.
— Ей-богу. (Бога нет.)
Тут она принимается целовать мне лоб, руки. Я не позволяю, мы начинаем бороться и возимся до тех нор, пока, усталые, не валимся на подушки.
Они шли потные, покрытые пылью, по сухой вырубке: тропинка затерялась, брели наугад. Впереди из марева вынырнула лесистая возвышенность Заречья. Это должно быть там, за Гауей, сказал Пинкулис, великий знаток лесных троп. Они-де выйдут прямо туда, если только успеют, когда солнце начнет клониться к вечеру. Пич смахнул пот, капавший ему в бороду, отчего нестерпимо зудел подбородок. («Я вынослив, как лошадь», — сказал он сам себе и прибавил шагу.) Его друг, топавший сзади в дырявых башмаках, признался, что устал и ему еще утром хотелось опрокинуть стакан пива.
Не будь он так оборван и помят, Пинкулис мог бы на первый взгляд сойти за испанского гранда. Острая черная бородка, седоватые вихры, благородный орлиный нос. Одет в красно-зеленую пеструю кофту и в парусиновые брюки. О них он в минуту необходимости вытирал вымоченные кисти, потому как по природе был художником, а по профессии — бродягой. Шесть семестров провел он в Академии художеств. После чего был отчислен за аморальный образ жизни (какой именно, он уточнять не любил).
— Ты увидишь: нас примут как долгожданных гостей. Накормят, обстирают, обштопают, — говорит Пинкулис. — Я целыми месяцами жил у них в клетушке, которую банный барин построил из круглых бревен у озера на берегу залива. Там совершенно потрясающие виды, готовые пейзажи. С утра просыпаюсь, гляну в одно окно: Пурвит… бррр! Гляну в другое: меня приветствует Петер Упит… Брошу взгляд на воду: Эдуард Калнынь, мой любимый, дорогой профессор! А на чердаке имеется мастерская, специально оборудованная для художников: этакое обшитое лакированными сосновыми досками ателье. Мансарда на Монмартре. Я там устраивал все свои персональные выставки начиная с шестьдесят первого года, когда мои картины перестали где-либо принимать. Банный барин — это покровитель и благодетель искусств. Хотя сам он всего лишь простой колхозный столяр и каменщик, но, знаешь, он теперь зарабатывает будь здоров, может себе позволить и не то. В конце концов это его долг… Тебе, конечно, больше всего обрадуется хозяйка, она прямо помешана на музыке и актерах. Внизу, в гостиной, у них небольшая сценка. На иванов день приезжают молодые поэты, у кого жены актрисы. Сегодня ты им дашь домашний концерт, расскажешь, как тебя принимали в Кишиневе, как ты завоевал гран при. И я готов накласть себе в шляпу, если они не пригласят тебя пожить месяц в замке искусств, то бишь в клетушке.
(«Но Сонэла? Куда я дену Сонэлу?» — вытирая пот, думает Пич и тяжко вздыхает. О Сонэле он Пинкулису еще ничего не говорил.)
— Профессор Широн, поди, уже давно тебя ищет, — прищурив глаз, говорит Пинкулис, — ты в списке разыскиваемых лиц так же, как Лелде. Не бойся, здесь ты будешь в безопасности.
— Меня не ищут, — говорит Пич. — Папа слишком осторожен, чтобы выносить семейный сор за порог. Он всегда был моим добрым пастырем. «Господь веди за руку» — чао! То, что ему пришлось хлопотать, чтобы меня зачислили обратно на первый курс, а я в консерватории даже не появился и уехал на фестиваль, огорчило его только из соображений престижа. Сынок, которому исподволь, терпеливо и тихо готовилось тепленькое местечко (по линии пастушьих рожков и сопелок), вдруг отказывается. Подумать только! Отец, видно, рассчитывал, что потом в художественном совете консерватории я всю эту отвратную шарагу буду подпирать плечом!
— Ты мне нравишься, Пич! Ты боец с большого Б! Твой ведь в молодости тоже, говорят, за что-то с кем-то боролся.
— Драгуны у церкви покалечили руку ему. Но о революции не помню, чтобы он когда-нибудь упоминал.
— Жизнь сложная штука, Пич!
— Почему сложная? Нужно лишь постараться избавиться от того, что превращает человека в халтурщика и потребителя. Меня не интересует ни карьера, ни доходы, ни удобства. Дайте мне мою гитару, мой рояль и оставьте меня в покое. Не мешайте создавать музыку, и я буду наверху блаженства. Позвольте мне только работать, писать партитуры!
— Работать! — возмущенно восклицает Пинкулис. — Пич, не тем языком говоришь. Труд унижает человека. Где только возможно, нужно избегать бессмысленной работы.
— Ты ведь тоже работаешь в живописи? — смеется Пич.
— Работаю? Живопись — это не труд, а удовольствие. Если б это был труд, я бы давно ее бросил. Живопись значит — выплеснуться! Выплеснуться в одно мгновение. Интуитивно. Схватить цветовую визию. Импульсы, которые настолько коротки, что единицами времени их просто нельзя измерить. Они длятся сотые доли секунды. Импульсы — это атомы, из коих возникают молекулы — картины, это не я придумал, так сказал какой-то знаменитый режиссер по поводу стихов и пьес. С музыкой то же самое, я в ней ориентируюсь так же хорошо, как и ты, не исключено, что лучше, ты не смейся! Партитуры никому не нужны! Какой авангардист пишет сегодня партитуры? Набрасывает диаграмму — и все. Зачем гитаристу знать ноты? Ну, я скажу так: можно, конечно, знать, хуже не будет… Но не это решает. Главное — стиль, хватка, импровизация… Стиль… Слушай, Пич, у тебя нет с собой карандаша? Как бы не забыть: стиль, хватка, импровизация! — великолепно сказано. Техническая революция в искусстве без пролития крови! — Последние слова знаменитый художник изрек, взбираясь на крутую, поросшую могучим еловым бором гору. Ноги увязали в толстом мху и скользили. Он тащился, запыхавшись, тяжело дыша, ящик с красками болтался и бил по спине, в гневе он чуть было не зашвырнул его куда попало, но когда вскарабкался и увидел тенистую полянку, вздохнул.
— Давай приляжем, Пич, и покурим, — сказал он. — Тут прохладно, приятно.
Так они сидели. Наконец Пич нерешительно заговорил:
— Знаешь, я тебе не все рассказал о Кишиневе… у меня там была одна девушка.
Пинкулис сморщил нос.
— Ну и что? Какое мне дело до твоих девушек? Кто покупает, тот и платит.
— Скажи, как мне теперь быть с ней?
— А зачем тебе «как-то быть»?
— Ну, я имею в виду — куда мне ее девать?
— Чудеса! Напиши в Кишинев, передай привет от меня.
— Она уже не в Кишиневе. Приехала со мной.
Пинкулис подпрыгнул, словно в его портки залез муравей, аж бородка дернулась.
— Чокнутый! Привез с собой! Из Кишинева! Притащил?
— Не привез и не притащил, а она сама приехала. Сказала: не могу без тебя жить, покончу с собой, еду — и все!
— О боже, о боже: местных не хватает, нужно еще из Кишинева доставать! — застонал Пинкулис. — Так где же она?
— Временно остановилась у своих родичей в Цесисе. Мне ее некуда девать… Она цыганка.
— Цыганка! И что старик говорит?
— Папа еще не знает… Страшно зол, что я отказался сдавать экзамены и против его воли уехал на фестиваль рока. По возвращении спустя несколько дней я наведался в Межапарк. Хотел поговорить с ним по душам. Сказал, что никогда в жизни не пойду по его стопам, не буду учить детей играть на кокле и сопелках, меня это не интересует. У меня совсем другие идеалы в искусстве, я отрицаю старое, застывшее. Предлагал мирное сосуществование. В Межапарке, ты знаешь, у нас очень большая квартира. У меня одного две комнаты со стороны двора с отдельным входом. Сказал, что я намерен жениться и категорически требую, чтобы он разрешил моей девушке жить у меня.
Папа позеленел от злости. Стал кричать, чтобы я навсегда убрался вон из его дома и моей ноги там больше не было. Он отказывается от меня, будь я проклят. Ну прямо как в старые добрые времена. Я, конечно, мог настоять на том, что жилплощади никто у меня отобрать не может, а папа один занимает слишком большую квартиру, в то время как многим молодым людям в Риге негде приткнуться. Но потом вспомнил брата. Таливалдис женился и остался жить у нас. Папа ходил королем: вмешивался в их семейные дела и порядки, стал скандалить и терроризировать Лигу — жену Талиса. Не прошло и полгода, как оба они смотались.
Вот тебе, Пинкулис, родительская любовь. Раньше, когда я верил на слово, папа сентиментально хлюпал носом и при гостях рассказывал, что младший, Пич — его любимый сын, потому что вырос почти без матери. Он ближе его сердцу, чем старший — Таливалдис. Лицемерие — вторая натура отца…
Я ни слова не сказал в ответ — ушел из дома навсегда. Даже своих книг и нот не забрал с собой, а вещей у меня никаких нет… О себе не говорю, но что мне делать с девушкой?
— Ну, если ты не знаешь, что делают с девушками, позови меня.
— Будешь распускать язык, получишь по морде! — вскрикнул Пич. — Я-то думал: с другом советуюсь.
— Я тебе не друг, я слишком стар, чтобы с тобой дружить, заруби себе на носу! Скорей, учитель… Гм… мда… Как тебе удалось спровадить ее в Цесис?
— О моем разговоре с папой она не знает. Соврал, что в Межапарке ремонт, а отец на «Москвиче» уехал в Сочи. Уговорил неделю-другую пожить у родичей в Цесисе. У мужниного брата ее крестной на улице Ливу дом.
— Ну тогда иди туда примаком… Как эту девчонку зовут?
— Сонэла.
— Марцинкевич?
— Нет… Почему ты так решил? Она Козловская. Марцинкевичем зовут мужниного брата крестной. Может, слыхал. Это знаменитый Венэл Марцинкевич — Курлендарис.
— Неплохо, я смотрю, ты изучил свою родню… Если ты хочешь моего совета, то я тебе скажу: не бери в голову. Исчезни, сгинь! Через неделю она уедет туда, откуда явилась.
Пич молча отвернулся. Впервые за все время знакомства Пинкулис вызвал у него отвращение. Трусливо бросить Сонэлу, перед этим наобещав ей с три короба, поклявшись в любви?! Нет, так низко Пич еще не пал. Если поверить Пинкулису, то в доме, к которому они сейчас держали путь, можно снять угол. Они с Сонэлой переберутся туда. Проведут там хоть конец лета, какое это будет счастье!
— Вставай, Пич, пошли! — говорит Пинкулис. Чует, ляпнул что-то не то, голос звучит виновато: кто знает, вдруг пацан в самом деле втюрился? Не дай бог, ребенка сделал; беда, она нагрянет и не спросит.
Вскоре они нашли нужную тропу, то была проложенная зимой колея лесорубов. Пинкулис сообразил, где находится и в какую сторону надо идти, после чего его занимал лишь один вопрос: осталось ли после иванова дня у банного барина пиво в бочке?
Прошагав еще немного, они вышли из леса. Тропа закончилась в вырубке, на краю склона. Вдали синел окоем, а на синеватом небе светился медный диск солнца. Близился вечер. Внизу шелестели тростники и блестел озерный залив. В конце залива в кипе пышных деревьев виднелись серые строения. Из одной трубы поднимался дым.
— Жарят! — принюхался Пинкулис и зачмокал губами. — Явно что-то жарят.
Затем обратился к Пичу с небольшой речью:
— Прежде чем мы зайдем в замок банного барина, владельца хутора «Клетскалны», ты должен запомнить, что в этом доме меня знают только под именем Фигаро. Я никакой не Пинкулис, а Фигаро, заруби это себе на носу. Я полуаноним. Никогда не надо раскрывать перед чужими свое настоящее имя и фамилию, их нужно держать в резерве. Советую и тебе подобрать какое-нибудь имя повыразительней. Банная барыня в сельсовете руководит женским вокальным квартетом «Кокле». Сколько в этом квартете певиц, не скажу, но что она знает почетного дирижера Теодора Широна, ручаюсь головой. Банная барыня вмиг разоблачит блудного сына. Как бы ты хотел называться?
Пич ничего не мог придумать.
— А я нашел! — ликовал Пинкулис. — Ты будешь Ромео. Несчастный любовник. Это имя подходит тебе, как кулак к глазу.
— Не лучше ли Ром? — говорит Пич. — На цыганском языке «ром» значит человек.
— Человек? — снисходительно усмехается Пинкулис. — Какой из тебя человек? Я сейчас покажу тебе таких людей, каких ты отродясь не видывал и нигде больше не увидишь. Пошли.
Они обогнули густой плетень, свитый из распаренных прутьев, обнаружили калитку с старинным навесом — стодолой, распахнули ее и вошли. Во дворе у колодца умывался седой худощавый, но еще крепкий старик. Голый по пояс, брызгал мыльной пеной, тер плечи, шею и крякал. Увидев пришельцев, зычно крикнул:
— Валлия, чеши что есть духу сюда! Гости пожаловали! Фигаро вернулся!
Из кухни, вытирая руки о передник, выбежала пышнотелая пожилая женщина, видно, хозяйка дома. Заспешила навстречу, принялась трясти Пинкулиса за руку, приговаривая таким громким голосом, словно он был глухой:
— А мне еще вчерась сон приснился: никак гости приедут, говорю. Ай-яй-яй! Ишь как сны-то сбываются! Старик только что с работы прикатил; взопрел на жарище, изварзакался. Выгнала мыться, пусть оботрется, а то воняет, как старый козел. Оюшки, вот не нарадуется он теперь. Вчера проводили Колбергиса. В этот раз, считай, совсем у нас и не жил. Проспал весь день и вечером помчался обратно в Ригу.
Пинкулис знакомит:
— Мой друг Ромео.
— Ромео? Ну смотри, как хорошо. Ромео! И гитара тоже на боку? Чай, артист будет?
— И еще какой! — подтверждает Фигаро.
— Ну ты подумай, как славно-то! Заходите, заходите, гости добрые, в дом. Аккурат к ужину поспели. Собралась хлебушка испечь, да тесто никак взойти не хочет, весь день сильно марит, гроза, поди, собирается. Перед грозой всегда с тестом морока.
Тем временем хозяин, надев чистую рубашку, подходит, представляется:
— Банный барин из «Клетскалнов»! Девичье имя Пастредес Янис — очень рад! — говорит он и протягивает влажную руку. — Спасибо, что не пренебрегли нашим замком. Я только что с работы. Колхозный свинарник заканчивали. Ну, скажу я, за десятерых ломили. В строительстве я мастак, сноровку имею. Погляди, какой тут замок возвел: из одних бревен, без единого гвоздя, только дерево и озерный камыш на крыше. Видал когда-нибудь подобное? Ясное дело — не видал… Как тебя зовут? Ладно, все равно! «Добро пожаловать», как принято писать. Не захотите ли в озере ополоснуться?
— Лучше вечером в бане, — отнекивается Фигаро. — Как с пивком? Хоть капля осталась?
— Колбергис забыл большой лагун втулкой заткнуть, — жалуется банный барин. — Вчера смотрим: почти все вытекло. Остаток я вылил в кувшин, сколько есть, столько есть!..
— Чего это Колбергис сюда повадился? — недовольно спрашивает Фигаро.
— Оюшки! Помилуйте! Часто! Я была бы счастлива, если бы вы кажинный божий денечек нас навещали. Прошлое воскресенье, вона, драмовцы обещали приехать. В Страупе — гастроли. Не приехали. Ну, раз так, то я, миленькие мои, бегом на автобус и сама к ним подалась. Улдис с Гиртом[30] — ну просто божественно! Только вот это режиссерское решение, оно мне как-то… не того.
— Что новенького в Риге? — прерывает ее банный барин. — Выставка гобеленов еще не закрылась? И Анманис? Как он? Одни говорят одно, другие другое, а Колбергис только бурчит не поймешь чего.
— Колбергис, — хмыкает презрительно Фигаро. — Пойдет он на чужую выставку, ждите.
— Уймись, старик, со своими выставками, парни проголодались. Разыщи-ка пива, меду, покамест я накрою на стол. Глотком водочки небось тоже не побрезгуете?
— Вреда не будет, — облизываясь говорит Фигаро. — Водка высекает молнии мыслей!
— Подумать, как красиво сказал! — радуется хозяйка. — Высекает молнии мыслей!
Пока она собирает на стол, банный барин показывает свой замок. В гостиной, где сценка, велит обратить внимание на вертела перед камином.
— Две недели назад на этом месте жарил колбаски и читал свои стихи Индулис Перконс. Сильный поэт! И вовсе не гордец! Две бутылки коньяка выпил.
Наверху — выставочный зал (мансарда на Монмартре — как сказал Пинкулис). Мастерская. Мольберт, сработанный из дуба самим хозяином. На стенках приколоты акварели Колберга.
— Куда мои абстракции подевались? — в тревоге озирается Фигаро. — Я же тут развесил свои абстракции.
— Чай, Колбергис снял, — говорит хозяин. — То-то весь день здесь крутился.
— Это самоуправство! Я буду жаловаться Валлии! — кричит Фигаро. — Кто тут банный барин, ты или Колбергис?
— Банный барин! — весело смеется хозяин. — Ромео, поди, невдомек, почему меня банным барином прозвали. Когда я начал воздвигать сей ансамбль, то первой подвел под крышу жилую баньку на горе. Колхозники, проходя мимо, дивовались: это еще что за курятник? Я сказал: банька-дворец для деятелей искусств. С тех пор и привязалось ко мне — банный барин. Ничего, пускай кличут. Самая последняя постройка — клетушка на берегу озера, вон, из окна видно. В ней я устраиваю спать молодоженов: женатых и таких, кто собирается под венец.
— Я тебе одного такого привез, — говорит Фигаро. — Через неделю Ромео приводит домой жену.
— Господи, как хорошо! — кричит снизу хозяйка. — Пусть приезжают оба сюда, проведут медовый месяц…
Хозяин приглашает в свою комнату, начинает перебирать толстенные книги, комплекты «Маяс виесис»[31] и «Петербургас авизес»[32], календари и протоколы волостного суда. Все это он нашел на чердаках заброшенных домов и забрал. Его, говорит, интересуют история и старые вещи.
Подводит к белому крашеному столу, выдвигает ящик и показывает какие-то камни и кости.
— Вот это — каменный топор, а это — зуб мамонта.
— Иди ты, — не верит Пинкулис. — Откуда взял? Разве у мамонта есть зубы?
— А я тебе говорю: его зуб.
— У слонов нет зубов, только клыки, — спорит художник.
— У слонов, может, и нет, а у мамонта есть, — не сдается банный барин. — Я только что закончил исследование о древней истории пиленского края, потому как родился и вырос в тамошних местах, это на той стороне Гауи. Отсюда, ежели шагать напрямик, километров десять будет. Там теперь Национальный парк и заповедник, этими местами ныне шибко интересуются, я бы мог рассказать им одному мне известные неслыханные факты.
— Расскажи мне тоже, — шутит Фигаро. — Я буду нем как могила. Признайся, куда ты дел мамонтову шкуру?
— Многие брандахлысты уже приставали ко мне с расспросами, — говорит банный барин. — Когда я послал их ко всем чертям, они пошли лазить вокруг развалин «Пастредес» — так назывался хутор, в котором я родился, стали расспрашивать стариков. Зря старались. Мои секреты лежат глубоко в подземелье.
Тут Фигаро перебивает его:
— Жареной свинины! — уточняя, кричит снизу хозяйка. Ну и слух у нее! — Идите скорей ужинать!
В этом доме едят и пьют только по необходимости. Фигаро прикладывается к рюмочке один, запивая водку перекисшим пивом. Зато Пич наворачивает за обе щеки (он не ел со вчерашнего дня). Хозяйка потчует его и вздыхает. Какой отощавший малый этот Ромео. Пожил бы на ее хлебах, сделала бы из него человека.
Когда все вдоволь наелись и напились, хозяйка хочет узнать что-нибудь новенькое из жизни искусства в Риге, поэтому принимается расспрашивать Ромео о победах «Дзинтара» в Дебрецене и о том, как теперь ведет себя Гари Лиепинь[34].
К сожалению, ничего путного ни Фигаро, ни Ромео рассказать не могут. Они выходцы из других кругов — там такими пустяками не интересуются.
— А теперь музыку, музыку, — хлопает в ладоши хозяйка, ей не терпится услышать небольшой концерт.
Ромео не остается ничего другого, как вытащить из пыльного футляра гитару, хотя мысли у него заняты совсем другим: что будет с ним и Сонэлой?
Без особого восторга сыграл он огненное астурское фанданго и «Морское путешествие» Джона Довленда.
— Из тебя со временем выйдет толк, — одобряет исполнение банный барин, однако у хозяйки имеются кое-какие возражения.
— Те места, где гитара напоминала наше древнелатышское кокле, я слушала с большой радостью и ликованием, а вот в испанском марше было что-то слишком кровавое и недоброе. Что поделать, мне больше по душе народная мягкость и душевный покой.
«Знакомые слова, — думает Пич. — Нас с Сонэлой почти что пригласили. Только как отплачу я этим добрым людям? Может быть, предложить себя в помощники на стройке? Отработать? Я вынослив как лошадь, у меня железные руки!» Он окидывает взглядом свои белые пальчики и пугается.
Банный барин берет у Ромео гитару, тщательно ее разглядывает. Подносит к свету, надевает очки, запускает глаза в коробку резонанса.
— Очень старый инструмент, — говорит он. — Внутри год изготовления — 1890. Я питаю слабость к старинным вещам. В молодости собирался изучать историю, но началась война, все пошло кувырком. Хорошо, хоть жив остался.
— Он, горемычный, два года хоронился, чтобы не призвали в легион, — поясняет хозяйка. — В наказание эсэсовцы спалили отцовский хутор «Пастредес». Самого тоже искали, но не нашли. Янис прятался в подземной пещере неподалеку от «Пастредес». Ту пещеру по сей день никому найти не удается. По ночам приходил ко мне в «Вецапситес» за едой, тогда, верно, мы еще не были мужем и женой. Но когда война кончилась, сразу поженились.
«Сразу поженились, как просто! — думает Пич. — Никаких проблем. Полюбили друг друга, взяли и поженились».
— Скажите, пожалуйста, работать каменщиком интересно? — спрашивает Ромео банного барина.
— Как кому! — смеется тот. — Мне интересно, строительное дело тонкое искусство. Работать нужно с душой, в охотку. Тут нельзя шаляй-валяй, лишь бы спихнуть. Не окупается. Любителей подхалтурить я близко к работе не подпускаю. Вообще-то моя специальность — дерево. Я профессиональный краснодеревщик. Лакирую, стругаю рубанком, режу — поперек волокна и по волокну. Каждое здание почти как песня. Нынче ремесло каменщика тоже в чести, особенно теперь, когда строим для колхоза новые жилые дома. Работать только надо с уважением: рассмотреть каждый кирпич, прочно ли сидит в гнезде.
— А план ты не выполняешь, краснобай! — выговаривает хозяйка. — У других работа спорится в три раза быстрее.
— То супермаяки, мамочка, через год мне же приходится их постройки ремонтировать. Эх, да что там! Денег у меня хватает, за работу платят хорошо. А главные мои радости, когда артисты приезжают в гости.
— Оюшки! Ну прямо стихами заговорил, старый козел. Никак водки напился!
— Если вы ничего не имеете против, я бы месячишко… в этой баньке… со своей женушкой? — несмело спрашивает Пич.
— О чем разговор! Приезжайте без проволочек.
— Мы как-нибудь расплатимся.
— Миленький, что ты говоришь? Кого тут просили, чтобы расплачивался? Приезжай сразу с женушкой, и все! Кто она такая? Актриса или певица?
— Гадалка, — бормочет Фигаро.
— Что ты болтаешь? — волнуется Пич. — Моя жена танцовщица.
— В Оперном? Ну видишь, как славно-то! В Оперном у нас знакомых еще нет. В консерватории — да, профессор Широн — моего старика сосед, вместе когда-то конфирмацию принимали. Оба в тех пиленских краях выросли. Профессор в «Ванагах», а мой — на хуторе «Пастредес».
— Зачем этого спесивца поминать, — отмахивается банный барин. — Никогда не считал нас ровней. Какой бы паводок ни набежал, Широн всегда на поверхности. Скользкий, как угорь…
(— Видишь, как хорошо, что ты не назвал свою фамилию, — ложась спать, сказал предусмотрительный Фигаро.)
Они еще недолго посидели, затем хозяйка стала всех поторапливать: пора, мол, на покой. Фигаро за столом разомлел, начал клевать носом. Самой тоже вставать ни свет ни заря. Завтра нужно ехать в Цесис. Автобус выходит из Розулы в половине шестого, — пока доберется до остановки.
— Ну да, ей ведь всегда надо быть там, где затевается какой-нибудь шурум-бурум, — говорит хозяин.
— Шурум-бурум? Какой шурум-бурум?
— Ах да, рижане ведь не знают, — говорит хозяин. — В Цесисе завтра большие похороны. Умер цыганский король Венэл Марцинкевич Курлендарис. Понаехало провожающих со всех сторон света. Хоронить решено на Лесном кладбище у Пубулиня. Около ста цыган будет верхами, в рессорных колясках, на машинах. Старик оставил тысячу рублей на похороны. Такой спектакль не часто увидишь.
— Нельзя ли мне с вами? — вдруг оживляется Ромео.
— Отчего же? Вот и хорошо, поедем вместе. Правильно, оттуда ты быстрее вернешься в Ригу за женой. Соберите побольше вещей и приезжайте.
«Вещей? — думает Пич. — Откуда нам их взять?»
Талис долго возился у входной двери. Никак не мог привыкнуть к новому ключу. Этот патентованный замок ему преподнесли на свадьбу. Иностранная марка. Можно было, конечно, позвонить. Лига впустила бы. Но Талис предпочел скрестись снаружи и наслаждаться правом хозяина: хочу — вхожу, не хочу — остаюсь за дверью. Наконец-то они ни от кого не зависели. Своя собственная кооперативная квартира.
Еще полтора года назад по секрету от отца Талис внес половину пая. В прошлый месяц отец уплатил остаток, и теперь у них было свое гнездышко в приятнейшем районе: прямо напротив Ботанического сада, где цвели розы и в огромной ванне плавала только что распустившаяся Victoria Regia.
Долго пришлось уламывать отца. Почему им не живется в Межапарке? Что отец один будет делать в шестикомнатных чертогах? (После всех неприятностей с Пичем старик совсем сдал: осунулся, поседел.) Но дольше оставаться у него они не могли. У Лиги нервы взвинчены просто ужас, она наотрез отказалась: в конце концов, должны же мы стать самостоятельными.
Мы уже давно не ладили с папой. Он привык руководить сыновьями: воспитывать их, присматривать, держать в руках, потому что мать умерла, когда мы были совсем малышами.
Он не в состоянии понять, что пацаны давно выросли. По вечерам волновался, когда те являлись домой чуть позже двенадцати. А стоило кому-нибудь из них задержаться до рассвета, старик не спал всю ночь. Пил капли Зеленина, считал пульс и с дрожью в сердце слушал, не подъезжает ли такси, не скрипнет ли калитка, не хлопнет ли приглушенно дверь и не прошмыгнет ли украдкой в носках по коридору опоздавший. (Все это он слышал сквозь четыре стены.)
Тогда в сердце профессора вспыхивал великий гнев, он вставал с постели и, как был, в ночном белье шел требовать объяснений. Виновник непослушным языком пытался втолковать папе, что слушал у Анджа на взморье новые записи и опоздал на последний поезд. В ответ как из рога изобилия сыпались упреки. Папа негодовал, что дети прожигают свою молодость, не стараются завоевать себе подобающее место в жизни и сесть у пульта управления. Но разве он был прав?
Не будем говорить о Пиче… Тот списан.
Однако в чем профессор мог упрекнуть старшего сына Таливалдиса? Уже в школе Талис был круглым отличником. Одноклассники называли его доктором наук, выбирали на все школьные общественные должности по очереди, уважали и побаивались. Он кончил с золотой медалью. Когда надо было поступать в университет, выбрал географию. Факультет Таливалдис закончил блестяще. Его распределили на Дальний Восток, на Сахалин, но Талис получил разрешение остаться в Риге и продолжить учебу в университете по другим специальностям — истории и археологии. К этим наукам он уже имел касательство, когда работал секретарем студенческого научного общества.
Известно, что здоровый дух обитает в здоровом теле. Поэтому еще со времен начальной школы каждый год в марте (в каникулы) папа возил мальчиков на Гайзинькалн[35] кататься на лыжах. Весной они участвовали в состязаниях по водному слалому на буйствующих талых водах Аматы, а летом, отдыхая на родном хуторе «Ванаги», где жила его сестра Карлине, профессор развивал силу их мускулов на великолепных теннисных кортах.
Юношей Таливалдис всерьез начал заниматься теми видами спорта, в которые его посвятил отец. Например, стал кандидатом в мастера по водному слалому, а в позапрошлом году завоевал почетное второе место. В последний миг его обогнал какой-то литовец. О Пиче говорить нечего, ему спорт скоро надоел… Пич остается Пичем. В последние годы Талис руководит институтской группой туризма (теперь он работает научным сотрудником в Академии наук). В марте выезжает на Гайзинькалн, организует зимний лагерь. В Ригу все возвращаются загорелые, веселые, полные энергии. Поговаривают, что Талис слишком привередлив в выборе участников выезда: приглашает только самых влиятельных профессоров, нескольких академиков с женами и одного доктора наук. Хозяйственные работники и лаборанты шептались, будто он заблаговременно договаривается о том, чтобы в «Скунтиценах» их ждали натопленные комнаты и полный пансион: нанимает кухарок и никому другому в марте туда не попасть, весь дом забронирован хозяйкой «Скунтиценов» Броней. Правда это или враки, оставим на совести тех, кто распускает подобные слухи. Те, кого обходят вниманием, обычно терзаются завистью и стараются хоть как-то отыграться.
Случилось, что в упомянутых «Скунтиценах» Таливалдис познакомился со своей будущей женой. Был организован «выезд с загоранием на уик энд», на который Талис кроме прочих пригласил и своего предполагаемого научного руководителя профессора Зиле (просил почтить своим присутствием). Зиле почтил не только своим, но и присутствием жены и дочери. Дочь была на выданье и считалась хорошей партией. Успел ли Таливалдис полюбить Лигу уже там, у Гайзинькална, или начал об этом помышлять позже, сам он толком не помнит. Поэтому вернее будет полагать, что Талис спохватился позже, когда встретился с Лигой на состязаниях по водному слалому на Амате. Слалом был той сводней, которая соединила их судьбы, потому что гребли они в одной паре на одном катамаране с одним и тем же номером 13 на спине. Как известно, номер 13 предвестник беды, поэтому на повороте они не заметили подозрительной водоверти и на большой скорости налетели на подводный камень. Катамаран подбросило в воздух, а они оба шлепнулись в ледяную воду. Талис спохватился первый: сгреб Лигу в охапку и вынес на берег, и когда он нес ее мокрую на руках, то спохватилась и Лига. Через два месяца сыграли свадьбу.
Наконец Талис отомкнул дверь. Сейчас он с шумом распахнет ее — «бах» — и напугает Лигу Яновну. Но тут же из передней до него доносится булькающий женский голос. Теща! Таливалдису всегда кажется, что у тещи во рту кусочек льда и, разговаривая, она его беспрерывно ворочает языком. Видимо, потому и мерзнет все время. Какого черта так рано. Вечер начнется только в половине восьмого. Будет теперь мешать, замучает советами.
Лига и экономка хлопочут на кухне: жарят, варят, парят. Экономка — это «наша старая Матильда». Отец не позволяет называть ее уничижительно — служанкой. Нынче не крепостные времена. Профессора обшивает, обстирывает и кормит экономка. Она ходит экономить еще и на рынок, но жалуется, что старик стал страшно скуп: и денег не платит, как условились, и в профсоюз не записал. О заключении договора и слышать не желает, как же у нее будет с пенсией? «Что мы можем сказать? — ответил Талис. — Это дело профессора».
Пускай, говорит, идет в ночные сторожихи, коли не нравится. Теперь каждый волен выбирать, что ему вздумается.
Сегодня хозяйки решили поразить гостей изысканным, еще небывалым холодным столом. Такого à la fourchette, какой тут готовится, приглашенные и не видывали. До сих пор самые умопомрачительные пиры задавали «доктора наук Домбровские» (так полагалось говорить, чтобы оказать честь и самой Домбровскиене, которая в этих делах понаторела больше всех, потому как раньше работала в столе заказов).
— Домбровских вам трудно будет переплюнуть, — замечает теща. — У них в квартире два туалета. Одновременно могут обслужить двух едоков (а Талису кооператив предусмотрел только один и тот, что совмещен с ванной, из-за чего по утрам они с Лигой вечно спорят, кто пойдет первым).
Теща говорит, что пришла проверить список гостей.
— У Лиги ветер в голове: всегда самых важных персон забывает, — жалуется она и, напялив очки, долго вертит и изучает листок, который испещрен помарками, вычеркиваниями, вставками и жирными вопросительными знаками. Талис и Лига проработали над ним целый вечер.
Из-за списка и обсуждения кандидатур чуть было не подрались. Лига во что бы то ни стало хотела пригласить нескольких подруг, она якобы обещала не забыть их, когда будет справлять новоселье, но Талис твердо стоял на том, что количество гостей не должно превышать тридцати. А то получится несолидно: квадратура квартиры не позволяет вместить больше. Талис сам проверил, садясь по очереди на всевозможные выпуклости. Тридцать задниц, и ни одной больше. Тогда Лига Яновна надула губки и сказала, что он, вероятно, никогда не был на торжествах для избранных. На приемах à la fourchette дипломаты не сидят, а стоят в непринужденных позах, левую ногу чуток выставив вперед. В одной руке тарелка с ножом и вилкой, в другой виски со льдом или лед с виски — смотря как в какой стране принято. Притом они ничего не опрокидывают, не проливают, но пьют и едят, пьют и едят без передыху.
— Тебе это, наверное, во сне приснилось, — смеялся Талис, но Лига Яновна горько расплакалась, ей было жалко подруг.
В семье всем заправляет Таливалдис, это ни для кого не секрет. Он ведает кассой и дает хозяйственные распоряжения своей экономке Лиге. Лига, делая на рынке покупки, пытается и себе что-нибудь выгадать, потому как других доходов у нее теперь нет. По предложению Талиса женушка отказалась от работы в библиотеке, чтобы целиком посвятить себя дому: через полгода в семье ожидается прибавление. Только изредка и то тайком ей удавалось встретиться с подругами, выпить по чашке кофе, поболтать. В театрах супруги неизменно сидели в четвертом ряду на всех премьерах, потому что Талису принадлежал абонемент номер 1. Каждый год он его аккуратно возобновлял.
Список проштудирован, теперь теща хочет высказаться.
— Начнем по порядку, — наморщив лоб, изрекает она. — Академик Ноллендорф с женой — это само собой разумеется. Но зачем вам Луринь? Сам гостей никогда не созывает, ходит только по чужим пирам. Хитер. Первый высмотрит, где черная икра, а когда она проглочена, ищет, где угорь, сожрал угря, начинает произносить речи, чтобы был повод выпить. Мне он не нравится.
— Известный археолог, мама, — говорит Таливалдис. — Я сейчас очень нуждаюсь в его советах. У нас в палеонтологии такого специалиста нет — он еще и геолог, как я. Пускай Лига поставит на стол самую большую банку с икрой, — смеется он. — И на видном месте.
Теща читает дальше: Домбровские…
— Доктора наук Домбровские нас всегда приглашают, на почетные места сажают, нам нельзя их не приглашать, тогда они тоже не будут. Их новогодний прием единственное место, где Талис может чокнуться с самим Всеволодом Рамниеком и между делом проронить словечко о неладах в академии.
— Не забуду того позора, которому меня в прошлом году подвергла Домбровскиене, — бурчит про себя маман. — У вас, должно надеяться, все будут в длинных платьях?
— Мы специально не предупреждали, — говорит Таливалдис.
— Ай-яй-яй… Плохо, что не предупредили. Ноллендорфиене тоже не предупредила, и я одна пришла в коротком. Старая коза Домбровскиене увидела меня и говорит во всеуслышание: «Твой старик, дорогая, случайно не обанкротился, что ты почтила нас своим мини?» Какой срам! Нет, сегодня я приду в черном кримплене с норкой.
— Его уже видели, дорогая теща, — дразнит Талис.
— Где видели, кто видел? Ты имеешь в виду на свадьбе? То, которое с хвостом? Давно в комиссионке! Это только что из «Балтийских мод», — говорит мама и снова принимается за список. — Профессор Бертульсон с женой, Юркан, компания Наглиней, Фрейвальд, Широн, старый балбес Бите, Пиликсон, так, так, так… Кто такой Крауклит? С женой?
— Продавец из «Мебельщика», — поясняет Лига. — С его помощью мы достали гарнитур — кабинет и спальню. В магазине такие и не появляются. Он нам еще и кухню обещал.
— Ладно, пускай приходит. Но почему обязательно с женой? Далее — Климпа, Зеберг, так, так, так… А это еще кто — Вульфсон?
— Из стройматериалов. Перламутровые плитки в ванной — multiplex.
— Мультиплекс? Ну, раз надо… — нерешительно соглашается теща (что это за чертов мультиплекс?).
Подруг Лиги в списке не было. А у Талиса друзей вообще нет. Он ни с кем не дружит и не враждует, в институте неизменно любезен, учтив, готов помочь, но сдержан.
Это знают все и выдерживают дистанцию. Талис умеет быть любезным даже с теми, кого внутренне презирает. А больше всех презирает он художников.
Насколько он мог вспомнить, в доме отца никогда не вращались ни литераторы, ни художники, ни актеры. Лишь очень знаменитые композиторы: классики и седые профессора консерватории. Как сквозь туман Талису помнится, будто в детстве видел он Мелнгайлиса и Альфреда Калныня[36]. Неприязнь папы к художникам и литераторам передалась и старшему сыну (о Пиче говорить нечего, Пич списан).
Поэтому никого из этой среды в реестрах сегодняшнего вечера нет. Талис с лицедеями просто-напросто не водится. В театре — пожалуйста, там их место, но в быту, в домашних условиях, чем дальше, тем лучше. Достаточно того позора, который им довелось испытать на юбилее отца.
Когда избранные гости на квартире профессора Широна в Межапарке сидели за круглым праздничным столом, на котором в свете тридцати свечей сверкала посуда и бокалы, распахнулась дверь и в зал с голой грудью, волосатый и загорелый, в рваной рубашке и еще более рваных портках вперся художник Пинкулис. Перед этим он отсыпался в комнате Пича, на другой половине. Услышав «Да здравствует наш дорогой!», он почувствовал, что море ему по колено, страха перед профессором как не бывало, и рванул в банкетный зал. Гости, онемев, воззрились на чудище, которое, пошатываясь, добрело до середины комнаты, три раза в пояс поклонилось профессору, затем медленно обошло стол, мрачно распевая «Коньяк пятизвездный… ло-со-си, уг-ри… миноги, свиньи… расстегаи, пироги…», и, как привидение, выскользнуло в раскрытую дверь.
Торжественная минута была испорчена. Гости молча поели и уехали. А седой юбиляр плакал… (Ай-яй-яй, Пич! Хотя что с тебя взять!)
Прелюдия освящения квартиры — приготовления, споры, нервы, передвигание стола и сервировка — закончилась в половине восьмого. Прибранная, свежемеблированная квартира начала наполняться гостями. В коридоре то и дело слышались громкие остроты и смех прибывающих. Раздвинув предусмотренную для этой цели перегородку, Талис соединил кабинет с гостиной. Спальня превращена в таинственную, разукрашенную красными лампочками нишу, в которую вдвинут пестро и обильно уставленный яствами стол. На нем громоздилась вся снедь, какую только можно и нельзя было достать в рижских магазинах. Сбоку возвышалась груда белых тарелок, идите, берите, с ножом или без оного. В углу кабинета Талис устроил бар. Там сияли коньяки, виски, джин, пунш, вместительные бутылки чинзано и мартини, шампанское. Незаметно было только водки.
— В этом доме водку не употребляют! — сказала теща, и это была святая правда.
На низкой неудобной тахте в тесноте жмутся пышнотелые профессорши. Обсуждают, оценивают новую квартиру. Мебель — просто мечта! Где только такую отхватили? И откуда мягкие тумбы, куча кожаных подушек? Ну да, ныне модно все больше на земле, на полу валяться.
В зеленых и желтых коврах пятки утопают, как в теплом мху (ноги у всех профессорш цилиндрические).
— Мебель им поставил старый Широн, — говорит Домбровскиене, — а бал, сказать по совести, закатывает тесть.
Она может себе позволить такие громкие высказывания, благоверной профессора Зиле в этот миг нет в гостиной, выбежала на кухню отчитывать экономку за то, что в затрапезной робе показалась в коридоре — в уборную, видите ли, собралась. Пока все гости не на месте, никаких уборных!
Лига с Талисом еле успевали открывать двери. Звонки с улицы, голоса в селекторе ежеминутно давали знать, что явился такой-то и такой-то. Потрясающее изобретение этот селектор! Талис тотчас знал, за кем спуститься вниз, кому открывать лифт, а кого можно встретить стоя в дверях. На Крауклитиса и Вульфсона он внимания не обратил. Те поднялись сами. Навстречу профессору Зиле, своему тестю, он припустил рысью, но раньше его прибежала Льдишка — так он заочно называл тещу (очно она именовалась «моя дорогая мама»; в особенно сердечные минуты — Евдокия Филипповна). Талис был прав: тридцать персон в его квартире — предел. Предсказание тещи, что дамы пожалуют в вечерних туалетах (хотя никто их об этом не предупреждал), тоже сбылось.
Все шло как по маслу.
Увертюра закончена. Вот-вот начнется многоголосая фуга. Контрапункт рассола, борьба ножей и вилок со свежими огурчиками. Кончил дело, гуляй смело.
— Спасибо!
— Можно ли мне той маринованной тыквы?
— Будьте любезны.
— Извините, пожалуйста, это что: рыба или курица?
— Копченый бройлер.
— Что-то божественное!
— Нектар и амброзия.
— Помилуйте, товарищ Климпа! Нектар — напиток! За ним вам нужно в другой конец.
— Хочет быть остроумен, пыжится…
— Что ж, люби, пока любится!
— I beg your pardon! — говорит Луринь и, оттолкнув компанию Наглиней, хватает миску с черной икрой.
— Почему по-английски? — возмущается старый Наглинь.
— Потому что ты тут слишком широко расселся. Стол принадлежит всем.
Компания Наглиней состоит из Эмилии, Фрициса и его дочери. Они моментально лезут в бутылку. Обиженные, с полупустыми тарелками удаляются в коридор и присаживаются под зеркалом. Идет Лига, дивится: с чего это гости жуют в коридоре? Милости просим…
Часть едоков с тарелками уже вернулась в кабинет, разместилась по углам. Сидят в гостиной по два, по три, наворачивают и ведут беседы. А самые изысканные стоят посредине комнаты: тарелочки на уровне груди, едят, дискутируют.
Талис с подносом обходит стайку женщин.
— Могу предложить итальянского вермута?
Лига сидит и разговаривает с благоверной Ноллендорфа. Это самая почтенная гостья. Талис наказал: мадам Ноллендорф скучать не давай, она жена академика, от нее зависит многое.
Хозяин дома вездесущ: подойдет, обласкает добрым словом, развеселит шуткой и вот он уже около другой компании. Предлагает поднять бокалы. Сам не пьет ни капли.
— За ваше здоровье, товарищ профессор!
Удивление Луриня не знает предела; когда он возвращается к столу, на месте съеденной черной икры стоят две новые полные мисочки. Толкнув Домбровского в бок, не веря своим глазам, он спрашивает:
— Эй, что это черное в той лоханке?
— Конопля! — ржет Домбровскиене.
— Нужно попробовать, которая: прессованная или зернистая, — говорит Луринь и, взяв порцию, уходит.
— Как бы этот Луринь сегодня не подхватил солитера, — всплеснув руками, восклицает Домбровскиене. — Экий обжора!
Снизу звонят.
— Отец явился, — сообщает Талис и посылает Лигу встречать.
Профессор Широн сегодня в великолепной форме, розовый, подвижной, в петлице цветок (оттого что, торопясь сюда, увидел себя на цветной обложке «Звайгзне»[37]). Это был моментальный снимок с праздника песни в Цесисе. Древнелатышская бородка тогда щелкнула, профессор ясно помнит. Таким властно-грозным и демоническим он не мог себя и вообразить. Высоко поднятый жезл в правой руке. Левая обнимает миллионы. Глаза полузакрыты, как у Херберта фон Карояна. Сразу купил бы несколько экземпляров, да киоск был на замке.
Папа долго извинялся за опоздание: после обеда привык спать, проснулся только в половине восьмого. Дай ему волю, спал бы двенадцать часов подряд, честное слово.
— Это хороший признак, — говорит профессор Зиле. — Я теперь почти совсем не сплю, нервы стали никудышные… Держусь только на мепробомате.
— Мне когда-то советовали седуксен, — поддерживает Широн, и родственники начинают развивать свою любимую тему о болезнях и лекарствах. Неизвестно, о чем бы они говорили, не будь у них болезней. Наверняка молчали, поскольку общих интересов у них нет. Зиле — археолог, Широн — исследователь древних форм народной музыки. Оба — ученые старой школы, никогда не преступят за рамки своей профессии. Хотя не такие уж они чужие друг другу, если призадуматься. Широн пытается расшифровать элементы музыкальной палеографии, Зиле — черепа и скелеты пещерных жителей. По сути дела, одно и то же занятие.
— Самое важное сейчас — филогенические исследования основных групп животных, — говорит доцент университета Бите своему коллеге Бертульсону. — Другие темы сегодня меня не интересуют.
— А стратиграфическое распространение беспозвоночных? — наполняя рюмочки, встревает в разговор эрудитов Таливалдис. Он всегда появляется там, где грозят возникнуть разногласия. — Как насчет женевера? Или профессора попробуют пунш?
В кабинете Фрейвалдиене объясняет что-то рядом сидящим:
— Цемент? Привозят прямо домой. Деньги не играют никакой роли… Главное, чтобы было… Товарищ Вульфсон думает точно так же.
— Подымем шампанское за здоровье товарища Фрейвалда! — подойдя, говорит Талис. — И за будущую дачу в Гарезере!
Чета Крауклитисов из всего того, о чем за их столиком спорил доктор наук с молодым кандидатом, не поняла ни слова и почувствовала себя неуютно. Крауклитис тщетно проискал водку, в баре остались какие-то опивки. Когда Таливалдис втиснул ему в ладонь стакан с кусочками льда, мебельщик рассудил, что пора смываться. Пошептавшись с женой, пошел к Лиге извиняться, что им нужно домой, потому как заболел ребенок. Талис сердечно пожимал ему руку, сожалел, что гости так скоро уходят, и выразил надежду, что дитя скоро поправится. Лига, в свою очередь, завернула кусок торта для больного чада, и чета мебельщиков по-французски удалилась. Вернувшись обратно в комнату, Талис заметил папу и Ноллендорфа, стоящих посредине кабинета. Ноллендорф держал главного дирижера за пуговку пиджака и, как обычно, донимал наивного музыканта каверзными вопросами.
— Значит, у гениального композитора могут быть и неудавшиеся произведения? Вот так шутка! — удивлялся Ноллендорф.
— Нельзя требовать, чтобы все опусы были на одинаковом уровне. Результат зависит от многих обстоятельств: от вдохновения, от темы, от состояния желудка и кишок, если хотите.
— Но я бы не называл ученого ученым, имей он хоть одно слабое исследование. Видите, сколь велика разница между наукой и искусством.
— Вы, думаю, согласитесь со мной, что Чайковский гениален, — не сдается папа, — тем не менее он самолично уничтожил оперу, которая уже была поставлена. Стало быть, считал ее неудавшейся. За весь свой век я ни разу не слышал «Vittoria» Бетховена, ее нигде не исполняют, потому как общепризнано, что это произведение неудачно. Но разве Бетховен не гений?
— У Дарвина, Павлова, Ковалевского и товарища Бертульсона, — Бертульсон делает глубокий поклон, — нет ни одного не годного научного труда. Ни одного. Они все замечательны!
— Но откуда вы знаете, что они так хороши, если не с чем сравнить? — начинает нести заведомый вздор папа, который уже совсем сбился с толку.
Ситуацию спасает Таливалдис.
— Действительно, если в мире не было бы плохих жен, как мы узнали бы, что есть хорошие?
Всеобщее оживление и смех. Поднимаются бокалы за присутствующих жен. Профессор галантно подходит и чокается с мадам Ноллендорф, она сегодня самая знаменитая гостья. Супруга академика чувствует себя польщенной, она столь же галантно отвечает:
— За отцов, которые вырастили таких славных сыновей.
— Славных, да! — громко поддерживает Домбровскиене. — Верно, что ваш Пич пошел работать каменщиком?
— ?!
Могильная тишина…
Согласно неписаным законам о Пиче в этом доме не говорят. Что Домбровскиене нетактична, знали все, но чтобы так опростоволоситься!.. Наверно, ей самой стало неловко, разинула рот, хотела было что-то добавить, но муж наступил ей на ногу.
— Мда… Не желаете ли посмотреть цветные диапозитивы нашей экспедиции, отснятые этим летом на берегах Байкала? — предлагает Таливалдис, потому что у папы затряслись руки. — Молодые ревнители наук Станислав Юркан, Альгирт Климпа и ваш покорный слуга Таливалдис Широн преодолевают на лодках бушующие пороги: современным ученым обходить пороги некогда. Лига, поищи экран! Запасайтесь едой и питьем и садитесь на пол. Быстро, быстро! Без проволочек, начинается сеанс!
Подушки и тумбы полетели на середину комнаты. Сколько смеху было, пока уселись профессорши, затем профессора, а за ними сбоку примостились кандидаты. И прямо на полу! Вот это размах, это фантазия! Луринь тут же притащил приготовленный Лигой апельсиновый пунш. Наливай всяк жаждущий, утоляйся, не сходя с места. Черт подери! Надо ж такую фантазию иметь!
— Талис всегда умеет организовать что-нибудь занятное, — говорит Ноллендорф. — Вспомните, какой он затеял в «Скутиценах» лыжный карнавал.
— Потрясающий парень!
В половине третьего, перед тем как разбрестись, гости пришли к единому мнению, что лучше вечера нынешней весной еще не было.
Чтобы гостям удобней было попасть домой, Талис заблаговременно заказал такси. Значительная часть профессоров жила в Академгородке, далеко за железнодорожным мостом. Папу уговорили остаться. Какой смысл переться ночью в Межапарк?!
— До чего они милые, — садясь в таксомотор, сказала мадам Ноллендорф своему мужу. — Тебе обязательно надо поддерживать Таливалдиса. Он высоко взлетит.
— Пускай взлетает. Падение в его собственных руках.
Что хотел академик этим сказать, жена так и не поняла.
— В целом удачно, — уходя, изрекла Домбровскиене, — только в самом конце не хватило еды.
— А ты в лужу села, — в ответ проворчал старик. — Не можешь держать язык за зубами.
Доцент Луринь по дороге пожаловался Фрейвалдам, что у него началась какая-то пакостная отрыжка, видать, съел что-то несвежее.
— Талис признался, что он наконец выбрал тему для диссертации, — вернувшись домой, сказал профессор Зиле. — Просил меня стать его научным руководителем.
— Чего там просить? — ответила мадам. — Давно пора начать самому зарабатывать большие деньги. Долго ли хватит тебя и старого Широна на то, чтобы снимать со сберкнижек. Одна эта помпа стоила тысячу.
— Это была не помпа, дура, это называют вложением капитала.
— Что? Я — дура?
— Прости, Евдокия Филипповна, прости, я сам дурак.
Утром в Унгурах бригадир замечает на стройплощадке фермы молодого человека с гитарой. Парень ходит вокруг, чего-то ищет, расспрашивает. Банный барин стоит на башне и видит, что шофер тычет пальцем в сторону лесов.
— Пастредес Янис уже наверху, придется тебе подняться к нему, раз такая нужда. Старый ворчит, если его беспокоят по пустякам.
Пич осторожно поднимается до первых стропил: тут все в извести, в мелу, намусорено. Дальше ведет приставленная к стене стремянка, у Пича начинает кружиться голова. Он зажмуривает глаза и судорожно вцепляется в перекладину. Еще немного, и он наверху. Остается пройти по доске, один конец которой брошен на гребень крыши, а другой на платформу башни. Наверху стоит банный барин в заляпанных мелом очках, на голове сложенный из газеты колпак. Пич старается не показывать страха, но неуверенные шаги выдают его.
— Доброе утро! — говорит он хрипло.
— Смотри, не сверзился бы, однако! — усмехается старый. — Откуда ты взялся?
— Хотел повидать вас… — неуверенно топчется Пич. Банный барин замечает, что парень не смотрит в глаза, весь какой-то поникший, лицо бледное.
— Ждали целую неделю, а от молодоженов ни слуху ни духу. Хорошо, что ты наконец явился. Ну как, женушке нравится тут? Мать клетушку устраивала, старалась, как могла, застелила простынями из своего приданого. Танцовщица, говорит, косточки хрупкие, ножки тонкие.
Пич топчется, не отвечает. Он вдруг густо покраснел, замялся, почесал бороду и выдохнул еле слышно:
— Я ведь в «Клетскалнах» еще не был… Сперва завернул по дороге сюда.
— Ах, вот как!
Банный барин чует: что-то тут не так. Больше не спрашивает и поворачивает разговор в другую сторону.
— Видишь, тут будет водонапорная башня. Влага, как говорится, для людей и для скотинки. Без влаги жизни нет. Взять к примеру Фигаро: чуть водка и пиво ивановское кончились, сразу уехал. Повесил обратно на стену свои абстракции и был таков… Эх! Ничего не осталось от человека, одно слово — балаболка, скажу я… Раньше целыми днями малевал, теперь только пьет и языком мелет… Жаль, хороший был художник, и еще лучше — человек… Но ты, парень, дай мне сейчас поработать… Скажи дома, что сегодня я кончу работу пораньше: не хватает кирпичей, справимся до обеда, пусть мать оставит еду в запечье.
— Я подожду вас, — запинается Пич. — Лучше пойдем вместе.
— А! — улавливает банный барин. Ромео не охота одному появляться в «Клетскалнах». Что-то стряслось. То ли свадьба расстроилась, то ли с невестой поссорился. Придет время, сам расскажет.
— Чем ждать и слоняться без дела, — говорит хозяин, — лучше помоги. Нам не хватает рабочих. Обещают краны, а дать не дают. Вчера авария произошла — сломалась лебедка, теперь работаем, как в каменном веке. Таскаем кирпич на носилках. Точно во времена неолита. Ты знаешь, что такое неолит?
— Это… откуда тот зуб мамонтовый? — говорит Пич с такой миной, словно у него заныла челюсть.
— Вот-вот… — смеется банный барин. — Вообще-то ты белоручка, но, сдается мне, тебе сейчас не мешало бы хорошенько пропотеть, а не на гитаре бряцать. Возьми да пропотей, как при всякой хворобе. Выздоровеешь и заодно заработаешь лишний рубль.
Банный барин вместе с Пичем спускается на строительную площадку, показывает, где ящик, где небольшой рядок кирпичей (новый завоз прибудет только завтра), как укладывать кирпичи в ящик, как засунуть руки в кожаные лямки и поднять все это себе на спину. Пусть не торопится и делает все аккуратно. Когда с башни позовут, пусть берет раствор, как следует смешает и подаст наверх.
Уже после двух походов Пич привыкает к стремянке и может пройти по доске без дрожи. «Пусть я упаду! — говорит он себе. — Сломаю шею, мне от этого будет только лучше». Скоро с него пот полил ручьями. Кожаные ремни впиваются в тело, к подобным мучениям юный гитарист не приучен. Банный барин советует не класть столько кирпичей сразу, лучше подниматься почаще, но Пич не слушает. Самоистязание — вот что ему необходимо. Он пытается не думать о Сонэле, не думать вообще, избавиться от боли, которая не дает покоя ни днем ни ночью. Чем тяжелее ноша, тем легче чувствует себя душа. В это время он испытывает только физическое страдание, и ему не до Сонэлы. Пока тащит наверх, он свободен от мыслей, но едва начинает спускаться, как снова на память приходит злосчастное воскресенье…
На цыганские похороны я не был приглашен, поэтому все время держался вместе с банной барыней. В то утро она рассудила, что не стоит нестись в такую рань на остановку, все равно придется слоняться по Цесису до полудня. Приехали только в два часа лимбажским автобусом. У Ауциема в салон вошла знакомая моей хозяйки — цыганка Марике, она тоже спешила на похороны и знала уйму новостей о покойном, которые тут же принялась рассказывать. Но я не слушал: думал только о том, что скажу Сонэле, как объясню ей происходящее… По прибытии в Цесис мы заторопились к Пубулиню, потому что похороны были назначены на половину третьего. Я надеялся встретить Сонэлу и там же на кладбище объясниться. Я чувствовал себя несколько виноватым — не явился в Цесис на второй день, как условились. О господи, мог ли я это сделать? На второй день у меня не стало пи моих прекрасных комнат, ни богатого папы, все это я нафантазировал и теперь сам не знал, где приткнуть голову и как жить.
Мы примкнули к толпе у кладбищенской стены и начали ждать. Марике сказала: цыган будет гибель, понаехали со всех сторон. Из Курземе и Литвы — Клейны, Козловские и Марцинкевичи. Из Видземе — Суныши и Симаны.
Разумеется, весь этот королевский сан — одно только звание. Никакой монаршей властью Венэл никогда не обладал. Работал в Цесисе жестянщиком, в старые времена скупал лошадей. А вот предок его, Игнат Марцинкевич, который жил в Польше до 1780 года, действительно считался цыганским королем. Венэл лишь его потомок в восьмом колене. Теперь корона достанется его жене — Сори Мороске. Сегодня ее возведут на престол и объявят «пхури дай».
— Ну, Марике, ты просто гидом родилась, — радуется банная барыня из «Клетскалнов», — в старые времена мы цыган называли бродягами.
Марике чуть было не обиделась: теперь, говорит, не старые времена! Она, например, уже десять лет как работает в совхозе садовницей по договору, а большинство цесисских цыган трудятся в комбинате бытовых услуг, в механических мастерских и в разных артелях. Кое-кто даже домик построил для семьи.
Обсуждение этого вопроса, однако, пришлось прервать, так как из долины донеслись стенания вопленниц. Это старая традиция, сказала Марике, пока гроб не засыпан, хочешь не хочешь, нужно плакать.
Первыми подъехали механизированные похоронные дроги. С обеих сторон их сопровождал почетный эскорт верхом на лошадях. Черноволосые мужчины в лакированных сапогах, в разукрашенных белыми лентами траурных шляпах.
— Все с колхозного конного завода, — шепнула Марике.
За гробом двигалась вразброд толпа вопленниц.
— Вон та толстая посредине — Сори Мороска, вдова покойного, — объясняет Марике. — Она сейчас поет древнюю погребальную песню:
Канн о джункло хи имулло
Талла на дандерла бутыр, —
что в переводе означало бы примерно следующее: когда пес подыхает, он больше не кусает.
Моя хозяйка не могла надивиться подобному тексту. Она бы своего банного барина не осмелилась провожать в последний путь такой песней. За вопленницами двигалось около двадцати подвод. Бородатые старцы, укутанные в платки женщины, кудрявые детишки. Ехали тихо и торжественно, как подобает на похоронах. За подводами следовали автомашины: два такси, три частные.
И тут я увидел Сонэлу. Она сидела в открытой машине рядом со смазливым усачом в красном свитере. Усач левой рукой вел машину, а правую держал на плече Сонэлы. Позади них сидели две молодые цыганки. Они о чем-то оживленно разговаривали. Неожиданно усач показал пальцем в толпу встречающих и что-то сказал. Сонэла громко расхохоталась.
Мы стояли не на обочине, нас было не видно, но почему-то мне стало казаться, что тот детина ткнул пальцем прямо в меня и Сонэла теперь смеется надо мной.
От ревности и злости я даже вспотел. Был готов кинуться на дорогу, вытащить Сонэлу из машины и дать по роже бесстыдному охальнику в красном свитере. Я сдержался в последний миг: похоронные дроги подъехали к воротам кладбища, и процессия остановилась. Усач откатил машину в сторонку, и все поспешно вышли.
Столь странного кабриолета я еще не видел: одно крыло красное, второе — желтое, багажник зеленоватый, одна дверца черная, другая — не крашена. На радиаторе фирменный знак «Альфа Ромео». Наверное, снят с какой-то другой машины. Но авто есть авто, и на нем приехала моя Сонэла…
— Эй, давай скорее раствор! Куда ты пропал, Ромео? — кричит с башни банный барин. — Неужто вышла твоя силушка?
Только-только я снял с плеч пустой ящик для кирпичей, разминаясь, потягивался и собрался было закурить, как услышал его голос. Теперь следовало в темпе размешать железным дрыном приготовленную массу извести: банный барин ждал, спустив на веревке бадейку.
— Если не выдерживаешь, скажи! — кричит он.
— Да нет, хозяин! Я просто немножко задумался.
— Думать не надо, парень, от дум голова портится!
Легко сказать. От таких дум, какие донимают меня, нелегко избавиться. Мои мысли точно слепни: только остановишься, они кусать. Прогнал одного, глядишь, другой прилетел…
До сих пор помню, какой взволнованный я попрощался с банной барыней и, не дождавшись начала церемонии, извилистыми тропами через «Флориду» и Берзайне направился в Цесис. Шел не по дороге, чтобы меня не могли догнать возвращающиеся с кладбища машины. Я спешил к крестной Марцинкевича (адрес я знал: она жила на улице Ливу) встречать Сонэлу и по горячему следу потребовать объяснений. Спросить, что означает усач в красном свитере? Какое он имеет право показывать на меня пальцем и держать волосатую лапу на нежном плече Сонэлы? Может быть, ему неизвестно, что я, Пич, Сонэле почти что муж? Если неизвестно, то почему Сонэла ему не сказала? Пускай усач не лелеет никаких надежд! Ах Сонэла, Сонэла… В этот миг я полюбил ее еще больше… До чего красиво, как соблазнительно сидела она в машине с красной розой в волосах. Моя кешалия в зеленом платке с бахромой!
Крестной у нее на квартире не оказалось. Я нашел ее в доме усопшего, где она накрывала на стол, помогая по хозяйству нескольким стряпухам и обмывательницам покойников. Она была хромой и щербатой старушенцией. Ни малейшего сходства с крестницей, разве что чуть косила глазом, но это, видимо, у них семейное, подумал я.
Крестная меня никогда прежде не видела, но тотчас сообразила, что я за птица и чего тут ищу… Ах, за Сонэлой? Всплакнула, что первая наша встреча происходит при столь прискорбных обстоятельствах и в столь печальный день. Человек на этом свете точь-в-точь трава на лугу: вот он был и вот его уже скосили да отдали на корм овцам.
— Эй, Дортхе, Деубхе, — вскрикнула она, — гляньте, овца сварилась?
Во дворе над костром клокотал черный котел, подвешенный на железной цепи к поперечной орясине. Котел, сработанный королем, истинно королевский сосуд. Рядом — навес. Сарай без наружной стены, там расставлены столы и скамейки.
— О чем это я начала рассказывать? — спрашивает старуха. — Ах да, о покойном… Так вот какие были последние слова Марцинкевича перед тем, как преставиться:
«Бедная Сонэла отхватила богатого мужа с «Москвичом». Эх, доллары, доллары! Даю ей в приданое кружевное платье, белую шаль и пару туфель», — сказал он и испустил дух, но «пхури дай» Сори Мороска слышала, и мы все тоже, так что пусть вдова не думает отвертеться и не выполнить завещания безвременно усопшего.
Ты, молодой человек, должно быть, на «Москвиче». Какого цвета твой экипаж? Сонэла говорит: половина красная, половина зеленая. Она-то не видела, просто так брешет, для фантазии… Нас, правда, больше интересует дом. Сонэла говорит, что дом продаст и переберется в Цесис, у нее тут много друзей, не так скучно будет. В самом деле, переезжайте, у Марцинкевичей отныне просторно.
Не успела крестная Сонэлы закончить свой рассказ, как начали возвращаться с кладбища первые провожающие. Теперь они подъезжали в обратном порядке, сначала такси, затем частные машины. Подводы за ними не успевали, те, говорят, еще не скоро притащатся. Похоронные дроги, естественно, не вернулись — то было бы злостным попранием приличий, поэтому почетный эскорт — всадники с колхозного конного завода примчались вскачь одни, спрыгнули с жеребцов и в сей же час потребовали водки. Управлять жеребцами, мол, разрешается и в подпитии, чем всадники отличаются от несчастных заморышей — владельцев автомашин.
— Наконец-то стало весело, как водится на поминках! — радуются женщины, обмывавшие покойника. — Мертвец это заслужил.
Увидев меня, Сонэла от радости завизжала и бросилась на шею.
— Пичо, чучело! Куда ты делся, что с тобой случилось? Ох ты мой Пичо! Моя собачья голова, мой братик белый.
Сонэла льнет ко мне, а за ее спиной стоят усач в красном джемпере и обе молодые цыганки.
— Это мои двоюродные сестры Данделе и Нотеле, — говорит она. — А это Ларше. Он нас всех троих прокатил туда и обратно на «Альфа Ромео». Восемьдесят километров в час, чуешь!
— Девяносто пять, — поправляет усач, щелкает каблуками и представляется: Витус Ларше, помощник начальника Цесисского приемного пункта «Утильсырье».
А-а, теперь я смекаю, откуда у него такая машина: из сэкономленных материалов!
Когда Сонэла поостывает, шепчу ей:
— Хочу с тобой поговорить наедине, пока не начался пир.
Она заводит меня в комнату сестриц и тотчас бросается в мои объятия.
— Пичо, милый! — задыхается она.
Мир уходит из-под ног. Меня охватывает непередаваемое ликование. Забыты все неприятности, муки ревности. Вижу только смуглое личико Сонэлы, ворошу блестящие черные пряди, целую. Сонэла воркует:
— Я твоя лесная дева кешалия… Ищи меня, Пичо!
Проходит по меньшей мере минут двадцать, пока мы приходим в себя и мне удается склонить ее к серьезному разговору.
— Мы ведь поедем вечером в Ригу, Пичо? — спрашивает она. — Где ты оставил свой «Москвич»?
— А ты бы любила меня, если б у меня никакого «Москвича» не было бы? — спрашиваю.
— Ты большой шутник, Пичо, — говорит она. — Крестная хоть накормила тебя?
Не могу найти интонации, которая заставила бы Сонэлу вернуться к действительности.
— Ты должна знать, Сонэла: отец выгнал меня из дому!
Она распахивает глаза:
— Как выгнал! Куда отец может выгнать?
— Я сам ушел…
Тут она посерьезнела, стала какая-то странная.
— Это значит — у тебя больше нет дома? Где же ты живешь?
— Добрые люди сдали клетушку на лето. Недалеко отсюда в колхозе… Поселимся временно там и заживем вдвоем. Как кешалия и джунклануш. По утрам тебя будет поднимать кукушка, и ты будешь летать на паутине, — пытаюсь шутить я.
— «Москвич» хоть у тебя остался? — спрашивает она.
— Золотце, лично мне «Москвич» никогда не принадлежал. Машина отцовская. Я надеялся, что он нам подарит ее, когда мы поженимся… Теперь это отпадает… Не будем убиваться из-за таких мелочей, — говорю. — Ведь главное — любовь. На жизнь нам хватит. После присуждения большого приза я теперь известный на всю республику композитор.
— Композитор! — издает стон Сонэла.
Она встает, окидывает меня взглядом, исполненным беспредельного отвращения, и еще раз повторяет:
— Композитор!
Затем валится на постель, зажимает рот подушкой и начинает выть. Именно — выть… Страшно слушать. Сори Мороска на кладбище, ей-богу, выла приличней.
Бедная Сонэла оплакивает гибель своего короля…
Хочу успокоить, пытаюсь погладить, а она как даст ногой!
В дверь стучит крестная.
— Идите! Все уже сидят за столом.
Сонэла успокаивается, находит пудреницу и долго прихорашивается у зеркала, освежает лицо и покрасневшие веки.
— Пошли! — говорит она, не глядя на меня. — За столом ты сядешь напротив. Никому ничего не рассказывай, все остается по-старому. Сказка продолжается: у тебя «Москвич», в особняке ремонт и так далее! — она разражается хриплым смехом.
«Сонэла примирилась с судьбой, — думаю я, — значит, порядок, переедем в наш замок в «Клетскалнах».
Когда мы выходим во двор, под навесом полно людей. Тесно прижавшись друг к другу, поминальщики пьют, едят и во весь голос превозносят покойного, будто он сам сидит в толпе. Таков, мол, обычай. Чуть мертвяк под землю, нужно забыть про горе и пуститься в пляс. Те самые бабы, которые у кладбищенской стены так горько стенали, теперь визжат, словно резаные, хлещут водку и дымят трубками.
— Сперва вы оба должны подойти и поздороваться с Сори Мороской, — говорит крестная. — С сегодняшнего дня она — «пхури дай».
Королева сидит на другом конце стола. Огромная туша мяса пыхтит и кряхтит. Подает нам два толстых пальца и бормочет, тряся двойным подбородком:
— Прехмабсхмбрмхдн!
— Она говорит, что рада приветствовать тебя в день похорон своего мужа, — объясняет Сонэла.
Согласно придворному этикету отвечаю:
— Я тоже рад приветствовать «пхури дай» в день похорон ее мужа.
Аудиенция окончена.
Идем искать свои места. Сонэла сажает меня между Данделе и Нотеле. Сама обходит стол с другой стороны и садится рядом с Ларше. Они оба теперь сидят напротив меня. Ларше тотчас спешит наполнить мой стакан водкой.
— Водку я не пью, — говорю, — спасибо.
— Как же ты ее вовнутрь запихиваешь?
Этот хорек обращается ко мне на «ты»!
— Налей мне, Витус, — просит Сонэла. — Вместо него.
— В какое такое место ему налить? — словно не понимая, по-идиотски скалится Ларше.
Сидящие рядом заливаются смехом.
Меня охватывает гнев. Притащился сюда на потеху цыганам. Они чувствуют, что не умею защищаться, и начинают прохаживаться на мой счет и подтрунивать, пристают все больше и больше, особенно Ларше и еще двое с конного завода.
— Ты ничего собой — красавчик, ей-богу! Прямо картинка. Знать, в маму уродился…
— И богат! — подхватывает Сонэла. — Ремонтирует дом и «Москвич».
— Картинка, картинка.
— Картинка завтра женится на Сонэле, тебе-то что? — кричит Нотеле — она невеста Ларше.
— Не женится, если достану лучше, — отвечает Сонэла.
— Где ты достанешь лучше? — дурачится Ларше. — Картинка ведь, картинка!
Сонэла пьет рюмку за рюмкой, щеки ее пылают. Вдруг она заявляет, что будет танцевать.
— Эй, музыканты!
Во дворе на бочках сидят двое со скрипками, один с гармошкой. Музыканты не заставляют себя просить дважды, размахиваются и давай наяривать «У прекрасного голубого Дуная». Никак, сами там побывали.
Сонэла хватает Ларше за руку и тащит на середину двора.
— Идем!
— Первый танец он обещал мне! — кричит Нотеле. Но ни Ларше, ни Сонэла не слушают и пускаются во всю прыть. Сонэла кружится в вальсе так быстро, что юбка ее взметывается и полыхает красным пламенем, обнажая прекрасные икры.
У меня сердце готово из рта выскочить. Когда из-под навеса выходит еще несколько пар, Нотеле сверкающими глазами поворачивается ко мне:
— Слушай, картинка! Пошли мы тоже! Она змея подколодная! Ты поймешь это, лишь когда женишься. Но будет поздно.
Танцор я неважный, поэтому отдаю себя в руки Нотеле, пусть водит меня по волнам Дуная. Двор полон обглоданных овечьих костей, булыжник неровный. Споткнувшись в одном из углов, я чуть было не поволок с собой Нотеле. Она делает вид, будто ей все нипочем: одним глазом следит за своим Ларше, а я — за Сонэлой. Страдаем. Но каждый на свой манер. Я умею скрывать эмоции, Нотеле же разыгрывает спектакль. Кладет обе руки мне на плечи, откидывается назад и через мои плечи смотрит, видит ли Ларше, а когда Ларше смотрит на нее, прижимается ко мне как бешеная.
Мне эти игрушки скоро надоедают, к счастью, музыканты переходят на другую мелодию. Скрипки с надрывом принимаются тянуть какую-то цыганскую песню.
— Хе! — взвизгивает Сонэла и отталкивает Ларше. — Теперь я хочу петь! Музыканты, сначала!
Она вскакивает на перевернутую пивную бочку и, щелкая пальцами, начинает плясовую песню:
Хохепаске хом бенгвалло,
Нашти кнава.
И тэ камав, тэ керав лелло,
То дох на требава…
(Сочинять я слишком глупа,
Изменять я слишком честна.
Пусть будет совсем темно,
Я сама — ничего…)
Скрипачи стискивают мелодию неожиданными подкатами, à la zingarra! Пожмут, подушат и отпустят, подушат, пожмут и отпустят. Голос у Сонэлы надтреснутый, со всхлипом. Сердце у меня бьется в самом горле. О Сонэла, Сонэла, забыла ты своего Пичо!..
По дороге домой банный барин вытащил из меня все: и о Сонэле, и о моих приключениях на поминках.
Спрашиваю, что мне теперь делать? Выдрать из сердца любовь, как сорную траву, я не в силах. Понимаю, что я не пара Сонэле, но мне от этого не становится легче. Чувствую себя разбитым и больным.
— Ты не рассказал мне, чем это кончилось, — допытывается банный барин. — Не таись: между мужиками мужской разговор.
— Вы не проговоритесь хозяйке?
— Какое хозяйке дело до этого? Но я-то должен знать все.
— В этот вечер Сонэла исчезла вместе с Ларше. «Уехали кататься на «Альфа Ромео», — рвала на себе волосы Нотеле. Я встал из-за пиршественного стола. Обрыдли мне крикуны. Вышел вон со двора, двинулся мимо церкви прямо в замковый сад. Бродил по развалинам замка и по улочкам Старого Цесиса, пытался постичь, что же произошло. Когда выдохся и стало холодно, пошел на станцию, прилег на скамью и до утра продремал в тревожном полузабытьи. Первым поездом уехал в Ригу. Это конец, сказал я себе… И тем не менее не находил в Риге покоя. Сонэла ведь предупредила меня: «Все остается по-старому, смотри, никому ничего не рассказывай». Это значит, Сонэле нужно время, чтобы примириться с новыми обстоятельствами. Через четыре дня я так соскучился, что не стал раздумывать: сел с утра на поезд и поехал в Цесис. Дошел до дома Марцинкевича и позвонил. Дверь открыла крестная Сонэлы. В этот раз хромая ведьма ни в какие разговоры со мной не вступила. Сказала: «Сонэла тут больше не живет, просим впредь не беспокоить».
Когда я стал требовать объяснений, кривой глаз старухи вспыхнул гневом, и она закричала: «Ух ты, псиное отродье. Приволок на нашу голову эту холеру из Кишинева. Моя дочка Нотеле повеситься хочет, да, повеситься! Жулик Ларше увез Сонэлу со всеми пожитками в свой новый семейный домик в Лауцинях. В понедельник пошли в загс. Жулики и мошенники, уже заявление подали. Да будь ты проклят, собачье отродье!»
Вот так это и кончилось, — говорю.
— Гм, да… — вздыхает банный барин. — Жалко, что не могу жене рассказать. Она бы воскликнула: «Ну точно как в «Кармен», только без крови». Старушке страшно нравятся оперы и оперетты, особенно такие — с цыганами. Что я могу тебе сказать в утешение, мой дорогой Ромео? Сперва один вопрос: ты часом свое «Альфа Ромео» не свинтил ли с чужой машины?
Чувствую, что краснею до корней волос. Не знаю, что ответить.
— Как тебя зовут на самом-то деле? — спрашивает банный барин.
— Пич…
— Ну вот так бы и сказал сразу. Порядочное видземское имя. Фигаро, тоже мне, понимаешь, в прятки играет, думает, я не знаю, кто он такой. Пинкулис! Пинкулис, и ничего больше. Не может прыгнуть дальше своих абстракций. Закостенел. Застыл на месте и разыгрывает непонятого. Не знает, что делать, как малевать, сам несчастен… Мне жалко его, но помочь ничем не могу. У меня нет детей, возьму тебя на лето вместо сына. Попытаюсь сделать из тебя мастера. Не бойся — не каменщика. Станешь хорошим художником, как только начнешь понимать, где собака зарыта. А собачку эту, парень, надо искать в преодолении сопротивляемости материала, иными словами, в самом труде да вечно живом ищущем духе. Надобно иметь тысячу интересов, но все они должны сходиться в одном фокусе, в одной точке. Эта точка — твое искусство. И второе: надобно знать, что ты хочешь сказать. Долой импровизацию, это самое жалкое занятие из всех, какие я только могу себе представить.
Пока лечись от любви, работай на стройке. Руки не испортишь, не бойся. Теперь, когда ты имеешь нормальное человеческое имя и фамилию, я могу оформить тебя полноправным строительным рабочим. Сначала пойдешь в помощники, а через пару недель поставим тебя на башню. Будем работать плечом к плечу.
— Только хозяйке ничего не рассказывайте.
— Клянусь зубом мамонта! — говорит банный барин. — Главное, ты теперь при деле.
В субботу Талис и Лига обещали на отцовском «Москвиче» (профессор из экономических соображений недавно уволил шофера Юлия) приехать в «Ванаги», чтобы вместе провести конец недели. После завтрака заморосил дождь, и погода окончательно испортилась. Едва настал август, нивы только-только зажелтели, а настроение уже было тоскливое, противно осеннее… Профессор, закутавшись в плед, сидел на веранде, застекленной цветными квадратиками, и ругался про себя. Читать было нечего, и он все утро проскучал. Затем придвинул кресло поближе к узорчатому окну и принялся разглядывать двор через стеклянные квадратики. Становилось как-то уютней, когда двор и колодец представали перед его взором сперва в желтом (казалось, будто солнце выглянуло), а потом в красном свете (словно в испорченном телевизоре). Ни радио, ни телевизора в «Ванагах» не имелось. Карлине это было не по средствам, а профессор жалел денег — больно дорогой подарок для сестры. Он был человеком бережливым.
Профессор представлял себе отпуск совсем иначе. Он приехал сюда, чтобы в родном пиленском краю провести последние несколько недель перед началом занятий в консерватории. Надеялся обойти знакомые, милые сердцу места вокруг озера Пилсмуйжи, церкви, зайти на Ванагское кладбище, где его предки покоились под серым гранитным памятником, на котором была выбита надпись «Фамилия Ванагских Широнов». Кабы не дождь, профессор поднялся бы и на мельничную горку, где теперь маячила только обвалившаяся башня без крыльев. В годы его молодости рядом с горделивой стройной мельницей в домике под красной крышей жил мельник Манделберг, и была у этого мельника дочь.
— Если не ошибаюсь, Фрида, — силится вспомнить старец. — Наложила на себя руки… Мы встречались только одно лето, а потом я, в ту пору молодой студент консерватории, уехал в Петербург.
После обеда в «Ванаги» на мопеде приезжает почтальонша. Привозит газеты и толстый пакет.
— Вам, товарищ Широн… Заказное письмо, пожалуйста, распишитесь!
— Как они, черти, узнают, где я нахожусь? — сетует старик. — Каждый телефонный звонок, каждое послание — это ущемление моего права на отдых. Мне нужно набираться сил для нового учебного года. (Пока я еще не думаю уходить на пенсию, а силой меня никто не заставит! — с внешнего монолога профессор переходит на внутренний. — У меня имеются весомые заслуги… А замены покамест нет, об этом я, осел, сам позаботился. Ай, Пич, Пич!..) — Спасибо за газеты и до свидания.
«Цесисский район п/о Аутине,
Пиленский сельсовет «Ванаги»
Уваж. профессору Теодору Широну».
Широн аккуратно распечатывает толстый конверт. В нем лежат вшитые в жесткую обложку пожелтевшие странички, испещренные мелкими каллиграфическими буквами. На обложке жирным карандашом выведено — «Завещание старого пастора». К нему приложено сопроводительное письмо и какие-то фотографии. Профессор надевает очки и читает:
«Уважаемый профессор!
Не осмеливаюсь обратиться к Вам иначе, хотя было время, когда мы называли друг друга на «ты», но то была другая эра: прошлое столетие. Во всяком случае, ощущение у меня такое, что минул с тех пор по меньшей мере век, потому как жизнь изменилась до неузнаваемости. Также и люди. Вы стали знаменитым деятелем искусств, профессором, а я работаю в колхозе строителем, хотя до войны тоже собирался учиться в университете. По существу, конечно, нынче все ремесла признаны, одинаково ценятся и почитаются, разница лишь в том, как кто работает. Но, зная Вас, как говорится, с молодых ногтей, сильно сомневаюсь, согласитесь ли Вы со мной. Внешне, конечно, да (на собраниях, лекциях и пр.), иначе Вы не стали бы профессором композиции или доктором музыковедения (черт знает, как правильно, мы, бродяги-мастеровые, так сказать, черные, в этих чинах не бог весть как разбираемся).
Чтобы Вам не надо было теряться в догадках, кто я такой, напомню, что мы оба перед конфирмацией ходили на учение к старому пастору и в одно и то же время стали членами пиленского лютераноевангелистского прихода. Наши хутора значились в одной и той же волости. От моего, который стоял на высоком Гауйском утесе у речки Скалюпе, в ясную погоду чуть в стороне от купы деревьев, что росла в «Карлюкалнах», был виден жилой дом «Ванагов». Надо было только пристально всмотреться в даль. Если бы я писал Вам это письмо сто лет назад, сие длинное вступление, безусловно, отпало бы. Вместо него стояла бы одна фраза: «Тэдис, старый осел, я — Янис Пастреде!» Но сегодня это звучит страшно неприлично, прошу извинения, уважаемый профессор! Сейчас исправлюсь. Только вспомню мимоходом последнее лето, когда Вы начали сторониться моего общества, потому что должны были упражняться в игре на скрипке. Вы помышляли лишь о том, как бы развить свой «фингерзац», как уберечь руки. Не ходили на отцовский луг косить сено, даже вожжи в руки брать отказывались, поскольку это могло бы нанести вред «фингерзацу». Мы стали чужими, ибо как ставить пальцы на струны, меня не интересовало. По сей день меня занимает лишь суть вещей, а не техника. Очень люблю картины, интересуюсь археологией, но никогда не задавался целью стать дипломированным художником или археологом. Единственная отрасль, где я выработал свой «фингерзац», — это строительство деревянных сооружений, и если Вы, профессор, когда-нибудь надумаете построить себе летнее имение из круглых бревен где-нибудь на территории Гауйского национального парка, то обращайтесь ко мне, потому что в этом деле я такой же народный артист, как Алоизий Юсминь на цитре и Вы, уважаемый профессор, на сопелках. Моя жена уверяет, что Теодор Широн — лучший главный хоровой дирижер в нашей республике. Вы, говорит, умеете воспламенять, ваши жесты-де невероятно повелительны. Хористки, мол, Вас на руках носят.
Вы, вероятно, захотите узнать кое-что и обо мне.
Я сейчас работаю на очень высоком посту. Очень высоком. Строю на Унгурской ферме водонапорную башню. Зарплата? Вряд ли у Вас наберется больше… Деньги использую на благотворительные цели: поддерживаю искусство и артистов. На досуге тайком занимаюсь науками. Запираюсь в комнате и пишу историю пиленского края. Я еще довольно бодрый старик. Ни одни черт не заставит меня уйти на пенсию, хочу сохранить свой статус кво. У меня есть и определенные заслуги: прошлым летом я свалился с крыши на борону и ушиб бок. Стало быть, я — пострадавший в 1966 году… Упоминаю об этом лишь для того, чтобы Вы могли войти в мою шкуру, потому что пострадавший всегда поймет другого пострадавшего.
Но теперь о главной причине, по которой я беспокою Вас столь длинным письмом. Дело вот в чем: я закончил исследование одной интересной пиленской пещеры на территории бывшего хутора «Пастредес», на берегу Скалюпе. Это редкая геологическая находка. Мало того — памятник археологии, ибо я нашел в ней несколько костей, примитивные каменные топоры и главное — зуб мамонта (!). Фотографии топора и зуба прилагаю.
Пещера, к сожалению, не очень прочная. Я обнаружил несколько обвалов. Покопавшись в рыхлом пласте, нащупал под обвалом множество других странных предметов.
Все это я записал и изложил в довольно пространном сообщении. В прошлом году я был в Риге, узнавал, нельзя ли опубликовать мой труд, но редактор потребовал заключения ученого. Тут в редакцию зашел какой-то молодой археолог. Я дал ему прочесть свое исследование, но этот хлыщ с ходу отнесся с предубеждением и к зубу, и к моему сообщению. Я, дескать, не дипломированный историк, не геолог, а чистый дилетант. Посоветовал мне заняться филателией, а если у меня есть еще какие-то материалы, то передать их институту.
Я сказал, что ни при каких обстоятельствах не отдам свои находки другим. Требую, чтобы опубликовали мое сообщение. Если после этого они захотят и сумеют, пусть выступят с опровержением, вот мое последнее слово.
Теперь во имя старой дружбы, товарищ профессор, прошу Вас помочь мне. Слышал, что профессор Зиле приходится вам близким родственником. Вы хорошо знаете академика Ноллендорфа. Помогите мне опубликовать сообщение. Может показаться странным, что такой принципиальный старик, как Янис Пастреде, ищет блата и знакомства, но другого выхода у меня нет. Или я опубликую труд своей жизни (пещеру знаю с 1942 года), или открытие ее уйдет вместе со мной в могилу. Никому другому найти описанное место не удастся, ручаюсь головой: эсэсовцы два года искали, не нашли.
Прилагаю к сему письму и прошу принять от меня небольшой подарок. На чердаке пасторского дома, перекладывая трубу, среди старых газет и песенников я обнаружил эти тетрадочки, которые сшил вместе и назвал «Завещанием старого пастора». Насколько я понимаю, завещание много лет назад написал пиленский священник. Позже он спрятал его на чердаке и, должно быть, забыл о нем. Завещание может заинтересовать главным образом Вас (подчеркиваю двумя чертами).
Язык старого пастора довольно корявый, способ изложения отрывочный, но советую прочесть эти странички до самого конца. Только никому другому в руки их не давайте. Прочтите, поразмыслите. После чего можете их сжечь.
Это все. В надежде получить Ваш ответ, заранее благодарю за Ваши заботы и советы.
Талис и Лига приехали только к вечеру. Едва они появились, как в «Ванагах» сразу прояснилось, стало уютней, даже старая Карлине вышла из своей светлицы. Талис всегда создавал вокруг себя приятное настроение. Пошутил со старой тетей и сообщил, что привез ей сказочный подарок: семимильные сапоги. С этими словами Талис вынул из дорожной сумки резиновые сапоги. Чтобы ходить в хлев, потому как Карлине держала корову, а молоко, естественно, летом им было весьма кстати… Старушка не могла нарадоваться, даже всплакнула (профессор и самого ничтожного пустячка не удосужился ей привезти).
Лига вынимала из торбы покупки: белый хлеб, подовый хлеб, охотничьи колбаски (их они купили в придорожном ресторане «Сените»), ветчину, сало, помидоры и огурцы.
Таливалдис был внимательным, заботливым сыном, еще прошлым летом каждую пятницу привозил в «Ванаги» продукты. Карлине и отец жили как у Христа за пазухой.
Старый Широн с удовольствием смотрит на сына. Великолепно сложенный парень (как-никак спортсмен), умеет держаться, остроумный. Выглядит много моложе Пича, хотя старше его на четыре года. Возможно, потому, что Пич носит бороду. Талис тоже отрастил довольно симпатичную щетинку на подбородке, когда пришла мода на бороды. Но как скоро сей волосяной покров стал превращаться в символ упрямства и глубокомыслия, Таливалдис немедленно свою бородку ликвидировал. Ни у одной души в институте не должно возникнуть ни малейшего сомнения относительно его лояльности к Ноллендорфу, который терпеть не мог бородачей. Талис знал из истории, что Каспара Биезбардиса[38], то есть Пышнобородого, преследовали до тех пор, пока начальник рижской жандармерии не убедился, что у бородатого Каспара никакой бороды нет.
«В наши времена, когда иной старец вдруг начинает щеголять рыжей метелкой, преимущества и минусы бород следует хорошенько взвесить», — шутил тогда Талис.
Профессор вздыхает, вспомнив о Пиче. Где он теперь шатается, с какими бродягами якшается? «Юн годами, в сердце старость», — как поется в песне Эмиля Дарзиня[39] (тот, между прочим, тоже был не паинька, помню его по Петербургу). Профессор в консерватории обратил внимание, что все юноши, которые увлекаются звукозаписями и электронными инструментами, рано лысеют. И те бородачи, которые приходили к Пичу в гости в Межапарке, в большинстве все были с лысинами.
«Не знаю, как бы отнеслась ко всему этому Марианна, будь она жива»? — думает профессор. Папа редко вспоминает свою покойную жену Марианну, мать Пича. Ее также нельзя было рассчитать вперед, как и Пича. Профессор женился поздно. Ему было без малого пятьдесят лет, жене — двадцать пять. Они не понимали друг друга, не могли ужиться.
«К счастью, бог прибрал ее раньше, чем предполагалось, — думает профессор. — Дело так или иначе кончилось бы катастрофой». Размышляя, он пришел к поразительному выводу: «Таливалдис пошел в меня, а Пич в Марианну. И ничего тут не исправишь, Пич списан…»
Когда Лига уходит отдыхать, а Карлине доить корову, профессор, тщательно отрезав конец письма, где говорится о завещании пастора, дает Талису прочесть послание Яниса Пастреде. Что он скажет об этом?
Талис садится за стол, долго вертит и изучает исписанный листок, затем лицо его мрачнеет, и лоб прорезает глубокая складка.
— Что-то неслыханное! Это издевательство и шантаж! — восклицает он. — В моей и, надеюсь, в твоей автобиографии каждый может прочесть: происходили из неверующих крестьян-середняков. Тебя же в 1905 году высекли у церкви за богохульство? — Талис читает дальше: — «Тэдис, осел!» Неслыханно! Каменщик осмеливается тебя, народного артиста, обзывать ослом. Я ничего не понимаю, ей-богу, ничего… Тайно занимаюсь науками… Нет, ну как тебе это нравится? Какими науками? Почему тайком?.. «Пострадавший в шестьдесят шестом…» Непонятный какой-то шифр… Что за ним кроется? Я бы на твоем месте отдал эту анонимку соответствующим органам. Почему у письма нет ни конца, ни подписи?..
Таливалдис вертит бумагу, разглядывает, затем, почитав еще немного, начинает безудержно хохотать:
— Это же тот самый сумасшедший старик, которого я встретил в редакции «Науки». Редактор Подынь просил, чтобы я тут же на месте дал свой отзыв на археологически-геологический бред этого дяди. Научная фантастика, сказал бы я, не будь она так нелепа. Этот плотник вытащил из затасканного портфеля какой-то странный предмет и представил нам как зуб мамонта. Что это за штука я, ей-богу, не мог определить, ну какая-то окаменелость была, но, конечно, не зуб мамонта. Мы еще потом долго в редакции смеялись.
Значит, письмо тебе прислал мамонтов дед. Потрясающе! Начинаю смекать. Но нечего волноваться. Хотя тут явно чувствуется насмешка, направленная против нас, академической интеллигенции.
…Черным называет себя, как будто мы белые. Белогвардейцами сделал. Надо бы поинтересоваться, чем этот «черный» занимался до нашей эры. Почему в одном случае он — сын богатого хозяина, в другом — эсэсовцы спалили дом, в третьем — не хочет больше учиться и становится каменщиком, а в четвертом — по вечерам тайком пишет древнюю историю своего края. Ясное дело: фальсифицирует историю…
— Небо очистилось, — выйдя на двор, сообщает Лига. — Слава богу, завтра будет погожий день.
— Верно, — подтверждает старая Карлине. — Когда солнце садится за «Карлюкалн» без венца, то день предстоит ведреный, а коли закат красный, — жди дождей и ветра.
Карлине прожила весь свой век среди пиленцев, она знает все приметы, умеет ворожить, только стесняется. Корову свою, однако, вылечила заговором.
Тут во дворе появляется папа и приглашает на прогулку: целый день на веранде сиднем просидел, надобно малость поразмяться. И вот они втроем: профессор, Талис и Лига — начинают шагать по гладкому асфальту — обсаженному пышными дубами шоссе — в сторону Пилсмуйжи. Над Ливозером курится туман. Там хорошо берут лещи, уверяет папа. Еще лет эдак двадцать назад они оба с Хинценбергом катались по озеру, ставили удочки и жерлицы, но охотней всего ловили на дорожку. Старый Хинценберг на глаз определял, в каком омуте какая рыба кружит.
А вот справа за обочиной дороги в сарайчике с углами из цельных камней в девятьсот пятом году революционеры прятали оружие.
— Из чего вы тогда стреляли, папа, из карабинов или охотничьих ружей? — спрашивает Таливалдис.
Профессор делает вид, что не слышит (в пятом году он оружием не интересовался, его оружием была скрипка).
— Перейдем к вопросу, почему дубы так медленно растут и набирают толщину. Вон дубовая роща, которая спускается с горы Пилсмуйжи до самого озера. Во времена моего детства эти деревья были точно той же высоты и толщины, что и сейчас. Земля, что ли, тут слишком скудная?
На обратном пути они сворачивают мимо церкви на Ванагский погост навестить дедов и прадедов. Карлине обсадила могилки цветами, цветут петуньи и герани и еще какие-то усатые вьюнки.
Лига думает, что было бы красивей обложить холмики зеленым дерном, но папа отвечает, что это дело Карлине.
«Кто будет убирать, когда Карлине сама сюда переедет? — думает профессор. — Меня-то устроят на Лесном кладбище в Риге, на видном месте, я уже приглядел его».
Уходя по аллее с кладбища, Лига останавливается у высокого памятника, похожего на ствол сломанного дерева.
— Müller Hans Mandelberg, — читает Таливалдис.
— В моей молодости он был владельцем той мельницы, что наверху, — говорит папа. — Немецкий колонист.
— А внизу на плите: Frieda Mandelberg, родилась 6 мая 1886 года, умерла трагической смертью 2 августа 1904 года.
— Ей было только восемнадцать лет, — удивляется Лига, — и умерла трагической смертью. Странно, что с ней случилось?
— Люди говорили, под поезд бросилась, — не останавливаясь возле памятника, говорит папа. — Идем, идем…
— Погоди, какое сегодня число? — считает Талис — Второе августа. Выходит, шестьдесят пять лет назад. Не странно ли, что это случилось ровно шестьдесят пять лет назад?
— Да ну! — удивляется папа. — Неужели столько времени прошло? Шестьдесят пять лет…
До «Ванагов» профессор не произносит больше ни слова. Лишь постукивает палочкой и мурлычет песню Дарзиня: «Розы рвешь пока без волнения, в косы заплела их без умысла. Пройдет день-другой, покраснеешь ты, когда в роще он тебе встретится». Видать, вспомнил былое.
— Для папы такая дорога слишком утомительна, — жаловался позднее Талис жене. — Зря не поехали на «Москвиче».
Когда отец уже лежит в постели, в дверь стучится Талис. Ему-де хочется еще немножко поболтать. Папа несколько удивлен, поспешно прячет под подушку какие-то бумаги и спрашивает:
— Разве мы не наговорились за день?
Таливалдис присаживается на край постели и после небольшой паузы хватает быка за рога:
— Хотел тебе сказать, что приступил к работе над диссертацией. Тесть берет на себя научное руководство.
— Ну и прекрасно, — отвечает отец без особого энтузиазма. — Давно пора, чего ты тянул столько времени?
— Не мог найти тему. Писать просто так об известных всем материях не в моем характере. Надо было найти нечто эдакое, что вызвало бы всеобщий интерес, всколыхнуло научные круги.
— Ну, ну!.. Наверное, Зиле тебе ее подбросил?..
— Не Зиле, а я сам… Великолепная тема.
— И как звучит твоя тема? (Так спрашиваю я в консерватории.)
— Редкий памятник неолита в Латвии. Пещера Пастреде.
Папа на некоторое время онемел. Смотрит на сына — и ни слова. Затем ему начинает казаться, что сын увеличивается в объеме, растет, становится все больше и больше, а вместе с ним и кровать, на которую он присел, и стол, на который он оперся своей исполинской рукой. Под конец папа чувствует, что сам он тоже разбухает и как-то незаметно начинает парить. Профессор был человеком масштабных действий, однако на такой размах, какой только что продемонстрировал его старший сын, папа в своей жизни еще не отважился, разве что в тот единственный раз, когда в консерватории голосовал против заведующего кафедрой и сам сел на его место.
— Как ты это сделаешь? — спрашивает папа, когда все вокруг снова приняло прежние очертания.
Кто тверд умом, кто крепок волей,
Дорогу спрашивать не будет.
Сквозь лес дремучий к светлой доле
Он сам себе тропу прорубит.
В детстве ты меня заставлял каждый вечер прочитывать этот стишок вместо «Отче наш», — говорит Талис. — Но на сей раз тебе придется немного мне помочь. Ни Зиле, ни Ноллендорф ничего не должны знать о мамонтовом деде. По крайней мере, до тех пор, пока я сам не найду и не осмотрю эту пещеру.
— Но как ты ее найдешь? — шепчет папа. — Не слишком ли это рискованно?
— Я уже два раза проделал тщательнейший осмотр местности. Воспользовался твоим «Москвичом», прости, но иначе к «Пастредес» не подобраться, это совершенно вымерший угол, туда не ходит ни один автобус. Я вел поиск концентрическими кругами, начиная с дорожного мостика, который ведет через Скалюпе. С одной стороны большака там крутой скалистый склон, наверху которого стоят развалины хутора «Пастредес», а под кручей петляет через лес Скалюпе. На дороге я встретил старую тетушку. Она действительно припомнила, что среди пиленцев шли разговоры о какой-то подземной пещере, в которой якобы водятся странные черные звери, но где она расположена, этого, мол, никто не знает. Разве что Янис Пастреде, он при немцах в ней прятался. Но потом он аккуратно засыпал вход породой и засадил кустами да деревьями. Я должен был определить, где, исходя из геологических данных, могла бы находиться пещера. В своем письме мамонтов дед упоминал об обвалах. В пещере — надо полагать, она тянется в длину на несколько десятков, а то и сотен метров — кое-где имеются обвалы.
В поисках обвалов я исходил вдоль и поперек сначала правый, затем левый берег Скалюпе, но ни на круче, ни у ее подножия характерных воронок не нашел. Вскоре, однако, я обнаружил нечто другое, не менее интересное. Пробираясь через кусты по руслу прохладного и хрустально чистого ручейка вверх, я вдруг остановился в полном недоумении. Ручейка не было, он исчез, дальше тянулось лишь заросшее сухой травой ложе. Я поковырялся в осоке. И точно: оттуда бил родничок. Из подземелья вытекала наклонная струя ледяной воды. Подземные пещеры обычно вымываются именно такими вот родничками. Я начал внимательно обследовать ближайшие окрестности ручейка. Неподалеку за кустами на горе дугой шел большак. Когда я вышел на него, то у развилки, ведущей на хутор, увидел два дорожных знака, два желтых круга с красным ободком. На одном силуэт автомашины, на другом — лошадь с повозкой. Дальше ехать запрещается: у меня водительские права, я знаю. В чем же дело? Метров через пятьдесят я увидел восклицательный знак, а сразу за ним в середине проезжей части проселка большой песчаный провал. Такой огромный, что в нем уместился бы весь ванагский дом вместе с трубой. Дожди минувшей недели страшно размыли дорогу. Очевидно, массы воды нашли путь куда-то в подземелье, вырыв при этом глубокую яму. Этот факт можно было рассматривать как верное доказательство того, что, по крайней мере, один сектор пещеры следует искать между родником и проселком, идущим в средней части склона. В этом промежутке ниже проселка берег Скалюпе образовывает крутую скалу. Здесь предположительно и должен находиться замурованный вход в пещеру. Во всяком случае, версия вполне допустимая. Каким же способом найти вход? Я решил: попытаюсь искать методом аускультации. У меня не было с собой никаких подсобных средств, только обнаруженная в багажнике «Москвича» лопата. Я мог бы достать геологические инструменты и разведывательную аппаратуру в лаборатории, но тогда пришлось бы рассказывать о моей затее другим, а я хочу быть единственным первооткрывателем таинственной пещеры. Поэтому я принялся зондировать крутой скалистый берег самым что ни на есть примитивным способом. В поте лица проработал первый день до позднего вечера, второй — до обеда, пока шаг за шагом, ударяя лопатой о землю, не натолкнулся на странный глухой звук. В этом месте чуть выше уровня воды я увидел под корягой черную дыру. Просунул руку и почувствовал жуткую боль: неожиданно напоролся на водяную крысу. Укусив меня, гадкая тварь шумно удалилась как бы по длинному коридору, где-то вдали сыпалась галька и звенело эхо. Это длилось секунд двадцать. На всякий случай я чиркнул спичкой и поднес ее к дыре: струя воздуха потянула пламя вовнутрь. За дыркой, по всей вероятности, находилось просторное помещение. Чтобы как можно наглядней представить место, я набросал для тебя план…
Итак, папа, остается поставить точку. Сегодня утром я нагрузил в «Москвич» лопаты, ломы и мотыги, взял с собой большой фонарь и на всякий случай фотоаппарат со вспышкой. Завтра с утра мы с Лигой поедем в «Пастредес», никто другой не должен об этом знать.
Лига поможет мне убирать откопанную породу, иначе мы загородим течение, а этого допустить никак нельзя. Если замаскированный вход окажется в предположенном месте, то через полчаса я буду в пещере. Если же придется вгрызаться в пласт, понадобится еще несколько дней. Однако «Кто тверд умом и крепок волей»… и так далее, как ты учил меня в детстве, после этого куплета всегда надо было ложиться в постель и закрывать глаза. Спокойной ночи, папа!
Талис ушел спать, а папа до полуночи читал «Завещание старого пастора».
Когда они на «Москвиче» сворачивают с большака на проселок, где стоит знак «автомашинам проезд запрещен», занимается солнечное, пригожее утро.
— Слушай, не делаешь ли ты что-нибудь незаконное? — тревожно спрашивает Лига.
— Незаконное? — смеется Талис. — Правила движения придуманы для нашей безопасности, чтобы мы не угодили вон в ту яму и не разбились.
Лиге, пока они ехали по лесистой вымершей местности, стало немного не по себе. По обочинам дороги виднелись полуразвалившиеся риги, длинные трубы, как намогильные камни, торчали на местах прежних жилищ. Слева то тут, то там мелькали и скрывались красные песчаные скалы Гауи.
— Это Эдерниек, то Кутис, а там вдали утес Ятниеку, — пояснял Талис.
Но вот путь окончен. Лиге поручается отнести лопаты и мотыги, машина останется здесь, у скошенного поля клевера. Им предстоит продраться через заросли, спуститься вниз по крутому склону. Тропу Талис обозначил воткнутыми в землю колышками, иначе невозможно ориентироваться, поскольку берег тут дик и местами совершенно зарос. Ползая под хвойными лапами елей, они вспугивают какую-то крупную птицу, которая взлетает со страшным шумом и исчезает в вершине ели. «Жуткое место», — думает Лига. Она сама ни за что не полезла бы в такие дебри, потому как выросла в городе и что такое лес знает только по сказкам о зверях. А что, если вдруг вылезет чудище с песьей головой или оборотень? Талис шагает впереди и тихо напоминает, чтобы она так не гремела лопатами, в лесу, дескать, слышно на много километров окрест. «А кто тут слушает?» — хочет спросить она, но Талис уже внизу, у Скалюпе, где внимательно разглядывает какую-то корягу. Затем он переодевается в синие джинсы, в которых лазает под машину, и начинает маленьким топориком срубать растущие рядом кусты и деревца. У Лиги на ногах высокие сапоги: ей вменяется в обязанность переносить через речку срубленные ветки и бросать в кучу. Лига, смеясь, бредет по каменистому ложу речки, но, не дойдя до середины, спотыкается, и ноша плюхается в воду. Тогда Талис приказывает перенести свалку ниже по течению, где берег не так крут, а сам лопатой принимается сковыривать мох с выступа, повисшего чуть выше головы над откосом.
Обнажается белый песчаник, но, приглядевшись получше, Талис замечает, что между глыбами песчаника виднеются красные прожилки: слои глины и хвороста.
— Чисто сработано! — смеется Таливалдис. — Мамонтов дед строил по всем правилам панельных сооружений. Лига, дай лом и сама отходи куда-нибудь подальше.
Он налегает на лом, пробуя поддеть одну из вмурованных глыб. Глыба отделяется от прокладки и мало-помалу начинает подаваться. Талис жмет еще и еще, напрягая все свои силы. Наконец махина выкатывается из гнезда и отделяется от стены. С глухим стоном ударяется о землю и превращается в кучу белого песка. В стене скалы появилось окно. Талис карабкается вверх и видит, что это потолок пещеры. Слишком высоко стал ломать. Теперь, пока прорубишься до основания пещеры, которое интересует его прежде всего, возни не оберешься. Лиге, бедняжке, придется как-нибудь убрать песок, потому что он скапливается именно там, где Талис намерен пробить главный вход. Один за другим сверху отделяются и разлетаются вдребезги расшатанные камни, иной величиной с канистру из-под бензина, другой — точно полный мешок с картошкой. Как только этот мамонтов дед ухитрился поднять их наверх и пригнать? Таливалдис не может взять в толк. Строил, точно Хеопсову пирамиду. Сам черт, что ли, приходил ему на выручку? В пять часов пополудни входное отверстие проломлено: снаружи видны первоначальные очертания пещеры. Высота ее метров пять, ширина примерно четыре метра, но дальше она расширяется и скрывается в темноте. Где-то в глубине слышится, как журчит и капает вода.
На противоположном берегу они расстилают скатерку и с аппетитом съедают прихваченный из дому обед. Экспедиция удалась на славу, теперь нужно действовать как можно быстрей: в понедельник ехать в Ригу с сообщением. Лига собирает тарелки и ложки и идет к омутцу помыть. Талис включает свой мощный фонарь и осторожно влезает в черную темень, дабы приступить к научно-исследовательской работе.
Войдя в ледяную быстрину, Лига замечает высокий согретый солнцем валун и взбирается на него. Руки-ноги гудят от усталости, она с трудом управилась с посудой, сейчас в самый раз распластаться на камне, но одной тут, в чащобе, среди бурелома, как-то неуютно. Талис по-прежнему возится в пещере. Наказал вести себя тихо. Лига и сидит, словно мышка. Вдруг ей показалось, будто по земле пробежал гул. Содрогнулся берег, затрещали ели… В проломанное отверстие из пещеры вырывается туча пыли. Лига вскакивает с камня и стремглав кидается по гальке к противоположному берегу. Она не оглядывается, потому как за спиной раздается еще более глухой, еще более страшный гул. Деревья ломаются и падают. В чащобе закаркали вороны, а затем снова могильная тишина… Ужас, ужас! Река полна сломанных деревьев, корни, как бороды чудовищ, вздымаются над берегом. Ужас!
Лига кричит истошным голосом. Спотыкаясь, несется вдоль берега, холодная дрожь сотрясает тело, ее охватило безумие: она слышит, будто за ней кто-то гонится, до нее явно доносится чей-то топот… У Лиги подворачивается нога, она падает и повисает на протянутой между ольхой колючей проволоке. Лицо, руки заливает кровью… Она выбегает на большак:
— Помогите!
Где-то на той стороне Гауи кто-то откликается:
— Гите…
— Помогите, помогите!
— Гите! Гите!..
Это всего лишь эхо. С берега на берег, с облака на облако оно перебрасывает звуки, пока они не исчезают совсем, потому что в здешней долине не ютится ни одна живая душа, это печальное место: леса, скалы и по обочинам дорог трубы, как намогильные камни… Помогите!
— Ты с ума сошла?! — с перекошенным от злобы лицом шипит Талис. Он одет в синие джинсы, в руке фонарь и фотоаппарат. — Еле догнал тебя. Весь свет хочешь поднять на ноги своими воплями! Дура!
Лига не отвечает. Она садится на обочину и заливается истерическим плачем. Руки и лицо сплошь в крови. Талису прямо дурно становится от ее вида.
— Сполосни кровь и ступай к машине. Я должен замаскировать вход, нужно свалить еще пару елок, потом поедем домой.
«Господь Саваоф! Ты свидетель, что я всегда неизменно был добрым пастырем для моих прихожан и что все упреки несправедливы, а обвинения, каковые против меня возводят мятежные люди с кровавыми знаменами, не что иное, как злой извет. Противился ли я когда-нибудь порывам добрых пиленцев, кои стремились к духовному прозрению и к истинной вере? Не приложил ли руку к святому делу просвещения, построив на свои кровные деньги соборный чулан, где могли бы сходиться христианские девы и отроки? Однако ж мое радение никому более не видно, ибо в меня бросают камень, будто в девятьсот пятом году я являл собою кровожадного волка, носившего овечью личину. Припадаю к твоим стопам, господь Саваоф! Яко злосчастный Еремия, всеми покинутый и оплеванный, отвергнутый своей паствой я посреди ночи бегу в Цесис к Др. Кивулу, смиренному сыну пиленского земледельца, вместе с которым мы столько полезного содеяли, раскапывая старинные могилы ливов и изучая медные цепи оных. Есть ли еще другой ученый муж (кроме Биленштейна и Беценбергера), кто бы столько знаний о тех древних языческих временах извлек на белый свет да преподнес тем славным землепашцам-пиленцам?
— Господин священник, за дверью вас ждет Берзинь. Хочет с вами поговорить.
— Введи его на кухню! — говорю.
«Вот как. Почел наконец за нужное прийти. Глава прихода… Бывший». У меня задрожали руки. Берзинь не должен этого видеть, нужно сохранить авторитет. Не буду зазывать его в комнату: пусть посидит на кухне. Захожу, протягиваю руку и говорю с болью: «Берзинь… Берзинь» (бог знает, но почему-то у меня на глаза навернулись слезы).
— Пришел по учительским делам. Мне поручено сообщить вам решение революционного комитета: старый Пелексис уволен… Приходскую школу отныне возглавляет помощник учителя Юрген.
— Разве не лучше было бы посоветоваться с церковным советом? — спрашиваю. — Несмотря на то что вы трудитесь в революционном комитете, я все еще считаю вас старостой нашей церкви. Как же это теперь получается?
— Получается так, что Пелексису придется уйти… Это все, пастор… Вы, очевидно, обед себе готовите, не буду мешать.
— Ай, Берзинь, Берзинь… — говорю, но он надевает шляпу и уходит.
Порядочные хозяева, трудолюбивые кроты-землеробы! Изрядная часть их в вышереченных богомерзских делах не участвовала, но как отвечу я перед господом богом за главу нашего прихода Берзиня?
Вчера ко мне приходили Брем, Конрад и мельник Манделберг. Именем господа, нужно организовать немецкую группу самозащиты — зельбстшуц. Революционеры переходят в наступление, начинаются поджоги. Нужна бдительность.
— Какие они немцы, эти двое-то, — тихо говорю я Манделбергу. — Конрад приходится сыном хозяину «Калнверши», а Брем родом с хутора «Бремани». Такие немцы ничуть не лучше наших Берзиней… Конрад, правда, числится в немецком приходе, но скажите, какой тут у пиленцев немецкий приход? Брем женился на своей батрачке Лавизе, у Конрада жена итальянка, молитву творит по-католически.
Единственный немец — это Ханс Манделберг, он говорит, что сюда движутся карательные роты, ожидается вселенская порка. Выпороть кое-кого, пожалуй, и не мешало бы: отцы ведь тоже учат своих блудных сыновей розгами любви, а старый пастор Фирхуф, не драл ли он своего кучера?
В день Вознесения Господнего богослужение было испорчено. На клирос к органу пробрался новенький приходский учитель Юрген. И когда я вознамерился было провозглашать проповедь, он, оттолкнув Пелексиса, заиграл: «Кто в лохмотьях ходит и хлеб сухой грызет»… Прихожане пропели все четыре куплета, в то время как я на амвоне, коленопреклоненный, читал: «Не покарай, бог милосердный…» Я не испытывал гнева, одно лишь горе, ибо знал, что божья кара рано или поздно падет на мой бедный приход.
Когда я зашел в ризницу, ко мне подбежал старый церковный староста Широн из «Ванагов», поцеловал руку и сказал:
— Пастор! Все это подстроил Берзинь. Но положитесь на меня. Этот сорняк скоро сгинет!
— Спасибо тебе, отец Широн! Быть тебе главой прихода! Аминь.
Отец Широн преклонил колени, и я дал ему свое благословение.
Разве в стародавние времена хозяйские сыновья (не то что ныне Конрад, Брем и старшенький Широна) тщились выйти из своего сословия и занять неподобающие им высокие посты? Разве пытались они сделаться немцами? Господь бог каждому народу указал свое место и назначение на этой земле, потому-то и сотворил одного белым, другого черным, третьего желтым и так далее. Дабы самому не спутать, дабы не пошел прахом порядок, в каковом оный люд по ступенькам расставлен… Разве всевышний не призвал пиленцев, чтобы они сеяли и пахали, хлопотали во дворе и в поле, пели свои дайны и танцевали и плоды земли нам подавали? С какой стати, старшенькому Широна захотелось ехать в Петербург учиться играть на фиделе, когда отец собирается отписать ему дом? Знать, тщится надеждой играть лучше великого мастера Иозефа Иоахима? Не кумекает, грешный, что «фингерзацу», который так легко дается культурным народам, не приучить пальцы землепашца.
Долго беседовал я с юным отроком, да все втуне, благодатное семя падало на бесплодную землю. Старый псалтырщик совсем пал духом, а сын его о работе в поле и слышать не хочет. «Какой совет вы дадите мне?» — спрашивает владелец «Ванагов». А что я могу посоветовать… Перепиши дом на младшего сына, таковы нынче времена…
— В аду мне гореть вместе с псалтырем, — вздыхает старый причетник.
Пиленцев облетела страшная весть: у железнодорожного переезда под петербургский экспресс бросилась дочь мельника Манделберга — красавица Фрида. Ее постигла мгновенная смерть. Кто мог бы подумать, что гордую деву, которая сторонилась людей и ни с кем из барышень имения не водилась, постигнет столь печальный конец? Вызванный из Цесиса Др. Кивул констатировал, что дева была в положении и, видимо, поэтому, движимая стыдом и отчаянием, решилась на сей прискорбный шаг.
— Где виновник? Дайте мне сюда этого каналью, я ему шею сверну! — вопиял несчастный отец.
Я не стал настаивать, чтобы его дочь хоронили за кладбищенской оградой, где покоятся самоубийцы, мельник внес денежки на церковный колокол, и христианской деве простили ее опрометчивый шаг.
Осталось лишь тайной, кто был виновником ее гибели? Никто из пиленцев не заметил, чтобы Фрида в кого-нибудь влюбилась. С парнями низших сословий она в разговоры не вступала, а благородных господинчиков в наших местах не имелось. Манделберг сам заподозрил камерлакея Тисэ из имения, но горничная госпожи баронши Розмария клялась, что Тисэ ее жених и после мартинова дня они поженятся. Загадочная история получилась, однако напасть на след виновника удалось не скоро…
Начались и кончились войны, то были великие войны… Меня арестовали в Цесисе у Др. Кивула и привезли в Пиленский исполнительный комитет, в бывшую волостную управу. Господь Саваоф, будь мне свидетель, что все упреки несправедливы и обвинения ложны. Мне вменяется в вину, будто четырнадцать весен назад, во время мятежей девятьсот пятого года, я прикинулся овцой, хотя на самом деле был волком. Меня будет допрашивать председатель исполкома Екабянис Ратниек, член моего прихода. Аминь.
Я написал завещание. Коль скоро трибунал признает меня виновным и осудит, прошу передать его моим близким. Четвертого апреля тысяча девятьсот девятнадцатого года. Мой тюремщик — казак Биезека. Ему сие завещание и передается.
В Пилсмуйжу к драгунскому ротмистру без приглашения явился хозяин «Ванагов» Широн. Он клятвенно засвидетельствовал, скрепив показания подписью, что имение поджег и беспорядки в церкви учинил Берзинь, он, дескать, сам своими глазами видел…
Ротмистр велел угостить старого псалтырщика какао и просил, чтобы тот, вернувшись домой, подумал, кто, по его мнению, еще мог бы участвовать в мятежных действиях.
— Почему на похоронах вы собрали у церкви столько народу? — спрашивает Екабянис.
— Берзинь был церковным старостой, христианином. Я почел за долг похоронить его как христианина!
— И почли также за долг вызвать из Цесиса драгунов? — допытывается Екабянис.
— Я их не вызывал.
— Может, они сами по себе нагрянули? А пиленцы все как один уверяют, что драгунов вызывали вы, пастор. Были волком в овечьей шкуре. За это свое геройство вы заслуживаете высшей меры, нам говорить больше не о чем.
В глазах у меня темнеет. Ноги подгибаются… Боже всевышний, за что ты покинул меня? Но затем я беру себя в руки и говорю:
— Хорошо! Коли так, то я должен открыть одну тайну, которую, правда, поклялся никому не разглашать, но бог простит меня.
Допрашивая и пытая кое-каких крестьянских девок, начальник зельбстшуца Манделберг дознался, что его дочку, злосчастную Фриду, в то лето на сельском балу несколько раз видели вместе с Теодором Широном, петербургским скрипачом. Они танцевали и заигрывали друг с другом, потому как Теодор очень красивый юноша, говорит исключительно по-немецки и по-русски. Узнав правду, мельник поклялся извести весь род Широнов, хутор «Ванаги» сжечь и сровнять с землей, по ротмистр драгунов Страхов запретил и призвал начальника зельбстшуца к порядку. Старый Широн, дескать, лучший осведомитель, предал карательной экспедиции уже сорок шесть пиленцев, из коих семеро казнены.
Разрешил лишь начальнику зельбстшуца как следует выпороть сына Широна. Так, чтобы он никогда барыне не мог играть на скрипке. Манделберг хотел его еще и выхолостить, но Страхов с этим не согласился.
— Можете идти домой! — отвернув от меня глаза, говорит Екабянис. — Одному я удивляюсь: как после всего этого вы могли нас стращать геенной огненной… Вы свободны.
Свободен. Это означало, что я помилован. Благодарю тебя, господь Саваоф. Буду проповедовать в пиленском приходе божье милосердие, пока не уйду на заслуженный отдых. Могу жить в убеждении, что я своими свидетельствами никому вреда не причинил, ибо клирик старый Широн давно опочил в бозе, сидит возле десницы вседержителя, откуда они явятся вершить суд над живыми мертвыми. Этот петербургский студент, наверное, тоже забыл о своих грешках молодости, у кого из нас таковых нет? Тысячелетняя мораль учит: буде ты видишь зло, не вмешивайся. Едва ты вмешался, как сам стал сеять зло. Если пойдешь мятежом против зла, сам станешь злодеем. Посему: когда тебя бьют по правой щеке, подставь левую. Тот, кто бил тебя, устыдится и отвернется. Не ходи с сильным меряться силами, не ходи с богатыми судиться. Судись только тогда, когда ты уверен, что тебе хватит денег на адвоката.
Так начинается завещание, которое я прилагаю вместе с пятьюстами серебряными рублями, каковые я отдал вестовому Биезеке для передачи моим сыновьям, что сейчас постигают науки в Гейдельберге. Господь бог знает, сколько мне суждено жить и проповедовать божью милость в моем приходе, поэтому в оном завещании я хочу отписать своим сыновьям кроме мирского добра еще и книгу высшей мудрости вместе с добрыми пожеланиями, дабы яблоки не падали далеко от яблони. Аминь».
1
Андрей Пумпур (1841—1902) — латышский поэт эпохи народного пробуждения. (Здесь и далее примечания переводчика).
2
Дайны — народные песни-четверостишия.
3
«У господина Альфреда де Виньи в 1857 году в погребе стояли бочки с 65 гектолитрами коньяка урожая 1856—1857 годов — напитка богов, как назвал его Виктор Гюго».
4
Шар — краска, шародейство — живопись (староцерк.).
5
Пратниеку Андж — персонаж романа братьев Каудзитес «Времена землемеров».
6
Древнелатышские языческие божества.
7
Цитата из драмы Райниса «Огонь и ночь».
8
Pour prendre congé — подписываюсь, чтобы проститься (франц.).
9
Учитывая вышесказанное, от имени шефа подписываюсь.
10
Перевод Б. Пастернака.
11
Айзсарги — военно-фашистская организация в буржуазной Латвии.
12
Ф. Рабле.
13
Цитата, которая на языке оригинала отличается редкостной музыкальностью выражения, взята из французской поваренной книги: «Я рассматриваю хорошо выдержанный ликер как своего рода музыкальное произведение. Композитор яств, сладостей и ликеров в своем жанре подобен творцу симфоний, который нашел в своем искусстве особый способ создавать своеобразные и неповторимые аккорды ароматов».
14
Популярная буржуазная газета.
15
Видберг — известный художник-график, эмигрировавший в США в сороковых годах.
16
«Отдых» («Атпута») — популярный журнал в буржуазной Латвии.
17
На улице Альберта помещалось управление политической полиции.
18
Старинная скульптура лодочника-перевозчика через Даугаву.
19
Слова из народной песни.
20
Комильтон — товарищ по университету (нем.).
21
Талава — государство древних латгалов XII—XIII веков.
22
Суйты — латыши-католики, жили в окрестностях Алсунги, отличались особым национальным костюмом, обрядами, песнями.
23
День фашистского переворота (1934) в Латвии.
24
Шишкина гора — латышское название Чискуркалн — пролетарский революционный район Риги между Межапарком и центром.
25
Янис Залитис (1884—1943), Эмил Мелнгайлис (1874—1954), Андрей Юрьян (1856—1928) — известные латышские композиторы.
26
Остановись, вслушайся, твоя настоящая любовь идет (англ.).
27
О, медленно бегите, кони ночи… (Овидий. Элегия любви.)
28
Перевод Т. Кудрявцевой.
29
Кокле — латышский народный струнный инструмент.
30
Имена известных артистов Думписа и Яковлева.
31
Газета 1856—1908 годов, затем журнал (1909—1910).
32
Газета 1862—1865 и 1901—1905 годов.
33
Строки из стихотворения Райниса «Королевна».
34
Гари Лиепинь — популярный латышский киноартист.
35
Гайзинькалн — самая высокая гора в Латвии (310 м над уровнем моря).
36
Мелнгайлис, Альфред Калнынь — крупные латышские композиторы.
37
«Звайгзне» — популярный журнал типа «Огонька».
38
Каспар Биезбардис (1806—1886) — общественный деятель.
39
Эмиль Дарзинь (1875—1910) — популярный композитор.
