Книга: Ошибка сыщика Дюпена. Том 1
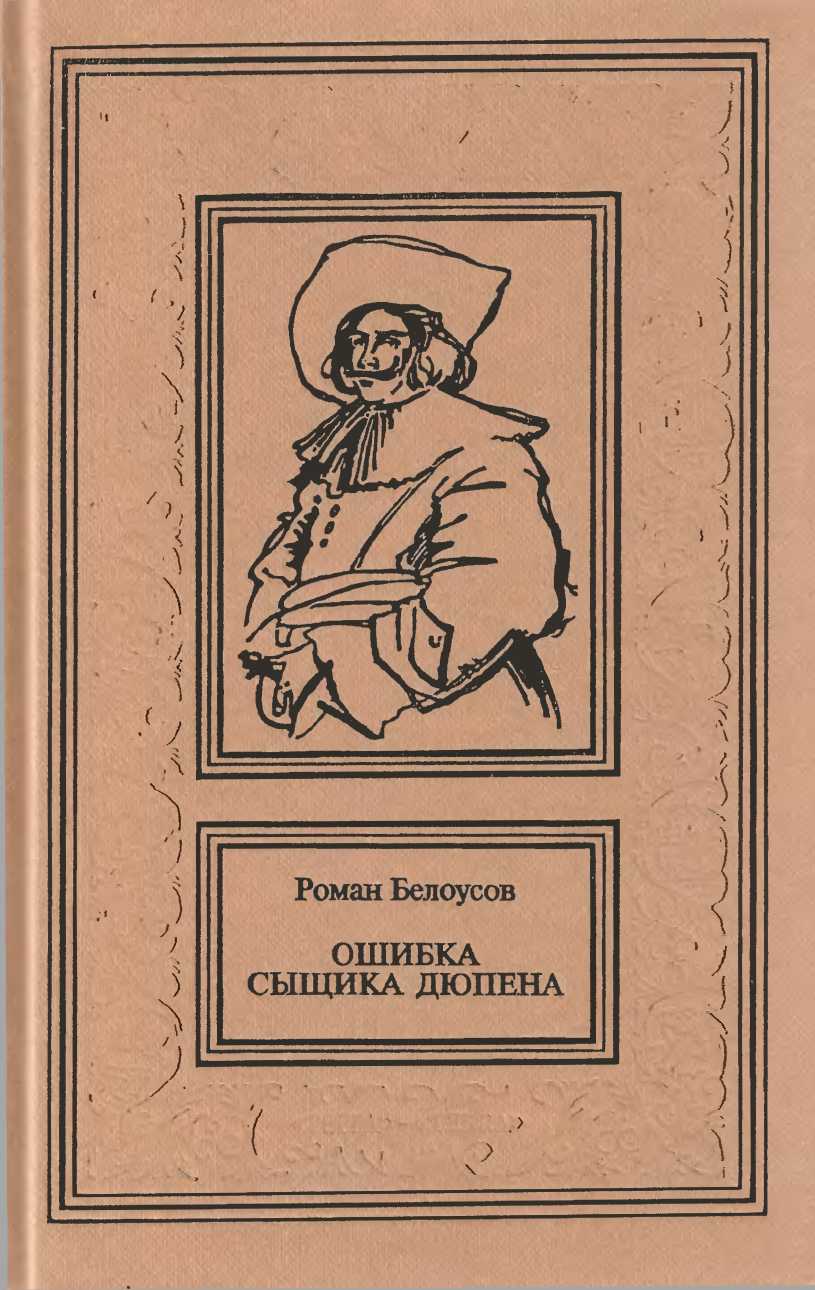
ОШИБКА СЫЩИКА ДЮПЕНА
Записки литературного детектива
КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Scan Kreyder -17.05.2016 STERLITAMAK
БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

В последние дни января 1722 года в Лондоне появилась книжка с необыкновенно длинным, как тогда было принято, названием: «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс, которая родилась в Ньюгейтской тюрьме…» Далее в заголовке говорилось, что героиня пережила немало приключений в течение своей разнообразной жизни, несколько лет была содержанкой, пять раз замужем, двенадцать лет воровкой, наконец, восемь лет ссыльной. Фамилия автора отсутствовала, но сообщалось, что роман написан по собственным заметкам героини, выступившей в печати под вымышленным именем.
Анонимный автор пояснял в своем предисловии, что у его героини есть особые причины скрыть свое настоящее имя, потому что оно слишком хорошо известно в архивах и протоколах Ньюгейта и Олд-Бейли. Так что, мол, пусть читатель и не рассчитывает на то, чтобы она назвала его.
Конечно, современники были заинтригованы. Они привыкли к тому, что авторы знакомили их с жизнеописаниями подлинных персонажей, с похождениями известных разбойников, пиратов, авантюристов. Лондонские мещане, люди наивные, обожавшие всякие приключения, особенно из жизни героев преступного мира или путешественников в далекие, таинственные страны, нередко самый что ни на есть фантастический вымысел принимали за описание реальных событий, рассказанных якобы от лица их участника. Готовые поверить и в небылицы, они и путешествия Гулливера воспринимали как вполне достоверные. То же самое произошло и с «Приключениями Робинзона Крузо»— первым крупным романом Дефо (1719 г.), который он выдал за воспоминания моряка из Йорка. В его реальном существовании никто и не подумал усомниться. Точно так же за чистейшую правду приняли и роман Дефо «Записки кавалера» (1720 г.), усмотрев в нем подлинные записки участника сражений с Кромвелем, и «Дневник чумного года» (1721 г.), увидев в нем мемуары очевидца.
Как ни у кого не вызывало сомнения реальное существование тех, от имени кого велось повествование в этих и других книгах Дефо, так не сомневались лондонцы и в том, что Молль Флендерс лицо подлинное. Если же она и назвалась вымышленным именем, то это вовсе не значит, что ее не существовало. «Но кто в таком случае скрылся под этим именем?» — спрашивали любопытные. В охотниках разрешить эту загадку недостатка не было еще при жизни Дефо.
На этот счет строили различные предположения. Для порядка перебрали всех знаменитых воровок, в том числе и давно умерших, таких, как Барбара Спенсер, повешенная в Тайберне, и Мэри Прайс, она же Роджерс, которую сожгли на костре. Припомнили, что и писатели прошлого, например Деккер, тоже выводили падших женщин. В его комедиях и памфлетах среди жуликов, шулеров и авантюристов проститутка и воровка — непременный персонаж лондонского городского пейзажа. А в пьесе «Сумасбродная девица» (1612 г.) просто-напросто выведена подлинная потаскушка того времени, некая «веселая Молль». Видимо, это небезызвестная Мэри Фрис по прозвищу «воровка Молль», или «Молль-карманщица», чьи похождения после ее смерти были описаны в памфлете «Жизнь и смерть миссис Мэри Фрис, обычно называемой Молль-карманщица» (1662 г.). Не менее прославилась и Длинная Мег, также вдохновлявшая литераторов, в частности Бена Джонсона. В прологе к своей пьесе Деккер говорит, что типов, подобных его героине, имеется множество, и приводит тому примеры.
Слава Молль-карманщицы дожила до дней Дефо, и имя ее попало на страницы его романа, где героиня сравнивается с «такой же смелой и ловкой воровкой, как была когда-то Молль-карманщица, хотя уступала ей по красоте».
Но эти персонажи были слишком отдалены во времени и едва ли могли послужить прототипом Молль Флендерс, а тем более рассказать о себе автору. Тогда кто же поведал ему свою печальную историю? Решили обратиться к более близким примерам.
В это время по Лондону распространился слух, что автор ставшего к тому времени весьма популярным романа (за год вышло три издания) встречался со своей героиней в Ньюгейтской тюрьме — самой старой и самой большой в Лондоне, известной с 1188 года, а быть может, и раньше. Не раз ее разрушали, многажды она сгорала. И всякий раз ее восстанавливали ради блага заблудших. Особенно «величественный вид» тюрьма эта приобрела после Великого пожара 1666 года, когда весь Лондон отстраивался заново. Последний раз, уже окончательно, ее снесли сравнительно недавно— в 1902 году.
Про эту главную тюрьму Англии говорили, что она плодит больше воров и мошенников, чем все притоны и разбойничьи вертепы страны. И действительно, тюрьма представляла улей, где роились преступники. Здесь планировались кражи и ограбления, сюда безбоязненно являлись посланцы преступного мира, приносили монеты и слитки металла: фальшивомонетчики и здесь не сидели без дела; воры-карманники тоже не теряли времени даром: совершенствовались в своем ремесле и давали уроки новичкам. Преступники обучали грязному ремеслу молодых девушек, учили, как стянуть часы или бумажник у зазевавшегося ротозея.
Для большинства из них отсюда дорога была одна: на роковую перекладину, а то и на костер или плаху. В этом смысле «Ньюгейтская обитель» служила лишь своего рода пересыльным пунктом между судом и виселицей. В лучшем случае — ссылкой на каторгу.
Здесь будто бы Дефо и записал с ее слов историю жизни этой лондонской воровки. Однако пока что это были лишь слухи.
Но вот вскоре после выхода в свет книги Дефо появилась серия анонимных памфлетов, автор которых прямо утверждал, что настоящая Молль Флендерс умерла в Гэлуэй в апреле 1722 года, где ее знали под именем Элизабет Аткинс. Однако при ближайшем рассмотрении эти памфлеты оказались чистой спекуляцией и представляли собой не что иное, как вкратце изложенное содержание романа Дефо с добавлением некоторых настоящих имен, чтобы создать впечатление правдивости. Наиболее известным из этой серии (выходившей на протяжении нескольких лет) был памфлет «Непостоянство судьбы», где сообщалось имя наставницы Молль — Джейн Хэкэбаут. Лондонцы тотчас узнали в ней реальную Кет Хэкэбаут, чье имя долгое время не сходило со страниц газет. Ее брат, разбойник Фрэнсис, был повешен в 1730 году, а сама она отправлена в ссылку год спустя. Считают, что У. Хогарт в своей знаменитой серии гравюр «Карьера шлюхи» изобразил эту самую Кет Хэкэбаут. «А вы думали нет?!» — восклицал автор тогда же появившейся поэмы о жизни Молль Хэкэбаут — своеобразном жизненном комментарии к этим гравюрам. Цель этих комментариев состояла в том, чтобы помочь распознать за изображенными художником фигурами подлинные персонажи. Но и без того сходство было настолько разительным, что лондонцы без труда узнавали в роли сводни известную на весь город владелицу публичного дома Элизабет Нидхем, в сладострастном джентльмене — не менее известного ростовщика и распутника Фрэнсиса Чатериса, словом, за каждой фигурой на гравюрах угадывался прототип.
Но почему в поэме героиню зовут Молль? Ведь у Хогарта ее именуют Мэри. «По имени известной героини мистера Дефо», — заявлял автор поэмы, для которого Молль Флендерс, как, впрочем, и для всех читателей, являлась синонимом «разврата и порока». Сочинитель поэмы, видимо, не сомневался, что Молль Флендерс и Мэри Хэкэбаут — одно лицо. Впрочем, все это оставалось в сфере догадок и предположений, не подтвержденных разысканиями. В ту пору никому в голову не пришло обратиться к сообщениям газет того времени, когда Дефо работал над своим романом. А между тем, если бы это сделали, то кое-что прояснилось бы в вопросе о прототипе Молль Флендерс.
Впервые этим занялся Уильям Ли, автор трех томов «Дефо, его жизнь и необнаруженные рукописи» (1869 г.). Среди огромного множества статей, публиковавшихся в изданиях, где сотрудничал Дефо, он обнаружил сообщения, имеющие, как он полагал, прямое отношение к Молль Флендерс.
Летом 1720 года в журнале мистера Эплби «Ориджнел уикли джорнэл», где сотрудничал Дефо, появилась небольшая заметка, написанная в форме письма. От имени некой Молль, проживавшей на Розмэри-лайн, близ Ярмарки тряпья, в заметке рассказывалось о судьбе лондонской воровки-карманщицы, которая незаконно вернулась из ссылки, о том, как, узнав об этом, ее шантажировал один человек, грозившийся выдать ее, если она не станет делиться с ним своей добычей.
Намек на шантажиста слишком прозрачен, чтобы не узнать Джонатана Уайлда.
Это был «кумир» лондонского дна, ловкий и жестокий, вор из воров и мошенник из мошенников, совершивший свой первый выход «на великую сцену жизни» в 1682 году. К тому времени, о котором идет рассказ, он порвал с воровским ремеслом и занялся более прибыльным бизнесом, содержал под видом таверны знаменитый на весь город притон. Дела Джонатана Уайлда шли неплохо, если учесть, что его заведение славилось не только как «храм греха», но и как склад краденых вещей. Когда вышел закон, по которому укрытие краденого считалось уголовным преступлением и жестоко каралось, умный и хитрый Джонатан Уайлд замыслил грандиозный план: создать единую организацию для воров всех видов, иначе говоря, решил объединить разношерстных уголовников в хорошо дисциплинированную организацию.
Следуя своему правилу — если не рисковать, останешься в проигрыше, — Уайлд стал, таким образом, предводителем огромной организации лондонских воров и бандитов.
Конечно, в таком городе, как Лондон, преступный мир всегда представлял серьезную угрозу. В «Описании Англии» У. Гаррисона говорится, что уже в XVI веке насчитывалось более 10 тысяч нищих и до 400 воров вешали ежегодно. Считается, что эти цифры занижены и что в конце века вешали более 800 человек, а 80 тысяч бродяг жили за счет общества. Однако точные данные неизвестны. Но совершенно очевидно, пишет Норманд Берлин в своем исследовании «Преступный мир в Елизаветинскую эпоху», что Лондон был опасным местом, где процветали порок и разбой. С этим миром считались правительство, горожане, священники и писатели. Находились и такие, кто оправдывал процветание Века преступности, например, писатель Мондевиль, заявлял, что «без пороков общество не могло бы существовать». Изображение жизни без злодея и мошенника считалось неполным.
Начало литературы о «дне» в Англии относится к 1536 году, когда появилась книга Роберта Кэплэнда «От большой дороги до тюрьмы». В ней была нарисована «великолепная картина жизни бродяг и нищих», приводилась их классификация и прилагался словарь особого жаргона, которым они пользовались.
Нищих, бродяг и воров воспевали Роберт Грин, Томас Деккер, Томас Нэш и многие другие писатели. Правда, отношение каждого из них к преступному миру было различно. Деккер, например, считал, что воров и мошенников может излечить только виселица, но тепло относился к нищим. Видимо, из-за своей любви к солдатам, так как многие из них вынуждены были после окончания службы нищенствовать. Вообще, нищий и бродяга были неотъемлемой частью сельского и городского пейзажа. Огромная их армия заполняла дороги и улицы, несмотря на жестокие законы о бродяжничестве. О них слагали грустные песни и сентиментальные баллады. В одной из них говорилось:
Слышишь, собаки лают —
Нищие в город идут…
Из среды бродяг часто пополнялись ряды преступников. Шайки, надо сказать, и раньше наводили страх, но их члены не осмеливались объединить свои силы в грабительской войне против общества. А именно в этом заключалась цель Джонатана Уайлда.
Ради осуществления своего замысла ему пришлось немало потрудиться. Впрочем, энергии у него было хоть отбавляй.
Прежде всего он предложил некоторые новшества: банда обучается определенной форме преступления, имеет свою зону действия и руководителя. В каждом округе должны действовать две-три банды, специализирующиеся на уличных кражах или кражах со взломом, на «ловле кроликов» — одурачивании простодушных провинциалов («ремесле», известном еще со времени Шекспира и Деккера), на обмане и шантаже, убийствах и грабежах. Сам Джонатан Уайлд отводил себе роль «идейного» вдохновителя. Предпочитая оставаться в тени, он давал советы, поставлял «идеи», разрабатывал планы. Трудно сказать, насколько этот вдохновитель преуспел в осуществлении своих замыслов. Но если судить по тому, какой массовый размах приняли именно в то время грабежи и прочие виды преступлений, то можно сказать, что труды Уайлда не пропали даром. Не случайно как раз те годы, когда в Лондоне промышлял Уайлд, назвали Веком преступности. Достаточно обратиться к английским газетам и журналам тех лет, чтобы убедиться в этом. Целые колонки на их страницах заполняют сообщения об ограблениях, воровстве и т. д. Уильям Ли только в одном журнале насчитал 57 сообщений о различных преступлениях, в другом описывались 33 карманные кражи на крупную сумму. Неудивительно, что виселица не успевала пропускать всех приговоренных к смерти. И порой вешали сразу по десять — двадцать человек: кражи 5 шиллингов было достаточно, чтобы угодить на «роковую перекладину» и взрослому и ребенку. А вообще, согласно «кровавому хаосу», как называли тогда английский уголовный кодекс, свыше ста видов преступлений карались смертью.
Тем не менее даже самые кровавые законы не в состоянии были обуздать массу озлобленных, невежественных и жестоких людей. С безрассудством обреченных они бросались на прохожих, останавливали кареты, курсирующие между центром и пригородами, и грабили пассажиров среди бела дня. По ночам без вооруженных провожатых лучше было не показываться на узких и плохо освещенных улицах. Даже в центре Лондона днем нередко случались нападения. Бандиты врывались в дома на Пикадилли, в Гайд-парке, в Сохо. Поселялись в заброшенных домах шайками до ста человек. Д. Дефо, как позже и Г. Филдинг, не раз посещал эти притоны, заставая там взрослых и детей. То и дело на улицах раздавались крики: «Хью энд край!» (что можно перевести как «Лови! Держи!»), когда все бросались преследовать вора. Это был, пожалуй, самый распространенный, как и самый древний, способ борьбы с воровством — преступника ловили всем миром. Каждый, кто слышал этот крик, бросал работу и присоединялся к погоне, которая продолжалась до тех пор, пока преследуемый сдавался на милость победителей или его убивали, что по закону считалось убийством при смягчающих обстоятельствах. Если вору удавалось ускользнуть, на всех жителей района налагался штраф. Надо учесть, что полиция как таковая еще не была учреждена. Только к 1740 году судье де Вейлю удастся организовать нечто вроде уголовного сыска на Боу-стрит, превратив, однако, свою должность в настоящее золотое дно. А до тех пор функции полицейского в округе исполнял главным образом один-единственный констебль да престарелый ночной сторож. Первый был вооружен всего лишь длинной палкой, служившей и оружием и символом власти, второй имел пику, фонарь и собаку. Жалованья констебль не получал и свою, по существу, общественную должность занимал всего год, после чего на его место заступал другой житель прихода. Шериф же в своем красном наряде, как и сержант с неизменной алебардой, были редкими гостями тех районов, где процветал разбой.
Естественно, что польза от таких стражей порядка, как констебль и дряхлый сторож, была весьма небольшая. Хотя они и трудились в поте лица, несмотря на то что их работа, как заметил Дефо, «не приносила ни прибыли, ни удовольствия, а была невыносимым трудом, часто абсолютно напрасным и непродуктивным».
В 1718 году были приняты два законодательных акта, сыгравших немаловажную роль в судьбе героев лондонского дна.
Один из этих актов — «О перевозке» — предписывал в целях снабжения колоний рабочей силой пересылать осужденных преступников за океан. Правда, и до этого, с тех пор как англичане в начале XVII века обосновались в Америке, туда на поселение высылали уголовников. Так, до 1700 года в Виргинию на плантации было отправлено около 4500 человек. Теперь число их значительно возрастало — началась оптовая торговля ссыльными. Суда с «живым товаром» — в трюмы заталкивали от 100 до 300 заключенных — регулярно совершали рейсы за океан. Об этом говорят сохранившиеся «накладные на ссыльных». С доверенным лицом (во времена Дефо им являлся некий Джонатан Форвард) заключался договор на перевозку заключенных, по 40 фунтов за каждого. Форвард подписывал накладную, обязуясь доставить «живой товар» к месту назначения. По прибытии капитан получал от местного мирового судьи «Свидетельство о высадке». В список заносились лишь те, кто остался в живых за время долгого и тяжелого плавания, — высокая смертность была обычным явлением. Капитан судна отправлялся со «Свидетельством о высадке» в Лондон, чтобы получить заработанные деньги. Ссыльных же продавали на плантации по 10 фунтов за душу. Возвращение в Англию каралось смертью. И тем не менее, хлебнув райской жизни на плантациях, многие рисковали вернуться, надеясь укрыться в многолюдном Лондоне. Но немногим это удавалось: одни погибли на виселице за незаконное возвращение, другие — попав за новые преступления.
Дефо был хорошо осведомлен о механике подобных перевозок. И, видимо, его перу принадлежит статья, напечатанная в январе 1723 года в «Ориджнел уикли джорнэл», где обсуждался вопрос, почему осужденные упрямо возвращались из сравнительно безопасных мест в полный опасностей Лондон.
Что касается описания путешествия и возвращения Молль Флендерс — героини Дефо из ссылки, то и сегодня это ценное свидетельство для исследователей. В одном лишь писатель погрешил против истины. Массовая ссылка заключенных, как было сказано, началась после принятия акта «О перевозке». Действие же в романе Дефо происходит в конце XVII века, когда ссылка еще не приняла такого размаха.
Согласно другому акту парламента, те, кто брал вознаграждение за возвращение украденных вещей, карался как уголовный преступник.
Этот акт был направлен непосредственно против Джонатана Уайлда и ему подобных, всех тех, кто выступал в роли посредников между потерпевшими и грабителями. Это было и выгоднее, и безопаснее с точки зрения преследования по закону. К тому времени Уайлд стал достаточно богатым, а главное, знаменитым на весь Лондон. Так что было ради чего менять технику бизнеса, чтобы легче обходить закон. Связь с клиентами он осуществлял через посредников. Иногда по его совету жертвы воров помещали объявления в газетах о пропаже вещей, обещая вознаграждение тому, кто найдет украденное, и что «никаких вопросов задаваться не будет».
Сменив, таким образом, в который раз технику воровского бизнеса, Уайлд переменил и место жительства. Он поселился в шикарном особняке на Олд-Бейли. И в этом была особая причина. Наглость его не знала предела: на этой же улице находился знаменитый суд Олд-Бейли. Здесь с некоторых пор частым посетителем стал Джонатан Уайлд. Чтобы не утруждать себя и не тратить время на дорогу в суд, он и выбрал дом на этой улице рядом с Олд-Бейли, где жил со своей шестой женой, охраняемый верными слугами — бывшими каторжниками.
Зачем, однако, понадобилось Уайлду так часто бывать в суде? Казалось, наоборот, он должен был всячески избегать показываться там. Но нет, напротив, Уайлд являлся туда как свой человек.
Его власть над преступным миром была огромна. Он не терпел, когда кто-либо пытался обойтись без его покровительства, и был непримирим к оказывавшим неповиновение, к тем, кто стоял на его пути. Непокорные и строптивые, чересчур самостоятельные попадали в его записную книжку — это значило, что человек обречен. Рано или поздно намеченная жертва должна была предстать пред судом. Каково же было изумление подсудимого, когда в качестве свидетеля обвинения на суде выступал сам Джонатан Уайлд. Осечки с его стороны быть не могло — лжесвидетельство каралось как уголовное преступление. Поэтому, если недоставало улик, Уайлд подкупал других свидетелей, если и этого было мало, мог купить любого присяжного, а то и самого судью, многие из которых, как филдинговский продажный Скуизом, превратили правосудие в прибыльное дельце. (И вообще «мерзавец в мантии судейской», по словам Д. Свифта, экземпляр, часто встречавшийся в то время. Достаточно назвать главного судью Джона Попема при короле Якове I. По слухам, свою «карьеру» он начал на большой дороге, сменив, однако, вскоре наряд бандита на судейский. Облаченный в мантию, Джон Попем оставался, по существу, все тем же разбойником — по размерам получаемых взяток он намного превзошел всех своих коллег.) Одно время, например, Уайлд был неофициальным помощником Чарлза Хитчека, начальника городского сыска, огромный доход которого не облагался налогом.
Своим вероломством Джонатан Уайлд превзошел многих подобных ему оборотней — Макданиеля, Берри, Эгана и Сэлмона, чьи похождения и мошенничества закончились на виселице.
В этом смысле одного с ним поля ягода и «лихой парень» Ванька Каин, «славный вор, разбойник, доноситель сыскного приказа», живший в одно время с Уайлдом, и знаменитый Франсуа Видок, закоренелый каторжник, ставший главой французского розыска.
Очень скоро Уайлд приобрел славу «главного воро-ловителя». И действительно, в его власти, как он похвалялся, было повесить любого вора метрополии. Враги и сотоварищи пребывали в страхе, у публики же он имел репутацию полезного и непреклонного борца с преступностью. Всего по его доносам повесили сто двадцать человек.
Именно об этом шантажисте, то есть о Джонатане Уайлде, грозившемся, что выдаст некую воровку-карманщицу, если она не станет делиться с ним своей добычей, и шла речь в заметке, опубликованной в «Ориджнел уикли джорнэл». Но кто ее написал и передал в журнал?
Не рук ли Дефо это дело? Ведь тем летом ему частенько приходилось бывать в Ньюгейтской тюрьме, где он навещал своего редактора Миста, посаженного за долги. Надо ли говорить, что Дефо, сотрудничавший в журнале, пополнял, как обычно, свою память фактами из жизни героев преступного мира. И ничего удивительного, что его внимание привлек рассказ рецидивистки Молль, интересный не только сам по себе, но еще и потому, что разоблачал методы ненавистного Джонатана Уайлда.
Тогда-то, можно сказать, и состоялась личная первая встреча автора и его будущей героини. Впрочем, не исключено, что Дефо и до этого приходилось встречаться с воровкой Молль. Возможно, он следил за ее судьбой, и она была своего рода его корреспондентом, посвящавшим в воровские тайны.
Ровно через год, 17 июня 1821 года, на страницах «Дейли джорнэл» вновь всплыло имя воровки Молль. Но теперь сообщалась и ее фамилия. «В пятницу Молль Кинг, — говорилось в заметке, — одна из знаменитейших воровок-карманщиц города, также известная как помощница при краже часов у дам, которые она снимает с пояса, водворена в свою старую резиденцию в Ньюгейт».
Итак, известная на весь Лондон воровка по прозвищу Молль Кинг. Не здесь ли, в самом деле, следует искать разгадку секрета прототипа Молль Флендерс?
Во всяком случае, так полагает современный английский историк Джеральд Хаусон. Он считает, что вопрос «кто была Молль Флендерс?» превращается в вопрос «кто была Молль Кинг?». Но возможно ли в таком случае проследить судьбу Молль Кинг по сообщениям газет и документам тех лет? Этой целью и задался в наши дни Дж. Хаусон. Его улов оказался не таким уж незначительным, как можно было поначалу предположить — слишком запорошены временем следы прототипа героини Дефо.
Вслед за Уильямом Ли Дж. Хаусон погрузился в чтение старых газет и журналов. Причем, если первый просматривал только те издания, где печатался Дефо, то Дж. Хаусон расширил круг поисков. В его поле зрения попали и другие издания. Очень скоро он наткнулся в них на то, что искал. В номере «Дейли джорнэл» от 20 сентября 1722 года было помещено следующее сообщение: «Молль Кинг, известная преступница, прославившаяся тем, что крадет золотые часы у дам в церквах, за что ее несколько раз судили, недавно вернулась из ссылки, была опять схвачена и посажена в тюрьму Ньюгейт». Два дня спустя аналогичная хроника появилась в «Уикли джорнэл сатедей пост». Хотя оба сообщения были опубликованы восемь месяцев спустя после выхода в свет романа Дефо, Дж. Хаусон считает, как, впрочем, полагал и Уильям Ли, что оба сообщения, вслед за первым от 17 июня 1721 года, подтверждают, что именно здесь следует искать ключ к разгадке.
И, действительно, не может не броситься в глаза сходство этих хроникальных заметок с тем местом из романа, где говорится о ловкости лондонской воровки, которая «была мастерица в трех видах работы: краже товара из лавок, краже бумажников и вытаскивании золотых часов у дам из-за пояса; это последнее она проделывала с такой легкостью, что с ней не могла сравниться ни одна воровка».
Вновь имя Молль Кинг промелькнуло на страницах «Бритиш джорнэл» в марте 1723 года. В уголовной хронике сообщалось для тех, кто «знает обвиняемую Молль Кинг, известную воровку, специализировавшуюся на золотых часах, снимая их у дам в церквах, — которая за возвращение из ссылки имела предупреждение в последнюю судебную сессию, избежала суда на прошлых сессиях; она будет привлечена к суду в следующую сессию». Прочитав эти строчки, Дж. Хаусон вспомнил то место из памфлета Дефо о Джонатане Уайлде, где приводится имевший место разговор между Уайлдом и какой-то дамой, у которой в церкви Св. Анны, в Сохо, украли часы. Воровка, сообщал Дефо, «ловкая негодница, была М-лль К-нг, которая в то время, по-видимому, работала на Уайлда. При аресте, писал Дефо, она назвалась племянницей знаменитой Молль Флендерс. Соответствовало это истине или Дефо продолжал и дальше мистифицировать читателя, убеждая его в том, что его героиня лицо подлинное, — неизвестно. Но то, что Молль Кинг работала на Джонатана Уайлда, действительно соответствовало истине и подтверждается двумя подлинными документами, имевшими самое непосредственное отношение к «главному вороловителю». После ареста он подал прошение об освобождении на том основании, что, мол, выдал правосудию, начиная с 1720 года, немалое число лиц, перечень которых прилагал. Молль Кинг числилась среди тех, кто вернулся из ссылки и снова с его помощью был отправлен обратно. Фигурировала она и в его известном списке жертв, который он разослал присяжным перед судом, надеясь снискать их расположение. Об этом писал журнал «Ориджнел уикли джорнэл» в мае 1725 года.
Однако ясно, что имя Молль Кинг — это, так сказать, псевдоним. Каково же было ее подлинное имя?
Ответ, как надеялся Дж. Хаусон, можно было отыскать в протоколах судебных сессий в Олд-Бейли.
Труд этот оказался не из легких. Во-первых, потому, что Дж. Хаусон был новичком в такого рода розыске. А во-вторых, из-за того, что протоколы судебных сессий сами по себе невероятно сложные документы: написаны они наспех на пергаменте, каракулями, с множеством сокращений, к тому же на испорченном латинском языке, покрыты грязью и делятся на бесконечное число сбивающих с толку категорий.
Главная часть называется «Свитками», так как судебные документы завертывали в огромные кожи в виде свитка.
В Справочнике тюрьмы Ньюгейт зарегистрированы «Свитки отправляемых из тюрьмы на суд». Записи эти делались за день-два перед каждой сессией суда, имелся также список вновь прибывших, оставшихся после прошлой сессии, и дополнительный список заключенных, ожидавших наказания или суда до следующей сессии. На беду Дж. Хаусона, списки заключенных тюрьмы Ньюгейт оказались неполными. Короче говоря, здесь его ждало разочарование. После долгих поисков так и не удалось найти никаких указаний на то, что некая Молль Кинг сидела в тюрьме Ньюгейт или в какой-либо другой между 1721 и 1723 годами.
Оставался еще один путь: погрузиться в архивы, где хранятся «Свитки», куда заносились преступления, совершенные в различных районах Лондона. Архивы эти, позволяющие проследить судьбы различных преступников· и познакомиться с преступным миром той эпохи, находятся в Лондонской ратуше и в Миддлсекском государственном архиве. Путешествуя между этими двумя хранилищами, Дж. Хаусон составил несколько списков женщин, которые были арестованы, судимы и отправлены в ссылку в 1721–1723 годах.
Затем из нескольких сотен имен он выбрал три или четыре, чьи похождения наиболее походили на перипетии Молль Кинг.
Перед исследователем забрезжил слабый луч надежды проследить за историей воровки, называвшей себя Молль Кинг.
Очень скоро он натолкнулся на примечательный факт. В октябре 1718 года некая Мэри Годсон украла золотые часы у леди в церкви Св. Анны, в Сохо, и была приговорена к ссылке на семь лет. В судебных протоколах проходила под именем Мэри Голстоун. Возможно, что она ждала ребенка, так как до февраля 1720 года все еще не была отправлена за океан. Только весной на судне «Александер» она прибыла в Аннаполис. В «Свидетельстве о высадке» записана как Мэри Кинг. А спустя всего лишь несколько месяцев, в сентябре, снова объявилась в Лондоне. Здесь вместе с братом Ричардом Бердом принялась за старое. В июле 1721 года попалась при ограблении дома на Литтлрассел-стрит, где похитила «различных вещей на сумму в 50 фунтов», говорилось в обвинительном заключении. Именно тогда-то и появилась заметка в «Дейли джорнэл» о Молль Кинг, как она назвалась при аресте. На другой день ее отправили в тюрьму Ньюгейт. Выяс-нилось также и еще одно любопытное обстоятельство. В ее аресте участвовал некий Джон Пэрри, который работал на Дж. Уайлда. А это значит, что «главный воро-ловитель» содействовал ее провалу. В чем, впрочем, он и сам признался на суде.
Как дальше сложилась судьба воровки? С Мэри Годсон, она же Молль Кинг, было снято обвинение в краже, но ее приговорили к смертной казни за возвращение из ссылки. В этом случае Дж. Уайлду полагались бы его 40 фунтов стерлингов за участие в разоблачении преступницы. Но счастье улыбнулось Молль Кинг. В ожидании казни она выступила свидетельницей по одному делу и способствовала разоблачению, а попросту говоря, выдала грабителя Ричарда Грэнтема. Ей это зачли и вновь приговорили к ссылке.
До января 1722 года Молль Кинг оставалась в Нью-гейте. Сначала в камере смертников, а затем в ожидании отправки за океан, что случилось спустя два дня после издания романа Дефо. (В сентябре того же года она вновь была в Англии и снова оказалась в тюрьме.) Похоже на то, что Дефо отыскал и заинтересовался ею как раз тогда, когда она ждала казни. Исповедь ее показалась ему подходящей темой для уголовного памфлета, которые он обычно печатал в «Ориджнел уикли джорнэл» сразу же после казни преступника. Однако с отменой приговора памфлет перерос в роман, героиня которого получила имя Молль от своего прототипа.
Но безусловно и то, что Молль Флендерс, по словам английской писательницы Вирджинии Вулф, «самый замечательный персонаж из всех других», образ собирательный. Одновременно с Молль Кинг в Лондоне славились своими похождениями Сэлли Селисбери, история которой была предана гласности и нашла отражение в гравюрах Хогарта; и Мэри Девис— подпольная акушерка, которая содержала дом для незамужних мамаш, похожий на тот, что изображен в романе Дефо; и уже упомянутая Кет Хэкэбаут; и Кэллико Сара — имя, образованное от названия индийской ткани «кэллико». Все они, а также и многие другие прошли через Ньюгейтскую тюрьму, и не трудно предположить, что каждая из них исповедовалась мистеру Дефо — журналисту, посещавшему тюрьму в поисках материала для памфлетов на уголовную тему.
Но откуда взялась столь странная фамилия у героини Дефо? В самом деле, почему ее зовут Флендерс? Вопрос о названии произведения всегда затруднителен для автора. Где искать подходящее название, откуда взять имя для героя? Пожалуй, тут нет рецептов. История литературы помнит самые невероятные случаи рождения имен героев и названий произведений. Необычно происхождение и имени героини Дефо.
Лондонские воровки любили присваивать себе имена по названию тех дорогих обычно контрабандных товаров, чаще всего тканей, которые им не раз приходилось похищать. Отсюда, например, имя «Кэллико», — как говорилось, индийская ткань, привозимая контрабандой. Или «Голланд» — датское белье, тоже часто контрабандное. Именно подобного рода имя и хотел Дефо для своей героини. Можно, конечно, было бы назвать ее, скажем, Бетти Голланд. Однако это слишком напоминало бы Сьюзен Голланд, чей известный публичный дом, существовавший за сто лет до этого, вспоминался в балладах. В этот момент, за месяц или два до выхода романа, внимание Дефо привлекла реклама на страницах «Постбой». В ней сообщалось о продаже дорогих фламандских кружев—флендерс (товара обычно тоже контрабандного). Уильям Ли, а вслед за ним и Дж. Хаусон предполагают, что эта реклама и помогла Дефо разрешить мучившую его проблему — как назвать свою героиню.
Сегодня Шотландия — страна кипящей индустрии, колоссов судостроения, огромных мостов и ультрасовременных жилых домов и общественных зданий.
На этом фоне поместье Эбботсфорд смотрится как видение из другого мира, из другой эпохи. Собственно, сам дом так и был задуман Вальтером Скоттом, когда писатель приступил в 1811 году к строительству своего обиталища: как некий символ Шотландии, ее исторического прошлого — кровавых распрей между кланами горцев, приключений разбойников, подвигов бесстрашных рыцарей — всего того, что было так дорого и мило сердцу «шотландского чародея».
Участок для здания писатель присмотрел на южном берегу реки Твид. Здесь, на развалинах старой фермы Грязное логово, возвели замок, воплотив мечту писателя о доме в «баронском», старошотландском, стиле. Вальтер Скотт сам планировал, сам всем руководил, нередко помогал рабочим на стройке: расчищал дорожки, сажал деревья. В письме того времени он признавался, что нигде не был бы так счастлив, как здесь. Позже известный литературный критик Георг Брандес заметит, что пристрастие Вальтера Скотта к Эббот-сфорду основывалось «на его исторических инстинктах».
Из окон открывался вид на долину реки Твид, темный Эттрикский лес и знаменитые Эйлдонские холмы. В тихие дни слышалось звонкое журчание воды и всплески резвящейся семги. Ниже по течению было видно место, где когда-то монахи переходили реку вброд, направляясь в аббатство Мелроз. Отсюда и название Эбботсфорд — брод аббатов.
Но, пожалуй, еще больше любил писатель дорогу над долиной, и редкий день его коляску не видели здесь. Доехав до места, где вид был особенно прекрасен, Вальтер Скотт останавливал лошадей и долго любовался рекой, лесами и грядой холмов. «Вид Вальтера Скотта»— так называют теперь это место приезжающие сюда многочисленные туристы, поклонники таланта писателя.
Есть нечто волшебное в этом крае — земле сэра Вальтера Скотта, исторической земле, овеянной древними легендами, старинными преданиями, героическими песнями и грустными балладами.
И хотя Эбботсфорд находится в низинной части страны, называемой Равнинной Шотландией, расположенной на границе с Англией, и далек от места рождения писателя — Эдинбурга, считается, что именно здесь сердце Шотландии. Потому что тут жил и творил великий ее сын.
Переступим порог этой Мекки любителей литературы и погрузимся в мир прошлого. За стенами дома остались шум и суета, приносимые сюда туристами, звон их гитар и хрип транзисторов, заглушающих птичье пение. Мы в благоговейной тишине прохладных комнат. Здесь все как было при жизни писателя. Его кабинет, рабочий стол. Трудоспособность Вальтера Скотта была поистине непревзойденной. Как сказал один из его современников, казалось, что «рука над листом бумаги двигалась безостановочно с утра до вечера». И сегодня на столе лежит недописанная страница: возникает ощущение, что хозяин недавно был здесь и его терпеливо дожидаются перья, очки, футляр для них и записная книжка. Даже старый газовый рожок тот же, что и при жизни писателя. Кстати, замечу, что В. Скотт был первым в Англии, кто ввел газовое освещение в своем жилище. И сто сорок лет, вплоть до 1962 года, дом освещался газом. На камине в гостиной красуется великолепная бронзовая чернильница, выполненная по образцу чернильницы Петрарки и подаренная Вальтеру Скотту ирландской писательницей Мэри Эджворт.
На стене большой портрет В. Скотта кисти известного художника Ребрена. Мраморный бюст работы не менее известного скульптора Фрэнсиса Чентри стоит в библиотеке, в нише, там, где при жизни писателя находился бюст Шекспира.
В холле стены обшиты дубовыми панелями, а в гостиной оклеены настоящими китайскими обоями. Тут же — стол из эбенового дерева, подаренный хозяину Георгом IV. Но главное — реликвии. Дом буквально забит антикварными вещами — Вальтер Скотт был страстным коллекционером. С гордостью показывал он экспонаты своего собрания: личные вещи самого Наполеона, его записную книжку в зеленом бархатном переплете и походный пенал. Повсюду в доме рыцарские доспехи, кольчуги, мечи и алебарды — они будоражат воображение, уносят его в седые времена рыцарства.
Но особым почитанием пользовались у хозяина подлинные вещи и оружие, принадлежавшие известным персонажам отечественной истории: охотничьи ножи и деревянный двуручный ковш принца Чарлза, именуемого в просторечье Претендентом и тщетно пытавшегося вернуть себе корону; шпага герцога Монтроза, который был повешен за то, что вознамерился с помощью иностранных наемников восстановить на шотландском престоле династию Стюартов; старинные, в серебряной оправе, пистолеты полковника Клевер-хауза, прозванного в народе «Кровавым», и портрет этого предводителя роялистского войска; ружье испанского образца с именною меткой, а также кинжал и кошелек Роб Роя — знаменитого разбойника из столь же знаменитого клана Мак-Грегоров.
Предметы эти не были безучастным украшением коллекции. Они создавали особую атмосферу, возбуждали воображение писателя. Не случайно в романах Вальтера Скотта такое место отводится предметам быта и вооружения — они помогают раскрывать характер героев.
Достаточно было В. Скотту увидеть какой-нибудь старинный двуручный меч или ружье горца, какие-либо древние черепки, как он тут же приходил «в рабочее состояние» — начиналось воскрешение старины, вживание в эпоху.
Точно так же на него действовало созерцание ландшафта. Природа родной Шотландии, полная особого очарования и контрастов, завораживала, пробуждала в памяти исторические картины. Мягкие волнистые очертания холмов и суровые крутые скалы, темные, почти мрачные массивы сосен и изумрудная зелень долин, зеркально-прозрачные воды фьордов и розоволиловый вереск, как бы потоками стекающий с горных склонов, навевали воспоминания о прошлом страны, о междоусобицах и заговорах. Но особенно способствовал этому вид грозных неприступных замков, древних руин и крепостей.
Конечно, писатель обращался к археологии, изучал документы, исторические свидетельства и народные предания, в том числе и рассказы очевидцев. Он считал, например, что старинные песни и баллады помогают дополнить историю неизвестными сведениями о мыслях и чувствах тех, кого они воспевают. И что из этих древних стихотворных повестей подчас можно гораздо больше узнать о быте, языке и характере предков в темные, воинственные и романтические времена, чем из трудов историков, изучавших однообразные и унылые монастырские летописи. Однако не отрицал, что нужно «читать эти вымыслы с сочинениями профессиональных историков». Оба источника необходимо изучать историческому романисту: «…из повести мы узнаем, какие это были люди; из истории — что они делали».
Большое значение В. Скотт придавал изучению топографии места действия его героев и не раз отправлялся в путешествия по стране. Бывало, правда, и наоборот. Посетив то или иное место, «развалины седой старины», о которых рассказывали в балладах и в устных преданиях, связывая их с именем какого-нибудь исторического героя или с событием, В. Скотт загорался мыслью написать о «делах давно минувших дней».
Словом, географические и исторические прототипы были как бы налицо, и, чтобы найти подходящий сюжет, Вальтеру Скотту, как говорится, далеко ходить было не нужно. Всего в трех милях к востоку от Эббот-сфорда располагались овеянные легендами развалины аббатства Мелроз, запечатленные на многочисленных картинах и гравюрах, в том числе на полотне известного художника Джозефа Тёрнера. Здесь, как отметила Мэри Эджворт, В. Скотт приобрел вкус к готической архитектуре и отсюда немало позаимствовал для своего поместья.
Чуть дальше, на северо-западе, но тоже в относительной близости, находились такие места, воспетые в устной и письменной истории, как Тросакс и Пертшир, как край высокогорных озер Лох-Ломонд, Лох-Кэтрин и Лох-Ард. В этой Горной Шотландии разворачиваются события многих баллад и романов Вальтера Скотта. И топографические ориентиры в его сочинениях как бы свидетельствуют о неопровержимой исторической достоверности происходящих событий. Но чтобы историческая топография в повествовании не основывалась только на побочных, книжных источниках, нужны были личные впечатления.
Впервые Вальтер Скотт совершил путешествие в те годы, когда он, двадцатиоднолетний юрист, только что закончивший Эдинбургский университет и удостоенный звания адвоката, по делам службы отправился в Горную Шотландию.
Молодому юристу надлежало на месте проследить за исполнением судебного решения о выселении нескольких строптивых арендаторов. Поэтому его сопровождали солдаты во главе с сержантом. Так вот этот сержант оказался чрезвычайно полезным спутником. Вальтер Скотт услышал от него множество историй, связанных с теми местами, которые они проезжали.
Главным образом это были рассказы о знаменитом Роб Рое.
Конечно, ему и раньше доводилось слышать об этом шотландском Робин Гуде и его подвигах. С детских лет в его воображении жил этот благородный разбойник из клана Мак-Грегоров, приключения, смелость и мужество которого приводили в восторг юного Вальтера. Здесь, в Горной Шотландии, где, как сказал Байрон, «священны вершин каледонских громады», каждая лощина, озеро или брод на реке, даже каждый камень был освящен именем Роб Роя. И казалось, что вот-вот он возникнет на фоне романтических и диких картин природы с длинным ружьем в руке, в шляпе с пером и в гэльском красноклетчатом пледе— опознавательный цвет клана.
Сегодня многочисленным туристам, посещающим «Страну Роб Роя», посоветуют непременно остановиться в гостинице «Роб Рой», побывать в «Пещере Роб Роя», посетить деревенское кладбище в Блакуиддере, где он похоронен, а на «Острове старух» им покажут могилы рода Мак-Грегоров, к которому принадлежал шотландский герой.
А когда-то про эти места говорили, что «пуститься в страну Роб Роя — значит ехать на верную гибель». Указателем дороги сюда служила вершина Бен-Ломонда, возвышающаяся над окрестными горами. Через ущелье попадали к озеру Лох-Ломонд — одному из живописнейших в стране. Но эта красота таила в себе опасность — за каждым кустом мог прятаться один из молодцов Роб Роя. Недаром другое озеро, Лох-Кэтрин, расположенное неподалеку, называли не иначе, как «разбойничье». Здесь было царство отважных удальцов, контрабандистов и скотоугонщиков.
Повсюду жили воспоминания об их подвигах. В одном ущелье крестьяне показали В. Скотту камень, на котором сидела жена разбойника Кокберна, оплакивая своего мужа, повешенного на воротах замка. В Хардене он услышал историю о другом разбойнике, оказавшемся к тому же его предком, — о некоем Уильяме Скотте, — и воспел его в балладе «Женитьба разбойника».
Когда В. Скотт задумал поэму «Рокби», он посетил замок, где действует его герой, своего рода благородный разбойник Бертрам Райзингем. Его воображение привлекали образы таких удальцов, как Уильям Рот-клиф из клана Мак-Грегоров, который, по словам Генриха Гейне, «по-рыцарски не брезговал разбоем»; Макферсон, увековеченный Робертом Бернсом; пират Кливленд, историю которого, по его словам, он услышал «от одной старой сивиллы». Ему нравились народные баллады, прославляющие Гиля Морриса и Мер-рея, жившего в лесу с товарищами и отказавшегося признавать власть короля. Песни, предания и поверья о благородных народных мстителях, считал В. Скотт, никогда не померкнут, «они принадлежат родным горам и рекам, которые любят, и истории предков, которыми гордятся».
Изгой, человек, живущий вне закона, становится любимым героем В. Скотта. «Я одарен незавидным дарованием, — шутил он, — изображать с любовью браконьеров, удалых молодцов вроде Роб Роя и Робин Гуда». В его романах это и Доналд Бин-Лин, и Донаха, скрывающийся в недоступных горах и пещерах, но прежде всего это Роб Рой — народный мститель и заступник бедных. Как сказал о нем друг В. Скотта английский поэт Э. Вордсворт:
Жил знаменитый Робин Гуд.
В балладах был прославлен он,
В Шотландии есть свой герой,
Разбойник с смелою душой,
Любимый наш Роб Рой.
Впоследствии Вальтер Скотт еще не раз посетит эти места, «Страну Роб Роя», пополняя память рассказами о подвигах своего будущего героя.
Не там ли в сосновом бору на рассвете Вверялся преданьям о давних вождях?
Истории о Роб Рое жили в памяти горцев, и при одном только упоминании его имени глаза их загорались воинственным огнем.
Озеро Лох-Кэтрин Вальтер Скотт опишет в поэме «Дева озера». И еще при жизни писателя сотни любителей старины, прочитав ее, устремлялись сюда, чтобы самим увидеть окаймленное лесами озеро. «Есть ли другое среди наших озер, которое столь же сладостно и сильно воздействовало на воображение»,— восклицала Мэри Эджворт, посетив озеро, о котором она знала по поэме Вальтера Скотта и которое мечтала увидеть воочию.
Приток посетителей еще больше возрос, когда в 1818 году был опубликован роман «Роб Рой».
В наши дни пароходик «Сэр Вальтер Скотт», курсирующий по озеру, доставляет туристов на остров Элен, получивший название в честь героини поэмы Элен Дуглас, и гиды охотно рассказывают им историю жизни и подвигов Роб Роя.
… Когда небольшой отряд во главе с сержантом миновал заросшую лесом долину и выбрался наконец из чащи, взору открылась прекрасная ширь озера Лох-Ломонд. Позади остались лесная область Гленфинлас (ущелье Зеленых женщин), изрезанная глухими ущельями и речками, пробивающимися сквозь густые заросли, долина Эберфойл, где, по народному поверью, обитали эльфы, холмы в лиловых мантиях вереска и одинокие хижины у их подножия. Это и был тот самый край, «Страна Роб Роя», где издавна жили горцы из воинственного клана Мак-Грегоров.
Во время поездки Вальтер Скотт расспрашивал стариков горцев, участников борьбы за независимость Шотландии. Рассказы очевидцев о восстаниях и битвах, о подвигах бунтаря Роб Роя тщательно записывал. Собирал он и песни и баллады о жизни этого мятежника. В дни юности, писал он потом, я нередко встречал людей, знавших Роб Роя лично.
Так постепенно из воспоминаний стариков, хорошо знавших Роб Роя, рассказов здравствующих очевидцев, легенд и документов у писателя сложился романтический образ непокорного горца, честного гуртовщика, ставшего разбойником, грозой богатых и другом бедных.
Конечно, он мог бы воспользоваться биографией Роб Роя, изданной еще при его жизни под названием «Шотландский лиходей». Но будущий великий романист предпочитал личные впечатления и больше доверял своим ушам и глазам, чем брошюре, на обложке которой был изображен великан-людоед с бородой чуть ли не по пояс. В соответствующем этому изображению преувеличенном виде говорилось о похождениях Роб Роя, большая часть которых представляла собою сплошной вымысел. Вальтер Скотт посетовал на то, что «за эту превосходную тему не взялся в свое время Дефо», который занимался подобными сюжета-ми, то есть с присущим ему блеском и верностью правде жизни писал о похождениях разбойников и пиратов.
По пути к озерам Лох-Ломонд и Лох-Кэтрин Вальтер Скотт и его спутники решили заехать в Инверс-нейд — бывшее владение Роб Роя. От форта, неоднократно разрушаемого, остались одни развалины, но здесь все еще стоял «гарнизон», состоящий из одного-единственного ветерана. «Почтенный страж мирно и безмятежно жал ячмень на своем участке, — вспоминал писатель, — и когда мы попросились переночевать, он сказал, что ключ от форта мы найдем под дверью».
Вечером за кружкой эля старый воин, разговорившись, предался воспоминаниям.
— Вы хотите услышать историю Рыжего Робина? Но прежде следует рассмотреть его родословную. Это важно, когда знакомишься с жизнью шотландского горца.
Рыжий Робин, или сокращенно Роб Рой, как уже говорилось, был родом из клана Мак-Грегоров, знаменитого неукротимостью духа и тем, с каким упорством его представители даже в самых крайних обстоятельствах сохраняли свою самостоятельность и единство.
По преданию, Мак-Грегоры вели свой род от Грегора, или Григория, — якобы одного из сыновей короля Скоттов, правившего около 787 года. Клан этот считался древнейшим в Верхней Шотландии и, несомненно, был кельтского происхождения. Одно время ему принадлежали земли в Пертшире и Аргайшире, удерживаемые им по праву меча. Однако соседям удалось включить занятые Мак-Грегорами земли в дарственные грамоты, полученные от короля. Это было несправедливо. Тем не менее каждый раз, как представлялся случай, они под видом королевского дара прирезали к своим владениям земли Мак-Грегоров.
С этого и начались все несчастья. Клан восставал против несправедливости и силой отстаивал свои права, часто не разбираясь в средствах, так что нередко победы доставались ценой бесчеловечности и жестокости.
В ответ слышались призывы обрубить корни и ветви неукротимого племени. Не раз составлялись акты (в частности, в 1563 году), дававшие право «самым могущественным лордам и предводителям кланов преследовать Мак-Грегоров огнем и мечом». Запрещалось также «принимать под свой кров кого бы то ни было из этого клана, помогать им или давать под каким бы то ни было предлогом еду, питье и одежду».
Когда в 1589 году Мак-Грегоры убили королевского лесничего, был издан новый акт с призывом покончить с «дурным кланом Грегор, издавна погрязшим в крови, убийствах, воровстве и грабеже».
И так бывало неоднократно: Мак-Грегоры выказывали презрение к закону, а тот за это неотступно преследовал их. Постепенно они лишились своих владений и, чтобы не умереть с голода, предались грабежу на большой дороге.
Они свыклись с кровопролитием. Нередко их использовали и как своего рода наемников, когда кому-то надо было расправиться с недругами. Словом, диким горцам ничего не стоило решиться на любое беззаконие, их легко было вовлечь в ссору или распрю.
Долгую кровавую вражду вели Мак-Грегоры с лордом Луссом, вождем могущественного рода, обитавшего на южном берегу озера Лох-Ломонд. Кончилась эта вражда жестокой битвой в Ложбине Печали. Войско Лусса было наголову разбито. Причем, как гласит предание, победители в ярости обрушились на толпу студентов-богословов, со стороны наблюдавших за битвой. И хотя это всего лишь предание, скала, где будто бы разыгралась эта кровавая бойня, так и называется— Могильный Камень Священников. В народе говорится, что кровь невинных жертв вовек не может быть смыта с камня и поступок этот навлечет гибель на убийц и на весь клан. Одним из тех, кто принимал участие в убиении безоружных юношей, был Киар-Мор, то есть Великан Мышиной Масти. К нему восходит та ветвь Мак-Грегоров, от которой происходил Роб Рой. Киар-Мор похоронен в Фортингале, где ходит немало легенд о его великой силе и отваге. Вальтер Скотт видел его гробницу, покрытую тяжелой плитой.
Неподалеку от поля битвы в Ложбине Печали существует еще одно памятное место, отмеченное нетесаным камнем, именуемым Серый Камень Мак-Грегора. Под ним похоронен брат вождя клана, павший в битве.
Что касается побежденных, то они потеряли более двухсот человек. Так, по крайней мере, гласит предание. Оно рассказывает также о том, что вдовы погибших явились к королю в глубоком трауре, верхом на белых конях. Каждая несла на копье окровавленную рубашку мужа.
Король Иаков VI был чувствителен к подобным зрелищам скорби и повелел наказать виновных. В апреле 1603 года был издан акт Тайного совета, по которому имя Мак-Грегоров объявлялось уничтоженным и тем, кто до сих пор его носил, под угрозой смертной казни повелевалось изменить его на другое.
В последующие годы власти продолжали преследовать клан за различные нарушения. Ему запрещалось собираться вместе в количестве свыше четырех человек.
«Мак-Грегоры, — читаем в авторском предисловии к роману «Роб Рой», — оказывали сопротивление с неустрашимой отвагой, и многие долины на западе и севере Горной Страны хранят память о жестоких битвах, в которых воины гонимого клана нередко одерживали временную победу и всегда дорого продавали свою жизнь». Следовательно, Мак-Грегоры лишь формально подчинились закону и приняли имена соседних родов. На деле же они сплотились воедино. И невзирая на приказы о предании их «огню и мечу» и карательные экспедиции, не примирились с тем, что их вычеркивают из списка шотландских кланов.
Во время гражданской войны Мак-Грегоры все, как один, встали под знамена изгнанного короля. Отныне можно было надеяться, что в случае победы его величества клан получит возмещение за все обиды. Тем более что в 1651 году Мак-Грегоры бок о бок с соотечественниками участвовали в борьбе с республиканской армией Кромвеля, когда тот попытался покорить Шотландию.
Однако только после падения Кромвеля король Карл вернул клану Мак-Грегоров право открыто носить свое родовое имя и пользоваться другими привилегиями верноподданных короля. Несомненно, монар-шья милость была наградой за проявленную во время гражданской войны преданность. Тем самым МакГрегоры, говорилось в постановлении парламента, смыли память об их прежних провинностях и сняли с себя всякую вину за прошлое. Постановление это не сразу возымело силу, и прошло еще несколько лет, прежде чем Мак-Грегоры обрели исконное родовое имя и положение, равное с другими кланами.
Ко времени появления на свет Роб Роя Мак-Грегора Кэмбела (последнее имя он носил из-за запрета пользоваться настоящим) клан его все еще подвергался гонению. Впрочем, когда родился будущий герой Вальтера Скотта, точно неизвестно. Судя по преданию, говорит писатель, он участвовал в военных столкновениях и разбоях вскоре после падения Кромвеля ив 1691 году уже был вожаком во время одного грабительского набега. Затем наступили спокойные времена, и Роб Рой «переквалифицировался» в гуртовщика — торговца скотом.
В этой роли он и предстает перед нами на страницах романа «Роб Рой».
Вместе с другими горцами Роб Рой пригонял на ярмарки скот, чтобы сбывать его. Дела шли успешно, он даже приобрел поместье на берегу Лох-Ломонда. Вскоре, однако, честное торговое счастье изменило ему. Из-за падения цен на скот и вероломства компаньона он оказался несостоятельным должником. Тогда-то и сменил он торговые сделки на операции совсем иного рода. Роб Рой перебрался подальше в горы и начал вести тот образ жизни, которому и следовал с тех пор, — стал благородным разбойником. Закон преследовал его: земельные владения были отняты, а стада и имущество распроданы с молотка. Непокорному горцу ничего не оставалось, как строить дерзкие планы мести. От планов он скоро перешел к действиям. Его грабительские набеги на Южную Шотландию держали в страхе жителей равнин, и они с охотой откупались от непрошеного гостя. Число приверженцев мятежника, укрывшегося в горах, росло, и силу они возымели немалую.
Однако, подобно английскому Робин Гуду, писал В. Скотт, Роб Рой был добрым и благородным грабителем и, отбирая у богатых, щедро оделял бедняка. «С кем я ни беседовал, — продолжал писатель, — все отзывались о нем, как о человеке «на свой лад» милосердном и гуманном». Это не означает, что поставленный вне закона горец не был коварен и лицемерен. Когда ему приходилось испытать горечь поражения, он, подобно зайцу, петляя, бежал в недоступные горные углы, чтобы спустя некоторое время, собрав силы, вновь обрушиться с набегом на Равнинную Шотландию.
В историческом введении к роману Вальтер Скотт приводит характеристику современника, видимо, испытавшего на себе «удовольствие» встречи с Роб Роем. «Этот человек был достаточно умен и отличался в военном деле как хитростью, так и ловкостью; всецело предавшись распущенности, он стал во главе всех бездельников и бродяг своего клана… и разорял страну грабежами, набегами и разбоем. Мало кто из живших в пределах досягаемости (то есть на расстоянии ночного перехода) мог считать в безопасности свою жизнь и свое имущество, если не соглашался платить ему тяжелый и постыдный налог — «черную дань». В конце концов он дошел до такой дерзости, что среди бела дня на глазах у правительства грабил, собирал контрибуцию и завязывал драки во главе довольно большого отряда вооруженных людей».
Таким своеобразным способом Роб Рой мстил виновникам своего разорения и извечного преследования его клана. Естественно, что в глазах бедняков, также страдавших от притеснений и злоупотреблений со стороны знатных и богатых, Роб Рой и его молодцы были отнюдь не разбойниками, а справедливыми мстителями.
Но вот наступила пора восстания 1715 года. Горцы поддержали якобитов — сторонников возвращения «шотландских королей» Стюартов в их борьбе против правящей в Англии Ганноверской династии. По существу, феодалы ловко использовали недовольство горных кланов и вовлекли их в мятеж. Горцы же, выступив на стороне якобитов, надеялись, в случае успеха, на возврат к старым добрым патриархальным временам, когда горные кланы были сильны и независимы.
Во время мятежа Роб Рой вел себя двусмысленно и часто в самый ответственный момент проявлял нерешительность. Видимо, полагают историки, хотя сам он и его приверженцы состояли в армии мятежных горцев, сердцем он не был расположен к восстанию, занимая, скорее, относительный нейтралитет. Тем не менее избежать наказания ему не удалось. Его обвинили в государственной измене, сожгли дом, вновь загнали глубоко в горы. Однако вскоре он предстал перед властями с пятьюдесятью своими приверженцами. Якобы подчинившись приказу, они сдали оружие. За это мнимое смирение Роб Рой и его люди были помилованы. После этого он обосновался около Лох-Ломонда, среди своих сородичей. Теперь его главной целью стала борьба со своим давним врагом герцогом Монтро-зом.
Роб Рою удалось собрать изрядное число хорошо вооруженных воинов, окружить себя отборными телохранителями — он готовился свести старые счеты. Но герцог опередил его. Три отряда солдат двинулись к лагерю Роб Роя. Вел войска надежный проводник, хорошо знавший местность. На помощь горцам пришла непогода, да и разведка их не дремала. Одним словом, когда солдаты подошли к пристанищу Роб Роя, того и след простыл. В отместку они сожгли дом, хотя и поплатились за это: горцы, укрывшиеся среди кустов и скал, открыли огонь. Этим Роб Рой не ограничился. Спустя некоторое время ему удалось взять в плен приказчика герцога, прибывшего получать с арендаторов очередной взнос. Захватив изрядную сумму, он увел приказчика с собой в качестве заложника. Пленника поместили на одном из островов озера Лох-Кэтрин, который с тех пор стали называть «Тюрьмой Роб Роя». Прождав несколько дней выкупа, но не получив его, Роб Рой милостиво отпустил заложника. Свою неудачу Роб Рой компенсировал тем, что то и дело наведывался в места, где скапливалось зерно, собранное для герцога арендаторами. Причем иногда раздавал его населению, за что снискал еще большую славу защитника бедняков.
Один из рассказов о Роб Рое, услышанный от очевидца, произвел на В. Скотта, по его словам, особое впечатление. Некий старик поведал о своей встрече со знаменитым горцем, которая произошла у него в годы юности. Ему было тогда лет пятнадцать, и он работал подпаском. Однажды он и его отец обнаружили, что ночью их посетили горцы-грабители и угнали несколько голов скота. Послали за Роб Роем, и тот явился с отрядом — семь или восемь вооруженных удальцов. Выслушав пострадавших, он заверил их, что постарается догнать воров. Но чтобы было кому пригнать скот обратно, попросил послать с ним двух человек. Подрядили подпаска и его отца.
Путь через горы был нелегок, но Роб Рой легко находил дорогу по знакам и отметкам на вереске. Переночевав в какой-то лачуге, на другой день вновь двинулись по следам скотоугонщиков.
В полдень Роб Рой скомандовал своим ребятам залечь в зарослях вереска. «А вы оба с сыном смело идите на вершину холма, — обратился он к старшему из пастухов, — и там увидите, что в долине за перевалом пасется скот вашего хозяина — может быть, вместе с другим скотом; отберите свой скот (только постарайтесь не брать чужого) и гоните его сюда. Если кто-нибудь заговорит или станет грозить вам, скажите, что я здесь и что со мной отряд в двадцать человек». «А что, если они набросятся на нас и убьют?» — спросил пастух. «Если они нанесут вам какой-нибудь вред, — сказал Роб, — я не прощу им до конца моих дней». Хотя такая гарантия была не очень надежной, пастух с сыном отправились в долину, где, как и предполагал Роб Рой, паслось большое стадо. Отогнав своих животных, они направились в сторону, где ждал Роб Рой. В этот момент за спиной у них поднялись крики и вопли. Когда преследователи приблизились, пастухи передали им слова Роб Роя, и те моментально угомонились и исчезли.
Такова была власть и сила Роб Роя, мало кто смел ему перечить и ослушаться его воли.
Только герцог Монтроз мог решиться на это. В конце концов ему удалось захватить Роб Роя врасплох и взять в плен. Дальше В. Скотт приводит рассказ, услышанный от одного человека, который во времена писателя содержал трактир неподалеку от Лох-Кэтрина. Так вот, дед этого трактирщика хорошо знал Роб Роя и однажды оказал ему большую услугу.
Когда Роб Роя пленили, его посадили в седло за спиной Джеймса Стюарта (это и был тот самый дед, родственник трактирщика) и связали обоих одной подпругой. Был вечер, и герцог спешил перевезти пленника, за которым так долго и безуспешно охотился, куда-нибудь в надежное место. Они подъехали к переправе через реку. Улучив минуту, Роб Рой стал заклинать Стюарта во имя старой дружбы и добрососедских отношений дать ему возможность спастись от верной гибели. То ли из жалости, а может быть, из страха тот расстегнул подпругу, и Роб Рой, соскользнув с крупа лошади, нырнул, поплыл и скрылся почти так, как это описано в романе.
Избежав неминуемой смерти и скрывшись в родных горах, Роб Рой вернулся к прежнему: вражде с герцогом Монтрозом, сражениям, набегам и другим воинским подвигам.
Казалось, при такой жизни трудно было умереть своей смертью. Тем не менее этот необыкновенный человек, говорит В. Скотт, скончался в постели, в своем доме, в приходе Блакуиддер. Случилось это, видимо, после 1738 года, когда он был уже в преклонном возрасте.
Его похоронили «в мирной и живописной зеленой долине», и серая плита с грубо высеченным на ней изображением шалаша прикрыла прах шотландского благородного разбойника. Последний раз В. Скотт побывал здесь, в верховьях озера Лох-Ломонд, летом 1817 года, незадолго до того, как завершил работу над «Роб Роем».
Заключая исторический очерк о своем герое, писатель вновь воздает ему должное. Он говорит, что, хотя ремеслом Роб Роя был грабеж и сам он являлся предводителем или, лучше сказать, атаманом разбойников, над памятью его не тяготеют нарекания в жестокости. Если же и проливал он кровь, то не иначе, как в сражениях. Этот свободолюбивый горец был другом бедных, помогал, чем мог, сиротам и вдовам, всегда держал данное слово и умер, оплакиваемый дикой своей страной, где было немало людей, чьи сердца были преисполнены благодарностью к нему.
Сообщая читателю, что им отобраны рассказы о Роб Рое, бытовавшие в прошлом и живущие еще ныне в горах, где прославлено его имя, Вальтер Скотт признает, что он далек от абсолютно точного использования этих рассказов. Тем же, кто пожелает сравнить подлинную историю героя В. Скотта с ее поэтической обработкой в романе, стоит вновь перечитать это сочинение и убедиться, что «средствами романа он писал историю и воображением историка создавал роман». Благодаря такому мастерству В. Скотта, как справедливо заметила Мэри Эджворт, память о Роб Рое останется жить в веках.
Как-то Вальтер Скотт пошутил, заявив, что некоторым писателям гораздо лучше удаются изображения того, чего они не видели, чем то, что довелось лицезреть своими глазами. Не желая оказаться в положении подобных литераторов-фантазеров, он всегда предпочитал непосредственное впечатление, хотя отразить его на бумаге было труднее. Стремясь к большей достоверности, в том числе и исторической, Вальтер Скотт не уставал посещать места былых сражений, громоздящиеся на скалах замки. Ему постоянно требовалось совершать путешествия по стране, чтобы оживить воспоминания о пейзаже.
«Ничто не может заменить этих живых впечатлений, — заметил А. Мору а, — когда романист своими глазами видит место действия, его герои ведут себя более естественно».
История Шотландии в романах Вальтера Скотта органично связана с картинами родной природы. Его герои, как я уже говорил, живут и действуют на фоне суровых гор и холодных вод; их образы нарисованы в соответствии с исторической правдой, подвергшейся, однако, обработке писательского воображения. Таковы его воины и разбойники, короли и рыцари, монахи и чародеи, менестрели и странники. И среди них герои национальной истории Роберт Брюс и Уильям Уоллес— борцы за свободу и независимость родины.
Задумав поэму о Роберте Брюсе «Властитель островов», писатель совершил «приятнейшую и поучительную поездку». Он посетил Северную Шотландию, туманный остров Скай и суровый Арран, расположенный у юго-западного побережья, где Роберт Брюс собирал силы для борьбы с англичанами и где, возможно, прозвучали его призывные слова к шотландцам, пять веков спустя повторенные Робертом Бернсом:
Наша честь велит смести
Угнетателей с пути
И в сраженье обрести
Смерть или Свободу!
Во время той же поездки В. Скотт посетил окрестности Стерлинга (город между Эдинбургом и «Страной Роб Роя»), где в начале XIV века произошла битва при Бэннокберне, принесшая Шотландии независимость.
Отсюда писатель направился на берег Северного моря в Эрбротское аббатство, в шестнадцати милях севернее города Данди, где в 1320 году король Роберт (Брюс) огласил Декларацию независимости, вписанную, по словам В. Скотта, золотыми буквами в историю страны.
А в наши дни ежегодно 6 апреля местные актеры разыгрывают представление, переносящее зрителей в те далекие времена. На троне, установленном на помосте среди руин аббатства, восседает король в окружении епископа, настоятеля аббатства, монахов и воинов, рыцарей, закованных в латы и кольчуги, поверх которых надеты красочные плащи. Ветер, дующий с моря, колышет королевские штандарты, развевает флаги. Под аплодисменты зрителей оглашается текст Декларации. И перед мысленным взором возникает многолетняя история борьбы шотландцев, битвы и восстания, договоры и измены, распри феодалов… На память приходит англо-шотландская уния 1707 года, казалось, положившая предел нескончаемым войнам и объединившая два королевства — Англию и Шотландию. Вспоминаются и многие представители шотландской династии Стюартов, претендовавшие на английский престол, — от Марии Стюарт до Чарлза Эдуарда Стюарта, тщетно пытавшегося воцариться на троне во время восстания 1745 года.
Обе эти исторические личности привлекали внимание Вальтера Скотта, в особенности принц Чарлз.
Потерпев жестокое поражение в битве при Куллоде-не в 1746 году и потеряв более двух тысяч убитыми, принц бросил остатки войска и вынужден был бежать. Он прятался в горах на севере Шотландии, жил в пещерах, терпел голод и холод. Спасаясь от преследователей, иной раз переодевался в женское платье.
Вальтер Скотт прошел по маршруту его скитаний. Побывал на острове Скай, где в свое время укрылся от англичан гонимый принц. Переодевшись слугой, Чарлз на лодке переправился на остров. Тронутая страданиями беглеца, его спрятала здесь дочь фермера Флора Мак-Дональд. Она не выдала принца, хотя за его голову была назначена награда в тридцать тысяч фунтов стерлингов — целое состояние!
В честь Флоры Мак-Дональд установлены два памятника. Один на ее могиле во дворе церкви в Килмуи-ре — это на самом севере острова Скай. Другой — в городе Инвернессе, недалеко от которого и разыгралась роковая для принца битва. На этом памятнике в честь Флоры Мак-Дональд высечены слова известного писателя Сэмюэла Джонсона, произнесшего их при посещении острова в 1773 году, когда еще была жива смелая патриотка. Он сказал: «Ее имя останется в истории, и, пока мужество и преданность почитаются как доблесть, его будут произносить с гордостью».
Кстати говоря, и сам Вальтер Скотт разыскал могилу крестьянской девушки Элен Уокер, послужившей прототипом его народной героини Джини Дине из «Эдинбургской темницы». Писатель преклонялся перед подвигом Элен Уокер: она отказалась дать на суде ложные показания против сестры. На собственные средства он воздвиг ей памятник, и на нем его слова: «Почтите могилу бедности, отмеченную добродетелью и непреклонной верностью правде».
Судьба «странствующего рыцаря» принца Чарлза занимала Вальтера Скотта многие годы. Одно время он хотел изобразить его в поэме, полагая, что при этом «можно было бы ввести в действие Флору МакДональд… и других лиц, представляющих драматический интерес». Однако потом, во время работы над первым своим романом «Уэверли», писатель отказался от сюжета, который мог бы соблазнить любого романиста. Что заставило его так поступить?
Приключения принца Чарлза были хорошо всем известны, в частности, по книге очевидца событий Д. Хоума «История мятежа 1745 года», о которой В. Скотт упоминает в романе «Уэверли». Можно бы, конечно, добавить к биографии принца Чарлза вымышленные события, но это исказило бы историю, чего писатель не хотел делать. «Прикрасы поэтического вымысла скорее оскорбляют величие истории, чем отдают ей дань уважения», — говорил он. Поэтому «исторические персонажи можно вводить лишь эпизодически и так, чтобы не нарушать общепринятой истины».
Вот почему главный исторический персонаж в романе «Уэверли», как и в других, например в «Редгонтлете», отошел на задний план, а на первый были выдвинуты лица вымышленные. Нет в романе «Уэверли» и других реальных личностей. Отсутствует и Флора МакДональд. И только героиня повести Флота Мак-Ивор отдаленно напоминает ее, да и то скорее лишь своим именем.
Зато в книге сохранена подробная историческая топография: маршруты передвижения войск, названия селений, подле которых происходили сражения, и т. д.
С такой же точностью воспроизведена география местности и в других романах Вальтера Скотта. В «Пи-рате» действие разворачивается на Шетлендских островах; в «Пуританах» — на северо-востоке, где на кладбище, возле замка Даннаттар, писатель повстречал прототипа своего «кладбищенского старика» — Роберта Патерсона, добровольного смотрителя за могилами павших в боях ковенантеров — шотландских протестантов.
Бывал писатель и на берегу залива Солуэй, неподалеку от развалин замка Каверлаврок, в юго-западной части страны. Материал, собранный здесь, о солуэйских рыбаках и голлуэйских контрабандистах нашел отражение в романе «Редгонтлет».
Посещал он и дом, где жила в четырнадцатом веке дочь перчаточника Кэтрин — «пертская красавица» из одноименного романа, существующий в Перте на Кэрфью-стрит и по сей день.
Словом, можно сказать, что действие любого из романов Вальтера Скотта, посвященных прошлому Шотландии (прежде всего это «Уэверли», «Пуритане», «Роб Рой», «Легенда о Монтрозе», «Пертская красавица»), разворачивается на фоне подлинной и весьма точной исторической топографии. В этом, несомненно, сказалась любовь писателя к родной земле, ибо, как справедливо заметил его соотечественник Т. Карлейль, он был «истым шотландцем». Но еще лучше сказал о себе сам писатель: «Для меня эти серые холмы и весь дикий край, перед нами раскинутый, полон невыразимых красот… Если б меня лишили возможности хоть раз в год глядеть на поля и горы, поросшие вереском, я мог бы умереть».
Так, собственно, и случилось. Находясь вдали от родных мест и смертельно заболев, Вальтер Скотт потребовал, чтобы его немедленно доставили домой, в Эбботсфорд. Говорят, по пути он то и дело шептал названия мест, мимо которых проезжал. Когда же перед его взором возникли Эйлдонские холмы, он «пришел в возбуждение, а вид Эбботсфорда заставил его встрепенуться и вскрикнуть от радости».
Дома первое время он просил, чтобы кровать придвигали к окну — тогда он мог любоваться видом холмов и рекой. Когда же его лишили этой возможности (болезнь прогрессировала) — он умер. Был теплый день, писал его биограф Г. Локхарт, все окна в доме были раскрыты настежь, и было так тихо, что слышалось нежное журчание реки Твид.
Во время похорон, когда катафалк с телом Вальтера Скотта направлялся к полуразрушенному Драйбург-скому аббатству в роще на берегу Твида и траурная процессия двигалась мимо холма, лошади по привычке сами остановились — отсюда писатель часто любовался окрестным пейзажем.
В тот же день в нише абботсфордской библиотеки, там, где при жизни хозяина стоял бюст Шекспира, друзья поставили мраморный бюст Вальтера Скотта. Это был, можно сказать, первый памятник великому английскому писателю. С годами в его честь были воздвигнуты памятники и монументы. В городе Селкирке, на Хай-стрит, перед зданием суда стоит скульптурный портрет писателя как напоминание о том, что В. Скотт много лет занимал пост шерифа Селкиркши-ра и одно время жил в четырех милях от города на ферме в Ашестиле. Поклоняется национальному кумиру и его родина — Эдинбург. На Принсес-стрит, словно шпиль готического собора, устремляется ввысь шестидесятиметровое многоэтажное сооружение. Внутри, сквозь арки, видна беломраморная статуя писателя: он изображен сидящим в кресле с книгой на коленях. В нишах каждого этажа помещены статуи, изображающие героев его произведений. Стоишь, пораженный, подле огромного сооружения и кажется, что под его сводами вот-вот зазвучат звуки берлиозовской увертюры «Роб Рой» и польются скорбные мелодии из оперы Доницетти «Лючия ди Ламермур», в основу которых легли сюжеты произведений Вальтера Скотта.
Памятник этот — свидетельство любви и признательности соотечественников человеку, воспевшему прекрасную и суровую Шотландию.
Но, пожалуй, самым лучшим памятником Вальтеру Скотту является сама Шотландия с ее холмами и озерами, замками и аббатствами, ставшими неотъемлемой частью его произведений — поэм и романов.
Холодным ноябрьским утром господин аббат Прево отправился обедать к монахам в монастырь Сен-Николя д’Арси. Возвращался он после полудня, отяжелевший от трапезы и утомленный дорогой. Он шел пешком, один, через лес Шантийи, шел прихрамывая, левая нога его распухла, он тяжело дышал, кроме того, ломило в костях, а главное, видимо, страдал, как мы бы теперь сказали, от высокого кровяного давления.
Осенний ветер яростно раскачивал черные стволы деревьев, рвал одежду, так что приходилось то и дело запахивать полы плаща и придерживать шляпу. Однако, несмотря на недуги и непогоду, аббат был доволен. Утром ему удалось ускользнуть от своего стража — «милой вдовы», хозяйки дома в Сен-Фирмене, где он жил, и одновременно бывшей у него чем-то вроде экономки, а также домашним тираном, запиравшим двери и прятавшим одежду, чтобы помешать ему, больному, отлучаться.
На развилке, где находилось распятие, называемое Куртейльским крестом, аббат в который раз остановился передохнуть. И вдруг рухнул, уткнувшись в подножие каменного креста. Он упал замертво перед святым распятием, словно торопясь в последнюю минуту испросить у Господа отпущение грехов. Так, по крайней мере, могли воспринять его смерть у придорожного креста, усмотрев в этом знак Божий, крестьяне, возвращавшиеся с поля и подобравшие умершего. Впрочем, тогда же родилась легенда о том, что аббат в тот момент был еще жив. И когда тело отнесли в деревню, в дом кюре, где на другой день врач начал производить вскрытие, из груди мертвеца будто бы вырвался чудовищный крик, от которого все похолодели. Врач, как и остальные, охваченный ужасом, окаменел подле «трупа». В тот же момент аббат Прево на этот раз в самом деле испустил дух. Это случилось в пятницу, 25 ноября 1763 года. А еще через пару дней его похоронили в том самом монастыре, у бенедиктинцев, где он в последний раз вкусил пищи Господней.
Останки его отныне покоились в склепе, но имя аббата Прево не сгинуло в могильном мраке. Напротив, с годами оно становилось все более известным. И сегодня стоит в одном ряду с именами великих. Возможно, сам Прево, размышляя о бессмертии, надеялся, что не будет забыт. Но едва ли он предполагал, что останется в памяти человечества благодаря небольшой своей книжке, которой, видимо, не придавал особого значения.
В самом деле, из ста десяти томов, написанных французским писателем Антуаном Франсуа Прево, в истории литературы прочно осталось лишь одно произведение— «История кавалера де Грие и Манон Леско». «Эта книга, — писал Мопассан, — живет и всегда будет жить в силу правдивости и поразительной жизненности рисуемых в ней образов». Но прежде всего, конечно, благодаря Манон — «женственной, простодушно-простоватой, вероломной, любящей, остроумной, опасной и очаровательной». И недаром с годами ее имя перешло в названии со второго места на первое. А затем героиня и вовсе вытеснила кавалера де Грие с обложки, и книгу стали называть просто «Манон Леско».
Загадочный образ Манон волновал воображение писателей и поэтов, о ней с восторгом писали Герцен и Стендаль, Белинский и Гейне, Тургенев и Дюма-сын, Анатоль Франс и многие другие. Художники и композиторы посвящали ей свои творения. И всех их, а также бесчисленных читателей романа Прево интересовал вопрос: существовала ли в действительности Манон Леско?
С того дня, как Прево постригся в монахи, к его имени навсегда пристало словечко «аббат», хотя оно отнюдь не несет в себе исчерпывающей его характеристики. Монах и солдат, искатель приключений и поклонник прекрасного пола, путешественник и проповедник, писатель огромного трудолюбия и потрясающей работоспособности, блестящий журналист и переводчик — таковы грани сложной личности Прево.
Впрочем, надо сказать, что о создателе грустной повести, посвященной любви кавалера де Грие к прекрасной, но ветреной Манон, известно очень мало. Сведения о нем собирали буквально по крупицам. Но и сегодня значительная часть его биографии остается неизвестной. Тем более что писем его сохранилось, к сожалению, ничтожно мало. Неизвестно также, были ли у него дневники. Возможно, он сжег бумаги и записки в один из критических моментов, опасаясь расследований. Или потерял их во время своих скитаний. Как бы то ни было, но отсутствие документов затрудняет изучение бурной жизни этого странного бенедиктинца.
Недостаток знаний о нем в известном смысле компенсируют его произведения, и прежде всего его знаменитый авантюрный роман.
Рассказанная Прево любовная история носит несомненный автобиографический характер, в ней находят эпизоды, совпадающие с тем, что пришлось пережить самому писателю. И в этом причина необыкновенной правдивости и достоверности повести. А коль скоро это так и все говорит о том, что автор использовал в книге моменты собственной биографии, то не попытаться ли отыскать в жизни Прево соответствия тем событиям, о которых идет речь в романе? Тем самым восполнить неизвестные страницы биографии писателя и документально их подтвердить.
И первое, что предприняли неутомимые разыскате-ли, — ринулись на поиски прототипов. Итак, был ли у Манон Леско реальный прообраз?
Деревня Пасси-сюр-Эр расположена на тракте, по которому гоняли партии арестантов. Обычно их вели из Парижа через Руан, на Гавр, где сажали на корабли, отплывавшие в заморские колонии, главным образом в Луизиану — территорию его величества короля Франции в Новом Свете. Именно сюда начиная с 1699 года ссылали преступников с целью скорее заселить эту колонию на берегу Мексиканского залива.
Аббат Прево часто проезжал мимо этой нормандской деревушки, когда совершал поездки в окрестностях Эврё, куда его недавно назначили проповедником.
Вот и теперь он оказался в Пасси, где намеревался отобедать, прежде чем ехать дальше. Вечерело, солнце клонилось к закату, так что в самый раз было передохнуть и перекусить. Подъезжая к гостинице, он заметил во дворе несколько повозок, солдат с желтой лилией на голубых мундирах и в шляпах, расшитых серебряными галунами, толпу любопытных, состоявшую главным образом из ребятишек. Прево понял: пригнали партию арестантов. Лошадей еще не распрягли, и было ясно, что колонна только что прибыла. В тот же момент из крытых повозок показались лица женщин. Откинув полог кожуха, звеня цепями, они высаживались на землю. Число их было невелико, всего дюжина, скованные по шести. С полным безразличием они взирали на толпу, усталые, в лохмотьях, казалось, смирившиеся с уготованной им судьбой.
Молодой аббат — ему лишь недавно исполнилось двадцать четыре года — с нескрываемым участием смотрел на несчастных. Нельзя сказать, что раньше ему не приходилось встречать девиц, отправляемых в ссылку. Напротив, он не раз видел подобные партии, но чаще издали, где-нибудь на дороге, проезжая второпях мимо. Причем обычно ему попадались большие партии, состоявшие из мужчин и женщин, скованных вокруг пояса попарно. Это означало, что перед отправкой за океан их, до этого даже незнакомых, насильно обвенчали друг с другом. А тут представилась возможность рассмотреть ссыльных поближе.
— Когда их доставят на место назначения, за океан, что там с ними будет? — не удержался Прево и задал вопрос одному из конвоиров.
— Как что? — усмехнулся тот. — О них позаботится губернатор короля. Их выдадут замуж. Для них это лучше, чем чахнуть в камерах Бисетр или Сальпетриер, — продолжал стражник. И с важным видом изрек — Надо думать о том, чтобы заселять колонии, мосье.
Разглядывая женщин, Прево заметил одну, чей облик отличался от остальных. Она выделялась не только красотой лица, но и во всем остальном мало походила на своих товарок — веселых девиц, богохульниц и служанок дьявола. Склонный выдумывать необыкновенные приключения — черта, которую отмечают в нем все знавшие его и которая позже с таким блеском проявится в его книгах, — он вообразил ее историю…
Скорее всего обманутая и покинутая своим возлюбленным, многое пережив, девушка вынуждена была промышлять на улицах, переодетая в мужское платье, пока не оказалась в приюте, то есть в Сальпетриер — не то госпитале, не то тюрьме, где, помимо нищих и умалишенных, содержали в заключении публичных женщин. А может быть, все было как раз наоборот. Девушка, самая прекрасная на свете, но, к несчастью, порочная, изменила юноше: встав однажды на путь греха, опускалась все ниже — и вот она в числе ссыльных… Господи, да ведь и сам он пережил однажды нечто подобное. Страстно влюбившись, не мыслил тогда жизни без своей избранницы. К несчастью, его возлюбленная, натура слабая, искавшая в жизни лишь удовольствий, бросила его ради более состоятельного кавалера. Отчаянию Прево не было границ, он считал себя самым несчастным человеком в мире. Случайно узнал, что его пассия попала в какую-то историю — девушку судили и должны были выслать. В ее беде он увидел для себя возможность быть подле нее и доказать свою преданность. Прево решил сопровождать ее в пути и последовать за ссыльной, дабы разделить ее участь. Однако до конца осуществить свое намерение ему не удалось. В дороге он заболел, провалялся несколько дней в бреду и отстал от партии арестантов.
Потеряв навсегда свое сокровище, Прево с отчаяния принимает решение погрузиться в могилу. Эта могила носила название Сен-Вандрий и была бенедиктинским аббатством, построенным в VII веке близ Руана. Он удаляется от всех радостей жизни, запирается в келье, приносит три обета: бедности, послушания и целомудрия. Среди монашеской братии не было равного ему в смирении, а в постижении премудростей теологии более способного. Через год по нему отслужили панихиду, и Франсуа Антуан Прево стал в возрасте двадцати четырех лет аббатом Прево. Но забыл ли он свою любовь?
С юных лет Прево лелеял мечту о ратных подвигах. Ему виделись лихие атаки, знамена и стяги, крепости и пушки. Его кровь закипала при одной мысли о бешеном галопе, призывных звуках труб и кострах на ночных бивуаках. Он представлял, как во главе кавалеристов с саблей наголо врезается в ряды противника, сметая все на своем пути. Однако судьба распорядилась иначе, и вместо боевых рядов он оказался среди молчаливых послушников иезуитского коллежа.
Здесь он познал бесконечные посты, отвратительное лицемерие, жалкое умерщвление плоти, ненавистные молитвы и омерзительное притворство. Не приходится удивляться, что разлад между мечтой и реальностью толкнул его на смелый шаг. И однажды утром господин Льевен Прево, вдовец, уважаемый человек и королевский прокурор, получил известие, которое привело его в неописуемый гнев: настоятель иезуитского коллежа, где учился его сын, сообщал, что этот негодник сбежал. Известие так подействовало на королевского прокурора, что он слег в постель. И ему ничего не оставалось, как утешаться тем, что он имел еще четырех сыновей, более заслуживающих его благосклонности и милости.
Побег юного послушника, оказавшегося столь непослушным, наделал немало шуму. Товарищи беглеца утверждали, что молодой Прево завербовался в армию. Настоятель призывал не верить этому и надеялся, что заблудший отрок одумается и возвратится в лоно церкви.
Между тем заблудший отрок действительно с упоением вкушал веселую жизнь солдата, надеясь, как писал он сам, «выдвинуться при первом удобном случае». Весьма вероятно, что он завербовался под вымышленной фамилией — так было безопаснее для него и избавляло родителя от неприятностей.
Скоро, однако, наступили солдатские будни, война, а с ней и беспечная жизнь кончилась. Вместо подвигов ему достались изнурительная муштра и скука, вместо веселой славы — сожаление и разочарование. Не долго думая, он дезертирует, хотя, видимо, и знал, что его ждет, если поймают.
Ему было восемнадцать, когда однажды, в сентябре, главный камергер короля герцог де Буйон появился на балконе, выходившем на мраморный двор Версальского замка, и собравшиеся внизу заметили на его шляпе черное перо. И в тот же миг герцог возгласил: «Король Людовик XIV почил!» Затем ненадолго удалившись, он вскоре вновь появился на балконе. Траурное перо исчезло, сменилось белым, и герцог воскликнул: «Да здравствует король Людовик XV!»
Прево хорошо запомнил этот день, так как смерть короля избавила его от угрозы тюрьмы за дезертирство. Он был прощен и поспешил объявиться в Париже. Раскаяние терзало его.
Чтобы замолить грехи, недавний отступник возвращается под сень монастырской кровли.
И так случалось не раз в его жизни: не однажды он обрекал себя на заточение в келье. И тогда молитвами, постом и бичеванием терзал свою душу и тело, смирял плоть. Читал курс теологии, преподавал словесность, разглагольствовал с кафедры собора о борьбе с искушениями и соблазнами мира сего. Однако, не в силах перенести потерю свободы, самовольно возвращался к мирской жизни, предавался любви и кутежам, залезал в долги, спасался бегством от кредиторов и еще более опасных врагов — своих бывших церковных хозяев, требовавших ареста отступника. Заметая следы, надолго исчезал из поля зрения, и даже «родные и друзья не подозревали, что со мною произошло», сознавался он сам.
Возможно, он и победил бы в себе дьявола, если бы не слабость к прекрасному полу. Не умея лицемерить, не научившись одновременно служить Богу и девицам, как верно заметил о нем Анатоль Франс, Прево перелезал через монастырскую стену и отправлялся радоваться жизни со всеми встречными «манонами». Тем более что и он нравился им не менее, чем они ему, ибо у него были большие голубые глаза, несколько полное розовощекое лицо в обрамлении белокурых волос. К тому же он обладал общительным нравом, был изыскан в обращении и умел со вкусом одеться.
Между Богом и дьяволом — такова, пожалуй, формула жизненного пути Прево. Проще говоря, его жизнь проходила в постоянных колебаниях между добродетелью и грехом, благочестием и соблазнами, смирением и искушением. Таков был век, а Прево был сыном своего времени.
После ханжеского века Людовика XIV, при сыне брата покойного короля регенте герцоге Орлеанском, внезапно, словно пробудившийся вулкан, наступил взрыв веселья, прилив распущенности и легкомыслия. Страна, с таким трудом выбравшаяся из долгой войны, как бы одержимая желанием наверстать упущенное, бросилась в объятия греха. «Абсолютная власть, —как скажут потом, — уступила место абсолютному удовольствию». Наступило время фривольных эстампов, подозрительных «туалетов Венеры» и откровенно эротических «живых картин». Любовные авантюры почитались вроде доблести, и часто даже дамы оружием решали между собой спор о любовнике.
Распущенные нравы, бесчестие и коррупция, подобно зловредной болезни, поразили столицу и провинцию. Это было время невиданных взлетов и столь же головокружительных падений. Простой подмастерье мог стать министром, хитрый аббат быстро достигал сана кардинала, ловкач торговец становился обладате-лем сокровищ, скряга меняла превращался в золотой мешок, а лакей — в миллионера и мог разъезжать в карете своих бывших хозяев, как злословили современники, частенько все еще на запятках, а не внутри, как подобает вельможе. Повсюду процветали игроки и шулера, сводни и откровенные воры.
Неудивительно, что в этой атмосфере всеобщей погони за золотом и наслаждениями возник Джон Лоу со своим изобретением — бумажными деньгами, банкнотами. Но вместо упорядочения расстроенных финансов сын ювелира из Лористона внес лишь еще больший хаос, проповедуя свою «систему»: могущество кредита и достоинства новых денег.
Его банк вмиг сделал темную и узкую улочку Кэнканпуа самой популярной и многолюдной. Это случилось на другой же день после открытия банка в 1716 году. А через четыре года Лоу уже занимал место генерального контролера финансов.
Однако летом того же года афера с бумажными деньгами лопнула как мыльный пузырь, и ее творец поспешил укрыться в Голландии — «исконной земле изгнанников».
Приблизительно в те же годы в этой столь благосклонной к гонимым стране оказался и аббат Прево. Что заставило его пересечь границу? Какое событие вынудило похоронить в глубочайшей безвестности свои поступки, даже имя свое? Да все то же проклятое непостоянство: монастырь становится для него невыносим, он просит перевести его в обитель с менее суровым режимом. Ему отказывают: скорый на решения и легкий на подъем, он избирает бегство. Вслед монаху-расстриге рассылают предписание об аресте. Дело приняло нешуточный оборот. Тогда-то, подумав, Прево и устремился по уже знакомому ранее пути и скрылся в Голландии. К этому времени, надо заметить, он уже был автором первых томов нашумевших «Записок знатного человека».
Кое-как перебиваясь, он живет в Гааге тем, что служит в кофейне, выступает с бродячей труппой актеров, временами подрабатывает у книготорговца. Несмотря на лишения, он, однако, совсем не жалеет о содеянном. Напротив, утверждается в мысли, что «совсем не создан для монашеской жизни». Все отчетливее Прево осознает свое истинное призвание — быть писателем.
К его досаде, все эти годы, годы изгнания, ему приходится писать ради хлеба насущного. В погоне за заработком он с избытком начиняет страницы своих писаний разного рода приключениями. Похищения и убийства, тайные гроты, переодевания и дуэли, страстные вздохи, погони, невероятные совпадения— все идет в дело, лишь бы понравиться публике. И он преуспел в этом. Все хотели читать продолжение похождений его знатного человека, а также цикл романов о вымышленных приключениях Кливленда— придуманного им внебрачного сына Кромвеля. Однако, поставляя, казалось бы, занимательное чтиво, Прево с мастерством подлинного психолога описывал чувства и поступки людей, особенно у него получалось описание несокрушимой власти любви, подчас несправедливой и жестокой, когда женщина одновременно и любит, и изменяет. Это умение правдиво изобразить подобные крайности дало повод Г. Гейне воскликнуть, что «после Шекспира в настоящей трагедии никому не удавалось так изобразить этот феномен, как нашему старому аббату Прево».
Но настанет день, когда главной его заботой на несколько недель станет новая рукопись. Она лежит на столе в каморке, где он ютится. Здесь он пишет продолжение «Записок знатного человека».
Впрочем, нет, он создает совершенно самостоятельную вещь и только приложит ее к очередному тому «Записок», преследуя лишь коммерческие цели. Это будет история любви двух молодых людей, любви страстной, безумной, от которой они теряют рассудок и попадают в сети порока.
Трудясь над рукописью, он всячески избегает напыщенности и грубости, не гонится за дешевым остроумием, стремится к правдивости и выразительности, создавая с исключительной точностью многие черты времени — легкомысленной эпохи правления регента герцога Орлеанского. Словом, его пером водит сама Естественность, и, как заметит тот же Г. Гейне, «интуиция величайшего поэта здесь целиком совпадает с трезвым наблюдением самого холодного прозаика».
Присутствует ли вымысел в его повествовании? В известной мере. Ему не составило бы особого труда указать на извилистую и тайную линию, которая соединяет вымысел с воспоминаниями, с тем, что пережил лично. В этом случае он рассказал бы о том, что пользовался воспоминаниями о собственных увлечениях. Во время работы над романом перед его глазами стоял образ его возлюбленной, и он снова негодовал по поводу ее измен, тащился за повозками ссыльных, среди которых находилась она, неверная, но обожаемая, ради которой готов был разделить ее ужасную участь. Он слышал звон цепей во дворе гостиницы в Пасси, видел девушку, так похожую на его возлюбленную, и воображение рисовало ее печальную историю.
Наверняка он вспомнил в те дни еще одну свою любовь. Он не мог ее не вспомнить! Они встретились в октябре 1728 года. Ее звали Манон, хотя настоящее имя у нее было иным. В первый раз он увидел ее у старого колодца во дворе приюта Сальпетриер. Как оказалось здесь, в этом вертепе, столь прелестное создание? Узнать это не составляло труда, ибо Прево прибыл в приют, чтобы исповедовать узниц. Юная Манон с готовностью поведала молодому обходительному аббату свою историю. Исповедь растрогала участливого святого отца, а красота девушки покорила его сердце. Должно быть, и она не осталась равнодушной. Во всяком случае они встречаются снова и снова. Что им сказать друг другу, кроме слов любви? Но за Манон ревностно следит настоятельница мадемуазель Байм и как-то раз застает врасплох нежно обнявшуюся парочку в приемной тюрьмы. После этого влюбленному аббату ничего не остается, как вернуться в свой монастырь. Здесь под тяжестью разлуки с любимой Прево делает первые наброски будущего романа. Затем через влиятельного придворного устраивает освобождение Манон. К несчастью, она была уже смертельно больна и умерла на его руках, едва выйдя из тюрьмы.
Что это, однако, — подлинный случай или красивая легенда, восходящая ко времени появления романа? Некоторые ученые склонны считать этот эпизод действительным событием, хотя оно и отдает излишней «беллетристикой». Неслучайно и поныне в приюте Сальпетриер живет память о Манон. Сохранился превращенный в фонтан старый колодец, у которого впервые Прево увидел несравненную Манон, один из дворов носит ее имя.
Однако те, кто сомневается в правдивости этой истории, заявляют, что Прево не мог исповедовать женщин в приюте по той, мол, простои причине, что этим занимались священники, находившиеся там по долгу службы. «А если допустить, что из этого правила по какой-либо причине могли быть исключения? — спрашивают их оппоненты. — Ведь нравы того времени были весьма вольными. Молодому бенедиктинцу Прево удавались многие подвиги. Почему бы не предположить, что он пережил и авантюру с очаровательной узницей Сальпетриер?» Во всяком случае, если для подтверждения версии о любви Манон и Прево не хватает формальных доказательств, то и возражений, чтобы отклонить ее, тоже недостаточно.
Такая неопределенность то и дело побуждала неутомимых литературоведов отправляться на поиски фактов. В розысках принимали участие многие известные ученые, историки и филологи, в частности, такие, как Лежье-Дегранж, Клэр-Алиан Анжель, Фредерик Делоффр. Итоги их усилий, направленных на то, чтобы расшифровать неизвестные или спорные страницы биографии Прево, подвел Андре Бийи в своей книге «Странный бенедиктинец, аббат Прево», изданной в Париже в 1969 году. Автор ее, друг Гийома Апполинера, романист, популярный критик и известный библиофил (ныне уже умерший), в своем обширном и добросовестном труде систематизировал старые и привел новые данные о поисках прототипов героев шедевра авантюрной литературы.
Наиболее удачливым в этом смысле оказался Лежье-Дегранж. Логично рассудив, что поиск надо начинать с документов, составленных на арестованных, он скрупулезно обследовал списки девиц дурного поведения, высланных из Франции в 1719–1820 годах. В одном из них ему встретилось упоминание о девятнадцатилетней Мари Шовиньи по прозвищу Манон — она была посажена в приют за то, что, «одетая в мужское платье, открыто занималась в Париже постыдной проституцией». Но та ли это Манон? Едва ли. В списке значатся и другие девушки — ровесницы героини Прево, в частности шестнадцатилетняя Габриэль Крэтэн, или «крошка Нанетта», избежавшая ссылки за океан благодаря заступничеству одной знатной дамы. Но и это не та Манон. Есть и другие кандидатуры на роль Манон. Так, барон Марк де Вилье, автор книги «История основания Нового Орлеана», в архивах министерства морского флота и колоний установил, что «дикий и свирепый» губернатор Луизианы — это господин де ла Мотт-Кадийяк, а кавалер де Грие — либо некий Аврий де ла Варенн, либо Роне де Транблье из Анжера. Наконец, черты Манон он признал в какой-то публичной девке Фроже по прозвищу Кантэн. Это создание пленило ла Варенна, что «вызвало большое неудовольствие его родителей».
Из одного письма губернатора следует, что Фроже по требованию епископа Анжерского была посажена в тюрьму города Нанта. Ей удалось бежать и в марте 1715 года вместе со своим возлюбленным ла Варенном устроиться на военном корабле «Дофин». Любовники, которые выдавали себя за мужа и жену, расстались сразу же, как только высадились в Луизиане. Ла Варенн, бывший капитан Шампанского полка, был отослан в Иллинойс, а госпожа Фроже стала продавщицей в лавке, которую держал некто Рожон. Пошли сплетни: Рожона обвиняли в том, что он занял место мужа. С церковной кафедры местный кюре бичевал распущенные нравы. «Клевета!» — возражала Фроже, направившая губернатору «прошение о восстановлении чести». Узнав обо всем этом, ла Варенн поспешно вернулся защищать свою любовницу и решил на ней действительно жениться. Однако местное духовенство всячески препятствовало этому браку. Отчаявшись, ла Варенн добился от морского министерства разрешения возвратиться во Францию. Губернатор ла Мотт-Кадийяк больше ничего не сообщает об этом деле, которое, по правде говоря, как замечает А. Бийи, сильно разочаровывает, в нем нет ничего общего с сюжетом романа Прево.
Но неутомимые эрудиты не успокоились. Они установили, что имена персонажей Прево это не просто выдумка. Оказалось, что благородный друг непутевого героя Прево — аббат Луи Тиберж — это бывший настоятель монастыря де Мисьон, умерший в 1730 году. В «Новом историческом словаре, составленном обществом литераторов» (год издания 1765), о нем прямо сказано, что это «благочестивый священнослужитель, который играет столь трогательную роль в любви де Грие».
Нашелся и де Грие, не лишенный сходства с возлюбленным Манон. Этот де Грие принадлежал к древней фамилии де Грие, чей родовой замок расположен поблизости от Лизье. Как и герой Прево, Шарль Александр де Грие был младшим сыном и являлся командором Мальтийского ордена. В 1714 году этот молодой человек, в одиннадцать лет ставший пажем Великого магистра Мальтийского ордена — древнейшей в Европе духовно-рыцарской организации, — вернулся во Францию. Здесь, возможно, в одном кафе, приюте артистов и художников, он и встретил Манон. А может быть, Прево познакомился с прототипом своего героя в Нормандии, когда жил в аббатстве Эврё или каком другом? Подлинный де Грие умер в 1769 году. И хотя сходство его с любовником Манон довольно туманное, но все-таки такие совпадения, как имя и Мальта, побуждали искать это сходство, смущая исследователей.
Пожалуй, больше других в этом смысле повезло все тому же Лежье-Дегранжу.
Продолжая свои розыски в архивах Бастилии, хранящихся в Арсенальской библиотеке, ученый наткнулся наконец на заслуживающую внимания историю.
В последние годы царствования Людовика XIV жил в Париже некий господин Жан Левье, сборщик соляной пошлины. Вдовец, он растил дочь Антуанетту, или Туанон, чье поведение доставляло ему немало хлопот. Убежав из отчего дома, она в Лионе спуталась с каким-то Эду. От него родила дочь Мари-Мадлен, которую назвали Манон.
Когда любовник Туанон умер, а она продолжала вести веселую жизнь, пятилетнюю Манон забрал обожавший ее Жан Левье. Он поручил девочку заботам трех своих родственниц, «милосердных и благочестивых дев», которые сначала поместили ее в монастырь, чтобы там она приучилась к труду, а затем для пополнения образования отправили в школу.
Между тем мать, называвшая себя вдовой Эду, вернулась в Париж и не нашла ничего лучшего, как использовать дочь в своих корыстных целях. Девочке было всего двенадцать лет, но выглядела она старше своего возраста. С помощью трех солдат мать выкрала дочь для того, чтобы сбыть ее богатым любителям развлечений.
Маленькая Манон попала в руки некоего кавалера Луи Антуана де Вьянтекса — ему был двадцать один год — непутевого сына советника суда из Безансона.
Юный шалопай успел уже дважды побывать в тюрьме, забросил изучение права и вступил в ряды мушкетеров, откуда был изгнан, и совсем опустился, добывая средства к существованию карточной игрой, женщинами и даже чеканкой фальшивой монеты. В руках этого негодяя и оказалась Манон. Мало того, он пристроил девушку у известной сводни по фамилии Лякормье. Из-за этого у кавалера начались стычки с мамашей Туанон, взбешенной тем, что от нее ускользает столь важный источник дохода. Между тем сводня не теряла времени даром и представила девушку некоему князю (имя его осталось неизвестным), который, однако, отверг сделку.
Как замечает Лежье-Дегранж, подобный эпизод есть и в романе Прево, где итальянский князь отказывается купить прелести Манон Леско, потому что она не «свеженькая».
Вскоре Манон от одной сводни переходит к другой, не менее процветающей торговке живым товаром. К ней однажды и нагрянула Туанон, никак не желавшая отдавать свое добро. Она явилась требовать дочь назад, устроила дебош, но добилась лишь того, что оказалась в Главном приюте. Ее упекли сюда по требованию одного знатного клиента той самой сводни, у которой жила Манон. В этот момент на сцене вновь объявился Жан Левье. В свою очередь, он испросил королевского указа о заключении в тюрьму и своей дочери, и юной Манон. В октябре 1721 года Туанон посадили в Сальпетриер. Что касается Манон, то она своей любезностью и изысканностью так растрогала полицейского комиссара Обера, что тот добился для нее прощения деда и отослал ее к прежней воспитательнице для того, чтобы «Манон приняла первое причастие».
Увы, добрые намерения Манон быстро улетучились. Она вновь оказалась во власти Вьянтекса, и дед Жан Левье вынужден был обратиться с новым прошением к инспектору полиции. Он опасался, «как бы эта юная страдалица, которую Вьянтекс держит при себе сегодня в одном, а завтра в другом месте в окружении шайки головорезов, не была бы вовлечена в их кражи и скандалы и повешена заодно с ними».
Вот почему дед и добивался пожизненного заключения для своей неисправимой внучки.
Манон посадили в Сальпетриер 9 декабря 1721 года.
Ей было четырнадцать лет. Вполне возможно, что лишенная средств узница испытала режим, предусмотренный для заключенных низшей категории: она работала и молилась, ей запрещали разговаривать, она носила грубошерстную одежду и деревянные башмаки, питалась овощной похлебкой, хлебом и водой, хотя в тюрьме заключенные имели возможность покупать на свои деньги мясо и фрукты. За нарушение дисциплины неумолимая настоятельница мадемуазель Байи строжайше наказывала: лишала похлебки, сажала в карцер, била хлыстом, надевала железный ошейник; прибавьте к этому постоянное соседство злых и пошлых, нечистоплотных и развратных женщин. Молодость, обаяние и изящество Манон настолько не вязались с этой клоакой, что умиляли даже стражу. Кто же был больше всего виновен — она сама, мать, которая сделала ее в двенадцать лет проституткой, или человек, вынуждавший ее торговать собой? Что касается последнего, то есть Вьянтекса, как оказалось, он сам не на шутку был влюблен в Манон и предпринимал все, чтобы вызволить ее из тюрьмы. В отчаянии он наконец обратился к деду с просьбой разрешить ему жениться на его внучке. И в самом деле, почему бы ему, подобно кавалеру де Грие, не быть влюбленным в Манон? Судя по письму, адресованному Жану Левье, так оно и было: «… моя страсть такова, что в жизни меня может утешить либо законное обладание предметом, ее внушившим, либо, при отсутствии этого, смерть от отчаяния».
Но ни это письмо, ни попытки другого рода успеха не возымели. В конце концов Вьянтекса за его дела упрятали в тюрьму Бисетр, а потом выслали в Безан-сон. Здесь он и кончил мирно свои дни, остепенившись и спокойно состарившись.
А Манон? Что стало с ней?
Теперь, чтобы добиться свободы, ей оставалось рассчитывать на себя. В 1724 году, после смерти своего деда Левье, она обратилась с прошением к господину д’Аржансону, генеральному инспектору полиции.
Полицейское донесение описывает Манон красивой, хорошо сложенной девушкой, преодолевшей свои заблуждения и прекрасно работающей. Однако, отмечается в донесении, следует всячески опасаться за ее судьбу, если ее, сироту и без всяких средств, при такой внешности предоставить самой себе. Поэтому рекомендовалось поместить ее к какой-нибудь благотворительнице. Вполне вероятно, что «добродетельные дамы» от этого уклонились, ибо прошение осталось без последствий.
Спустя три года Манон опять подала прошение инспектору полиции. Камнем преткновения на этот раз послужил неблагоприятный отзыв мадемуазель Байи, которая жаловалась на «сильную испорченность этой девушки».
Зато двумя месяцами позже ее недостойную мать Туанон выпустили на свободу. Наконец, в 1731 году— уже после того, как появилось первое издание «Манон Леско», благодаря вмешательству одного высокопоставленного лица, егеря бывшего премьер-министра герцога Бурбонского, Манон была освобождена и сослана в Нион. К этому времени ей исполнилось 24 года, и около десяти лет она провела в Сальпетриер. Из всех действующих лиц этой драмы она была менее всех виновной и суровее всех наказанной.
Такова история Манон Эду, обнаруженная Лежье-Дегранжем. «Можно ли признать прелестную узницу Сальпетриер прототипом героини романа?» — спрашивает, в свою очередь, А. Бийи. И в ответ приводит мнение того же Лежье-Дегранжа, который ограничился лишь тем, что увидел в этой истории «неопровержимое доказательство социальной и психологической правды прославленного романа».
Следует коротко сказать и о литературных источниках романа Прево, которых критики отыскали великое множество, однако оказавшихся всего-навсего реминисценциями и совпадениями. Но не следует все же забывать, как считает А. Бийи, что нуждающийся в деньгах, подстегиваемый издателями Прево использовал все, что попадалось ему под руку. Посмотрим, что же именно?
Так, исследовательница творчества писателя К.-Э. Анжель обратила внимание на английскую романистку миссис Пенелопу Обэн, подвизавшуюся в первой четверти XVIII века в Лондоне. Она, обладая чувствительным и нежным сердцем, была некрасива и бедна. Романы Пенелопы Обэн успехом не пользовались. Тогда она придумала другой способ зарабатывать своим пером кое-какие деньжонки: стала составлять проповеди, которые сама же и произносила, — из расче-та ЗО су за сорок пять минут проповеди. Скучающее добропорядочное общество Лондона сочло забавным эти проповеди женщины. Их посещало много народу, и некоторое время они были в моде.
В 1727 году Пенелопа Обэн перевела и напечатала без имени автора (эти мелкие литературные кражи были тогда в порядке вещей) книгу Роберта Шалля «Знаменитые француженки». В этом романе автор-вольнодумец, любитель пожить и страстный путешественник, рассказывал ряд пикантных историй, довольно слабо связанных между собой.
Недрогнувшей рукой Пенелопа Обэн сокращала книгу Шалля и вписывала многое от себя. Первая история в романе Шалля рассказывает о молодом человеке по имени де Руэ, без памяти влюбленном в некую Ма-нон дю Пюи. Накануне свадьбы он находит страстное письмо, написанное каким-то Готье его невесте. Обезумев от горя, де Руэ решает покончить с собой, но потом спохватывается и пишет Манон письмо, заканчивающееся словами: «Прощай, жестокая, неблагодарная, коварная Манон!» Если вспомним слова, с которыми герой Прево обращается к своей любовнице после его лекции в Сорбонне, то нетрудно уловить те же эпитеты, тот же ритм фразы.
Сходство между отдельными эпизодами у Шалля и Прево этим не ограничивается.
С де Грие происходит то же, что и с героем Шалля господином де Прэ, который тайком женился на мадемуазель де Лэпин. Отец молодого человека, прознав об этом, врывается к молодоженам с четырьмя подозрительными типами, которые по его приказу хватают и увозят сына в карете. Так же, как и де Грие, господина де Прэ сажают в тюрьму Сен-Лазар, где он узнает, что Мадлен де Лэпин умерла во время родов в приюте. Выйдя на свободу, де Прэ находит прибежище у своего брата в Нормандии, что совпадает с концовкой романа Прево.
Черты Манон встречаются и в «Истории де Франа и Сильвии». Кокетливая, ветреная, любящая удовольствия Сильвия, уличенная де Франом, который любит ее неодолимой любовью, в неверности, умоляет возлюбленного ее выслушать, вызывает у него умиление и вновь покоряет его сердце.
Однако вскоре Сильвия умирает в монастыре Пуату, после того как еще раз изменяет де Франу, по ее уверениям, не по своей воле, а благодаря колдовству…
Что сказать по поводу приведенных эпизодов? Весьма вероятно, что писатель использовал их, работая над своим романом. «Очарование героинь Шалля, — пишет по этому поводу А. Бийи, — и их невольные измены, дополненные и исправленные миссис Обэн, роковые страсти его героев, тюрьмы, смерть — эти характеры и темы могли поразить чувствительного Прево, подсказать ему отдельные описания и сцены…»
Но несомненно также и то, что книги Пенелопы Обэн не были для Прево единственным литературным источником вдохновения. Он черпал и у других авторов. Так, вполне возможно, что Прево вдохновлялся известной английской драмой Дж. Лилло «Лондонский купец», где герой ради любви к корыстолюбивой и безнравственной Милвуд совершает преступление и гибнет на эшафоте. Не мог Прево не знать и романа Д. Дефо о похождениях Молль Флендерс, судьба которой многими внешними приметами сходна с судьбой героини Прево.
И все же авантюра Прево с красивой узницей Саль-петриер, которой вполне могла быть Манон Эду, хочется думать, послужила одним из основных источником сюжета романа.
Однажды издатель Нольм, настырно требующий отработать авансы, выданные нищенствующему литератору в счет его будущих сочинений, с удовольствием раскрыл свежую рукопись Прево и прочел заглавие: «История кавалера де Грие и Манон Леско». Летом 1731 года роман появляется в Голландии у книгопродавца как дополнение к седьмому тому «Записок знатного человека».
С этого часа Прево познал подлинный литературный успех и всласть вкусил от щедрот издателя.
Но еще больший успех выпал на долю сочинения аббата Прево у него на родине. Правда, здесь роман появился два года спустя, только в 1733 году. Книга была издана отдельно, как не имеющая отношения к «Запискам знатного человека». И вообще имя автора на обложке отсутствовало. Значилось лишь, что это «сочинение г-на Д ***, изданное якобы в Амстердаме». Публика встретила историю Манон и кавалера де Грие с большим интересом. Все восторгались мастерством и умением автора писать занимательно, тем, что ему каким-то образом «удается внушить порядочным людям сочувствие к героям — мошеннику и публичной девке». «Газета двора и Парижа» сравнила Прево с Вольтером. И даже те, кому сочинение пришлось не по вкусу, например, старшине сословия адвокатов и литератору Матье Марэ, вынуждены были признать, что «все набрасывались на эту книгу, как мотыльки на огонь».
Не прошло, однако, и четырех месяцев, как власти отдали приказ изъять и уничтожить «безнравственную» книжку. И это тогда, когда нравы отличались особой распущенностью. В таком случае, почему роман столь поспешно изымали из продажи? Видимо, потому, что те, кто предавался пороку втайне, цинично не желали признавать сочинение, в котором увидели лишь описание фривольных приключений, не более. «Легкий взгляд XVIII столетия, — писал по этому поводу А. Герцен, — не умел разглядеть во всю ширину и бездонность ужаса любви к такому существу, как Манон…» Недалеким и пресыщенным великосветским снобам не понять было того, что родилось великое произведение, в котором «все естественно, все правдиво, все верно», как скажет о нем А. Франс, назвав «чудом искусства».
«Манон любит в продолжение всей своей жизни, — писал далее А. Франс, — а остается верной неделю. Ей нужны тряпки, ужины, в ней все дышит страстью, и даже на тележке, везущей ее в Приют, она остается прелестной; ее нельзя не любить! А юный кавалер, решающийся ради нее на мошенничество и прячущий карту за манжет, разве он не вызывает истинного сострадания? Эти дети оба изрядные плуты, но они любят друг друга… И сколько людей, закрывая книгу, скажут: «О Манон! Как бы я любил тебя, будь ты жива!»
Книга была запрещена, и Прево едва ли рассчитывал при своей жизни увидеть ее новое издание. Тем не менее двадцать лет спустя, в 1753 году, она вышла в двух томах с прекрасными гравюрами Паскье и Гра-вело. Аббат Прево к тому времени обрел славу крупнейшего писателя современности.
Вернемся, однако, в Гаагу, где в каморке под крышей мы оставили господина аббата. Дела его поправились, но ненадолго. Гонорар улетучился как дым, и снова надо было сидеть, согнувшись над листом бумаги, чтобы заработать на жизнь. К тому же влюбчивого аббата вновь поразила стрела Купидона. Его избранница, девушка красивая, благородного происхождения, обладала, к несчастью, ветреным характером. Прево лучше, чем кто-либо, знал, что Ленки Экхардт не была образцом добродетели. Ему были известны ее легкомыслие и шумные похождения и ее способность извлекать выгоду из своих романов. Болтали, что она обирала любовников, иных доводила до нищеты. Была ли эта пленительная блондинка с томным взглядом всего-навсего пошлой куртизанкой, падкой на роскошь? Была ли она жадной и кокетливой соблазнительницей? Подвластный капризам женщины, которую любил, Прево закрывал глаза на ее поведение, прощал ей измены и исчезновения, за которыми всегда следовали пылкие примирения, когда слезы чередовались с ласками и горячими клятвами. Надо ли говорить, что все заработанные деньги уходили на экстравагантные причуды его возлюбленной, ее туалеты и удовольствия!
Положение, в котором оказался Прево, напоминало перипетии его знаменитого романа. Неужели он пророчески изобразил в нем свою собственную судьбу? Во всяком случае, временами ему казалось, что он выступает в роли кавалера де Грие, а Ленки — это Манон.
Что касается литературоведов, то они попались на удочку этого видимого соответствия и одно время решительно заявляли, что Ленки и есть прототип Манон Леско. Это можно было бы правдоподобно доказать, если бы роман Прево появился в 1733 году. Тогда имелось бы основание считать, что любовное приключение в Голландии легло в основу сюжета книги. Та же слепая страсть влюбленного в потаскушку, та же судьба, вынуждающая Прево, чтобы покрыть расходы на содержание любовницы, бегать от кредиторов и, находясь с ней в Англии, пойти на мошенничество, которое могло ему стоить жизни, — все это действительно являет очевидную аналогию с де Грие. Но, поскольку, как позже установили, первое издание вышло в 1731 году, надежда найти в даме из Гааги прообраз Манон равна нулю. В самом деле, свою рукопись Прево передал в типографию в феврале, а со своей возлюбленной, видимо, встретился не раньше чем в марте того же 1731 года. Это значит, что все злоключения, которые он пережил с Ленки, имели место уже после выхода романа в свет. Но авантюра с обворожительной и беспутной Ленки подтверждает вывод историка Лежье-Дегранжа о том, что Прево вывел в своем романе тип мелкой куртизанки, который был тогда распространен в достаточном числе экземпляров.
Как следовало ожидать, связь с обольстительной голландкой привела его на край пропасти. Наделав долгов и будучи не в состоянии их оплатить, Прево благоразумно покинул город, иначе говоря, сбежал от кредиторов. Все его нехитрое имущество пошло с торгов. Но вряд ли пострадавшие остались довольны суммой, которую удалось выручить на распродаже. Выручка составила всего 500 флоринов против 2500 — суммы по тем временам огромной, которую задолжал этот пройдоха аббат. Он же, в то время как его костили и проклинали, трясся в почтовой карете по разбитой дороге вдоль побережья. Напротив него с неприступным видом восседала прекрасная Ленки. Как ни странно, она не бросила своего обожателя и последовала за ним. Куда направлялись беглецы? Одни предлагали искать их в Берлине, другие утверждали, что они скрылись в России. Между тем парочка пересекла море и благополучно высадилась в Англии.
В Англии, где ему уже доводилось жить, он надеялся поправить свои дела. Тем более что в этой стране у него было немало друзей. Он бывает в свете, дружит с знаменитыми писателями, путешествует. И чем ближе узнает страну, тем больше она ему нравится. Ее мудрые, как ему кажется, законы, дух веротерпимости, что царит в религиозных учреждениях в отличие от французских монастырей, «где пестуются безделье и праздность», — все приводит его в умиление, и он восклицает: «Счастливый остров!..»
События, развернувшиеся вскоре, надо думать, несколько охладили его восторги.
Чтобы как-то существовать, он начал издавать газету «За и против». Ее страницы заполняли материалы на политические, философские, исторические, теологические и географические темы, она широко знакомила с английской культурой, поскольку ее задачей было информировать французов о жизни Англии. Но ни газета, ни упорный литературный труд не улучшили его положения. Несравненная Ленки требовала новых нарядов, новых развлечений, новых удовольствий.
Прево поступает воспитателем к сыну богатого и влиятельного человека. Настает роковой день — 13 декабря 1733 года, начальник тюрьмы Ньюгейт заносит в списки арестантов фамилию Марк Энтони Прево. Что случилось? Ответ на этот вопрос мы находим в том же списке, где о причинах ареста говорится: «Преступно подделал документ с просьбой выдать ему 50 фунтов». Автору «Манон Леско» грозила, по крайней мере теоретически, смертная казнь. В каком отчаянном положении он, видимо, оказался вновь, если пошел на такой шаг!
К счастью для Прево, отец его воспитанника (от имени которого он сочинил подложное письмо с просьбой выдать деньги) отказался от преследования. Через несколько дней против имени Прево в списках арестантов появилось спасительное слово: «Освобожден». Но оставаться более на «счастливой земле» он уже не мог.
Несколько месяцев его жизни окутаны тайной. Возможно, он, бросив Ленки, укрылся в Бельгии или Герма-нии. Где-то здесь его настигает приятное известие. Ему даровано прощение и разрешается вернуться на родину.
Во Франции он, знаменитый писатель, тотчас же попадает под покровительство принца Конти, тот делает его своим домашним священником. На самом деле это чистая фикция, никто не требует от него исполнения обязанностей духовного отца. Об этом он договорился со своим покровителем при первой же встрече.
— Монсеньер, я никогда не служу мессы, — откровенно предупредил Прево.
— Пустяки, а я ее никогда не слушаю, — ответил Луи Франсуа де Бурбон-Конти, кузен Людовика XV.
Оставшиеся двадцать семь лет жизни Прево провел относительно спокойно. Он жил вне монастыря, все более уединенно, носил одеяние, подобающее белому духовенству (таково было одно из условий его возвращения), и писал, писал. Иногда неделями не покидал своего кабинета, писал нескончаемые романы, трактаты, книги о путешествиях, много переводил с латинского и английского. Из-под его пера, которое, по словам того же А. Франса, словно само ходило по бумаге, одно за другим выходили сочинения: «История Маргариты Анжуйской», «История одной гречанки», «История Вильгельма Завоевателя», переводы «Писем Брута» и «Частных писем Цицерона» и многое другое, всего не брался перечислить даже А. Франс. Причем сочинял с такой легкостью, что мог, не отрываясь от работы, принимать участие в разговоре, — способность, которой из его земляков позже владел, пожалуй, лишь один А. Дюма. Наступила пора собирания плодов, слава его достигла вершины. Он работал, не выпуская пера из рук, до последнего дня, до того самого утра, когда отправился на прогулку в монастырь Сен-Николя д’Арси.
На развилке у Куртейльского креста сердце старого аббата пронзила острая боль. Взгляд его помутнел, огненное дыхание опалило воспаленные, ссохшиеся, словно пергамент, губы, и на них как бы застыл вопрос: куда ведет дорога? Из глубин угасавшего сознания он услышал ответ: в бессмертие.
Разбойник поневоле «ПИТОМНИК РАБОВ»
Возвратившись после утреннего обхода лазарета, полковой медик Фридрих Шиллер начал упаковывать вещи. Отбирал лишь самое необходимое, остальное приходилось бросать здесь, в штутгартской квартире на Малом Рве. Особенно жаль было расставаться с книгами. Но с Шекспиром и томиком от Клопштока так и не смог разлучиться. И как ни тесен был его скромный дорожный саквояж, для них там все же нашлось место.
К вечеру все было уложено. Наступила очередь сбросить опостылевший мундир фельдшера — неуклюжий, довольно странный наряд, абсолютно непригодный для жизни, сковывавший не только движения, но, казалось, и сам дух. Как давно мечтал он освободиться от этого облачения, леденящего душу, сколько вытерпел и перенес наказаний из-за того, что часто форма бывала надета на нем не по инструкции.
Теперь, в обычном одеянии, его трудно было узнать. Ведь никто никогда не видел полкового медика в штатском. Год назад, при назначении в гренадерский полк лекарем (без темляка — офицерского отличия) с нищенским окладом 18 гульденов в месяц, генерал Оже передал ему августейшее повеление: «без права заниматься частной практикой и носить партикулярное платье».
Вещи погрузили на повозку, и лошади тронулись. Жребий был брошен. Как поется в народной песенке: «Прости-прощай, разлюбезный швабский край!» Путь его лежал к границе, в чужие земли.
Беглец благополучно проехал по примолкшим ночным улицам. Миновал Эслингенские ворота. Вот и поворот на Людвигсбург — зимнюю резиденцию, построенную в начале века герцогом Эвергардом Людвигом.
Лошади медленно поднялись в гору. Это был знаменитый Тунценгофский холм — лобное место города Штутгарта. До сих пор на нем сохранялись остатки железной виселицы, на которой лет сорок назад повесили придворного финансиста еврея Зюсса. История эта была широко известна в стране. Однажды, еще ребенком, проезжая мимо этого странного железного сооружения, воздвигнутого чуть ли не два столетия назад, он спросил отца: «Это мышеловка?» И в ответ услышал рассказ о бедном Зюссе. О том, как зимним февральским днем везли его под конвоем на повозке через весь город к лобному месту, одетого в ярко-пунцовый кафтан, как сверкал, словно слеза, на его пальце огромный бриллиант. И как совершалась казнь при стечении несметного числа людей, глазевших на смертника, будто он невиданное чудовище. Его повесили особым способом— в специальной клетке. «Такая кара уготована всем государственным преступникам и разбойникам, скрывающимся в дремучем лесу», — при этих словах отца маленький Фридрих весь съежился. Он представил грозную шайку душегубов, прячущихся в непроходимой чащобе. Это про них говорилось в песенке, что живут они в дремучем лесу, питаются кровавой колбасой и запивают ее кровью.
«Мышеловки», а вернее сказать, «смертельные капканы» во множестве попадались близ городов и селений, были их неизменными спутниками. Недаром говорилось, что дороги в Вюртемберге по обеим сторонам обсажены виселицами, словно тутовыми деревьями.
Всякий раз при виде этого орудия казни ему вспоминался рассказ отца: людская толпа, повозка смертников, пунцовый кафтан и клетка с человеком…
Внезапно небо над лесом озарилось ярким светом. Это было зарево от иллюминации в герцогской летней резиденции Солитюд. Замок, сиявший огнями, парк, виноградники были прекрасно видны. Причем настолько, что Фридрих без труда различил крышу флигеля, где жили его старики.
Сердце сжалось при мысли, что своим поступком он навлечет немилость герцога на родительский дом. И мысленно — в который раз — попросил прощения у матушки и отца, служившего в замке лесничим.
Фридрих явственно вообразил придворный сброд, веселящийся в замке, этих пресмыкающихся, разряженных в шелковые кафтаны и расшитые золотом мундиры, эти лица, полные спеси, чванства, угодничества и тупости.
В такой момент можно было не опасаться преследования. Мстительный Карл Евгений и думать не думал о каком-то строптивом лекаришке, судьбу которого он мог решить одним словом: в крепость! Фридрих невольно оглянулся. Вдали, на западе, в предрассветной мгле проступали очертания крепости Асперг.
Еще недавно он мог оказаться в ее казематах. Теперь же тиран был ему не страшен. Скоро он, Шиллер, отпразднует свой праздник — обретение свободы.
С тоской покидал он древнюю вюртембергскую землю. На юге и западе раскинулась она в предгорьях Шварцвальда. На востоке, словно гигантский забор, высились Швабские Альпы. С севера наступал знаменитый Вельцгеймерский лес. Среди этих естественных преград лежит прекрасная долина, которую прорезает, живописно извиваясь, Неккар. Вырвавшись из мрачного Шварцвальда, река как бы отдыхает после утомительной борьбы с горными породами. Течение ее, сохраняя внутреннюю силу, выглядит спокойным и умиротворенным. Она будто любуется покрытыми кудрявой зеленью холмами, залитыми солнцем виноградниками, полями золотистой ржи и плодовыми садами. На ее берегах в маленьком городке Марбахе, в низеньком домике, украшенном вывеской пекаря, в 1759 году родился Фридрих Шиллер.
Издревле на этой земле жил работящий народ, крепкий и выносливый, добрый и бесхитростный, в равной мере наделенный юмором и здравым смыслом.
Внешне Шиллер выделялся из толпы своих земляков лишь очень высоким ростом. Типичное для шваба открытое, чуть простодушное лицо. Высокий лоб, темно-рыжая шевелюра. Тонкий, немного заостренный нос. Под сросшимися бровями глубоко посаженные голубые глаза.
Впрочем, типичной у него была не только внешность. И характером он являл собой национальный образец: сдержанный и порывистый; веселый и мрачный; неловкий и бойкий; фантазер и реалист.
В одном он не желал походить на своих соотечественников: жить в стране-клетке, терпеть тиранию, покорно и раболепно служить деспоту. Обидно было слышать, когда про вюртембержцев говорили, что они народ покладистый: послушны законам и государям верны. Он решительно отказывался признавать эти качества добродетелью. Верил, что настанет конец терпению вюртембержцев. Да и не только их. А всей Швабии — едва ли не самого прекрасного, но и самого нищего и отсталого края Германии, состоявшего почти из ста карликовых государств. О том, что они собой представляют, каков в них образ жизни и правления, Шиллер подробно узнал из одной крамольной книжки. Называлась она «Ансельмус Рабиозус, путешествие по Верхней Германии». Имя автора отсутствовало. Осторожность его была понятной. Картины повсеместного разорения, нищеты, произвола и невежества, нарисованные автором, приводили в ужас. Его острое, правдивое перо открыло глаза многим.
Раньше думали так: наша жизнь куда как плоха, но не может быть, чтобы и в других местах, у соседей, она столь же скверная. А оказалось, что болезнь с одинаковой закономерностью поразила всю округу. Она охватила всю Швабию, все 97 государств-карликов: в том числе 4 владения высшего духовенства и 14 светских княжеств, 25 графств и 20 аббатств, не считая имений, владений имперских рыцарей и многие другие.
Причина недугов герцогства Вюртембергского, одного из крупнейших в Швабии — в нем проживало около полумиллиона человек, — как и остальных владении, состояла в бессовестной и жестокой эксплуатации крестьян, ремесленников и бюргеров, в непосильных расходах, которые шли на содержание двора и увеселения деспота.
Карл Евгений, божьей милостью герцог Вюртембергский, старший сын Карла Александра, правление которого так ярко описано Л. Фейхтвангером в романе «Еврей Зюсс», блистательно продолжая политику своего родителя, почти полвека обирал страну, пока не довел ее до полного экономического краха. Жизнь и положение соотечественников его мало занимали. Свой народ он рассматривал как собственность. И, явно подражая французскому кумиру, заявил однажды: «Что такое отечество! Отечество — эго я!»
Приняв личину просвещенного монарха, провозгласив эру счастливого правления, этот деспот учредил военную школу. Вначале она называлась «Военным питомником». Вскоре, однако, тщеславный герцог, льстивший себя надеждой прослыть образцовым правителем в глазах Европы, переименовал школу в Карлову академию — «Карлсшуле».
В ее тесном и душном, как гроб, мирке оказался и тринадцатилетний Шиллер. Навсегда запомнил он тот день, когда переступил порог «Карлсшуле», которую справедливо окрестили «питомником рабов».
Как ни старался герцог наглухо изолировать своих подопечных в академии-казарме, ветры эпохи проникали сквозь ее стены. Молодежь зачитывалась запрещенной литературой, горячо обсуждала политические события в стране и за рубежом, ухитрялась вслух декламировать вольнолюбивые стихи. Молодые головы хмелели от свободолюбивых призывов героев книг: на борьбу с произволом звала тираноборческая поэзия Шубарта — несчастного узника крепости Асперг, смелое перо которого пришлось не по вкусу герцогу; лессинговская «Эмилия Галотти» и гетевский «Гец фон Берлихинген», где в драматической форме, говоря словами Ф. Энгельса, отдана дань уважения памяти мятежника. Идеалом для многих становятся герои «мятежного женевца» Жан-Жака Руссо, и первым из них — Сен-Пре из «Новой Элоизы», страстный мечтатель-разночинец, враг неравенства и несправедливости. Плутарх вызывает перед ним тени героев древности— великих мужей и народных трибунов. Привлекает и драма Клингера «Буря и натиск», давшая название целому литературному движению той эпохи. Точнее говоря, литературным оно было лишь по форме. На деле же, отражая бурные процессы, происходившие в стране — борьбу за национальное единство и демократизацию Германии, это движение носило антифеодальный характер.
Но, пожалуй, больше других увлекают патриотические стихи Клопштока. Ему подражают, его цитируют. И вслед за поэтом предсказывают: «вольной, Германия, верю, ты станешь однажды», и надеются, что «право рассудка восторжествует над правом меча».
Горячим поклонником поэта был и молодой Шиллер. Под его влиянием он делает свои первые шаги в сочинительстве. Пишет трагедию о нассауском студенте, кончающем, по примеру гетевского Вертера, жизнь самоубийством. Создает трагедию на историческую тему «Козимо Медичи». Это начальные опыты, до нас не дошедшие. Известно лишь, что карлсшулеры, друзья поэта, с восторгом воспринимали юношеские творения своего товарища. «Тяга к поэзии, — признавался позже Шиллер, — оскорбляла законы заведения, где я воспитывался, и противоречила замыслам его основателя. Восемь лет боролось мое одушевление с военным порядком». Но, продолжал поэт, «страсть к поэзии пламенна и сильна, как первая любовь».
Привил ему страсть к поэзии преподаватель Якоб Абель, которому он посвятит потом свою трагедию «Фиеско».
От этого молодого профессора Шиллер впервые услышал и о Шекспире. Впрочем, не только услышал, но и получил томик сочинений великого англичанина, чье имя в то время было еще сравнительно ново в Германии. С тех пор гений Шекспира вытеснил всех иных поэтов из сердца Фридриха. Отныне его тайная мечта — достичь таких же вершин поэзии.
Вопреки законам заведения и замыслам его основателя, преодолевая бессердечное, бессмысленное воспитание, тормозившее прекрасное движение зарождающихся чувств, молодой Шиллер набрасывает свои первые поэтические опыты. В «Швабском журнале» появляется его стихотворение, из осторожности подписанное одной буквой «III». В нем еще немало неясных выражений и излишней метафоричности, но его уже заметила критика. И даже предсказывает, что автор «еще прославит свое отечество». Но пока что опубликованные стихи, как и те, что существуют в рукописи, лишь робкие начальные шаги его Пегаса. Еще не выбит его копытом из земли источник Иппокрена — источник подлинного вдохновения, в результате которого осуществится пророчество критика. Но ждать осталось недолго. Уже задуман, вынашивается, не дает спать замысел «драматического романа». Так называет он трагедию, над которой работает, ибо пока что и не помышляет о ее сценическом воплощении.
«Злополучное начало жизни», как он сам говорил, не смогло погасить юношеский задор, не подавило неукротимую фантазию.
Днем ему запрещают прикасаться к перу — это грозит карцером. Тогда он сказывается больным. В лазарете круглую ночь горит лампа. И можно без опаски писать. Это не просто — ночи напролет не выпускать пера из рук. Но молодой организм пока что легко переносит перегрузку. С годами ему придется поддерживать эту привычку, выработанную под давлением обстоятельств, с помощью крепкого кофе и рюмки ликера: он засыпал под утро и вставал лишь к середине дня.
В эти ночные минуты вдохновения он весь преображался, его трудно было узнать. Глаза горели, волосы были растрепаны. Как и его герой, он становился грозным мстителем, обличал тиранов, боролся со злом.
Думал ли поэт, что в эти мгновения рождается великое произведение, и его друзья смогут воскликнуть: «славы сорвал ты звезду…»?
Трудно ответить на этот вопрос. Но то, что его творение будет сожжено рукой палача, в этом поэт не сомневался.
Однажды воскресным майским утром 1779 года группа воспитанников академии отправилась на прогулку за город. Путь их лежал мимо виноградников к холмам, покрытым лесом.
Здесь шестеро друзей, договорившись заранее, отделились от остальных, разбрелись в разные стороны, а затем встретились в назначенном уединенном месте.
Одни улеглись на траве, другие расположились на стволе поваленного дерева. Шиллер занял центральное место в этой группе — на корнях огромной сосны. План сходки был известен каждому. Поэтому лишних слов не произносили. Выжидательно смотрели на Фридриха. Тот не спеша извлек из кармана страницы рукописи, покрытые витиеватым почерком, тем самым, которым потом так восхищался Гете, считавший его смелым и красивым.
Голос автора рукописи чуть дрогнул, когда он произнес название произведения, которое собирался прочитать, — «Разбойники».
Начал он тихо, сдержанно, произнося слова с заметным грубоватым швабским акцентом, характерным для крестьян; постепенно воодушевлялся, нескладно жестикулируя длинными руками и часто мигая глазами. Как актер — все это знали — он явно не блистал способностями. Выступая в театральных постановках, разыгрываемых в академии, Шиллер частенько в самых драматических местах вызывал у зрителей смех. Впрочем, сам он верил в свой актерский талант и одно время даже помышлял о сценической карьере.
Однако в тот день, в лесу, главное состояло не в том — как, а что читал воспитанник Шиллер своим однокашникам.
Несколько лет назад тезка и соученик Фридрих Ховен, с которым он прошел в академии «все ступени духовных испытаний», обратил его внимание на небольшую вещицу, опубликованную в «Швабском журнале». Рассказ назывался «Из истории человеческого сердца» и принадлежал перу тогда еще пребывавшего на свободе Шубарта. Повесть, почерпнутая, как сообщал автор, из самых достоверных источников, говорила о судьбе двух братьев — Карле, натуре живой, увлекающейся, не способной на притворство, и Вильгельме — послушном сыне, прилежном ученике, набожном и бережливом. Но это внешнее проявление характеров. Подлинная их суть обнаруживается по мере развития действия. С помощью обмана и подлога Вильгельм ссорит Карла с отцом, который изгоняет сына и обрекает его на скитания. После этого коварный Вильгельм решает покончить с родителем и завладеть его имуществом. Подосланные им бандиты нападают в лесу на отца. И только вмешательство случайно оказавшегося рядом Карла, выдающего себя за батрака-лесоруба Ганса, избавляет старика от гибели. Отец узнает страшную правду о своих сыновьях, прощает любящего Карла и, по его просьбе, клеветника Вильгельма.
Сам Шубарт считал, что его маленькая повесть— это лишь эскиз к большому роману или драме. И предлагал воспользоваться ею «любому гению» для более развернутого повествования. Шиллер решил принять это предложение.
Первую попытку развить сюжет, предложенный Шубартом, о двух враждующих братьях он предпринял в исторической драме «Козимо Медичи». Но это было произведение на историческую тему. Ему же хотелось, следуя совету Шубарта, нарисовать картины современности. Для этого требовался конкретный жизненный материал. Просто выдумывать «из головы» он не умел. Вдохновение посещало его, когда в руках имелся факт, способный пробудить воображение. Тогда-то и начиналось взаимопроникновение реального и выдуманного.
Какие же факты помогли Шиллеру нарисовать задуманную им картину современности? Какой жизненный материал стал вдохновителем его воображения?
Дух мятежа бродит по всей земле. И, возможно, прав Жан-Жак Руссо, утверждая, что приближается решительный перелом, что «мы подходим к веку революций».
В самом деле, что происходило в Богемии? Более 50 тысяч солдат были брошены на то, чтобы усмирить недавний мятеж. Но хотя крестьянская война потоплена в крови и, как сообщал Шубарт в своем журнале «Немецкая хроника», Прага окружена виселицами, на которых охлаждается пыл вожаков, многие не сложили оружия, ушли в леса.
Та же «Немецкая хроника» писала о бурных событиях, разыгравшихся в далекой России. И здесь мятеж охватил бедноту, которую возглавил Пугачев. Даже во Францию — этот счастливый край — проник бунтарский дух. В городах и провинции брожение, ропот, беспорядки.
И только немцы выгодно отличаются от других тем, что всегда довольны своими правителями. История движется по германской земле слишком сонным шагом. Дух свободолюбия угас. Торжествует рабство.
И все же, вопреки тирании, и здесь вспыхивают искры мятежа. Иногда им удается прорваться наружу сквозь трещины в твердой почве. Сила их невелика, они быстро гаснут, рассеянные холодным ветром. Но они существуют. И тот, кто умеет видеть, обязательно их приметит.
Что подразумевали современники Шиллера под искрами протеста? Чью месть имел в виду поэт, когда в юношеских стихах предупреждал:
Сквозь камзолы, сквозь стальные латы —
Все равно! — пробьет, пронзит стрела расплаты
Холодные сердца!
…Их было много — лесных братьев, справедливых и отважных.
Наиболее популярен из них, причем едва ли не самый древний «по рождению», бессмертный англичанин Робин Гуд. В Словакии бился за правду юнак Яношек и его удальцы Угорчик, Суровец, Ильчик. Итальянцы чтут Фра Дьяволо (подлинное имя его Микель Нецца). Любимцем японцев издавна являлся Исикава Гоэмон, защитник слабых, — он вошел в фольклор и драматургию; в Китае с давних времен известен бесстрашный Дао Чже, совершавший дерзкие набеги на земли князей. Французы славят капитана контрабандистов лихого парня Мандрена, воевавшего со сборщиками податей; венгры воспевают бетьяра — «доброго разбойника» Зельда Марци. Защитником закарпатских крестьян стал Олекса Довбуш. В Силезии — гайдук Новак. На севере Германии в XIV веке наводил страх на купцов и богатеев знаменитый Клаус Штертебекер.
Образ честного человека, ставшего разбойником, чтобы быть народным мстителем, издавна живет в народном фольклоре, известен он и по многим литературным произведениям.
На страницах книг он возникал как эхо действительных событий. Таков, к примеру, Ринальдо Ринальдини. Похождениями смелого и великодушного, дерзкого и благородного Ринальдо зачитывались не только немецкие барышни, но и солидные бюргеры. Многочисленное племя «разбойничьих» романов об этом атамане, созданных писателем Вульпиусом в конце XVIII века, буквально поглощалось читающей публикой. Смельчак, творящий праведный суд, мстящий за народное горе, враг князей и духовенства, владел, как отмечал В. Белинский, вниманием и русского читателя. Помните, как удалой Ринальдо одновременно восхищал и приводил в трепет Анну Григорьевну — гоголевскую даму, «приятную во всех отношениях». Имя его мелькает и на страницах пушкинской повести «Дубровский», где князь Верейский сравнивает ее героя с немецким разбойником. Впрочем, у русского атамана были свои отечественные, вполне реальные прототипы. Достаточно обратиться к случаю с молодым белорусским помещиком Павлом Островским. Его история во многом схожа с тем, что произошло с Дубровским. Как и пушкинский герой, Островский вступил в борьбу с властями, был объявлен мятежником, затем арестован и посажен в острог. В его судьбе, как и Троекуров в судьбе Дубровского, сыграл неблаговидную роль богатый помещик Помарнацкий. Архивные материалы, найденные в наши дни, рассказывают, что как раз тогда, когда Пушкин работал над своей повестью, молодой человек бежал из-под стражи и разыскивался царский полицией. Фантазию писателя питала реальная жизнь.
Так же, как питала она и Сервантеса, когда он, работая над «Дон-Кихотом», создавал образ «почтенного разбойника» Рока Гинарта; и Вальтера Скотта, рассказывающего в одном из своих лучших романов о Роб Рое — мятежнике Горной Страны, и Шарля Нодье, описавшего в романе «Жан Сбогар» приключения таинственного мстителя, которыми так зачитывалась пушкинская Татьяна; и Н. А. Некрасова, нарисовавшего в последней части поэмы «Кому на Руси жить хорошо» образ легендарного Кудеяра-атамана, умеющего постоять за народ.
Следы тех, кто послужил прототипами этих «литературных разбойников», нетрудно отыскать в действительности.
Удалые молодцы, «вольные стрелки» воспевались в песнях, сказаниях и книгах как враги богачей и друзья бедноты, как люди сильные и смелые духом, презирающие богатство и власть. Образ стихийного бунтаря народ связывал с надеждой на возмездие, на то, что зло будет наказано.
Как гром среди ясного неба, Шиллера поразило известие о том, что в соседней Баварии раскрыта разбойничья вольница. Около тысячи стрелков скрывалось в лесу. Целая армия недовольных. Они стихийно избрали разбойничество — особую форму протеста против гнета и притеснения.
Имена главарей «лесных братьев» у всех на устах. Особенно популярны были двое — удалые атаманы Фридрих Шван по прозвищу Зонненвирт — «Хозяин Солнца» и Матиас Клостермайер по кличке Баварский Хизель. Не этих ли удальцов имел в виду поэт, когда предупреждал в стихах о грядущем часе расплаты с камзолами и стальными латами?
О знаменитом Зонненвирте впервые Шиллер услышал еще в детстве. Дерзкий и смелый разбойник орудовал в окрестностях Гмюнда — города, где одно время проживала семья поэта. Отец Фридриха служил лесничим. Народ ненавидел их за то, что они рьяно охраняли герцогских кабанов и зайцев, словно саранча, разорявших поля и вытаптывавших посевы. Опасаясь сурового закона и стоящих на его страже лесничих, сами крестьяне не осмеливались истреблять эту «аристократическую живность» — убившего дикую козу, которая стоила всего один талер, ждала каторга или смерть. Но поддерживали каждого, считая его своим защитником, кто отваживался охотиться на неприкосновенную дичь. Народный заступник представлялся маленькому Фридриху, как пелось в песенке о разбойниках, — до крови людской охочим живодером. Это из-за него мальчику запрещалось ходить в лес гулять. Потом он узнал настоящее имя разбойника. Слышал песни и легенды о подвигах атамана. Особенно заинтересовали они молодого Шиллера во время работы над «Разбойниками». Жизнь смельчака, его протест и неравная борьба, то, как он был схвачен и казнен в тридцать один год, захватили его.
Ответ на интересующие вопросы он находил у своего учителя Якоба Абеля. Случилось так, что отец этого преподавателя вел следствие по делу Зонненвирта. Мало того, уже тогда старший Абель работал над психологическим этюдом — биографией разбойника, позже напечатанной в журнале «Талия» под названием «История одного разбойника». И ученик часто выспрашивал своего учителя о подробностях жизни и смерти дерзкого бунтаря.
А еще позже, уже после того, как драма Шиллера будет напечатана, он же расскажет историю Зонненвир-та в небольшой новелле «Преступник из-за потерянной чести», подчеркнув в подзаголовке к ней, что это «истинное происшествие». И хотя место действия в повести не обозначено, видимо, из-за цензурных соображений, всем было ясно, что «истинное происшествие» случилось на вюртембергской земле, которую «можно было отнести в ту пору еще меньше, чем теперь, к просвещенной Германии». Автора возмущают уродливые, жестокие законы, когда «за то, что ты подстрелил несколько кабанов, которым князь дает жиреть на наших пашнях и лугах, они затаскали тебя по тюрьмам и крепостям, отняли дом и трактир, сделали тебя нищим». Человек стоит не больше зайца, и бедняки «не лучше скотины в поле», заключал Шиллер.
За браконьерство на спине Христиана Вольфа — героя повести — выжгли знак виселицы. Ему пришлось переступить порог крепости. Наказание явно не соответствует проступку. Судьи заглянули в книгу законов, но ни один не заглянул в душу обвиняемого. Известно— каторжников создает каторга. Вольф озлобился, видел в себе мученика «за естественное право», считал себя жертвой на заклание закону.
Но вот вольный ветер, наконец, снова дохнул ему в лицо. Каторга осталась позади. Увы, впереди его никто уже не ждал. Мать умерла, невеста изменила, дом забрали кредиторы. Ждал его один только лес. Здесь он и нашел себе приют — стал предводителем шайки. О нем ходили самые невероятные слухи. Говорили, будто он заключил союз с дьяволом и владеет искусством колдовства. Внезапно его начинает мучить раскаяние, и он отдает себя в руки властей.
Подвиги Зонненвирта долго сохранялись в памяти людей. И еще сто лет спустя, в 1854 году, писатель Герман Курц обратился к этому образу и сделал его героем своей книги «Хозяин Солнца» — одного из лучших немецких исторических романов.
Не меньшей, а, пожалуй, даже большей популярностью пользовался другой «благородный разбойник» — Баварский Хизель. И ему посвящали книги, лубочные биографии рисовали образ бунтаря и заступника бедняков, народные пьесы и кукольные комедии прославляли борьбу «вольных людей» во главе с атаманом против угнетателей.
Во всей Баварии и Швабии не было стрелка лучше Хизеля. С юных лет тайком промышлял он в лесу. Охота стала не только средством существования, но и его страстью. Егеря и лесничие задумали изловить ловкого парня на месте преступления. Но сделать это никак не удавалось. Тогда решили отдать его в руки вербовщиков рекрутов. И этот план сорвался: Хизель бросился в реку, несмотря на апрельский холод, переплыл на другой берег и скрылся в лесу. Однако тюрьмы ему избежать все же не удалось. А когда вышел на свободу, у него не было иного пути, как вернуться в лес. Здесь он становится во главе отряда смельчаков.
Отныне дороги от Аугсбурга до Ульма делаются небезопасными. Чиновники и судьи, монахи и помещики дрожат при одном упоминании о разбойниках. Отряды лесничих, егерей и полицейских тщетно пытаются напасть на их след. Если же и случаются стычки, то Хизель почти всегда выходит победителем либо успевает вовремя скрыться. В этом ему помогает смекалка и поддержка крестьян, готовых укрыть своих защитников.
Наконец, Хизеля удалось схватить. Его выдал один из соратников, которого атаман собирался изгнать за нарушение законов леса. Но и на этот раз Хизелю удалось уйти от руки Фемиды. В лес он вернулся лишь для того, чтобы сообщить товарищам о своем намерении порвать с прошлым и скрыться в горах Швейцарии. Убеждал и их последовать его примеру, отказаться от прежнего ремесла.
И тут случилось то, что потом произойдет и в трагедии Шиллера. Друзья называли Хизеля изменником, трусом, «старой бабой». «Храбрый Хизель бежит, как трусливый заяц», — бросали в лицо атаману, напоминали о том, что он всегда был защитником бедняков, а теперь хочет изменить. И Хизель остался. Но с одним условием — с этого часа его воля должна быть законом для всех них. Он потребовал беспрекословного подчинения, «верности и послушания». А получив согласие, предложил новую тактику действий. Не обороняться, отсиживаясь в чаще, а нападать, мстить лесничим и полицейским, чиновникам и вельможам.
Это было все равно, что объявить войну сильным мира сего. И Хизель пошел на это. Недаром в народе его называли «храбрый Хизель». А в одной из песен о нем говорилось, что только тогда солдатам, егерям и сыщикам удастся отдохнуть, когда придет его последний час и он закроет глаза.
Что руководило им, когда он вставал на этот путь? Почему выбрал жизнь, полную опасностей и лишений?
Свой долг он видел в мщении. Или, как говорил сам Хизель, он воздавал только справедливое возмездие за все притеснения, какие испытывали бедные крестьяне. И в этом на него похож герой Шиллера, который мечтал «исправить свет злодеяниями и блюсти законы беззаконием». Так же, как походит на него и в том, что не принадлежит к разряду обыкновенных разбойников. «Насколько выше, — отмечалось в старинной биографии Хизеля, — стоит он в нравственном отношении сравнительно с другими воровскими атаманами того времени!»
Слава о победах Хизеля гремела по округе. Повсюду только и было разговору, что о подвигах его вольницы. А они становились все более и более дерзкими. Дошло до того, что Хизель осмелился совершить налет на городскую ратушу в Тефердинге.
Удачно захватив изрядную сумму в кассе и обобрав чиновников, Хизель обратился к оберфогту со словами: «Мы забираем деньги, бесчестно отнятые у бедноты».
В другой раз всех поразило известие о налете на доминиканский монастырь. Гордый Хизель заявил настоятелю— «лживому фарисею и благочестивому тунеядцу», что в отличие от него он не вор и пусть их светлости не беспокоятся: взятые в монастыре деньги будут пристроены наилучшим образом — розданы тем, у кого они были незаконно отобраны.
И крестьяне молились за него, считая своим покровителем, называли «наш Матиас», но чаще уменьшите- · льным Хизель.
Он открыто появлялся в деревнях, заходил в трактиры, шутил, беседовал со стариками.
Бесстрашие Хизеля казалось невероятным. Объяснить его пытались вмешательством волшебных сил, тем, что Хизель в равной мере неуловим для врагов, как и неуязвим для их пуль. Поговаривали, что в шляпе храбреца прячется лесной гном Фанкерль — он-то, мол, и предупреждает хозяина об опасности. Сам же «хозяин» всячески поддерживал эти слухи о себе. И часто показывал крестьянам отстрелянные пули, уверяя, что во время боя поймал их рукой на лету. И ему верили, о нем слагали песни, и в них говорилось о том, что ни одна пуля его не берет.
Но если врагам не удавалось поразить Хизеля, то собственное его ружье било без промаха.
В швабских народных преданиях прославляется необычайная меткость Хизеля, которому не было равных в искусстве стрельбы. Ему ничего не стоило, потехи ради, выбить пулей трубку изо рта ненавистного егеря или погасить свечу под самым носом лесничего, занятого починкой силков. Его рука была так тверда, что ни одна капля воды при выстреле не проливалась из стакана, поставленного на ствол ружья. И долго еще в Швабии хранились свидетельства его меткой стрельбы. В одном трактире показывали игральную карту, простреленную Хизелем; в другом месте указывали на надпись на колокольне с отметиной от его пули; в третьем выставляли напоказ простреленную им пивную кружку.
Триста солдат и стражников потребовалось для того, чтобы арестовать Хизеля. Его окружили в трактире Остерцель, неподалеку от Кауфбойерна. Разбойники отчаянно сопротивлялись, бой продолжался несколько часов. И только после того, как солдаты подожгли дом, Хизель вынужден был сдаться.
На допросах, отвергая обвинения в браконьерстве, он заявлял, что лес и обитающая в нем дичь не могут быть ничьей собственностью.
Казнили его в начале сентября 1771 года в Дилинге-не. Здесь же, еще во время суда, о нем вышла первая книга под названием «Дружеские письма, в которых два приятеля описывают подвиги известного браконьера Матиаса Клостермайера, по кличке Баварский Хизель».
Появилось, и не одно, иллюстрированное издание с гравюрами, изображающими подвиги популярного крестьянского бунтаря. И даже придворный баварский поэт вынужден был признать, что нет ни одного дома в деревне и почти ни одного в городе, где бы не висела гравюра с изображением народного героя.
В одной из книг его называли «знаменитейшим партизаном швабских лесов». В другой, изданной в Лейпциге в 1772 году, то есть год спустя после казни разбойника, на основе судебных протоколов излагалась его биография. Автор с сочувствием рассказывал о подвигах покровителя бедняков, защищал его от наветов тех, кто хотел представить Хизеля обыкновенным вором. Нет, восклицал автор книги, чужое добро он захватывал «только как своего рода военную добычу, в открытом бою со своими злейшими врагами».
Не побывала ли в руках у Шиллера биография этого немецкого Робина Гуда? Историк К.Т. Хейге ль, автор исследования «Эссе по новейшей истории», еще в прошлом веке попытался сопоставить шиллеровскую трагедию с этим лубочным жизнеописанием разбойника. По его мнению, как, впрочем, и других, драматург несомненно пользовался биографией Хизеля. Она стала как бы историко-бытовым фоном пьесы. И хотя у Шиллера нигде нет упоминания об этом атамане, как и вообще о знакомстве поэта с «разбойничьим фольклором», влияние его в пьесе несомненно. Его можно усмотреть в детальном описании разбойничьего быта, использовании жаргона «лесных братьев», их песен. Видно это влияние и в знаменитом словесном поединке с патером, посланным магистратом с тем, чтобы уговорить шайку сдаться. «Ступай и скажи досточтимому судилищу, — восклицает атаман, — властному над жизнью и смертью: я не вор, что, столкнувшись с полночным мраком и сном, геройствует на веревочной лестнице». Сцена эта напоминает эпизод из книги о Хизеле, изданной в Лейпциге, когда разбойник ворвался в монастырь и обрушил на монахов гневную отповедь, называя их «фарисеями, лжетолкователями правды, обезьянами божества».
Но, пожалуй, наибольшее сходство с разбойником-мстителем Хизелем и другими, подобными ему, следует искать в образе главного героя трагедии Карла Моора.
Недавно еще беспечный лейпцигский студент Карл Моор становится мятежником, атаманом восьмидесяти молодцов. Отныне — это мститель. Но он не убивает ради грабежа. И если и носит на руке чужие драгоценности, то лишь в память о возмездии сильным мира сего — министру, который всплыл на слезах обобранных сирот; финансовому советнику, который продавал почетные чины и должности тому, кто больше даст, и прогонял от своих дверей скорбящего о родине патриота; гнусному попу, в проповедях своих тоскующему по упадку инквизиции.
Когда же случается ему получать свою долю добычи, то он тотчас же раздает ее сиротам или жертвует на учение талантливым, но бедным юношам. И не знает пощады, когда в руки ему попадает помещик, дерущий шкуру со своих крестьян, бездельник в золотых галунах, криво толкующий законы и серебром отводящий глаза правосудию, богатый граф, выигравший миллионную тяжбу благодаря плутням своего адвоката, или другой какой-нибудь господчик.
Насколько Карл Моор ненавидит врагов, настолько беззаветно предан друзьям. Не раздумывая, под видом монаха проникает он в тюремную башню к своему сподвижнику по лесу, обреченному на смерть, и предлагает поменяться платьем. А потом, после отказа сотоварища, все-таки спасает его, когда тому остается три шага до виселицы.
О благородных поступках Карла Моора известно далеко за пределами Богемских лесов, где он скрывается со своими удальцами.
Выбор этого места действия не случаен у Шиллера.
Грозная шайка обосновалась в глухих лесах Богемии, издревле известных как надежное укрытие для тех, кто ставил себя вне закона. Непроходимые заросли и густая листва, горы и ущелья служили приютом многим отщепенцам, гонимым и преследуемым властями. Как раз тогда, когда Шиллер работал над пьесой, здесь укрывались остатки крестьянских отрядов, разбитых во время недавнего восстания в Богемии.
Неудивительно, что об этих местах ходило немало толков и рассказов. Одно упоминание здешних названий— Близ черной ели, Чертова мельница, Гнилая дыра — заставляло трепетать людей в шелковых кафтанах, расшитых золотом мундирах, напоминало о неумолимой каре обитателей чащи.
Какую цель преследует разбойник Карл Моор? О чем помышляет, к чему стремится?
С юных лет он мечтает о том, что его «длань отечество спасет» и Германия станет свободной республикой. Порвав с обществом и бросив в минуту отчаяния ему вызов, Моор желает «протрубить на весь мир в рог восстания». Не принимая, говоря словами Гегеля, существующий правопорядок, он выходит за рамки законности и, разрывая стесняющие его путы, создает сам для себя другой общественный порядок, борется за восстановление попранной справедливости, мстит за обездоленных и угнетенных.
И все же он глубоко несчастен. Потому что его месть — это «частная месть». О массовом выступлении против феодалов он лишь мечтает. Но так и остается одиноким бунтарем. Отсюда «разлад в разумном существе», сожаление о «недовершенных замыслах». Ему не удается преодолеть «запутанные лабиринты», у него, восклицает с горечью Карл Моор в конце, «нет путеводной звезды». Протест кончается, как и бунт Зоннен-вирта, смирением. Разбойник отдает себя в руки правосудия. Один в поле не воин. Не хотел ли сказать Шиллер, что для успеха в такой борьбе необходимо массовое выступление, множество подобных Моору?
Впрочем, и сам Карл Моор сознает, что в затеянной им игре он не будет победителем. Смерть не раз летела ему навстречу из ружейных стволов, и он знает — рано или поздно пуля или закон настигнет его. Тем отважнее поступок бунтаря, поднявшего руку против тиранов.
Замысел вызревал подобно тому, как зреют, наливаются хлеба в поле. С семнадцати лет, то есть четыре года с того момента, как прочитал повесть Шубарта о двух братьях, Шиллер вынашивал будущие образы. Вначале едва намеченные, они становились все более выпуклыми, все определеннее вырисовывались характеры.
Некоторые упрекают его в том, что он исказил действительность. В столь просвещенное время, говорят ему, при умелой полиции и строгих законах разбойничья шайка, подобная нарисованной им, вряд ли могла бы возникнуть, а тем паче просуществовать целых два года. Обвинение это ничего не стоит отвести, сославшись на всем известные факты. Тем не менее, не желая вступать в спор, он ограничивается напоминанием о праве поэтического искусства возводить вероятность в ранг правды, возможность — в ранг правдоподобия.
Что касается характеров, то они, по его утверждению, выхвачены из глубины жизни, «тут я как бы лишь списывал дословно с природы», подчеркивает он. Но его герои остались бы холодными, бездушными манекенами, если бы он не стал их задушевным другом, если бы не умел не столько живописать их, сколько вместе с ними распаляться гневом, трепетать, плакать и отчаиваться. Поэты трогают, потрясают, воспламеняют сильнее всего тогда, считал Шиллер, когда сами почувствовали страх за своих героев и сострадание к ним.
Друзья по академии принимают живое участие в его творении. Охраняют, когда он пишет, от внезапного налета надзирателей, обсуждают эпизоды и сцены будущей пьесы, при этом некоторые узнают в ее героях себя. Друзья же станут первыми критиками и ценителями его произведения.
Нередко при этом вспыхивают жаркие, порой забавные споры. Одним намеки автора на вюртембергскую действительность кажутся недостаточно определенными, и они предлагают четче обозначить прототипы. Например, в сцене, где Карл Моор, указывая на перстни на своей руке, обличает советника и министра. Всем должно быть ясно, что речь идет о ненавистных приспешниках герцога — графе Монмартене и Витледаре. Другие настаивают на том, чтобы в образе Франца Моора — защитника феодальных прав, жестоком и лицемерном, заточившем в темницу родного отца, отчетливее был виден намек на всем известный случай с неким Вильгельмом фон Зиккингеном из Майнца. Этот любимец Иосифа II двадцать четыре года продержал своего родителя под замком. Еще Шубарт в своей новелле, зная об этом злодействе и не случайно назвав одного из братьев Вильгельмом, призывал стереть «фальшивую краску с лица притворщика».
Когда пьеса увидела свет, многие и без того поняли намек автора. Сам фон Зиккинген, ославленный на всю Германию и пригвожденный к позорному столбу, вынужден был оставить государственную службу.
Часто во время обсуждений и словесных баталий звучит имя Ульриха фон Гуттена. Молодежь видит в этом национальном вюртембергском герое, гуманисте XVI века, пример для подражания.
Этот интерес к личности великого гуманиста поддерживал в своих воспитанниках и профессор истории Шотт. Ученик Шиллер, питая особое пристрастие к минувшему, прилежно записывал в своей тетради лекции по истории Вюртемберга. Много лет спустя, в 1859 году, чудом уцелевшие записи были опубликованы. Их напечатали, ошибочно полагая, что это неизвестное сочинение поэта.
С увлечением слушали карлсшулеры рассказы профессора о борьбе Ульриха фон Гуттена. Знали они и о том, что перу гуманиста принадлежит рукопись «Против тиранов». Однако познакомиться с ней, к их досаде, было невозможно — рукопись не сохранилась. Она была известна лишь по названию, упомянутому однажды в письме фон Гуттена. Но тираноборческий девиз привлекал друзей Шиллера, мечтавших о возрождении свободолюбивых традиций. По их совету он сначала поставил эти слова эпиграфом к своей драме.
В годы учения собственных денег у Шиллера никогда не было. Все необходимое, вплоть до книг, поступало из дома. В письмах к сестре он то просит поскорее прислать белье, то ему срочно требуются башмаки. Чулки надеется получить от матери, от нее ждет ночную рубашку из грубого холста. Бумагу и перья, так необходимые теперь, поставлял отец.
И неудивительно, что, по его собственным словам, главная причина того, почему он хочет опубликовать свое творение — это всемогущий Маммон, столь не привыкший обитать под его кровом. Мысль о том, что ему удастся заработать немного денег, приводит его в восторг. За пьесу он рассчитывает получить от какого-нибудь издателя хотя бы несколько дукатов.
Впрочем, есть еще одна причина, побуждающая его издать «Разбойников». Друзья, восторженно принявшие его творение, возможно, не в меру снисходительны. Пусть же свет вынесет свой приговор и решит его участь — быть или не быть ему писателем. Правда, на всякий случай своего имени он не поставит на первом издании — начинающему автору незачем рисковать. Но возможность разоблачения авторства существует, хотя он и собирается соблюдать величайшую осторожность. Если же такая угроза возникнет, друг Петерсон, как уговорились, отведет удар и выдаст за автора одного из своих братьев.
Вопрос лишь в том, где напечатать рукопись. Если дело выгорит и Петерсону, который взялся ему ПОмочь, удастся найти издателя, то все, что превысит 50 гульденов гонорара, получит он за свои труды. Не обойдется, конечно, и без пары шампанского.
Но, увы, легко было предполагать. На самом деле все оказалось гораздо сложнее. Очень скоро выяснилось, что ни один штутгартский издатель не желает рисковать и печатать вещь никому не известного автора, да к тому же явно революционного содержания. Маммон был верен себе и не хотел поселяться под его крышей. Оставался один путь — издать пьесу за свой счет. Но для этого нужны все те же деньги. А их-то у него и не было. Нищенского жалованья, положенного после окончания академии полковому лекарю Фридриху Шиллеру, едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами.
Пришлось влезть в долг и занять 200 гульденов. То-лько таким образом удалось «продвинуть» рукопись. В последний момент Абель и Петерсон уговорили Фридриха снять эпиграф «Против тиранов». Недвусмысленно направленный против герцога, он мог не только затруднить и без того нелегкое дело издания драмы, но и повлечь за собой более серьезные последствия. (Эпиграф появится на обложке второго издания пьесы.) Судьба бывшего воспитанника Шиллера пока что еще всецело зависела от произвола тирана.
Больше того, уже во время печатания, читая корректуру, он сам пугается своей смелости. В этот момент здравый смысл шваба в какой-то мере берет верх над входновением поэта. Так бывало нередко — холодный рассудок вмешивался и вредил его поэтическим порывам.
Перо безжалостно вычеркивает кажущиеся ему чересчур политически острыми сцены, смягчает, приглушает. Отчасти он действует из боязни причинить ущерб семье, матери и отцу. Месть герцога обрушилась бы и на них. Но к этому его побуждают не только противоречия характера, сказывается, видимо, и воспитание. Он так и скажет потом, что его первая пьеса родилась «на свет в результате противоестественного сожительства субординации и гения».
И все же эти поправки скорее следует назвать лишь редактированием, окончательной шлифовкой текста. Суть пьесы от них нисколько не пострадала. Гораздо более серьезные изменения ему еще предстояло внести в свою драму.
Уже мангеймский книготорговец Шван, которому он пересылает пахнущие свежей типографской краской листы, посоветовал изменить реплики с выпадами против «проклятого неравенства в мире». Он же предложил заменить и предисловие к пьесе на более сдержанное. Но, как говорится, нет худа без добра. Тот же опытный Шван, сразу же оценивший творение безвестного штутгартского лекаря, показывает полученные листы директору мангеймского театра Дальбергу. Результат этого посредничества самый неожиданный.
Тайный советник барон фон Дальберг садится за стол и собственноручно пишет письмо полковому лекарю в Штутгарт.
В этом послании столько лестных эпитетов, что бедный Шиллер просто обескуражен. Знаток и ценитель литературы, статьи которого он хорошо знает, а руководимым им театром восхищается, возносит его, скромного писателя, на головокружительную высоту. В безмерных похвалах мангеймского светилы он, убежденный в своей слабости, не хочет видеть ничего, кроме как поощрения его музы.
Что касается предложения барона о театрализации «Разбойников», то оно для него «бесконечно ценно».
Слова эти, однако, довольно сухо передавали душевное состояние автора. «Разбойники» на сцене лучшего театра Германии! В это трудно поверить. Об этом он не смел даже мечтать.
В свою очередь, осторожный Дальберг также требует переделок. По существу, ему нужен новый вариант текста. Тот, что только что в начале мая 1781 года издан анонимно в Штутгарте, хотя на обложке, видимо, для отвода глаз, указаны «Франкфурт и Лейпциг», его не устраивает. Если автор желает видеть свою пьесу в театре, он должен создать ее сценический вариант, а заодно сгладить самые предосудительные места своего примечательного произведения.
Отклонить предложение у него не хватает сил. Возможность увидеть ожившим на подмостках весь свой драматический мир слишком соблазнительна.
Скрепя сердце Шиллер принимается за «переплавку». Главное, на чем настаивает всемогущий театральный директор, — это не только смягчить революционное содержание пьесы, но и перенести действие в далекое прошлое, «когда император Максимилиан даровал венный мир Германии», то есть на конец XV века. Пойти на такую «пересадку» — значит обрядить его создание в пестрые «штаны арлекина». Когда современные герои, говорящие вполне современным языком, окажутся перенесенными в минувшую эпоху, «они ровно ничего не будут стоить». Пьеса неминуемо пострадает. Это все равно что изображать троянцев обутыми в блестящие гусарские сапоги, а их вождя Агамемнона с пистолетами за поясом. Одним словом, получится «ворона в павлиньих перьях».
Поначалу Шиллер пытается убедить мангеймского директора в том, что пьеса сильно проиграет от переделки. В письмах к Дальбергу он приводит убедительные доводы на этот счет. Однако тот решительно настаивает. Приходится пожертвовать удачными моментами ради ограниченности сцены, своенравия партера, неразумия галерки и прочих презренных условностей. И он идет на это, как и на остальные требования Даль-берга.
Новый вариант пьесы, на который ушло больше двух недель, срочно отсылается в Мангейм. Причем настолько поспешно, что автор вынужден просить прощение за разнобой в почерке и погрешности орфографии: для быстроты дела пришлось прибегнуть к помощи переписчика, который безбожно обходился с правописанием.
И вот уже распределены роли между актерами, идут репетиции. Уже близок час торжества. Он настанет 13 января 1782 года. Впрочем, как литератора его признают несколькими месяцами раньше, вскоре после первого издания «Разбойников». Это признание «Эрфуртская ученая газета» выразит в таких словах: «Если мы имеем основание ждать появления немецкого Шекспира, то вот он налицо». Оценка, надо прямо сказать, более чем высокая. Когда-то он тайно мечтал о том, чтобы достичь шекспировских высот поэзии. Теперь об этом открыто говорит читающая публика. Трудно поверить в такой успех молодому человеку, которому едва исполнилось двадцать два года.
Шиллер не представлял себе, что премьера, назначенная на 13 января, пройдет без него. И он принимает решение — ехать в Мангейм, несмотря на запрет герцога. Тайная поездка — смелый, если не отчаянный поступок. Дорожные расходы обещает оплатить «щедрый» директор. И вот он в Мангейме. Тайком пробирается по улочкам в сопровождении верного Петерсона. Афиши, расклеенные на стенах домов, извещают почтеннейшую публику, что вечером ровно в 5 часов на здешней национальной сцене будут исполнены «Разбойники» — трагедия в 7 действиях, обработанная для национальной мангеймской сцены господином сочинителем Шиллером. Тайна авторства раскрыта! Что принесет ему огласка? Позор или славу? Минует ли его месть герцога?
Среди гула голосов в партере до него донеслись слова: «Говорят, автор состоит лекарем гренадерского батальона в Вюртемберге». И это уже известно! А если сегодня о нем знают в Мангейме, значит, завтра — в Штутгарте. И снова тревожная мысль: что ждет его по возвращении? Гнев герцога или милость в случае успеха?
Уже первые сцены показали, что пьеса вызывает живой интерес. Великолепно играли актеры. Поистине они забыли о себе и о внимающей толпе для того, чтобы жить в своей роли.
Представление захватывало зрителей все больше. Сцена превратилась в открытое зеркало человеческой жизни. Еще накануне Шиллер опасался, что близорукая и ограниченная публика не постигнет того, что есть в ней великого, не воспримет заключенное в ней добро, а найдет лишь прославление порока и воздаст бедному поэту все, кроме справедливости.
К счастью, его опасения не оправдались. Это стало ясно в конце спектакля. Всеобщее возбуждение охватило театр. Трибунал масс, перед которым он стоял и которого так страшился, вынес свой приговор. Это был триумф. Зал стал похож на дом умалишенных, писал очевидец. Топот ног, горящие глаза, сжатые кулаки, возгласы. Незнакомые люди со слезами обнимались, некоторые из женщин покидали зал, близкие к обмороку.
Бросился обнимать друга и счастливый Шиллер, жал ему руку, тормошил, смеялся. Несмотря на то что действие было перенесено из современности в прошлое, пьеса звучала актуально — все это поняли. В ней увидели не только юношеский задор и неукротимую фантазию, но и призыв к свободе, предостережение пропитанному раболепством времени, протест против деспотии, лицемерия общества, жестокости тирана. Его бунтарское слово обличало ненавистных вельмож, и демократически настроенные зрители по достоинству оценили смелость автора.
После спектакля состоялся ужин с актерами. Надо ли говорить о том, как был счастлив автор пьесы, с таким успехом только что сыгранной на сцене. Шиллер благодарил актеров за прекрасную игру, за умение постичь созданные им характеры. И заявил, что со временем непременно станет актером. «Нет, не как актер, а как драматический писатель будете вы гордостью немецкой сцены», — произнес пророческие слова один из актеров.
Верный слову, Дальберг сдержал свое обещание— расходы по поездке Шиллера в Мангейм были им оплачены. Всего сорок четыре гульдена ушло на их покрытие. Сумма ничтожно малая, составившая весь его первый гонорар. Расчет на то, что «всемогущий Маммон», наконец, смилостивится, снова не оправдался.
Зато дома, в Штутгарте, Фридриха ждал сюрприз. Герцог, как и следовало ожидать, очень скоро узнавший о триумфе своего подданного, решил разыграть роль покровителя таланта. Он всемилостивейше разрешает постановку «Разбойников» на штутгартской сцене. Об этом его светлость лично сообщает своему полковому лекарю во время аудиенции. Лицемерно разыгрывая роль доброжелательного наставника, он поучает, советует, разрешает. Нет, он не против того, чтобы поэт сочинял стихи и драмы. Пожалуйста. Даже рад тому, что под сенью его отеческого покровительства расцветают такие таланты. Он лишь хотел бы быть первым ценителем сочинений поэта, первым наслаждаться его творениями.
Иначе говоря, герцог навязывал свою опеку, хотел, чтобы поэт передавал ему свои произведения на предварительную цензуру. Что это означало, Шиллер прекрасно понимал. Его хотят лишить собственного голоса, хотят заставить петь по чужим нотам, руководить и направлять его перо. Он мужественно отклоняет предложение Карла Евгения.
Война, пока еще скрытая, была объявлена. Герцог не простит ему такую дерзость. Случай отомстить строптивому поэту скоро представился.
В конце мая Шиллер вновь тайно посетил Мангейм, где вторично присутствовал на представлении «Разбойников». После этой поездки он признается, что нет человека несчастнее его. Нестерпимо было переносить контраст между его родиной и Мангеймом, где расцветают искусства, где прекрасный театр и где можно свободно творить, не опасаясь того, что тебя упекут в крепость.
Все отчетливее Шиллер сознавал, что в условиях вюртембергского холодного климата ему не развернуться в полную силу своего таланта.
«На этом севере искусства, — записывает он в те дни, — мне во веки веков не дозреть…» И он умоляет Дальберга помочь ему переменить «климат», затребовать его в Мангейм и просить герцога отпустить полкового лекаря. Он хорошо понимал, что у него один-единственный выход «расшвабиться», то есть вырваться из-под власти герцога, покинуть его страну-клетку. «Если бы вы могли заглянуть в мою душу и увидеть, какие чувства раздирают ее, если б я мог в красках изобразить, как бунтует мой дух из-за этого неприятнейшего положения», — признается он Даль-бергу.
Когда Шиллер вернулся в Штутгарт после вторичной тайной самовольной отлучки, его снова ждал сюрприз. Правда, несколько иного рода, чем ранее. Снова была аудиенция во дворце, был и разговор. Вернее, грубый выговор за нарушение приказа без разрешения выезжать «за границу». За сим последовало и наказание — ему велено было отдать шпагу и отправиться на гауптвахту под арест на две недели. Война приняла открытые формы.
Сегодня гауптвахта — завтра крепость. Здесь — две недели, там — годы. Все шло к тому, что скоро население в подземельях крепости Асперг увеличится еще на одного узника. И он станет соседом Шубарта. Было о чем подумать арестованному полковому лекарю.
В эти дни он задумывает новую современную трагедию. «Луиза Миллер» — ее название (позже измененное на «Коварство и любовь»). Надеяться на то, что она увидит свет на вюртембергской земле, не приходится. Слишком очевидно станет для всех место ее действия.
Это будет не столько его месть герцогу, сколько правдивый рассказ о стране-клетке, о преступлениях, творимых здесь, о несчастных подданных, изнывающих под ярмом деспотии.
На сей раз он еще явственнее обозначит прототипы. Многих вельмож вюртембергского двора пригвоздит к позорному столбу. Пусть все узнают правду о герцоге, торговце пушечным мясом, о его любовнице графине Гогенгейм, которую он выведет под именем леди Мильфорд. Министр двора Монмартен получит имя президента фон Вальтера, все увидят в нем списанного с натуры ненавистного слугу герцога, достигшего власти путем преступления, а в образе личного секретаря президента Вурма — проныру Виттледора, пробравшегося, словно пресмыкающийся червь, на теплое местечко.
Замысел пьесы созрел, для его осуществления необходимо было лишь одно — свобода.
Тем временем тучи над его головой продолжали сгущаться. Не успел он выйти с гауптвахты, как последовало новое приглашение к герцогу.
В жаркий летний день полковой медик Шиллер отправился на последнее свидание с Карлом Евгением. Миновал парк, поднялся по ступеням во дворец.
Разговор был короткий, но резкий. Непокорный поэт своим упрямством еще больше обозлил герцога. В конце прозвучали холодные слова: «Теперь ступай и не смей писать никаких сочинений, кроме медицинских; за нарушение этого приказа — в крепость!»
Запретить поэту быть поэтом! Можно ли придумать наказание, а точнее сказать, пытку более мучительную! Так поступил ненавистный герцог с Шубартом. Теперь — в этом нет сомнения — очередь его, Шиллера. Но нет, он вырвется из душной клетки. Размашистым, решительным шагом пересек Фридрих парк. Оглянулся. Губы прошептали строки собственного стихотворения:
Прочь, тиран! Мы встретились — и мимо!
Жизнь твоя с моей несовместима…
…И вот кони мчат его «за границу», в Мангейм. Мелькнул полосатый столб маркграфства Пфальц, входившего в состав Баварского королевства. Наступило первое утро его свободы — 23 сентября 1782 года.
Рубикон перейден, мосты сожжены. Отныне он «рад скорей в огне сгореть, но не служить тиранам».
Первое его детище стоило ему семьи и отечества. Но это было лишь начало трудного восхождения по ступеням славы. Это была первая веха на крутом подъеме его физического и творческого пути. Отныне впереди у него не будет ничего, кроме неустанного напряженного труда. Будут счастливые минуты творческого горения, невзгоды и радости, годы, озаренные великой дружбой с Гете. Будет прижизненное признание на родине и в иных странах, в том числе во Франции. Здесь его первенца поставят на сцене революционного Парижа под эффектным названием «Роберт, атаман разбойничьей шайки». А его самого Конвент удостоит в 1792 году звания почетного гражданина Французской республики, как и других выдающихся иностранцев, которые «своими произведениями и мужеством послужили делу свободы и приблизили час освобождения человечества».
И будет итог жизни — двенадцать драм и одна незавершенная. И тома лирических стихов и баллад, проза, исторические труды, очерки, критические статьи.
И весенний майский день, гроб ценой в три талера, реквием Моцарта. И похороны на берегу Ильма, неприютной реки, о которой однажды написал:
Бедны мои берега, но, мимо них протекая,
Слушают волны мои песни бессмертных певцов.
Песни Шиллера пережили годы, подтвердив старую истину: в истории есть огонь и пепел. Время развеивает пепел и не гасит огонь.
Те, кому довелось в тот день, 23 марта 1875 года, присутствовать в Обществе любителей российской словесности при Московском университете, расходились взволнованными. Только что они прослушали отрывки из нового сочинения господина Данилевского «Царственный узник». Познакомил с ними сам автор. Чтение его имело необычайный успех, о чем на другой день сообщили «Русские ведомости».
До сих пор Григория Петровича Данилевского знали как бытописателя, мастерски изображавшего картины природы, как создателя ярких типов крепостных крестьян, бежавших на юг от притеснения помещиков. Читающей публике запомнились и другие вещи писателя, в частности его рассказ о бывшем студенте Киевской богословской академии Гаркуше, покинувшем мрачную келью ради вольной жизни и ставшем народным мстителем. Писал Данилевский и стихи, и биографические очерки: об украинском просветителе и ученом Г. Сковороде, о жизни и творчестве Г. Квитки-Основьяненко.
Однако всем было ясно, что новое сочинение господина Данилевского намного превосходит прежде им написанное.
Чему же посвятил свое произведение известный беллетрист? На этот раз, впервые для себя, он обратился к историческому сюжету. В основу романа положил трагическую историю Иоанна Антоновича, российского императора, процарствовавшего в младенческом возрасте всего четыреста четыре дня. Остальную часть своей жизни низвергнутый царь провел в заточении. Он был лишен всего: родителей, общения с людьми, возможности гулять, учиться, читать книги, кроме церковных, даже имени его лишили. С того момента, когда ребенком его заключили в темницу, и до своей гибели в возрасте двадцати четырех лет его называли не иначе, как «безымянным колодником». Чем-то его судьба походила на судьбу человека, известного как Железная Маска, о котором А. Пушкин сказал, что это была «жертва честолюбия и политики жестокосердной».
И как неизвестно было, чье лицо скрывала железная маска, так и имя «безымянного колодника» долгое время и после смерти его запрещалось произносить под страхом быть заключенным в темницу.
И мертвого его все еще опасались. Впрочем, не без причины. Было открыто несколько заговоров в пользу покойного «законного императора» Иоанна VI Антоновича. Два года спустя после его смерти в Москве шли аресты, допросы, пытки — открылся заговор, участники которого осуждали умерщвление узника и помышляли использовать сие событие в своих целях. Через год — снова заговор, на этот раз в пользу брата Иоанна Антоновича как наследника русского престола. Позже в княжне Таракановой, загадочной авантюристке, выдававшей себя за внучку Петра I (ее истории Данилевский посвятил свой второй исторический роман), некоторые склонны были видеть сестру царственного узника. А в 1788 году объявился и сам император Иоанн Антонович, будто бы чудесным образом избежавший смерти.
Только что покончили с Пугачевым, называвшим себя Петром III, в каземате Петропавловской крепости погибла лжекняжна Тараканова, и вот на тебе — новый претендент на российский трон.
Кто же возымел дерзость посягнуть на царский престол? Кто посмел утверждать, что он — законный русский государь? Историю свою арестованный и с пристрастием допрошенный самозванец излагал следующим образом. Он-де не кто иной, как Иван Ульрих, сын Антона Ульриха Брауншвейгского и Анны Леопольдовны. Братьев и сестер своих не помнит. Каким таким чудесным образом ему удалось освободиться из крепости? На это незнакомец отвечал, что в 1762 году однажды к нему в каземат вошел комендант Шлиссельбургской крепости и предложил бежать, а его место якобы уговорил занять другого, похожего на него. Его-то и убили тогда, в июле 1764 года. Сам же он, получив от коменданта три тысячи рублей, скитался по России, выучился читать и писать. Участвовал в войне с турками, был в Крыму, потом жил в Петербурге под видом купца. Отсюда ездил в Архангельск в надежде добыть известие о своих родственниках, заключенных в Хол-могорах. Узнал, что отец и мать его померли, а два брата, Петр и Алексей, и сестры отосланы на родину их покойного родителя, в датские земли. Тогда он решил подробнее узнать о себе самом, как был свергнут с престола, а заодно и о своих несчастных родных. Для чего обратился к курляндскому герцогу Бирону, надеялся, что сын вельможи, пострадавшего в свое время от царицы Елизаветы Петровны, свергнувшей малолетнего Иоанна Антоновича и правительницу, его мать Анну Леопольдовну, проявит сочувствие и окажет помощь. Но герцог приказал взять его под стражу, объявив, что он-де опасен России. Его заковали в ручные и ножные железа и с конвоем отправили в Петербург. В сопроводительном письме говорилось, что рассказ арестанта «скорее на сказку, нежели на истину, походит». Но чтоб предостеречь от «соблазна, в народе произойти могущего», сего человека взяли под стражу, дабы пресечь разглашение в публике его сказок, так и ради «отвращения произойти могущих иногда неистовых лжей: ибо от выдаваемой вести он не отходит, произнося при том много непристойностей, кои по здравому рассудку не заслуживают никакого внимания».
Когда арестанта доставили в столицу, здесь очень скоро установили, кто же на самом деле был этот человек. В роли «законного императора» на этот раз выступил кременчугский купец Тимофей Курдилов, «бежавший по причине долгов». О самозванце состоялось решение «всемилостивейшей государыни», но какое именно осталось неизвестно. Хотя предположить, как кончил очередной претендент на царский престол, не так уж трудно.
Не один десяток лет длился своеобразный «мораторий», запрещающий упоминать имя Иоанна Антоновича. Но вот минуло сто лет с момента «шлиссельбург-ской нелепы» — как назвала Екатерина II то, что произошло 5 июля 1764 года в Шлиссельбургской крепости. К этому времени «безымянный колодник» стал не опасен. Можно было называть его по имени. В журналах начали появляться о нем материалы. В «Отечественных записках», в «Русской старине», «Русском архиве», «Русском вестнике» и т. д. Авторы рылись в Государственном архиве и в архиве Сената, изучали личную переписку минувшей эпохи, выискивали заметки современников, вчитывались в депеши иностранных дипломатов — очевидцев событий, а также в сочинения зарубежных авторов, посвященные истории Иоанна Антоновича. Словом, литература о его трагической судьбе множилась не по дням, а по часам.
Несомненно, что многие из этих материалов попали в поле зрения Г. П. Данилевского. Еще во время работы над биографией украинского писателя Квитки-Основьяненко (она была опубликована в 1855 году) он обратил внимание в его бумагах на план романа об убийстве Иоанна Антоновича. Замысел этот показался необычайно интересным. И Данилевский решает как бы перенять эстафету у своего земляка и продолжить работу. К этому моменту, как говорилось, на эту тему было достаточно публикаций. И писатель погружается в массу печатного материала, из которого, как он писал, у него составилась целая библиотека.
Наиболее ценные сведения из числа исторических материалов он почерпнул, по его словам, в «Истории России» С. М. Соловьева, в записках канцлера князя В. П. Кочубея, в сочинении о графе Д. Н. Блудове и воспоминаниях графа М.А. Корфа. А также в трудах академиков Поленова, Арсеньева, Куника, Сухомлинова, Пекарского, Грота, у профессоров Брикнера и Ла-манского и других.
Однако писатель не ограничился этими печатными источниками. Он сам предпринял разыскания в архиве Шлиссельбургской крепости, в бумагах Архангельского губернского правления о родных Иоанна Антоновича, отце, братьях и сестрах, которые тридцать шесть лет провели в Холмогорском остроге.
Посетил писатель и Шлиссельбург, спускался в «каменный мешок» — каземат Иоанна Антоновича в Светличной башне, предпринял ряд поездок по следам своих будущих героев.
И вот многолетний труд его получил первую заслуженную оценку слушателей в Обществе любителей российской словесности.
В тот вечер писатель покинул собрание, где выступил, ободренный приемом, полный желания завершить свой роман.
Между тем слух о новом необычном сочинении господина Данилевского распространился в обществе. «Вестник Европы» начал публиковать первые главы столь примечательного произведения. Но вдруг произошло нечто неожиданное: цензура приостановила публикацию без каких-либо особых доводов, толком даже не объяснив автору причину.
И Данилевскому оставалось лишь догадываться о мотивах, побудивших власти запретить его книгу. Он вспомнил свой разговор осенью 1875 года с В. В. Григорьевым, тогдашним начальником главного управления по делам печати, предупредившим его о возможных затруднениях с опубликованием романа. Когда-то, еще недавно, они работали вместе в «Правительственном вестнике», где Григорьев был главным редактором, а Данилевский его помощником. У них, казалось, были добрые отношения, и Григорьев немало приложил сил, чтобы тогдашний министр внутренних дел А. Е. Тимашев назначил писателя в редакцию на должность его помощника. На резолюции по этому поводу министр великодушно приписал, что рад за г-на Данилевского, который «вполне оправдал мои надежды». И вот теперь В. В. Григорьев предупреждает его не как старый знакомый, а как чиновник, призванный охранять интересы отечества.
Но неужели его роман — столь опасное произведение? Что в нем такого, что может угрожать отечеству? Все это вздор. Разве не появились в печати труды, посвященные выбранной им теме? Появились, да еще сколько. В таком случае, отчего именно его сочинение оказалось неугодным?
Писатель задавал себе эти вопросы, терялся в догадках, но ответа найти не мог. Власти же хранили молчание.
Впрочем, если бы Данилевский смог заглянуть в переписку, которая тем временем шла по его поводу между начальником главного управления по делам печати и тогдашним товарищем министра внутренних дел Л. С. Маковым, возможно, кое-что для автора стало бы ясно.
В ноябре 1875 года В. Григорьев сообщал министру:
«На запрос Вашего Высокопревосходительства, известно ли мне о романе Г. П. Данилевского «Царственный узник», честь имею доложить, что о романе этом, где идет речь об Иване Антоновиче и убийце его Мировиче, давно уже ходит слух. Предполагая, что содержание романа может оказаться нецензурным, я предупредил автора, что, если предположение окажется основательным, книга его будет подвергнута аресту и затем уничтожению, и что вообще лицу, служащему чиновником особых поручений при Министерстве Внутренних Дел, не подобает писать такие романы. На это г. Данилевский отвечал, что в произведении его нет и тени чего-либо предосудительного, что он с удивительным искусством обошел все подводные камни, представляемые сюжетом. Ныне, когда роман им окончен, я опять вел беседу с автором о трудности выводить в романе происшествия вроде умерщвления Ивана Антоновича, без того чтобы в изложении их не нашлось чего-либо несовместного с требованиями цензуры: г. Данилевский отозвался на это, что, если бы ему пришлось выбирать между службою в Министерстве Внутренних Дел и публикованием романа, он скорее отказался бы от первой, чем от последнего.
5 ноября 1875. В. Григорьев».
Доклад этот вызвал неудовольствие товарища министра. Нет, каков этот писака! Для него служба ничто, он готов оставить обязанности ради своего порочного сочинения.
И Л. С. Маков с раздражением написал карандашом на полученной записке:
«Но дело в том, что г. Данилевский может лишиться того и другого. Первое — за напечатание такого произведения придется, быть может, отстранить его. Второе — самим уничтожить произведение. Прошу предупредить об этом г. Данилевского, ему как служащему в Министерстве следовало бы до напечатания просить рассмотреть его роман».
Естественно, Г. П. Данилевский ничего не знал ни о записке своего бывшего начальника, ни о том, как прореагировал на нее товарищ министра. Не знал, но почувствовал. Ибо куда бы он ни обращался, сколько ни предпринимал усилий получить объяснения, отчего его роман приостановлен печатанием, — ничего добиться не смог. Создалась довольно странная ситуация: официально его роман не был запрещен, но печатать его не разрешали. Что было делать?
В эти горькие дни писатель вспомнил, как несколько лет назад он решился оставить канцелярскую службу в Петербурге, считая ее несовместимой с литературной карьерой. «Если бы я захотел, — писал он тогда, — двойственность моей теперешней дороги — литературной и служебной — разделить, то есть отбросить литературу, я мог бы с большим терпением и очень спокойно переносить всякие щелчки и шаг за шагом достигать всего чиновничьего, петербургского— орденов, геморроя, теплых местечек и тому подобного…» Но писатель видел свое призвание в служении литературе, а «литература, — считал он, — выше всякого чиновника» и писательское поприще выше всякого другого. «Мне необходимо изучение людей, сердец, страстей и помыслов современности и моей родины», — решил тогда Данилевский и, оставив службу, уехал в провинцию «учиться, присматриваться, прислушиваться», собирать материал, «работать в тишине и крепнуть вдали от света». Годы, проведенные на родине, в Харьковской губернии, оказались чрезвычайно плодотворными. Это была пора создания им известной трилогии — «Беглые в Новороссии», «Воля», «Новые места». И вот двенадцать лет спустя, когда в Петербурге в начале 1869 года была образована газета «Правительственный вестник» и отставному надворному советнику Данилевскому предложили место в редакции, он, возможно и опрометчиво, согласился. В приказе по этому поводу говорилось, что Данилевский «определяется на службу чиновником особых поручений VI класса при министерстве внутренних дел, сверх штата, прежним чином коллежского асессора». После чего писатель был командирован в распоряжение главного редактора новой официальной газеты.
Работа в редакции пришлась Данилевскому по душе. С энтузиазмом истинного газетчика он стремится сделать официозное издание интересным и читаемым. Немало сил прилагает к тому, чтобы на страницах газеты читатель находил новости научной жизни в России и за рубежом, материалы по литературе и искусству, фельетоны. И через год ему уже предлагают должность помощника главного редактора. А спустя еще четыре года он получает чин действительного статского советника.
Наряду с продвижением по службе множились и литературные успехи. Известность его перешагнула границы России; с 1874 года начали появляться переводы его романов и повестей на французском, немецком, польском, венгерском, сербском и других языках. Писателя избирают членом многих обществ.
Гонение на новый роман Данилевского, которому он, как ни одному из своих творений, отдал столько сил и таланта, заставило писателя пожалеть о том, что он вернулся в Петербург и снова поступил на службу.
Время шло, роман, запрещенный к опубликованию, лежал без движения уже целых два года.
Как-то вернувшись из редакции домой, Данилевский взял лист бумаги, обмакнул перо в чернила и мелким почерком вывел:
«Милостивый государь, Василий Васильевич.
Скоро два года, как мой роман вследствие недоразумений цензора, нетерпеливости редактора и моей собственной ошибки был приостановлен печатанием и заменен, по личному почину редактора, без сношений со мной, вынут из журнала и остался в моем портфеле.
Эта кара, тяготеющая надо мной, слишком мучительно отзывается на моем нравственном и материальном состоянии (я лишился заработка более чем в 6000 р. с.). Эта кара, наконец, отзывается и на моем здоровий; с тех пор оно не поправляется.
Так как этот мой роман не запрещен формально, а лишь приостановлен редактором, — без предоставления автору возможности спасти свой труд — через высшую ступень цензуры, — то я осмеливаюсь почтительнейше обратиться к милостивому вниманию Вашего Превосходительства, не разрешите ли Вы мне возобновить дело о моем труде, через его новый просмотр, причем я уповаю на устранение цензурных недоразумений, всегда возможное при личном объяснении с автором?
Я терпеливо выносил эти два года приостановку печатания своего заветного, с любовью конченного труда. Теперь позволяю себе о нем просить по двум причинам: я понес в эти годы сильные убытки в моем имении (это лето жуки истребили у меня 500 десяток посева пшеницы, через что вошел в тяжкие долги; потом, — со времени написания моего неизданного романа, — в печати явилось около 15-ти исторических романов и повестей, посвященных почти той же самой эпохе, которую выбрал я, и ближайшему времени; если пропустить, без ходатайства, еще время, — мой труд потеряет всякое значение, не говоря уж о том, что, без его напечатания и оценки обществом и критикой, для меня немыслимо дальнейшее саморазвитие в литературе, которой я по мере сил служу XXX лет.
Есть и еще причины, побуждающие меня к настоящему ходатайству и дающие мне некоторую тень надежды, о которых я объяснил бы Вам, если б Вам угодно было дать мне счастие — выслушать меня.
Прилагаю проект докладной, формальной записки по этому предмету, где я излагаю все дело, как оно было, и привожу посильные доводы в пользу моего ходатайства.
Не откажите, Ваше Превосходительство, в благосклонном приеме этой записки и в разрешении моего прошения.
Глубоко преданный покорнейший
Вашего Превосходительства слуга
17 окт. 78
Григорий Данилевский»[1].
Но напрасно писатель уповал на здравый смысл, напрасно надеялся на то, что запрет с его романа будет тотчас снят.
Только шесть месяцев спустя, благодаря непрекращающимся усилиям автора, использовавшего все пути и способы, вплоть до знакомых, близких к придворным кругам, роман Г. П. Данилевского «Царственный узник» был разрешен к печати.
В марте 1879 года писатель получил от В. В. Григо-рьева на сей счет официальное уведомление. В то же время Л. С. Маков, ставший министром внутренних дел, лицемерно выражая радость по поводу того, что наконец-то «узы вашего Царственного узника развязаны», обратился к автору с предложением изменить заглавие романа. Данилевский пошел на это, и книга появилась в печати под названием «Мирович».
Таким образом, только четыре года спустя после создания, Данилевскому удалось опубликовать свой лучший роман. Получив возможность издать его, говорил писатель, он обратился к забытой рукописи и увидел, что многое в ней следует переделать, сократить длинноты, кое-что, едва намеченное, развить. Но тогда внести какие-либо поправки не удалось. Осуществить это автор смог лишь много позже. Однако купюры, сделанные по произволу царской цензуры, так и остались не восстановленными. Сегодня, имея возможность сравнить варианты текста — цензурного и подлинного авторского, — нетрудно заметить, на что были направлены усилия цензоров. Охранители царской власти вымарывали все места, где резко и откровенно характеризовалась власть русских самодержцев, реалистически остро рисовались придворные, их алчность и жестокость. Искаженный цензурой текст свидетельствует о причине, по которой роман был вначале запрещен, а потом, после соответствующей «обработки», великодушно дозволен к печатанию.
Таковы вкратце некоторые обстоятельства печатной истории этого сочинения Г. П. Данилевского.
Однако откуда взялось второе название книги— «Мирович»? Что это за имя? Оно принадлежит подпоручику Василию Мировичу, предпринявшему отчаянную попытку, последнюю в целой серии предшествующих заговоров, участники которых ставили ту же цель, что и он, — освободить царственного узника, много лет томившегося в каземате Шлиссельбургской крепости.
Пожалуй, никогда в истории России не было замы-слено и отчасти осуществлено столько заговоров и дворцовых переворотов и за столь короткий промежуток времени, как в сороковых и пятидесятых годах XVIII столетия. Обстоятельства некоторых из этих заговоров даже в прошлом веке, сто лет спустя, не были достаточно хорошо известны. Не все ясно в них и по сей день.
В августе 1740 года императрица Анна Иоанновна стала бабушкой. У ее племянницы Анны Леопольдовны родился сын, которого нарекли Иоанном в честь деда, царя Иоанна Алексеевича, старшего брата Петра I.
Видимо, предчувствуя свой скорый конец, Анна Иоанновна воспылала нежной любовью к внуку, преемнику ее престола. Она усыновила его, велела колыбель с младенцем перенести в свою спальню. Не обошла императрица лаской и вниманием и мать новорожденного, а также ее мужа, герцога Антона Ульриха Брауншвейгского.
Два месяца спустя Анна Иоанновна скончалась, как тогда говорили, от каменной болезни, и двухмесячный ребенок согласно ее завещанию был провозглашен императором. На подушке, покрытой порфирой, его выносили при торжественных случаях, и вельможи лобзали его ножку; малютку императора показывали в окно народу и войску, которое приветствовало его раскатистым «ура». В честь царственного младенца устраивались нескончаемые придворные балы, фейерверки и иллюминации. Поэты славили его в своих одах, прочили великое царствование, жизнь долгую и спокойную. Увы, ни одно из предсказаний этих не оправдалось.
Не прошло и трех недель со дня провозглашения малолетнего наследника императором Иоанном VI, как случился переворот. Скоро и неожиданно пресеклось недолгое регентство ненавистного всем Бирона. Началось правление Анны Леопольдовны — матери младенца-императора. Длилось оно всего год и кончилось в осеннюю ненастную ночь столь же неожиданно, как и началось.
В ночь на 25 ноября 1741 года на Красной улице в доме цесаревны Елизаветы собрались те, кто вознамерился возвести на русский престол дочь Петра I. Среди заговорщиков находился и лейб-хирург Иоганн Герман Лесток, служивший еще при ее батюшке. Он-то и являлся одним из вдохновителей и организаторов будущего переворота.
Потомок знатного французского рода, родившийся в эмиграции на ганноверской земле, подвизавшийся здесь в качестве не то лекаря, не то цирюльника, однажды решил попытать счастье в России, где требовались знающие свое дело медики. В 1713 году авантюрист и искатель приключений прибыл в Петербург. Познания в языках, приятная внешность, а главное, веселый и обходительный нрав пришлись по душе царю. И только что прибывшего чужеземца определяют хирургом к высочайшему двору. Назначение это было тем более удивительным, что одновременно с Лестоком в Россию приехали шесть хирургов из Лондона, но ни один из них не удостоился такой чести. Считают все же, что если бы Лесток не был хорошим специалистом, если бы он являлся шарлатаном, ловко прикинувшимся знающим медиком, его непременно бы разоблачили. Сам Петр I обладал немалыми познаниями в медицине, особенно в хирургии, бывало, лично производил операции: собственноручно пускал кровь и выдирал зубы.
Карьера Лестока в России сложилась более чем удачно при жизни Петра I. Но и после смерти царя, благоволившего к своему лейб-хирургу, ловкий ганноверец сумел удержаться на поверхности и в бурные дни правления Меншикова, и при верховниках. Остался он при дворе и с началом царствования Анны Иоанновны, исполняя должность лейб-хирурга при цесаревне Елизавете Петровне. Подле нее он задумал и выносил свой план: дочь Петра должна «восприять отеческий престол». В случае успеха пятидесятилетний Лесток лелеял себя надеждой получить новые должности и титулы, не говоря о золотом дожде, который польется на него. Ради личного преуспеяния и трудился неутомимый лейб-хирург над осуществлением плана переворота.
Время выбрано было благоприятное. Новая правительница, восприняв любовь своей покойной тетки Анны Иоанновны к увеселениям, беззаботно наслаждалась маскарадами, балами и балетами. И на все предостережения о том, что ей и ее сыну грозит опасность, не обращала внимания, так как не могла и не хотела поверить, что ее двоюродная тетка и кума станет что-либо против нее замышлять. Беспечность дорого обошлась ей и ее сыну.
Была полночь, когда лейб-хирург вошел в комнату Елизаветы и доложил, что все готово. Дочь Петра стояла на коленях перед иконой и молилась. Рядом с ней осеняли себя крестным знамением другие заговорщики. Лесток услышал, как тихим голосом цесаревна дала обет — упразднить смертную казнь, если Богу будет угодно способствовать осуществлению ее замысла.
Елизавета поднялась и, почти не помня себя от волнения, вышла со всеми на крыльцо, где ждали двое саней. В первые села Елизавета, Лесток и другие главные зачинщики. Сани тронулись в сторону Преображенского съезжего двора.
В отличие от цесаревны, да и некоторых других участников заговора, Лесток сохранял удивительное спокойствие. Его хладнокровие и находчивость проявились и тогда, когда дежурный барабанщик, увидев знатных гостей, готов был забить тревогу. Лесток проворно выскочил из саней и тотчас распорол кинжалом барабанную кожу. Эта небольшая хирургическая операция позволила без шума арестовать дежурного офицера. После чего Елизавета Петровна предстала перед толпой гренадеров. Восхищенные тем, что к ним обратилась сама дочь великого Петра с просьбой поддержать ее, они дружно прокричали в ответ: «Да здравствует матушка императрица Лисавета Петровна!»
Полдела было сделано. Гренадеры дружно присягнули новой царице. Лесток был доволен — все шло гладко. Во главе эскорта из двухсот новых приверженцев Елизавета и ее сподвижники направились к Зимнему дворцу. Здесь Лесток столь же ловко повторил операцию с надрезом барабанной кожи. Дворцовая охрана, как и гренадеры лейб-гвардии, с готовностью присягнула Елизавете. Тем временем Лесток с тридцатью гренадерами арестовал правительницу со всем ее семейством, в том числе и низверженным императором Иоанном VI Антоновичем. Затем всех их доставили во дворец Елизаветы Петровны и разместили в разных комнатах.
Наутро следующего дня Россия узнала о том, что престол заняла «законная» государыня. Пушечная пальба, прозвучавшая по этому поводу над городом, радостно отдавалась в сердце Лестока, назначенного в тот же час лейб-медиком двора. Последовали и другие назначения и награды участникам переворота. Не забыли, однако, и о тех, кто в результате его оказался низвергнут. Прежде всего было дано указание уничтожить все следы краткого правления Иоанна. Запрещалось упоминать его имя, бумаги и документы, где оно встречалось, подлежали сожжению; были изъяты из обращения монеты с изображением свергнутого ребен-ка-императора.
Вместе с тем новая владычица милостиво объявила, что повелевает «всю Брауншвейгскую фамилию вместе с Иоанном отправить в их отечество с надлежащею че-стию и с достойным удовольствием, предавая все их предосудительные поступки крайнему забвению». Поначалу действительно принц Антон Ульрих, его жена Анна Леопольдовна, император Иоанн VI и сестра его Екатерина были отправлены в Ригу. Здесь, однако, их догнало распоряжение задержать и впредь, до указа, содержать под строжайшим надзором. С этого момента с бывшей правительницей и ее мужем стали обращаться, как с государственными преступниками. Быдо запрещено допускать кого-либо беседовать с ними, получать и отсылать письма.
Что побудило изменить ранее торжественно произнесенное обещание?
Видимо, Елизавета Петровна, спохватившись, поняла, какую угрозу ее трону будет представлять бывший малолетний император. К тому же распространился слух, будто узники дважды пытались бежать: однажды, переодевшись в крестьянское платье, другой раз якобы на корабле. Тогда еще более усилили надзор за ними, запретив прогулки далее крепостного сада.
Но вот уже не слух о бегстве, а действительная попытка заговора в пользу свергнутого императора не на шутку встревожила царицу.
Не прошло и семи месяцев после переворота, как летом 1742 года был открыт заговор — первый, в ряду последующих, в пользу Иоанна VI при его жизни. Участники заговора, их было трое — камер-лакей Турчанинов, прапорщик Преображенского полка Ивашкин и сержант Измайловского полка Сновидов — замыслили умертвить Елизавету Петровну и герцога Голштинско-го, ее племянника (будущего императора Петра III), и возвести на престол низложенного Иоанна Антоновича. Они утверждали, что Елизавета прижита якобы вне брака и потому является незаконной дочерью Петра I. С заговорщиками скоро расправились: высекли кнутом и сослали в Сибирь, вырвав язык и ноздри у главаря, а у остальных — только ноздри.
Случай этот породил при дворе «страшную боязнь и тайное смятение» вплоть до того, что императрица опасалась спать одна и проводила ночи в обществе нескольких приближенных, а отсыпалась днем, когда, как ей казалось, она была в безопасности.
Ровно через год вспыхнуло так называемое «лопу-хинское дело», снова в пользу Иоанна Антоновича. На сей раз вдохновителем заговора был австрийский посланник маркиз Ботта. В числе участников оказался подполковник Иван Лопухин, заявлявший, как установило следствие, что, мол, через несколько месяцев будет перемена, намекая тем самым на возвращение низложенного Иоанна Антоновича. «Рижский караул, который у императора Иоанна и у матери его, — говорил он, — очень к императору склонен, а нынешней государыне с тремястами канальями ее лейб-компании что сделать?» А посему «перемене легко сделаться», тем паче, что король прусский поможет и маркиз Ботта «императору Иоанну верный слуга и доброжелатель».
«С пристрастием» проведенное следствие выявило тринадцать русских участников заговора и одного иностранца. Замешанными оказались и две женщины— первая статс-дама Наталья Федоровна Лопухина и графиня Анна Гавриловна Бестужева, известная красавица. Обеих их высекли на Сытном рынке при народе, в кровь рассекли тело, тянули клещами языки изо рта.
И хотя вся вина подсудимых состояла, видимо, лишь в неосторожных высказываниях, расправились с ними скоро и жестоко: высекли кнутом, урезали языки, сослали в Сибирь. Что касается Ботты, то его по распоряжению австрийской императрицы Марии Терезии посадили в замок Грац, где содержались государственные преступники.
Не успел пройти у Елизаветы Петровны страх, охвативший ее в связи с этим заговором, как новые тревожные слухи лишили сна императрицу. Доносили, что в Кенигсберге некий Штакельберг таинственно намекал на возможность в России нового переворота. С юга, из Малороссии, тоже стекались донесения о разговорах, будто в столице существует сильная группа в пользу сверженного императора.
Требуются крутые меры, чтобы удержать власть в руках, нашептывали царице. Необходимо обезопасить трон, настаивал Лесток и предлагал крепко-накрепко заточить свергнутого императора и его семью где-нибудь в глубине России, упрятать куда-нибудь подальше и содержать в строгой тайне.
И Елизавета принимает решение перевести арестантов в крепость Ююнамюнде, затем следует новое распоряжение: отправить всю семью в Раненсбург— городок под Рязанью. Но и отсюда, кажется императрице, они могут угрожать ее трону. И следует новый указ. Осенью 1744 года узников переводят в Холмого-ры, под Архангельском. В здешнем остроге и суждено было провести семейству остальную часть жизни. Здесь вскоре скончалась Анна Леопольдовна, оставив вдовцом отца пятерых детей. Антон Ульрих провел в заключении тридцать лет и умер глубоким слепым старцем. Дети его — две дочери и двое сыновей — были в 1780 году отпущены во владения их тетки, королевы датской Юлианы Марии. Остаток дней своих они прожили в городе Горзеисе, где и похоронены на местном кладбище. Иная участь, еще более горькая, суждена была их старшему брату Иоанну.
Страх быть низложенной в результате заговора неотступно преследовал Елизавету Петровну. Заняв престол с помощью силы, она как бы ждала ответной меры. Тем более что все еще существовал низвергнутый ею реальный претендент на российский престол, поощряя пылкие головы предпринять что-либо для его освобождения.
Новая подобного рода попытка могла произойти в 1749 году. Распространилось известие, что при дворе раскрыт заговор. Его многочисленные участники ставили своей целью, когда умрет Елизавета Петровна, арестовать наследника Петра Федоровича и его жену Екатерину и возвести на престол законного императора Иоанна Антоновича.
В публике то и дело возникали разного рода слухи о судьбе Иоанна. Будто вопреки всем предосторожностям мальчик в двенадцать лет узнал о себе правду от одного из солдат, охранявших его темницу. В другой раз он якобы с помощью какого-то монаха пытался бежать за границу. Судачили о том, что императрица назначила наследником престола не Петра Федоровича, а Иоанна Антоновича. Иные договаривались до того, что утверждали, будто царица одно время предполагала вступить в супружество с Иоанном и тем самым уничтожить возможность всякого рода восстаний и заговоров в пользу низложенного императора.
Все эти слухи раздражали и злили царицу, побуждали принимать особые меры предосторожности. Так, тюремщикам, приставленным к узнику, содержащемуся с самого начала заточения отдельно от родителей, сестер и братьев, была вручена особая инструкция. Согласно ей офицерам, находившимся при Иоанне, вменялось умертвить узника в случае попытки освободить его из заключения. Существование подобной инструкции — важный факт, способный объяснить многое в дальнейших событиях. А они развивались следующим образом.
Умерла Елизавета Петровна, российский престол занял Петр III. Многие вельможи, сосланные при покойной царице, были возвращены ко двору, им вернули титулы и поместья. Только в жизни Иоанна Антоновича все осталось без перемен. Правда, по некоторым данным, новый император намеревался отправить его на родину отца, в Германию; поговаривали даже, что Петр III мечтал усыновить Иоанна и назначить наследником. Но ничего подобного не произошло. Все, на что решился молодой царь, — это посетить царственного узника в его заточении, не раскрывая перед ним свою особу.
К тому времени Иоанна Антоновича, прожившего в Холмогорах под именем Григория двенадцать лет, скрытно перевезли в Шлиссельбургскую крепость. Здесь и состоялось тайное свидание царствующего императора с царственным узником. Но кроме царя, как и прежде, никто не смел видеть арестанта. Однако чем был вызван перевод узника из одной тюрьмы в другую? Тому были особые причины.
Дело в том, что с некоторых пор на находившегося в заключении бывшего российского императора стали делать ставку в своей политической игре соседи России Австрия и Пруссия. Нет сомнения, например, что Ботта действовал отчасти по указанию своего правительства. Особые планы связывал с Иоанном и Фридрих II. Можно предположить, что русское правительство располагало данными о том, что прусский король готов поддержать переворот в пользу Иоанна VI.
Если учесть остроту тогдашних политических отношений между двумя странами, к тому же находившимися в состоянии войны, намерение Фридриха не покажется таким уж наивным и неосуществимым. Видимо, в Петербурге учитывали такую возможность. Чтобы обезопасить себя на этот счет, захватить инициативу, выведать замыслы и переиграть политического противника, в России разработали хитроумный план.
Среди бумаг Канцелярии тайных розыскных дел находится дело о тобольском купце Иване Васильевиче Зубареве. Приключения этого авантюриста не только выделяются сложными и запутанными обстоятельствами, но и в известном смысле превосходят многие необычные судьбы, которыми так было богато тогдашнее время.
Однажды, в декабре 1751 года, Елизавета Петровна вышла на крыльцо Зимнего дворца, собираясь отправиться в Царское Село. В тот момент, когда царица начала спускаться по ступенькам к карете, в ноги ей бросился человек в простом армяке и подал доношение. Это был Иван Зубарев, прибывший в столицу с важным открытием. В доношений говорилось о серебряных и золотоносных рудах, якобы добытых в известных просителю местах. Царица приказала рассмотреть дело Зубарева. Образцы руд, которые он представил, были переданы на экспертизу в три учреждения. Часть образцов попала в лабораторию к Ломоносову. Он один лишь высказал мнение, что образцы «все содержат признак серебра». Остальные эксперты категорически это отрицали. Рудознатца заподозрили в шарлатанстве. Сам Ломоносов не исключал своей ошибки из-за несовершенства инструментов, которыми пользовался. Предположив, что тобольский купец намеревался всучить фальшивые руды и действовал со злым умыслом, его посадили в крепость. Тут он объявил «слово и дело», собираясь якобы поведать нечто особенное. Его перевели в Тайную канцелярию. Но уловка не помогла. Новые показания были признаны также ложными, а их автора приговорили высечь кнутом и вернуть в крепость. Тогда неудачливый золотоискатель задумал побег. План удался довольно легко. Однажды, оказавшись в городе без караула для покупки-де рубахи, арестант не вернулся, хотя ранее обычно исправно возвращался в подобных случаях.
Вскоре Зубарев объявился не дальше как в Берлине, где потребовал доставить его к самому королю. Благодаря Манштейну, бывшему прежде на русской службе, ему удалось встретиться с принцем Брауншвейгским, братом заточенного в Холмогорах Антона Ульриха, а следовательно, и дядей Иоанна Антоновича. Тот и представил россиянина самому Фридриху II. О своих истинных злоключениях Зубарев скромно умолчал, а выдал себя за беглого гренадера лейб-компании, проигравшегося в карты.
Видно, лжегренадер неплохо исполнял свою роль, ему поверили. Мало того, предложили выполнить секретное и ответственное поручение. Впрочем, не сам ли Зубарев навел на мысль Фридриха и его приближенных доверить ему исполнение плана, возможно, им же самим и предложенного? В чем, однако, заключался этот план?
Зубареву предстояло вернутья в Россию, добраться до Холмогор и передать Антону Ульриху и его сыну Иоанну, что в Архангельск будет снаряжен корабль, якобы купеческий. На нем заключенные смогут бежать. Причем для обеспечения побега Зубарев должен был взбунтовать раскольников в пользу Иоанна, затем подкупить солдат и вывезти узников из Холмогор. В Берлине, по всей видимости, серьезно готовились к этой акции. Зубарева представили капитану будущего «купеческого» судна, выдали тысячу червонцев для подкупа стражи и снабдили паролем, который показал бы холмогорским арестантам, что он действует от имени их родственников.
Для поощрения самого беглого гренадера его произвели в полковники и обрядили в пышный мундир. Скоро, правда, с ним пришлось расстаться — щеголять по русской земле в парадной блестящей форме было опасно. Но и без нее дорога оказалась не сладкой. По пути на родину его ограбили, пришлось спасаться бегством, скитаться, прятаться. Наконец прусского шпиона изловили и доставили в ту самую Канцелярию тайных розыскных дел, где ему уже довелось бывать.
На допросе неудачник золотоискатель, лжегренадер и псевдополковник сознался и дал подробные показания. Благодаря ему в Петербурге стали известны планы прусского короля насчет освобождения Иоанна Антоновича. Невольно тобольский купец оказал важную услугу царскому двору. Впрочем, действительно ли она была такой уж невольной? А что, если Зубарев выполнил лишь особое задание и был специально заслан в Берлин с целью выведать намерения прусского короля?
В самом деле, многие обстоятельства, связанные с его бегством и пребыванием в прусской столице, кажутся странными, как и смерть в тюрьме, где он, видимо, был отравлен. Но в том-то и дело, что и этого не было. Просто-напросто его смерть инсценировали, заменив другим, может быть, уже мертвым заключенным. Куда же девался тогда подлинный Зубарев? И почему понадобился весь этот спектакль? Для того чтобы сохранить жизнь человеку, оказавшему важную услугу трону.
Легко предположить, что в тайну операции посвящены были немногие, поэтому Зубарева часто рассматривают как настоящего шпиона, проникшего в Россию со специальным заданием прусского короля. Тем более что следствию, надо думать, было дано секретное указание вести дело своим порядком, не раскрывая истинной подоплеки.
В связи с этим напрашивается предположение: не был ли Зубарев, оказавшийся впервые в застенках Тай-ной канцелярии, выбран для выполнения особого задания? Для него это означало выход на свободу. Он соглашается. Следует инсценировка побега. Выполнив задание, возвращается, чтобы через некоторое время навсегда исчезнуть. Но не умереть.
Такое предположение высказала историк М. Громыко. Ей удалось обнаружить в фондах Тюменской воеводской канцелярии и Тобольской духовной консистории документы о некоем отставном поручике Иване Васильевиче Зубареве, проживавшем в шестидесятых — восьмидесятых годах в Тобольской губернии. Что это, спрашивает ученый, совпадение, и только? Возможно. Но вместе с тем слишком много фактов заставляют думать, что Иван Васильевич Зубарев, якобы умерший в тюрьме, и поручик Иван Васильевич Зубарев, вынырнувший в Сибири через несколько лет, — одно и то же лицо. На чем, однако, строится эта гипотеза?
Смерть Зубарева могла быть инсценирована в Тай-ной канцелярии, пишет М. Громыко, а сам он награжден чином, выпущен тайно и водворен в сибирской глуши. Это возможно только в одном случае: если в Пруссии он действовал по поручению властей, если поездка в Берлин нужна была как предлог для жестоких мер против возможного восстановления на престоле Иоанна Антоновича. И дальше следует важное наблюдение: ведь показания И. В. Зубарева о прусском плане похищения Иоанна Антоновича были даны 22 января 1756 года, а 23 января (то есть немедленно, без затрат времени на обсуждение важной новой информации) послан указ начальнику караула в Холмогорах (написан рукой графа А. И. Шувалова, начальника Тайной канцелярии, и подписан Елизаветой): тайно отдать Иоанна Антоновича специальной команде для перевода в Шлиссельбург и продолжать создавать видимость содержания узника по-прежнему в Холмогорах — вплоть до отправки отсюда ко двору регулярных рапортов о его состоянии.
Бесспорно и то, что обстоятельства мнимой смерти «колодника Ивана Васильевича» (фамилия не упоминалась) были засекречены, как и само пребывание его в застенке держалось в глубокой тайне. Строго запрещалось любое общение с арестантом, в указе по этому поводу говорилось: «не выспрашивать и разговоров никаких ни о чем с ним не иметь».
Такая секретность требовалась для того, чтобы исключить утечку информации о том, что Зубарев был агентом русского двора и действовал по его плану. Больше того, в Пруссию было направлено письмо от имени Зубарева. Тайная канцелярия рассчитывала выловить в Архангельске тех, кто явился бы за холмогорскими узниками. Таков ход рассуждений современного историка.
Гипотеза эта тем более не покажется странной, если обратиться к истории другого заговора — последнего в ряду ему подобных, составленных в пользу Иоанна Антоновича.
Несмотря на тщательные предосторожности и суровые распоряжения содержать Иоанна Антоновича в строжайшей тайне, следы его замести не удалось. Всякий, кто хотел и почему-либо интересовался таинственным узником Шлиссельбургской крепости, мог без особого труда узнать о нем. Знали даже о том, что кто-то намеревается освободить «безымянного колодника», о чем свидетельствовала сама Екатерина II, к тому времени занявшая российский престол, причем тоже путем дворцового переворота. В одном из своих писем, имея в виду непрекращавшиеся покушения в пользу Иоанна Антоновича, она засвидетельствовала: «с святой недели много о сем происшествии почти точные доносы были».
Надо полагать, что эти тревожные известия весьма беспокоили императрицу, занявшую престол с помощью заговора и теперь, естественно, больше всего опасавшуюся, как в свое время и Елизавета, аналогичной ответной меры со стороны претендентов на власть. Первым из таких претендентов по-прежнему оставался Иоанн Антонович. Пока он жив, не быть спокойствию на Руси. И царица замыслила раз и навсегда избавиться от беспокойного узника.
Все, что будет изложено ниже, лишь предположение, впервые высказанное сто лет назад выдающимся русским критиком и историком В. В. Стасовым в его неопубликованном исследовании «Брауншвейгское семейство». Труд этот, видимо, потому и не увидел свет, что в нем содержалась дерзкая для того времени мысль о причастности императрицы к убийству царственного узника.
Следует, однако, вкратце напомнить, что произошло в Шлиссельбургской крепости 5 июля 1764 года.
В этот день подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Мирович, находившийся в карауле Шлиссельбургской крепости, предпринял попытку силой освободить Иоанна Антоновича. Взбунтовав команду и арестовав командира, он бросился к Светличной башне, где содержался «безымянный колодник» под охраной специальной стражи во главе с офицерами Власьевым и Чекиным. Здесь бунтовщика встретили ружейным огнем. Мирович приказал солдатам ответить залпом. Завязалась перестрелка, атаковавшие стали готовить к стрельбе пушку. Тогда офицеры, приставленные к узнику, видя безвыходность своего положения, решили действовать в соответствии с инструкцией, той самой, которая существовала еще во время Елизаветы и была возобновлена при Екатерине. Согласно этой инструкции, охране вменялось в случае попытки освободить Иоанна Антоновича умертвить его.
Когда Мирович ворвался в каземат, перед ним на полу лежал труп молодого человека. Это был Иоанн Антонович. Так закончилась «шлиссельбургская нелепа».
Мирович и солдаты, обманом вовлеченные в авантюру, предстали перед судом. Остальных прямых сообщников у него не оказалось. Правда, по показаниям Мировича, один такой заговорщик существовал — поручик Ушаков. Но накануне осуществления заговора он неожиданно утонул, и Мирович остался один. Это казалось по меньшей мере странным. И еще современники строили всякого рода предположения и догадки. В числе сомневающихся был и барон Черкасов, член специальной комиссии, занимавшейся разбором дела Мировича. Как пишет В. В. Стасов, он подал письменное мнение следующего содержания: «Мне невероятно, чтоб Мирович не имел сообщников в своем злом умысле, кроме Аполлона Ушакова». Это мнение Черкасова произвело сильное волнение в собрании. На заседании выступил сенатор Петр Иванович Панин (брат Никиты Ивановича и бывший покровитель Мировича), клонивший к тому, чтобы Мировича не пытать, так как из дела достаточно уже видно, что у него сообщников, кроме Ушакова, никого не было и ни о каких внушителях не может быть и речи.
Вечером 15 сентября тело Мировича, оставленное на позорище народу в продолжение целого дня, было сожжено вместе с эшафотом. В тот же самый день трех капралов и трех рядовых, помогавших Мировичу, прогнали на том же обжорном рынке сквозь строй перед тысячью человек десять раз и сослали на каторгу. Подпоручика князя Чефаридзева лишили чинов, посадили в тюрьму на шесть месяцев, потом отправили рядовым в астраханский батальон. Придворного лакея Касаткина наказали на обжорном же рынке батогами и послали рядовым в Воронежский гарнизон.
Между тем значительные награды были даны офицерам и Чекину. Сержант был произведен в прапорщики, унтер-офицер — в подпрапорщики, прочие четырнадцать рядовых — в капралы, причем каждый из последних получил по 100 рублей.
Уже тотчас после умерщвления Иоанна Антоновича много было споров о следующих двух вопросах: 1. Были ли у Мировича, кроме ничтожных людей, им выставленных, еще другие, более важные соучастники, которые подтолкнули его на совершение приписываемого ему одному предприятия и от которых он ждал поддержки? 2. Участвовала ли сама императрица каким бы то ни было образом в этом Деле? Фактов, прямо и положительно отвечающих на эти вопросы, не имеется, но тем не менее нельзя обойти вниманием несколько событий и подробностей, которые в общей сложности приводят к убеждению, что на оба эти вопроса можно почти с полной достоверностью ответить утвердительно.
Не первому Мировичу пришло в голову освобождать Иоанна Антоновича и снова возвести его на престол. В письме к генералу Веймарну от 15 июня 1764 года Панин писал: «Ее величество напоминает и примечать изволит, что с великого поста более 12 раз по той же материи (об освобождении Иоанна Антоновича) разное вранье открылось, да и в месте перед ее отсутствием один гвардии прапорщик, выписанный ныне в армейские полки (о котором я с вашим превосходительством уже говорил), тоже врал слышанное на кабаках от самой подлости (то есть от простого народа), будто б принц Иоанн жил тогда в деревне под Шлиссельбургом, многие армейские штаб-офицеры и солдаты ему присягали, и много людей из города к нему туда на поклон ходят». О других разговорах в народе известно из показаний Мировича о придворном лакее Касаткине и рейтаре конной гвардии Торопченине, наконец, и из подметного безымянного письма, поднятого нищею старухою в самый день отъезда императрицы из Петербурга в Лифляндию.
Был ли Мирович связан с теми, кто все это говорил и писал, или нет, неизвестно, но все-таки можно предполагать, что он рассчитывал на каких-то помощников, во-первых, в артиллерийском корпусе, куда хотел привезти прямо из Шлиссельбурга Иоанна Антоновича (объяснения Мировича о причинах его надежд на артиллерийский корпус очень неубедительны и кажутся одной лишь отговоркой), а во-вторых, на тех, кто должен был подъехать к Шлиссельбургу ночью на лодках, для чего Мирович дал часовым приказ: пропустить прибывших на лодках. Объяснения Мировича и по этому поводу также совершенно неубедительны. Едва началось следствие над ним, открылось, что в ночь с 4 на 5 июля к Шлиссельбургу действительно подходили две шлюпки с вооруженными людьми с целью освободить Иоанна Антоновича.
Кто мог быть сообщниками или, скорее всего, подстрекателями Мировича? Уже тогда, когда совершилось убийство Иоанна Антоновича, мнения современников были разные. Одни полагали, что главным действующим лицом, душою всего предприятия была та самая знаменитая Дашкова, которая за два года перед тем задумала и совершила переворот, свергнувший Петра III и возведший на престол Екатерину II. Уже в 1763 году дружба между нею и Екатериною рушилась, императрица не выносила более ее смелого, самостоятельного ума и нрава. Английский посланник Букингем писал своему двору 20 июля 1764 года, то есть в первые дни после шлиссельбургской катастрофы: «Захвачены печатные прокламации, которые одобряют предполагавшуюся революцию, и княгиню Дашкову подозревают в участии во всем этом. Очень вероятно, что, настойчиво требуя пытки Мировича, барон Черкасов и духовные члены верховного судилища имели в виду раскрытие виновности Дашковой, о чем тогда носилось много слухов, и что, говоря о постыдной для верховного суда роли комедиантов и машин, Черкасов разумел то, что все члены, не разоблачая Дашкову, были послушными орудиями в руках Панина». Можно было также предположить, что участие Дашковой осталось не раскрыто по делу вследствие могуществен-ного влияния Панина, поскольку, по тогдашним всеобщим слухам, она считалась не только его незаконной дочерью, но и любовницей. Но, несмотря на все это, трудно вообразить себе, чтоб какое бы то ни было влияние Панина на императрицу в состоянии было перевесить в ней страх и ненависть к предприимчивой сопернице, чтоб он в то же время в состоянии был совершенно исказить дело и закрыть от императрицы настоящие его пружины. О сообщничестве Дашковой могла бы узнать императрица из множества источников, и тогда, конечно, никакой Панин не спас бы ее. Итак, предположение об участии Дашковой в этом деле навряд ли имеет основание.
Другое мнение заключалось в том, что план умерщвления Иоанна Антоновича произошел прямо от самой императрицы. В своей «Истории России» Герман, во всех своих показаниях опирающийся на свидетельства иностранных политических агентов в России, утверждает: «Уже во время волнений войска и народа 1762 и 1763 гг. все, кто при дворе имел сведения о делах, говорили (по словам одного дипломата, хорошо знакомого с тайнами того времени), что Ивану придется умереть». И еще: «Прежний великий канцлер Бестужев считал Панина исполнителем (в деле Мировичева предприятия) императрицыной воли».
Еще один иностранный автор, Гольбиг, почерпнул все свои сведения из рассказов современников, участвовавших в правительственных делах. «Умерщвление бывшего царя Иоанна дело Теплова. Этот несчастный принц, существования которого даже слабоумная и трусливая Елисавета не опасалась настолько, чтоб предать его смерти, показался слишком опасен двору Екатерины II. Все затруднение состояло только в том, каким бы образом от него отделаться. Тогда обратились к Теплову, которого злобный нрав был известен, и он действительно изобрел тот отвратительный план, которого исполнение удалось. Посредством Теплова устроили дело с одним офицером из полевых полков, которому обещали большие награды, если он произведет возмущение в пользу принца Иоанна. Этого офицера звали Мирович. Его семейство потеряло свои имения. Ему обещали многое, если он решится на восстание. Мирович был человек близорукий, которому крепко хотелось чего-нибудь добиться. Все было наперед устроено и направлено к предназначенному исходу. Потом Мировича, добровольно сдавшегося (зачем ему было бежать, когда уж наперед он был убежден в том, что никакого зла с ним не случится вследствие сильной руки тех, кто направил его действие?), посадили под арест, отдали под следствие».
О подобных же предположениях современников рассказывают и Бюшинг, и неизвестный автор записки «История одного тюремного заключения». И действительно, многое в деле и следствии Мировича остается загадкой. Невольно возникают вопросы. Почему осталась без всякого дальнейшего расследования смерть Аполлона Ушакова, явно не утонувшего, а убитого, и притом не разбойниками, так как он не был ограблен? Почему даже не справились о ямщике, который его вез? Далее, почему не были допрошены, кроме Чефаридзева, те четверо, которые приезжали в Шлис-сельбургскую крепость утром того дня, когда Миро-вич предпринял свою попытку? И главное, почему избежал наказания сенатский регистратор Бессонов, который столько же слышал и говорил об Иоанне Антоновиче, как и Касаткин и Чефаридзев, и даже именно пригласил Чефаридзева и других ехать в Шлиссельбург и там уговаривал коменданта показать им крепость, а между тем остался потом совершенно в стороне? Почему, наконец, Панин в декабре 1763 года просил Власьева и Чекина потерпеть еще недолго, терпеливо оставаться на своих местах «до первых летних месяцев» и тут же послал им, несмотря на близость обещанной отставки, по 1000 рублей каждому от имени императрицы? Быть может, вполне прав Герман, который хотя и не знал всех этих подробностей, но, основываясь на донесениях иностранных дипломатов, утверждает, что Екатерина предприняла летом 1764 года путешествие в Лифляндию «для того, чтоб своим отсутствием как бы показать, что она ничуть не причастна к катастрофе, которая без нее должна была случиться в Петербурге»[2]. «Чтобы нечего было опасаться со стороны верности гвардии, — продолжает Герман, — она взяла с собою в путешествие к свите все самые горячие головы и людей, особенно уважаемых народом. Так что прочие офицеры, по большей части неопытные или изнеженные, всегда должны были опасаться находившейся в Лифляндии опытной армии с лучшими начальниками в главе ее».
Если допустить справедливость этих фактов, если считать, что план покушения Мировича исходил от самой императрицы и был осуществлен Тепловым, тогда объясняется если не все, то многое. Становится понятным, почему 4 июля приезжал в Шлиссельбург сенатский регистратор Бессонов, служивший в канцелярии Теплова и уговаривавший трех своих знакомых ехать в Шлиссельбург, почему именно он упросил коменданта устроить прогулку по крепости и почему он потом расспрашивал Чефаридзева, о чем говорили между собой во время этой прогулки он с Мирови-чем. Понятно, почему Мирович без спросу пустил в крепость этих людей, а потом, по их отбытии, уже по-говоря с Бессоновым и Чефаридзевым, в тот же день принялся за выполнение своего предприятия и, между прочим, велел часовым пропустить те шлюпки, которые приедут ночью. Не только понятны, наконец, но и вполне вероятны следующие факты, приводимые Ге-льбигом: «Во время следствия Мирович постоянно смеялся над допросами, потому что был убежден, что не только не будет наказан, но еще щедро награжден. Чтоб он никого и ничего не предал, его палачи с дьявольскою свирепостью не разубеждали его. Мирович продолжал хохотать, даже когда его вели на место казни и объявляли ему приговор…» Екатерина могла рассчитывать, что Мирович ее не выдаст. У него же было еще столько надежды впереди.
Добавить к сказанному можно, думается, только одно. Как и тобольский купец Иван Зубарев, подпоручик Василий Мирович, кстати, родившийся в том же Тобольске, был использован в дворцовых интересах. Но в отличие от первого (если считать, что тобольский купец избежал смерти и жил в Сибири) Мирович был жестоко обманут и стал жертвой коварной интриги.
Можно представить, что ему, отпрыску разорившегося рода, внуку одного из главных приверженцев Мазепы, обещали за услугу трону вернуть имение, отобранное в свое время у его деда-предателя. Он так усердно и безуспешно добивался этого, так долго обивал пороги канцелярий и писал столько прошений, что в конце концов ему пообещали исполнить его просьбу, но с одним условием. Так Мирович стал игрушкой в руках придворных лицемеров и палачей, исполнителем их тайных замыслов.
Истории Мировича и посвятил свой роман Г. П. Данилевский. Помимо печатных источников, документов и воспоминаний писатель широко использовал и семейные предания. Его прадед по отцу, как он писал, был земляком и товарищем по воспитанию Мировича. Прабабка писателя, бывшая фрейлина при дворе супруги Петра III, спасла мужа благодаря своим знакомствам, когда в поместье сделали обыск после шлиссельбургской катастрофы. По словам Данилевского, она живо помнила и в семейном кругу подчас рассказывала как о Мировиче, так и о причинах его рокового покушения. Ее воспоминания, жившие в семье, дошли до писателя, благодаря чему, по его словам, вся так называемая основа романа (жизнь и смерть Мировича, как и многие подробности воцарения Екатерины и покушения Мировича) взята была им из воспоминаний прабабки и бабки.
В процессе работы над романом писателю удалось уточнить некоторые факты заговора Мировича. Знал он, естественно, и о других заговорах в пользу Иоанна Антоновича. Но подробно касаться их в романе не стал, лишь бегло упомянул о «лопухинском деле» и приключениях Зубарева. Не использовал Данилевский и версию о том, что Мирович пал жертвой дворцовой интриги. Впрочем, если бы писатель повернул сюжет в эту сторону, его роман вообще не увидел бы свет. Как не была опубликована и работа В. В. Стасова. Труд, автор которого обосновывал гипотезу о том, что заговор Мировича был лишь комедией, разыгранной по сценарию Екатерины II, оставался в рукописи более ста лет. Только в шестидесятых годах нашего века появились из него извлечения.
Однако образ Мировича, каким его вывел Данилевский, не идеальная фигура. В этом писатель также верен истории и преданию. Его герой — самолюбивый и легкомысленный «армеискии авантюрист», искатель карьеры — вполне мог бы принять предложение стать невольным убийцей шлиссельбургского узника.
Было десять часов вечера, когда на старой бостонской колокольне метнулся тревожный свет сигнального фонаря. Условный знак означал, что «красные мундиры», так американские колонисты называли солдат Георга III, короля Англии, вышли из города и направляются по дороге к Конкорду. Здесь находились склады оружия и снаряжения патриотов, готовившихся свергнуть английское колониальное господство.
Не успел отряд англичан, выступивший из Бостона 18 апреля 1775 года, отойти и мили от города, как, опережая его, по сигналу, вспыхнувшему на бостонской церкви, в сторону Конкорда уже скакал всадник. Это был один из патриотов — Пол Ривер. Несмотря на поздний час, он стучал в каждые ворота, оповещая о наступлении английских войск. Раньше их прискакал Пол Ривер с недоброй вестью и в Лексингтон — поселок на пути в Конкорд. А оттуда, удачно избежав встречи с колонной англичан, добрался до самого Конкорда. Оружие и снаряжение были спасены, а непрошеные гости встречены вооруженными добровольцами.
Из Конкорда англичане пробивались, осыпаемые со всех сторон пулями. В конце концов «красные мундиры» не выдержали и обратились в паническое бегство. Победа патриотов послужила сигналом к повсеместному выступлению против англичан.
Ты слышишь? Грянул гром войны,
Но нам неведом страх.
Встречай врагов своей страны
С оружием в руках!
Этими словами песни-марша началась долгая восьмилетняя война американцев за независимость.
В один из дней лета 1805 года у кирпичного дома поместья Куперстаун, построенного в готическом стиле ровно полтора десятка лет назад, остановилась старая громоздкая карета. Дверца, на которой можно было разглядеть полустершиеся начертания какого-то герба, отворилась, и из экипажа вышел шестнадцатилетний Джеймс Фенимор Купер. По вызову отца он приехал домой из Йельского колледжа, где учился уже третий год.
Поместье судьи Уильяма Купера, состоявшее из обширного дома, построек и сада, располагалось недалеко от озера. На его живописном берегу прошло детство Джеймса, двенадцатого сына судьи. С юных лет наблюдал он жизнь поселенцев, видел пионеров-разведчиков, тех, кто умел читать книгу природы и разгадывать лесные приметы, кто безбоязненно пускался в странствия по лесным дебрям, где легко можно встретиться с хищником или просто заблудиться. Только немногие охотники и звероловы (такие, каким был знаменитый Даниель Бун, о котором ходили легенды, — следопыт и проводник) переняли от индейцев их навыки и сноровку и осмеливались на подобные рейды. Джеймс, выросший среди таких людей, мечтал о путешествиях, о нелегкой жизни землепроходца или моряка, он очень хотел походить на своего соседа— зверобоя Шимпена, некоторые черты которого, как и Даниеля Буна, использует потом при создании образа своего героя по прозвищу Кожаный Чулок.
Большой чемодан, напоминавший кожаный сундук, внесли в дом, после чего отец позвал Джеймса в кабинет. Старый Купер, аристократ и конгрессмен, отличался крутым нравом. В своей вотчине он вел себя как настоящий феодал, издевался над подвластными ему, а однажды засадил в тюрьму ветерана войны за независимость только за то, что тот отказался голосовать за федералистов. Словом, это был деспотичный человек, притеснявший как рабов, так и арендаторов, постоянно угрожая им разорением. Даже власти вынуждены были привлечь его к суду за незаконные действия. Кончил этот джентльмен типично по-американски: во время предвыборной кампании был убит в драке своим политическим противником.
Между отцом и сыном состоялся недолгий разговор. Вернее, это был не разговор, а короткий монолог Купе-ра-отца. Джеймсу не придется возвращаться в колледж. Для него больше подходит служба на флоте. Карьера военного моряка! Это благородно, модно и почетно. Но прежде, правда, надо немного послужить в торговом флоте, испробовать, как говорится, вкус морской воды.
Два года плавал Джеймс Купер простым матросом на судне «Надежный». Побывал во многих странах, изведал, что такое мужество и страх. Летом 1807 года «Надежный» покинул место своей последней стоянки— Англию. На родную землю Джеймс ступил 18 сентября — за три дня до этого ему в пути исполнилось восемнадцать лет.
Благодаря стараниям отца, Джеймса наконец зачислили гардемарином в военный флот. Сохранился текст присяги, подписанный молодым Купером. В ней он торжественно клянется честно и преданно служить своей стране в борьбе против всех врагов и противников. К большому его сожалению, доказать верность и преданность в бою ему так и не пришлось. Вместо плавания на боевом судне его посылают в глубь страны, на берега Великих озер, где он должен наблюдать за постройкой военных кораблей.
В крошечном поселке Освего, расположенном рядом с фортом, где оказался Купер, из двух десятков деревянных домишек самыми крупными были здания школы, суда и тюрьмы. Разве можно проявить себя в такой глуши! Но мечта о дальних плаваниях и подвигах, однажды завладевшая им, не оставляет его. Ему не терпится вновь увидеть соленые воды. А чтобы хоть как-нибудь отвлечься, он бродит с ружьем по окрестным лесам, вбирает в себя впечатления, которые потом так пригодятся ему. Встречается с охотниками, офицерами, торговцами, контрабандистами. И даже покупает за двадцать долларов пару пистолетов «на память о службе в этих местах». Но, с сожалением замечает он в письме к брату, нет никакой надежды на случай использовать их здесь. В отчаянии он посылает в Морской департамент просьбу перевести его на какое-нибудь военное судно. Просьба эта остается без ответа — покинуть унылый Освего ему удается только полтора года спустя.
В Нью-Йорке Джеймс снова оказывается в роли сухопутного моряка — работает на пункте по вербовке матросов. О своих огорчениях и неудачах по службе он рассказывает в гостиной семейства де Ланей — одной из старейших знатных фамилий, где часто теперь бывает. Здесь взгляд его становился задумчивым, тонкие губы плотно сжимались. Но стоило зайти разговору о том, что его волновало, как он оживлялся и начинал вспоминать плавания и страны, где бывал. Положительно, он обладал даром рассказчика, это отмечали все его знакомые.
Джеймсу казалось, что в этом доме его понимают и ему сочувствуют. Об этом говорили глаза Сьюзэн де Ланей. Но они молчали о том, что встреча эта будет роковой для его морской карьеры. На предложение выйти за него замуж Сьюзэн ответит согласием, оговорив его одним условием: Джеймс должен навсегда покинуть флот, забыть море.
Весной 1810 года в судовом журнале фрегата «Оса», к которому он был приписан, появилась запись: гардемарин Дж. Купер покинул корабль. Вскоре он женился, перебрался в свое поместье и зажил спокойно и уединенно.
Жажда странствий, которая жила в нем с детских лет, желание служить родине и совершать во славу ее подвиги на деле так никогда и не осуществились. И только став писателем, он сумеет удовлетворить эти свои стремления.
Давно были израсходованы свинцовые пули, отлитые восставшими колонистами из головы повергнутой статуи короля Георга. Бывшие повстанцы мирно трудились на фермах и в городах. Героическое прошлое Куперу представлялось эпохой, когда святое дело освобождения страны было долгом всех честных американцев. Каждый патриот, участвовавший в битве за справедливость, имел право быть назван героем, ибо с одинаковой отвагой и мужеством сражался весь народ, восставший против английского господства.
Но чем больше он задумывался над прошлым своей родины, тем отчетливее видел ту разительную перемену, которая произошла за эти десятилетия. Настоящее и прошлое все явственнее разделяла пропасть. Лицо новой, буржуазной Америки теперь олицетворяли дельцы и торгаши, полулюди, наделенные одной страстью — стремлением к наживе. Что значили для них самоотверженность, подвиг, отказ от личного благополучия. Разве они способны были поставить благо родины выше своих интересов, своей жизни. Ветер современности все настойчивее выдувал отовсюду поэзию героических прошлых лет. Джеймс часто видел ветеранов борьбы за свободу, с грустью и сожалением наблюдавших этот «процесс выветривания».
Не раз с досадой говорил об этом и Джон Джей— сосед Куперов и старый друг их семьи. В прошлом сподвижник Георга Вашингтона, Джон Джей ревниво относился к памяти минувших дней. Это было время, как он любил повторять, когда испытывались сердца, время бескорыстных поступков и самоотверженной борьбы. Не то, что теперь, когда всюду на первое место ставят корысть, наживу. «Разве мы думали о личном благе! — воскликнул он однажды в присутствии Купера. — И разве об этом думал герой, с которым мне пришлось в свое время встретиться».
Во время войны судьба свела Д. Джея с человеком — имени его он не назвал, — который был послан в тыл к англичанам как разведчик. Его услуги, казалось, мало чем отличались от дела обыкновенного шпиона. И тем не менее это слово в отношении его едва ли можно было применить. Обязанности, возложенные на него его начальником (а им как раз и был Джон Джей), были сопряжены с большой опасностью. Дело в том, что американский разведчик вынужден был в целях маскировки выдавать себя за сторонника короля, делать вид, что служит верой и правдой англичанам. Каждодневно он рисковал попасть в руки американцев, что в конце концов и случилось. Его схватили и приговорили как английского шпиона к виселице. Только поспешные тайные приказания тюремщику спасли этого человека от неминуемой, да к тому же позорной гибели: раскрыть свое подлинное лицо он не имел права даже арестовавшим его соотечественникам. Ему дали возможность бежать.
Но вот надобность в его действиях отпала. Джону Джею поручили встретиться с ним и вручить награду за ту пользу, которую он принес республике, подвергая свою жизнь великой опасности. Они встретились в полночь, в лесу. После похвал за верность и ловкость Д. Джей предложил ему деньги, много денег. Но каково же было его удивление, когда тот решительно отказался взять награду. «Родина, — сказал он, — нуждается во всех своих средствах, а я могу работать и так или иначе прокормить себя». Д. Джей унес золото, а вместе с тем и глубокое уважение к патриоту, так долго совершенно бескорыстно подвергавшему свою жизнь опасности.
Какой высокий патриотизм живет в сердцах простых граждан, думал Купер, выслушав рассказ о безымянном герое. Сколько в них беззаветной любви к родине, самоотверженности и мужества! Купер не знал еще тогда, какую роль сыграет эта история в его будущей судьбе писателя.
Однажды, чтобы скоротать долгий вечер, Джеймс читал вслух жене модный английский роман. «Бьюсь об заклад, что смогу написать книгу ничуть не хуже, чем эта», — заявил он, когда энное число страниц было прочитано. Сьюзэн усомнилась в такой способности мужа. Задетый за живое, Джеймс предложил пари. В июне того же 1820 года он положил на стол перед женой рукопись романа «Предосторожность». А в ноябре книга вышла в свет. Пари было выиграно. Так неожиданно, можно сказать случайно, началась писательская биография Джеймса Купера, когда ему было уже за тридцать. Едва ли он сам предполагал, какое значение будет иметь эта проба пера для его творческой судьбы, хотя само по себе это сочинение и не представляло особого интереса. Книга была написана в подражание семейно-бытовым романам из английской жизни. Нельзя сказать, что подражание оказалось бездарным, напротив, оно было настолько удачным, что многие принимали роман за сочинение английского писателя. Мистификация облегчалась тем, что автор не указал на обложке своего имени: Купер не захотел подставить его под удары критики. Но те, кто знал подоплеку дела, и прежде всего друзья Джеймса, стали упрекать его в том, что он, американец по сердцу и по рождению, написал книгу из жизни чужого общества. Все объяснения о случайности, о внезапном пари никто не желал и слушать. Поправить дело можно было только одним способом — написать другую книгу.
О чем же напишет он свою следующую книгу? Попытается создать произведение, темой которого будет любовь к родине. Желание написать такую книгу бродило в нем, пока не пришла на помощь память: он вспомнил рассказанную Джоном Джеем историю безымянного патриота. Чем не сюжет для исторического повествования! Показать прошлое своей страны во всей его жизненности, напомнить о подвигах героев, о простых и скромных людях, которые вынесли на своих плечах все тяготы борьбы и остались безвестными. Литература была в долгу перед их памятью, события отечественной истории не нашли еще отражения под пером писателя, в то время, как читатели ждали произведения, посвященного их молодой стране, ее суровой и прекрасной природе, ее смелым людям, ее истории.
Первые главы новой книги, которую он назвал «Шпион», были написаны в несколько дней. Повествование шло легко и свободно. Одно тревожило Купера — в книге нет ни замков, ни лордов, ни других непременных атрибутов модных тогда английских романов. Встретит ли одобрение история простолюдина у читателей? Как отнесутся к подвигу его героя Гарви Берча в стране, где утверждался здравый смысл в ущерб поэзии жизни? Но ведь право каждого писателя представить своему читателю лучшие черты того характера, который он хочет изобразить. В этом и заключается, по его мысли, поэзия. Того же, кто хочет найти в его сочинении романтическую, вымышленную картину никогда не существовавших событий, ждет разочарование. Его рассказ — это правдивая история. И вымысел, который он допускает в изображении событий прошлого, отнюдь не искажает жизненную правду, это необходимо лишь для «гармонии поэтического колорита».
Достоверность и историчность он сделает принципами своего творчества. И в этом легко убедиться, читая его лучшие книги. В таких исторических романах, как «Лоцман», «Осада Бостона», Купер всегда точен, вплоть до описания местности, где разворачивается действие. Когда ему, например, понадобилось в романе «Осада Бостона» рассказать о первых месяцах войны за независимость, он специально посетил те места, где происходили события, описываемые в его книге, проехал по маршруту скачки Пола Ривера, побывал на месте боев в Лексингтоне, интересовался даже тем, какая была погода в те дни. По существу, и печальная судьба Натти Бампо — этого рыцаря лесов и прерий, рассказанная им на страницах пятикнижия о приключениях Кожаного Чулка, — это тоже действительный, как он сам говорил, не подлежащий сомнению факт. Подлинный случай положил он и в основу романа «Шпион», хотя имени человека, о котором услышал от Д. Джея, не знал. И только когда книга была уже готова и появилась в продаже, рассказ Д. Джея неожиданно подтвердился. У куперовского героя вдруг объявился живой прототип. Некий Инок Кросби утверждал, что он и есть тот, кого писатель вывел в своем романе под именем Гарви Берча. Что же, вполне возможно, что Инок Кросби был тем, кого имел в виду Д. Джей. История этого разведчика послужила стержнем сюжета книги. Герой Купера, приняв маску сторонника врагов, жертвует добрым именем, терпит оскорбления и бранные клички, оставаясь искренним патриотом. Даже попадая в плен к своим, он выдавал себя за тор-говца-разносчика и хранил тайну своего перевоплощения. Он молчал, несмотря на грозившую ему смерть от рук тех, кому помогал. Только один человек знал, что этот худощавый, с крепкими мускулами и смелым взглядом «опасный враг» действовал во имя родины. Этим человеком был сам Вашингтон. Гарви Берчу он доверяет больше других, ибо давно заметил в нем любовь к истине и верность своим принципам. И Вашингтон не ошибся в его преданности и самоотверженности. Когда потребовалось, Гарви Берч, наотрез отказавшись от вознаграждения, уходит со сцены, совершая еще один гражданский подвиг. Он понимает, что никто никогда не узнает о его правоте, до самой могилы ему придется слыть врагом своей страны, после него останется лишь опозоренное имя. Единственная его награда — сознание того, что он честно служил справедливому делу и выполнил свой долг. Но повествование Купера не вышло бы за рамки описания отдельного случая, если бы он не усложнил интригу, не ввел целый ряд подробностей, новые эпизоды, взятые из других источников. А главное — ни один документ не смог бы помочь Куперу в создании живых характеров. Для этого нужен был писательский талант.
Значит, не только случай с Иноком Кросби лег в основу куперовского романа? У нас нет на этот счет прямых документальных подтверждений. Но несомненно, что Купер, работая над книгой, пользовался разного рода материалами: мемуарами, письмами и т. п. Ибо таков был его метод, отличавшийся необычайной скрупулезностью. Косвенными подтверждениями того, какие исторические события и образы вдохновляли писателя, мы все же располагаем.
Джеймсу нередко приходилось слышать имя Натана Хейла. На фермах и почтовых станциях, в тавернах и на пристанях о нем пели песни, рассказывали легенды ^Впервые Джеймс узнал о Хейле еще во время учебы в Йельском колледже, где задолго до него учился и Хейл. Преподаватели при каждом удобном случае напоминали об этом и ставили его в пример как истинного патриота. Что же это был за человек? И что он совершил такое, за что его так превозносили?
… В начале осени 1776 года военная обстановка в районе Нью-Йорка и Лонг-Айленда складывалась для американцев неблагоприятно. Им пришлось оставить город и остров и отойти к северу. На совете, созванном командующим силами повстанцев, Вашингтон заявил, что многое зависит от информации о передвижении войск противника. И убедительно просил своих офицеров принять все меры к тому, чтобы добыть необходимые сведения. Тогда же было решено послать в расположение английских линий надежного человека, сведущего в военном деле, находчивого, смелого и наблюдательного.
Семнадцатилетний капитан Натан Хейл из Ковентри, в недавнем прошлом школьный учитель, добровольно вызвался выполнить рискованное поручение. Ни уговоры друзей, ни опасность, которой он подвергал себя, — ничто не остановило его. Хейл вполне сознавал, что, возможно, будет раскрыт и схвачен во время выполнения задания. Что же заставило его решиться на такой отчаянный шаг? Славы он не искал, не гнался за повышением в чине или вознаграждением. Он хотел одного — быть полезным своему народу. Вот его слова: «Родина требует от меня услуги, и я должен выполнить ее».
Его принял командующий и лично объяснил цель и задачу опасной миссии. Натану Хейлу предстояло на лодке, ночью, переправиться через пролив, где патрулировали английские корабли^ пройти по Лонг-Айленду и пробраться в Нью-Йорк в расположение войск противника.
Разведчик высадился на пустынный берег. Ничто, даже всплеск волн, не нарушило тишину приближающегося дня. Вокруг не было никаких признаков жилья— одни холмы. Под видом бродячего учителя, сторонника короля, Хейл проник глубоко в тыл вражеских линий. Вместе с фуражирами, снабжавшими англичан продовольствием, несмотря на строжайший приказ никого не пропускать, он оказался в городе. По дороге вел наблюдения, тщательно на латыни записывал добытые сведения и прятал их в башмак. Он уже был на обратном пути, как внезапно над проливом опустился сильный туман — дорога назад оказалась закрытой. Пришлось пережидать непогоду в таверне. Видимо, здесь он обратил на себя внимание своей любознательностью. Когда он вышел на улицу, его уже поджидал патруль.
Молчать было бесполезно — уличающие его записи легко обнаружили. Генерал Хау предложил ему жизнь ценой измены, обещал чин капитана королевской армии и крупную сумму денег. Хейл отверг гнусное предложение. Участь его была решена. В последний момент ему отказали даже в бумаге для прощального письма.
«Разве это смерть для офицера», — с иронией заметил его палач, начальник военной полиции англичан. «Любая смерть почетна, когда умираешь за отчизну, — спокойно ответил Хейл. И добавил — Я сожалею лишь о том, что у меня только одна жизнь, которую я могу отдать родине!»
Поздним вечером, 22 сентября 1776 года, на передовых постах американских линий, около Харлем-Плейнса, появился английский капитан с белым флагом. Это был Джон Монтрессор из королевского корпуса саперов. Он должен был передать Вашингтону письмо об условиях обмена пленными.
Встретившим_ его офицерам он сообщил, что на рассвете в Нью-Йорке около таверны «Голубка» был казнен солдат, переодетый в штатское платье. Он назвался Натаном Хейлом и перед смертью отказался завязать глаза…
Первым документом, увековечивающим память Натана Хейла, была запись, сделанная вскоре после его гибели в городской летописи города Ковентри. В ней говорилось: «Капитан Натан Хейл, сын Дикона Ричарда Хейла, был схвачен в Нью-Йорке англичанами и казнен в сентябре 1776 года». Спустя несколько десятков лет его имя значилось одним из первых в списках национальных героев, оно было известно даже школьникам, о нем не только пели песни, но и слагали гимны, позже ему воздвигнут памятники, напишут про него пьесы.
Мог ли Дж. Купер, начав писать книгу о подвиге разведчика, не вспомнить об отважном поступке благородного юноши! Романтический образ героя-патриота стоял перед его глазами. И хотя в романе имя Хейла упоминается только раз, но его подвиг как бы озарил все повествование. Нет, не один Инок Кросби послужил прототипом Гарви Берча.
С наступлением лета Джеймс вместе с Сьюзэн и детьми покидали свой старый дом среди лесов и перебирались поближе к морю, на остров Лонг-Айленд. Здесь, в усадьбе Сэг-Харбор — доме матери Сьюзэн, они подолгу гостили, особенно в последние годы перед тем, как он, по выражению жены, «заделался писателем».
Чтобы добраться до усадьбы, расположенной в восточной части Лонг-Айленда, надо было проделать немалый путь, чуть ли не около пятисот миль. От Купер-стауна до Олбани, городка на реке Гудзон, ехали в старом, с облупившимся кузовом экипаже, какими пользовались еще во времена английского владычества. До Нью-Йорка плыли вниз по течению на пароходе. С тех пор как фултоновский «Клермонт» впервые прошел по этому маршруту, минуло несколько лет. Тогда, в августе 1807 года, когда состоялся первый рейс невиданного доселе судна, на нем отважился проехать всего один пассажир. Теперь колесный пароход не был уже в диковинку, он входил в повседневную жизнь, становился привычным и обыденным.
Перед путешественниками разворачивалась живописная панорама, на берегу возникали места исторических сражений, знаменитая крепость Вест-Пойнт, дом, где со своим штабом останавливался Вашингтон; пароход плыл мимо поселков и рощ, мимо переправ и холмов, где 40 лет назад гремели пушки. Джеймс думал о том, что народ никогда не забывает свое прошлое. Оно не умирает, и память о нем, как легенда, живет среди людей. _
В Нью-Йорке снова пересаживались в почтовый дилижанс и остаток пути до Сэг-Харбора проделывали на лошадях. Обычно летом сюда съезжались и другие родственники. В том числе кузина его тещи Мэри Флойд с мужем — бывшим членом конгресса Бенджамином Толмеджом. К этому не очень разговорчивому старику, занимавшемуся теперь торговлей, Джеймс испытывал особое расположение. Перед ним был живой очевидец и активный участник войны за независимость. Он прошел ее всю, начал простым лейтенантом и закончил с генеральскими эполетами. В чине майора Толмедж руководил секретной службой армии Вашингтона. Джеймс узнал от Толмеджа некоторые подробности истории Натана Хейла — они были однокашниками по колледжу и вместе вступили в армию. От него же, человека весьма осведомленного, Джеймсу стали известны и другие факты из истории тайной войны времен борьбы с англичанами. Не все тогда еще можно было опубликовать, имена бывших разведчиков держались пока что в секрете. Но в беседах с Купером, который был чем-то ему симпатичен, возможно своим восторженным отношением к героям войны, старый генерал часто увлекался и приподнимал завесу над прошлым.
Посвятил он будущего писателя и в обстоятельства так называемого дела майора Андре, к которому имел самое непосредственное отношение.
Незнакомец вошел в гостиную, молча положил на буфет пакет и так же быстро и бесшумно исчез. Хозяйка дома Сара Таунзенд едва успела разглядеть на конверте имя Джеймса Андерсена, как подошел английский майор Джон Андре, вскрыл письмо и, прочитав, сунул его в карман. Это незначительное на первый взгляд событие произошло в усадьбе Ойстер-Бэй, что значит Устричная бухта, расположенной на острове Лонг-Айленд у самого пролива, который тогда еще по старой памяти часто называли проливом Дьявола. После того как англичане захватили остров, в Ойстер-Бэй квартировали офицеры. Сара Таунзенд, молодая хозяйка, во всем старалась угодить постояльцам, благосклонно относилась к ухаживаниям полковника Симкоу и, казалось, не сочувствовала повстанцам.
В полдень того же дня — это было в начале сентября 1780 года — она заметила, что полковник Симкоу долго шептался о чем-то с Андре. До нее долетели отдельные слова. Речь шла, как она поняла, о захвате крепости Вест-Пойнт, оплоте американцев на реке Гудзон.
В тот же час Саре потребовалось срочно отправить в Нью-Йорк записку своему брату Роберту, владельцу магазина и кафе. В этой записке, как она объяснила британскому офицеру Даниэлю Юнгу, который вызвался быть курьером, она просит брата отпустить особый сорт чая для назначенного в этот вечер приема.
Когда гости в Ойстер-Бэй (главным образом это были офицеры армии его величества) пили и расхваливали чай, доставленный накануне, Роберт Таунзенд, прочитав послание сестры, добавил к нему от себя несколько слов и подписался— «Калпер-младший». С этого момента пришли в движение все звенья разведывательной цепочки, на одном конце которой стоял Роберт Таунзенд и его сестра. Кто же был на другом конце?
Четыре года спустя после гибели Натана Хейла невидимый фронт борьбы представлял собой совсем иную картину. Не одиночки-смельчаки, а многие патриоты стали солдатами этого фронта. Одним из них был бесстрашный курьер Остин Ро. И в этот раз, получив от Роберта Таунзенда секретное письмо, он без промедления отправился в путь. Ему надо было проскакать по проселочным дорогам Лонг-Айленда более пятидесяти миль до городка Сетокет. Здесь он посетил Абрахама Вудхолла, молодого человека, жившего уединенно и замкнуто. Получив донесение, тот сразу же отправился к проливу, внимательно всматриваясь в развешенное вдоль берега на веревке белье. Это был условный сигнал, по которому он определял, где причалила лодка с той стороны. Ее неустрашимый владелец Колеб Брустер уже поджидал его и тотчас отправился в обратный путь через узкий пролив, каждую минуту готовый к встрече с английским военным шлюпом.
Утром донесение Роберта Таунзенда было в руках Джона Болтона. Под этим вымышленным именем действовал руководитель разведывательной службы Бенджамин Толмедж. От него сведения, полученные с той стороны, попадали прямо к Вашингтону — последнему звену в цепи.
Незадолго перед тем, как майору Толмеджу было доставлено донесение из Нью-Йорка, он получил письмо от коменданта крепости Вест-Пойнт генерала Бенедикта Арнольда. И теперь, читая донесение «Калпера-младшего», он удивился, что в обоих письмах, и Калпера-младшего, и Бенедикта Арнольда, упоминалась одна и та же фамилия: Андерсен. Генерал просил предоставить этому торговцу охрану, когда он окажется в расположении американских войск. Заслуги Арнольда ставили его вне подозрений. И все же Толмеджу это, возможно, и случайное совпадение имен показалось странным, он насторожился.
Среди эпизодов тайной войны того времени дело майора Андре приобрело особую известность. Скандал вокруг этого дела был тем более шумный, что в нем оказался замешанным один из высших офицеров американской армии, а цели, которые ставили перед собой заговорщики, — самыми коварными. В их планы входил захват не только крепости Вест-Пойнт, но и самого Вашингтона.
Для встречи с комендантом крепости Арнольдом, являвшимся агентом англичан, и был послан майор Андре. Под видом торговца Андерсена (ему-то и было адресовано письмо от Арнольда, которое заметила Сара Таунзенд) майор с большими трудностями добрался к месту свидания с американским генералом. До сих пор Джону Андре сопутствовала удача. Но с той мийу-ты, когда он вынужден был отказаться от мысли вернуться к своим на фрегате «Коршун», который не смог пройти ему навстречу вверх по реке из-за сильного огня американцев, счастье изменило Андре. Пришлось избрать иной путь возвращения — верхом, через расположение противника. Его сопровождал доверенный Арнольда полковник Смит. На окрики патрулей и часовых о том, кто идет, они отвечали: друзья. Если требовалось, показывали пропуск от генерала. В сумерках переправились через Гудзон, прошли на юг и у моста на реке Кротон расстались. За рекой начиналась нейтральная территория, там Андре был почти в безопасности.
До английских линий было рукой подать, когда утром 23 сентября вблизи Тарритауна его остановил патруль из трех ополченцев. Андре, видимо, неплохо разыгрывал свою роль. Недаром о его актерских талантах, которые он демонстрировал в любительских спектаклях, как, впрочем, и о его способностях поэта и художника, так много говорили в салонах Нью-Йорка. Ополченцы готовы были уже поверить мнимому торговцу и лишь на всякий случай решили осмотреть его сюртук и предложили снять сапоги. Андерсен повиновался, но снял почему-то только один левый сапог. В другом оказались план укреплений Вест-Пойнта, данные об огневых средствах крепости и другие секретные сведения… Андре предложил сделку: за свою свободу — сто гиней, лошадь и золотые часы. Джон Пол-динг, командир патруля, заявил ему на это: «Даже за десять тысяч гиней вы не сделаете ни шагу». Английского агента доставили к полковнику Джеймсу, командиру второго полка легких драгун. Он распорядился отправить арестованного обратно в крепость Вест-Пойнт к генералу Арнольду. Это была явная неосторожность. Мало того, полковник послал Арнольду курьера с извещением об аресте торговца Андерсена. Стоит ли говорить, что генерал-изменник прекрасно воспользовался этой информацией и благополучно скрылся. Чем руководствовался полковник Джеймс— осталось загадкой. Надо полагать, что это была лишь непростительная оплошность.
Бенджамин Толмедж, узнав об аресте какого-то Андерсена, вспомнил полученные накануне послания, где упоминалась эта фамилия. Был отдан приказ вернуть незадачливого негоцианта обратно. Через несколько дней, в начале октября, суд приговорил Андре к смертной казни. В честь его пленения выпустили медаль, которой наградили задержавших его ополченцев, а на том месте, где его арестовали, воздвигли обелиск.
… В тот год, когда Купер приступил к роману, на газетных полосах вновь всплыло имя Андре. Сообщалось, что англичане решили воздать ему почести героя и похоронить его останки в «Пантеоне Англии»— Вестминстерском аббатстве. Шумиха, поднятая по этому поводу проанглийскими газетами, не могла пройти мимо Купера. Благодаря рассказам Б. Толмеджа и Р. Таунзенда, с которыми он часто встречался, Купер был хорошо посвящен в дело английского шпиона. Вплоть до деталей. Например, он знал о том (и это, как и многое другое, использовано в романе), что полковник Симкоу писал Саре Таунзенд каждый год в день св. Валентина стихотворные послания, предлагая ей руку и сердце.
В книге не раз заходит речь об английском майоре, который был казнен всего лишь «несколько недель назад». История Андре напоминает о положении одного из персонажей романа Генри Уортона — капитана королевских войск: переодевшись в штатское, он прошел через американские пикеты и оказался на территории противника в усадьбе своего отца. Ему грозит виселица, и его обвиняют в том же, в чем и Андре, — шпионаже в пользу англичан.
Незавидная судьба майора Андре как бы оттеняет происходящее, усиливая драматизм действия. И тем самым помогает, что было очень важно для автора, воссоздать подлинную историческую атмосферу, на фоне которой действуют его герои. Купер стремился не к правдоподобию, а к подлинной правде.
Опасения Купера оправдались. Роман «Шпион», изданный без имени автора в конце 1821 года, поначалу не заметили. Вернее сказать, не захотели замечать. Зато его сразу же перепечатали английские журналы. И только после того, как автор книги был назван в английской, а затем и во французской прессе «выдающимся американским романистом», газеты Америки поместили несколько весьма сдержанных откликов. Куперу не могли простить его героя из народа, прославление подвига простолюдина.
Натан Хейл, Инок Кросби, Бенджамин Толмедж и его помощники — герои невидимого фронта. Гарви Берч — их литературный собрат, образ, «замешанный» на подлинном материале истории войны за независимость Америки. Через несколько лет Купер поймет, что подвиги тех подлинных героев, которых олицетворял его Гарви Берч, были напрасны. Он убедится в иллюзорности идеалов американской революции, идеалов свободы. И тогда он произнесет свои знаменитые слова: «Народу Америки предстоит понять, что его кажущаяся свобода — не что иное, как болтовня его хозяев-демагогов». Для Купера станет очевидно то, о чем он напишет в «Письме к соотечественникам», — об измене американцев принципам демократии, о засилии денежных интересов, о том, что публика, охваченная жаждой обогащения, не испытывает уже былого интереса к литературе. Купер разойдется со своей страной, «пропасть между нами огромна…» — напишет он. Таков был печальный вывод, к которому придет писатель.
Несмотря на замалчивание и скупые оценки отечественной критики, роман «Шпион» принес Куперу всемирную славу. Книгу очень скоро перевели на многие европейские языки. Русская критика отмечала, что роман интересен сочетанием «подробностей американской войны с описанием нравов и обычаев сей страны».
Начало было положено, первый шаг — самый трудный — был сделан. Мечта Джеймса начала осуществляться. Когда-то он помышлял о битвах и подвигах, о плаваниях по морям и странствиях на суше. Теперь он проделает все это многократно на страницах своих книг. Перо, следуя за его воображением, словно волшебная палочка, переносило его в девственные леса, на берега озер, где в чаще скрывались индейцы и мелькал брусничного цвета камзол Натти Бампо. Вместе с этим пионером-землепроходцем он проложит пути среди лесов и степей; поднимется на палубу «Ариэля» с таинственным лоцманом, прообразом которого ему послужит знаменитый моряк Поль Джонс; окажется в рядах ополченцев, осаждавших Бостон… Но самый высокий, самый благородный его подвиг, подвиг писателя — в работе, напряженной, упорной, в создании более тридцати томов. «Шпион» открывает этот длинный ряд произведений. По существу, это была первая книга Джеймса Фенимора Купера — одна из лучших в его творчестве, написанная уже не подражателем, а, по словам Белинского, «могучей кистью» большого мастера.
Пройдет немного времени, и Купера станут величать «американским Вальтером Скоттом». Правда, сам Джеймс очень сердился, когда его так называли. «Это, — говорил он, — меня оскорбляет больше, чем все плохие рецензии на мои книги». Купера признают не только читающая публика, но и корифеи литературы. Бальзак будет «рычать от восторга», читая его романы. Белинский — восхищаться тем, как он из «видимой простоты творит великое и необъятное», а Лермонтов найдет в нем «несравненно более поэзии, чем в Вальтере Скотте». Что касается самого отца исторического романа, то и он поражался мастерству Купера. И когда они встретились в Париже в 1826 году — к этому времени Купером уже были созданы, кроме «Шпиона», романы «Пионеры», «Лоцман», «Осада Бостона», «Последний из могикан» — это была встреча равных, встреча, как ее назвал Вальтер Скотт, «шотландского и американского львов».
Дом стоял прямо у дороги, отделенный от нее невысоким забором на каменном основании. Напротив по горному склону громоздились заросли могучих буков и сосен, а ниже за ними виднелись поросшие вереском холмы. Впрочем, разглядеть их удавалось лишь в погожие, ясные дни, когда дорога была залита солнцем, в лесу не смолкал птичий гомон, а горный воздух, чистый и прозрачный, волшебным нектаром проникал в кровь. Чаще, однако, в этих местах бушевала непогода. Тогда холмы внизу скрывала пелена тумана или стена дождя.
Так случилось и в этот раз, когда в конце лета 1881 года Роберт Луис Стивенсон, в то время уже известный писатель, поселился вместе с семьей высоко в горах в Бремере. Некогда места эти принадлежали воинственнному шотландскому клану Мак-Грегоров, историю которого Стивенсон хорошо знал. Он любил рассказывать о подвигах Роб Роя — мятежника Горной Страны, которого с гордостью причислял к своим предкам. Вот почему бремерский коттедж он зловеще называл не иначе, как «дом покойной мисс Мак-Грегор». В четырех его стенах из-за непогоды ему приходилось теперь проводить большую часть времени. Воздух родины, шутил Стивенсон, который он любил, увы, без взаимности, был для него — человека с больными легкими-злее неблагодарности людской.
Дни напролет моросил дождь, временами налетал порывистый ветер, гнул деревья, трепал их зеленый убор.
Повсюду дождь; он льет на сад,
На хмурый лес вдали,
На наши зонтики, а там—
В морях — на корабли…
Как спастись от ненастья, от этого нескончаемого дождя? Куда убежать от однообразного пейзажа? В такие дни самое милое дело сидеть у камина и предаваться мечтаниям; например, глядя в окно, воображать, что стоишь на баке трехмачтового парусника, отважно противостоящего океанским валам и шквальному ветру. Это под его напором там, за
окном, скрипят, словно мачты, шотландские корабельные сосны, будто грот-брамсели и фор-марсели, шелестят и хлопают на ветру паруса, сшитые из листвы буков и вязов, трещат стеньги и реи — ветви дубов и вереска.
Воображение унесло его в туманные дали, где в сером бескрайнем море плыли белые, словно птицы, корабли, ревущий прибой с грохотом разбивался о черные скалы, тревожно вспыхивали рубиновые огни маяков и беспощадный ветер рвал флаг отважных мореходов.
Привычка к фантазированию, к тому, чтобы самому себе рассказывать необыкновенные истории, в которых сам же неизменно играл главную роль, родилась в дни детства.
Обычно его воображение разыгрывалось перед сном. В эти минуты, «объятый тьмой и тишиной», он оказывался в мире прочитанных книг. Ему виделся посреди морской синевы зеленый остров и его одинокий обитатель, словно следопыт-индеец, выслеживающий дичь. Чудился топот скакуна таинственного всадника, исчезающего в ночной тьме, погоня, мелькающие огоньки, пиратская шхуна в бухте и исчезающий вдали парус бесприютно скользящего по волнам «корабля-призрака», над которым в воздухе, словно крест проклятия, распростерся белый альбатрос.
Неудивительно, что он засыпал тяжелым, тревожным сном. Но, бывало, его душил кашель и долго не давал уснуть. В такие ночи добрая и ласковая Камми, его нянюшка, утешала и развлекала мальчика, подносила, закутанного в одеяло, в окну и показывала синий купол, усеянный яркими звездами. Завороженный, он смотрел на луну и облака, странными тенями окружающие ее. А внизу, под окном, в непроглядной тьме сада таинственно шелестели листья деревьев…
Широко открытыми глазами созерцал он мир, полный загадок и тайн. Его воображение, пораженное величественной картиной мироздания, рисовало удивительные, фантастические картины. Когда же под утро удавалось вздремнуть, ему снились кошмары, будто он должен проглотить весь земной шар…
Наделенный недюжинной силой воображения, Луис умел изумляться, казалось бы, обычному: и виду, открывшемуся из чердачного окна, и залитому солнцем, полному цветов саду, который он как-то увидел сверху, забравшись на боярышник, и зарослям лавровых кустов, где, ему казалось, вот-вот возникнет фигура индейца, а рядом, по лужайке, пронесется стадо антилоп… Но ничто и никогда так не поражало в детстве его воображение, по словам самого Луиса, как рассказ об альбатросе, который он однажды услышал от своей тетки Джейн.
Впечатление было тем более сильное, что она не только показала своему любимцу бог весть как оказавшееся в ее доме огромное крыло могучей птицы, способной спать на лету над океаном, но и, сняв с полки томик Кольриджа, прочитала строки из «Сказания о Старом Мореходе».
…Снеговой туман, глыбы изумрудного льда «и вдруг, чертя над нами круг, пронесся альбатрос». Уже первые строки захватили его, увлекли в синие просторы, как корабль, который в сопровождении парящего альбатроса — путеводной птицы пробивался сквозь шторм. Но недаром альбатроса считали птицей добрых предзнаменований:
Попутный ветер с юга встал,
Был с нами альбатрос,
И птицу звал, и с ней играл,
Кормил ее матрос!
В этот момент, нарушая закон гостеприимства, Старый Мореход убивает посланца добрых духов— птицу, которая, согласно поверью, приносит счастье:
«Как странно смотришь ты, Моряк,
Иль бес тебя мутит?
Господь с тобой?» — «Моей стрелой
Был альбатрос убит».
Разгневанные духи за совершенное кощунство проклинают Морехода. Они мстят ему страшной местью, обрекая, как и легендарного капитана Ван Страатена— «Летучего голландца», на скитания на корабле с командой из матросов-мертвецов.
Картины убийства альбатроса и того, как был наказан за это моряк, словно живые возникали в сознании. С тех пор мистический рассказ о судьбе Старого Морехода станет его любимым чтением.
Образ птицы добрых предзнаменований многие годы сопутствовал Стивенсону. И, случалось, в мерцающих вспышках маяка метнувшаяся чайка напоминала ему об альбатросе, распластанные ветви лохматой ели под окном казались огромными крыльями, причудливый узор на замерзшем стекле был словно гравюра с изображением парящего над волнами исполина. Луис хранил верность альбатросу как самому романтическому из сказочных созданий, наделенному к тому же благороднейшим из имен.
Придет время, и он воочию увидит эту удивительную птицу. Произойдет это при плавании его на яхте «Каско». И точно так же, как в поэме Кольриджа, когда яхта проходила близко к антарктическим широтам, над ней воспарил огромный альбатрос. Залюбовавшись величественной птицей, Стивенсон невольно вспомнил строки из поэмы о том, что «проклят тот, кто птицу бьет, владычицу ветров». И еще ему тогда впервые показалось, что он, подобно Старому Мореходу, обречен на бесконечное плавание. С той только разницей, что его это скорее радовало, а не угнетало и страшило, как героя поэмы. В душе он всегда чувствовал себя моряком и был счастлив скитаться по безбрежным далям. Ведь он знал, что обречен, что и у него за спиной, как и у Морехода, «чьей злой стрелой загублен альбатрос», неотступно стоит призрак смерти, готовый совершить кару. И скитания, казалось ему, отдаляют роковой конец.
Здоровье постоянно подводило его, принуждало к перемене мест в поисках благотворного климата. С этой целью, собственно, он и перебрался в Бремер. Но, как назло, и здесь его настигло отвратительное ненастье. Вот и приходилось, по давней привычке, коротая время, фантазировать, глядя в окно…
Пережидая непогоду, старались чем-нибудь занять себя и остальные домашние. Фэнни, его жена, как обычно, занималась сразу несколькими делами: хлопотала по хозяйству, писала письма, давала указания прислуге; мать, сидя в кресле, вязала; отец, сэр Томас, предавался чтению историй о разбойниках и пиратах, а юный пасынок Ллойд с помощью пера, чернил и коробки акварельных красок обратил одну из комнат в картинную галерею.
Порой рядом с художником принимался малевать картинки и Стивенсон.
Однажды он начертил карту острова. Эта вершина картографии была старательно и, как ему представля-лось, красиво раскрашена. Изгибы берега придуманного им острова моментально увлекли воображение, перенесли его на клочок земли, затерянной в океане. Оказавшись во власти вымысла, очарованный бухточками, которые пленяли его, как сонеты, Стивенсон нанес на карту названия: Холм подзорной трубы, Северная бухта, Возвышенность бизань-мачты, Белая скала. Одному из островков, для колорита, он дал имя Остров скелета.
Стоявший рядом Ллойд, замирая, следил за рождением этого поистине великолепного шедевра.
— А как будет называться весь остров? — нетерпеливо поинтересовался он.
— Остров сокровищ, — с бездумностью обреченного изрек автор карты и тут же написал эти два слова в ее правом нижнем углу.
— А где они зарыты? — сгорая от любопытства, таинственным шепотом допытывался мальчик, полностью уже включившийся в эту увлекательную игру.
— Здесь. — Стивенсон поставил большой красный крест в центре карты. Любуясь ею, он вспомнил, как в далеком детстве жил в призрачном мире придуманной им Страны энциклопедии. Ее контуры, запечатленные на листе бумаги, напоминали большую чурку для игры в чижика. С тех пор он не мог себе представить, что бывают люди, для которых ничего не значат карты, как говорил писатель-мореход Джозеф Конрад, сам с истинной любовью их чертивший, «сумасбродные, но в общем интересные выдумки». Для каждого, кто имеет глаза и хоть на грош воображения, при взгляде на карту всегда заманчиво дать волю своей фантазии.
Соблазн дать волю воображению при взгляде на карту нарисованного им острова испытал и Стивенсон. Бросив задумчивый взгляд на его очертания, напоминавшие по контурам вставшего на дыбы дракона, ему увиделось, как средь придуманных лесов зашевелились герои его будущей книги. У них были загорелые лица, их вооружение сверкало на солнце, они появлялись внезапно, сражались и искали сокровища на нескольких квадратных дюймах плотной бумаги. Не успел он опомниться, признавался писатель, как перед ним очутился чистый лист, и он составил перечень глав. Таким образом, карта породила фабулу будущего повествования, оно уходит в нее корнями и выросло на ее почве. Нечасто, наверное, карте отводится такое знаменательное место в книге, и все-таки, по мнению Стивенсона, карта всегда важна, безразлично, существует ли на бумаге или ее держат в уме. Писатель должен знать свою округу, будь она настоящей или вымышленной, как свои пять пальцев. Конечно, лучше, чтобы все происходило в подлинной стране, которую вы прошли из края в край и знаете в ней каждый камешек. Но и когда речь идет о вымышленных местах, тоже не мешает сначала запастись картой.
Итак, карта придуманного Острова сокровищ побудила взяться за перо, подарила минуты вдохновения, когда слова сами собой идут на ум. Впрочем, поначалу Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанной, как сейчас говорят, на массового читателя. Рукопись предназначалась исключительно для пасынка и рождалась как бы в процессе литературной игры. Причем уже на следующий день, когда автор после второго завтрака в кругу семьи прочитал начальную главу, в игру включился третий участник — старый Стивенсон. Взрослый ребенок и романтик в душе, он тотчас загорелся идеей отправиться к берегам далекого острова. С этого момента, свидетельствовал Стивенсон, отец, учуяв нечто родственное по духу в его замысле, стал рьяным сотрудником автора. И когда, например, потребовалось определить, что находилось в матросском сундуке Билли Бонса, он едва ли не целый день просидел, составляя опись его содержимого. В сундуке оказались: квадрант, жестяная кружка, несколько плиток табаку, две пары пистолетов, старинные часы, два компаса и старый лодочный чехол. Весь этот перечень предметов Стивенсон целиком включил в рукопись.
Но, конечно, как никого другого, игра увлекла Ллойда. Он был вне себя от затеи своего отчима, решившего сочинить историю пиратов. Затаив дыхание, мальчик вслушивался в рассказ о путешествии к острову, карта которого лежала перед ним на столике. Однако теперь эта карта, несколько дней назад рожденная фантазией отчима, выглядела немного по-иному. На ней были указания широты и долготы, обозначены промеры дна, еще четче прорисованы названия холмов, заливов и бухт. Как и положено старинной карте, ее украшали изображения китов, пускающих фонтанчики, и корабликов с раздутыми парусами. Появилась и «подлинная» подпись зловещего капитана Флинта, мастерски выполненная сэром Томасом. Словом, на карте возникли новые скрупулезно проработанные топографические и прочие детали, придавшие ей еще большую достоверность. Теперь можно было сказать, что это самая что ни на есть настоящая пиратская карта, которая встречалась в описаниях плаваний знаменитых королевских корсаров Рели, Дампьера, Роджерса и других. Ллойду казалось, что ему вместе с остальными героями повествования предстоит принять участие в невероятных приключениях на море и на суше, а пока что он с замиранием сердца слушает байки старого морского волка Билли Бонса о штормах и виселицах, о разбойничьих гнездах и пиратских подвигах в Карибском, или, как он называет его, Испанском, море, о беспощадном и жестоком Флинте, о странах, где жарко, как в кипящей смоле, и где люди мрут, будто мухи, от Желтого Джека — тропической лихорадки, а от землетрясений на суше стоит такая качка, словно на море.
Первые две главы имели огромный успех у мальчика. Об этом автор сообщал в тогда же написанном письме своему другу У.-Э. Хенли. В нем он также писал: «Сейчас я занят одной работой, в основном благодаря Ллойду… пишу «Судовой повар, или Остров сокровищ. Рассказ для мальчишек». Вы, наверно, удивитесь, узнав, что это произведение о пиратах, что действие начинается в трактире «Адмирал Бенбоу» в Девоне, что оно про карту, сокровища, о бунте и покинутом корабле, о прекрасном старом сквайре Трелони и докторе и еще одном докторе, о поваре с одной ногой, где поют пиратскую песню «Ио-хо-хо, и бутылка рому», — это настоящая пиратская песня, известная только команде покойного капитана Флинта…»
По желанию самого активного участника игры- Ллойда в книге не должно было быть женщин, кроме матери Джима Хокинса. И вообще, по словам Стивенсона, мальчик, бывший у него под боком, служил ему пробным камнем. В следующем письме к Хенли автор, явно довольный своей работой, выражал надежду, что и ему доставит удовольствие придуманная им «забавная история для мальчишек».
Тем временем игра продолжалась. Каждое утро, едва проснувшись, Ллойд с нетерпением ожидал часа, когда в гостиной соберутся все обитатели «дома покойной мисс Мак-Грегор» и Стивенсон начнет чтение написанных за ночь новых страниц.
С восторгом были встречены главы, где говорилось о том, как старый морской волк, получив черную метку, «отдал концы», после чего наконец в действие вступила нарисованная карта. Ее-то и пытались тщетно заполучить слепой Пью с дружками. К счастью, она оказалась в руках доктора Ливси и сквайра Трелони. Познакомившись с картой таинственного острова, они решили плыть на поиски клада. Ллойд, в душе отождествлявший себя с Джимом, бурно возликовал, когда узнал, что мальчик пойдет на корабль юнгой. Впрочем, иначе и быть не могло — ведь по просьбе участников приключения именно он и должен был рассказать всю историю с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова.
И вот быстроходная и изящная «Испаньола», покинув Бристоль, на всех парусах идет к Острову сокровищ. Румпель лежит на полном ветре, соленые брызги бьют в лицо, матросы ставят бомкливер и грот-брамсель, карабкаются, словно муравьи, по фок-мачте, натягивают шкоты. А сквозь ревущий ветер слышатся слова старой пиратской песни: «Йо-хо-хо, и бутылка рому…»
Так в атмосфере всеобщей заинтересованности, будто сама собой рождалась рукопись будущего «Острова сокровищ». Не было мучительного процесса сочинительства, признавался позже Стивенсон, приходилось лишь спешить записывать слова, чтобы продолжить начатую игру. Вот когда в полной мере проявилась давняя его страсть придумывать и связывать воедино несуществующие события. Задача заключалась в том, чтобы суметь вымысел представить в виде подлинного факта.
Подобных примеров, когда поводом рождения романа, рассказа или стихотворения служили самые, казалось бы, неожиданные причины, в том числе и игра, можно немало найти в истории литературы.
Однажды осенним дождливым вечером весь промокший Тютчев, вернувшись домой, бросился записывать стихотворение «Слезы людские», рожденное под шум дождя. Или вот еще пример. Гете в порыве вдохновения, охватившего его при виде горного пейзажа, записал углем прямо на двери охотничьего домика на горе Кикельхан в Тюрингском лесу знаменитые строки, переведенные Лермонтовым: «Горные вершины спят во тьме ночной…»
Чтобы развлечь больную жену, Я. Потоцкий начал для нее сочинять историю, которая потом стала известна под названием «Рукопись, найденная в Сарагоссе». В результате пари появился роман Д.-Ф. Купера «Шпион».
Неожиданно, во время прогулки, родился рассказ о приключениях девочки Алисы в Стране чудес. Его автор Льюис Кэролл и не помышлял о создании книги. Просто в тот день ему захотелось развлечь удивительной историей трех девочек, одну из которых, кстати, звали Алиса. Для этого он и придумал своеобразную литературную игру и сочинил сказку о ее путешествии под землю. Много лет спустя другой писатель, Юрий Олеша, также ради девочки, которая жила в одном из московских переулков, придумал прелестную сказку «Три толстяка» и, так же как и Льюис Кэролл, подарил этой девочке свой роман-сказку с посвящением.
Из литературной игры родилась и сказка Лимана Фрэнка Баума. Произошло это так. Обычно во время «семейного часа» писатель по просьбе своих детей выдумывал для них разные сказочные истории. Чаще всего их действие происходило в волшебной стране. На вопрос, как она называется, писатель ответил: «Оз». Это название он нашел на книжной полке, там, где в алфавитном порядке стояли переплетенные бумаги его архива с указанием на корешках: А-, О-. Вскоре, в 1889 году, появилась книга «Мудрец из страны Оз», известная у нас под названием «Волшебник изумрудного города» в пересказе А. Волкова. СтехпоркнигаЛ.-Ф. Баума стала одной из самых популярных у ребят всего мира.
Вернемся, однако, к словам Стивенсона о том, что его знаменитая повесть о поисках сокровищ рождалась как бы сама собой и что события, происходящие на ее страницах, так же как и придуманная им карта, —лишь плод писательской фантазии. Следует ли в этом случае доверять словам автора? Действительно ли «Остров сокровищ», как говорится, чистая выдумка? В том, что это не так, можно убедиться, обратившись к самому роману. Прежде всего в книге довольно отчетливо просматривается литературный фон, на что, собственно, указывал и сам автор.
Какие же источники помогли Стивенсону в создании романа и как он ими воспользовался? На этот счет мы располагаем, как было сказано, личным признанием писателя. В его творческой лаборатории были использованы и переработаны застрявшие в памяти места из многих книг о пиратах, бунтах на судах и кораблекрушениях, о загадочных кладах и таинственных «обветренных, как скалы» капитанах. Потому-то книга и рождалась «сама собой», при столь безмятежном расположении духа, что еще до того, как начался процесс сочинительства, был накоплен необходимый «строительный материал», в данном случае преимущественно литературный, который засел в голове и как бы непроизвольно, в творчески переосмысленном виде выплеснулся на бумагу. Иначе говоря, когда Стивенсон в приливе вдохновения и безмятежном расположении духа набрасывал страницы будущего романа, он и не догадывался о том, что невольно кое-что заимствует у других авторов. Все сочинение казалось ему тогда, говоря его же словами, первородным, как грех, «все принадлежало мне столь же неоспоримо, как мой правый глаз». Он вправе был думать, что герои его повествования давно уже независимо жили в его сознании и только в нужный час отыскались в кладовой памяти, выступили на сцену и зажили на ее подмостках, начали действовать.
А между тем оказалось, что, сам того не желая, писатель создавал свою книгу под влиянием предшественников. По этому поводу написано немало исследований. Не удовлетворившись его собственным признанием, литературоведы пытались уточнить, у кого и что из своих собратьев заимствовал Стивенсон, под чьим влиянием в романе возникла эта пестрая толпа удивительно своеобразных и ярких персонажей.
Впрочем, для начала уточним, в чем же «признался» сам автор.
Нисколько не скрывая, Стивенсон засвидетельствовал, что на него оказали влияние три писателя: Даниель Дефо, Эдгар По и Вашингтон Ирвинг. Не таясь, он открыто заявил, что попугай перелетел в его роман со страниц «Робинзона Крузо», а скелет-«указатель», несомненно, заимствован из рассказа Эдгара По «Золотой жук». Но все это мелочи, ничтожные пустяки, мало беспокоившие писателя. В самом деле, никому не позволено присваивать себе исключительное право на скелеты или объявлять себя единовластным хозяином всех говорящих птиц. К тому же «краденое яблочко всегда слаще», шутил в связи с этим Стивенсон. Если же говорить серьезно, то его совесть мучил лишь долг перед Вашингтоном Ирвингом. Но и его собственностью он воспользовался, сам того не ведая. Точнее говоря, на Стивенсона повлияли впечатления, полученные от когда-то прочитанных книг. В этом смысле «Остров сокровищ» и был навеян литературными источниками, в частности новеллами Ирвинга.
Однако что значит — «писатель воспользовался» или «автор заимствовал»? Примеров вольного или невольного заимствования можно привести сколько угодно. Еще Плавт заимствовал сюжеты, позже с таким же успехом их перенимали и у него. Вспомните «Комедию ошибок» Шекспира — это не что иное, как искусная разработка сюжета плавтовских «Близнецов». В подражании (что тоже иногда можно расценить как заимствование) и в отсутствии собственного воображения обвиняли Вергилия за то, что находили в «Энеиде» «параллели» с Гомером. От этой, говоря словами Ана-толя Франса, неприятности не были избавлены Вольтер и Гете, Байрон и многие другие. Находились и такие, кто даже Пушкина пытался обвинить в плагиате. Чтобы избежать подобных обвинений в заимствовании, А.-Р. Лесаж, например, прямо посвятил своего «Хромого беса» испанскому писателю Геваре (к тому времени умершему), взяв у него и заглавие, и замысел, в чем всенародно и признался. Однако, уступая часть этой выдумки, Лесаж намекал, что, возможно, найдется какой-нибудь греческий, латинский или итальянский писатель, который имел бы основание оспаривать авторство и у самого Гевары.
На Востоке, в частности в Китае и Японии, свободное заимствование сюжета было широко распространенным явлением и не считалось плагиатом. И многие посредственные литераторы с их сюжетами, как считал тот же Франс, проходя через руки гениев, можно сказать, только выигрывали от этого. Конечно, лишь в том случае, если, заимствуя, придают новую ценность старому, пересказывая его на свои лад, что блестяще удавалось, скажем, Шекспиру и Бальзаку. Воображение последнего, пишет А. Моруа, начинало работать только тогда, когда другой автор, пусть даже второстепенный, давал ему толчок.
В непреднамеренном заимствовании признался однажды Байрон. Спеша отвести от себя обвинение в злостном плагиате, он пояснил, что его 12-я строфа из «Осады Коринфа», очень схожая с некоторыми строчками поэмы Кольриджа «Кристабель», которую он слышал до того, как она была опубликована, — непроизвольный «плагиат».
Бывали случаи, когда один автор брал «имущество» у другого, не подозревая, в отличие от Лесажа, что тот, в свою очередь, занял его у коллеги. И каждый из этих авторов мог бы заявить вслед за Мольером: «Беру мое там, где его нахожу».
Одним словом, если говорить о заимствовании, то следует признать, что это — способность вдохновляться чужими образами и создавать, а точнее, пересоздавать на этой основе произведения, часто превосходящие своими достоинствами первоисточник. Справедливо сказано: все, что гений берет, тотчас же становится его собственностью, потому что он ставит на это свою печать.
Неповторимая стивенсоновская печать стоит и на «Острове сокровищ». Что бы ни говорил сам автор о том, что весь внутренний дух и изрядная доля существенных подробностей первых глав его книги навеяны Ирвингом, произведение Стивенсона абсолютно оригинально и самостоятельно. И не вернее ли будет сказать, что оба они, Ирвинг и Стивенсон, как, впрочем, и Эдгар По, каждый пользовался в качестве источника старинными жизнеописаниями пиратов — об их похождениях и дерзких набегах, о разбойничьих убежищах и флибустьерской вольнице, ее нравах и суровых законах.
К тому времени в числе подобных «правдивых повествований» наиболее известными и популярными были два сочинения: «Пираты Америки» А. О. Эксквеме-лина — книга, написанная участником пиратских набегов и изданная в 1678 году в Амстердаме, но очень скоро ставшая известной во многих странах и не утратившая своей ценности до наших дней; и «Всеобщая история грабежей и убийств, совершенных наиболее известными пиратами», опубликованная в Лондоне в 1724 году неким капитаном Чарлзом Джонсоном, а на самом деле, как предполагают, скрывшимся под этим именем Даниелем Дефо, выступившим в роли компилятора известных ему подлинных историй о морских разбойниках.
В этих книгах рассказывалось о знаменитых пените-лях морей Генри Моргане и Франсуа Лолоне, об Эдварде Тиче по кличке Черная Борода и о Монбаре, прозванном Истребителем, — всех не перечислить. И неслучайно к этим же надежным первоисточникам прибегали многие сочинители «пиратских» романов. В частности, А.-О. Эксквемелин натолкнул В.-Р. Паласио, этого «мексиканского Вальтера Скотта», на создание его знаменитой книги «Пираты Мексиканского залива», увидевшей свет за несколько лет до «Острова сокровищ». По этим источникам, возможно, корректировал свою книгу о приключениях флибустьера Бошена французский писатель Лесаж; они, возможно, вдохновляли Байрона на создание образов романтических бунтарей; Купер пользовался ими, когда писал о Красном Корсаре в одноименном романе, а также при работе над своей последней книгой «Морские львы», где вывел жадного Пратта, ради клада пиратов отправившегося в опасное плавание; Конан Дойл — сочиняя рассказ о кровожадном пирате Шарки, а Сабатини — повествуя об одиссее капитана Влада. К свидетельству А.-О. Эк-сквемелина, как и к сочинению Ч. Джонсона, прибегали и другие прославленные авторы, писавшие в жанре морского романа, в том числе В. Скотт и Ф. Марриет, Э. Сю и Г. Мелвилл, Майн Рид, К. Хаггард и Д. Конрад. Со слов самого Стивенсона известно, что у него имелся экземпляр джонсонских «Пиратов» — одно из наиболее поздних изданий. В связи с этим справедливо писали о влиянии этой книги на создателя «Острова сокровищ». Известный в свое время профессор Ф. Херси не сомневался в этом и находил тому подтверждения, сопоставляя факты, о которых идет речь в обеих книгах.
Немало полезного, помимо попугая, Стивенсон нашел и у Даниеля Дефо в его «Короле пиратов»— описании похождений Джона Эйвери, послужившего к тому же прототипом дефовского капитана Сингльто-на, о котором речь еще впереди.
Что касается В. Ирвинга, то, действительно, некоторые его новеллы из сборника «Рассказы путешественника» повлияли на Стивенсона, особенно те, что вошли в раздел «Кладоискатели». Во всех новеллах этой части сборника речь идет о сокровищах капитана Кидда. Одна из них так и называется «Пират Кидд», где говорится о захороненном разбойничьем кладе. В другой, «Уолферт Веббер, или Золотые сны», рассказывается о реальном историческом персонаже, который, наслушавшись от бывшего пирата Пичи Проу сказок о золоте Кидда, решил отправиться на его поиски.
В этом смысле, можно сказать, легенда о поисках сокровищ капитана Кидда направила фантазию Стивенсона на создание романа о зарытых на острове миллионах, как направила она воображение Эдгара По, автора новеллы «Золотой жук», использовавшего в ней «множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье».
Сегодня без упоминания имени Уильяма Кидда не обходится ни одна книга, посвященная истории морского пиратства. Его трагическая судьба — пример того, как в погоне за наживой тогда еще молодые колонизаторы уже были готовы на любое коварство, на подлог, клевету, на убийство. А сокровища, по преданию, зарытые им на одном из островов близ американского берега, почти три столетия разжигают аппетиты кладоискателей. Еще бы, ведь клад Кидда одни оценивают в семьсот тысяч фунтов стерлингов или в два миллиона долларов, другие считают, что им было спрятано ценностей на десятки миллионов долларов.
Так, согласно данным английского Адмиралтейства, клад Кидда состоит в основном из драгоценностей, захваченных у индийского императора Аурангзеба, и оценивается в триста миллионов.
Кто же был этот капитан Кидд? Чем он так прославился? И действительно ли где-то зарыл свои сокровища?
История его началась в сентябре 1696 года, когда быстроходная тридцатипушечная «Эдвенчэр гэлли» («Галера приключений») покидала нью-йоркский порт. На борту ее находилось сто пятьдесят человек команды во главе с капитаном Киддом.
Куда и зачем направлялось это судно, которому вскоре предстояло стать знаменитым на всех морях? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего рассказать о том, что предшествовало этому рейду.
Примерно за год до выхода в море «Эдвенчэр гэлли» Лондон был полон тревожных слухов о некоем пирате Джоне Эйвери, буквально терроризировавшем воды Индийского океана. Ни один корабль не мог без риска пересечь его. Дерзкий пират одинаково не жаловал ни торговые суда индийских купцов, ни корабли, принадлежавшие соотечественникам.
Однажды он захватил большое судно, на котором плыли близкие родственники и видные сановники самого Великого Могола — индийского императора. В плену оказались не только наложницы восточного владыки и его сокровища. В руки пирата попала красавица дочь повелителя Индии. Вместо того чтобы возненавидеть своего тюремщика, она пылко полюбила молодого и галантного джентльмена удачи и будто бы даже добровольно стала его женой.
Легенда о романтической любви морского разбойника и индийской принцессы получила тогда широкое распространение. Узнав о похождениях дочери, отец излил свой гнев на представителях английской Ост-Индской компании, потребовав немедленно изловить наглого «зятя». Иначе, грозил властелин, он уничтожит все имущество компании на индийской территории, а заодно порвет и торговые связи с ней. В Лондоне не на шутку встревожились. И приняли решение покончить с влюбленным пиратом. За голову Эйвери назначили награду.
Теперь для исполнения решения требовалось найти человека, который бы возглавил экспедицию против того, из-за кого лондонские толстосумы могли лишиться своих барышей. Стали подыскивать подходящую кандидатуру. А тем временем было создано предприятие, своеобразный синдикат, который должен был финансировать будущую экспедицию. В него вошли не только министры, но и сам Вильгельм III не погнушался внести три тысячи фунтов, надеясь на изрядную прибыль в случае, если удастся покончить с Эйвери и другими морскими разбойниками. В числе «пайщиков» оказался и Ричард Беллемонт, только что назначенный губернатором Нью-Йорка, тогда главного города английской заморской колонии. Именно Беллемонт, которому предстояло сыграть одну из главных ролей во всей этой истории, предложил капитана Кидда в качестве руководителя экспедиции. И вскоре капитан и судовладелец из Нью-Йорка Уильям Кидд держал в своих руках каперскую грамоту. Что это значило?
С конца XV века действовал особый способ борьбы с пиратами. Придумал его Генрих VII. Заключался он в следующем. Капитаны кораблей, которые желали на свой страх и риск бороться с морскими разбойниками (к которым в военное время причисляли и корабли противника), получали на это королевскую грамоту. По существу это был тот же разбой, но «узаконенный». Причем нередко суда для этого снаряжались за счет «пайщиков», которые по условиям получали часть добычи. Этим источником дохода не брезговали даже особы королевской крови. Например, сама Елизавета I охотно вкладывала средства в пиратскую фирму Френсиса Дрейка.
В период военных действий грамоты на узаконенный разбой раздавали особенно щедро. Право получить ее имел всякий, кто желал вести партизанскую войну на море против кораблей противника, в том числе и торговых. Тех, кого завербовали, именовали корсарами, или каперами, ее королевского величества. В число их в эпоху нескончаемых войн с Испанией за колонии англичане вербовали храбрейших из пиратов. Патент на ведение войны против вражеских кораблей имели такие знаменитые пираты, как Хоукинс, Дрейк, Гринвилл и многие другие, заслуги которых нередко оплачивались дворянскими титулами. И бывшие флибустьеры, то есть «свободно грабившие», становились орудием в осуществлении военных планов европейских политиков. Однако случалось, что, прикрываясь каперской грамотой, пират оставался морским разбойником, по-прежнему без разбора нападая на чужих и своих. Когда об этом становилось известно, капера объявляли пиратом, а это означало, что, попади он в плен, его ждет виселица.
В каперской грамоте, полученной Киддом, говори-лось о том, что ему дозволено захватывать «суда и имущество, принадлежащие французскому королю и его подданным», поскольку Англия тогда находилась в состоянии войны с Францией. В то же время ему поручалось уничтожать пиратов и их корабли на всех морях. С этим документом, подписанным самим королем, и отправился Кидд в долгое, опасное плавание.
Согласился ли он на роль капера добровольно или его вынудили обстоятельства? Точно ответить на этот вопрос, пожалуй, нет возможности. Скорее всего, его вынудили участники «синдиката». Их вполне устраивал этот опытный моряк и добропорядочный семьянин, у которого в Нью-Йорке остались бы заложниками жена и дочь.
По условиям заключенного втайне соглашения Кидду и команде причиталась лишь пятая часть добычи, в то время как обычно на каперских судах команда получала половину захваченных трофеев. Одним словом, капитан Кидд уходил в рискованное плавание, надо думать, без особого энтузиазма и надежды на успех. К тому же команда подобралась разношерстная, среди матросов было немало сомнительных типов. И еще в порту доброжелатели говорили капитану о том, что ему будет трудно удержать этот сброд в повиновении.
Поначалу плавание проходило без особых происшествий. Обогнув мыс Доброй Надежды, «Эдвенчэр гэлли» вышла на просторы Индийского океана. Дни шли за днями, но ни пиратов, ни вражеских французских кораблей встретить не удавалось. Не пришлось повстречаться и с Джоном Эйвери. И вообще, что стало с влюбленным пиратом, осталось загадкой. Ходили слухи, будто он бросил разбойничье ремесло, поселился под чужим именем в Англии, где пытался сбыть награбленные драгоценности. Для этого связался с шайкой мошенников, которые и обобрали его до нитки.
Между тем запасы провианта у Кидда уменьшались, начались болезни, а с ними и недовольство матросов. Но вот наконец на горизонте показался парус. Капер пустился в погоню. К досаде матросов, это оказалось английское судно. Кидд, проверив документы, позволил ему следовать дальше. Решение капитана, однако, пришлось не по душе многим из команды. Особенно возмущался матрос Мур, требовавший захватить и ограбить судно, плывшее под британским флагом. Нечего, мол, быть чересчур разборчивыми, кричал он, мы же нищие. Пора набивать карманы добычей. По английским законам это был мятеж. Чтобы он не охватил всю команду, надо было действовать быстро и решительно. Капитан схватил оказавшуюся под рукой бадью, и бунтовщик замертво упал на палубу.
Но семена возмущения, брошенные Муром, вскоре проросли вновь.
Несмотря на то что с тех пор Кидду везло — он повстречал и ограбил немало судов, — матросы продолжали роптать. Их недовольства не унял ни захват двух французских судов, ни удачная встреча с «Кведаг мерчэнт» — большим кораблем с грузом почти на пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Капитан Кидд, можно сказать, с чистой совестью обобрал неприятеля, так как среди захваченных судовых документов были обнаружены французские паспорта. Это означало, что часть груза, а возможно, и все судно принадлежало французам.
К этому моменту стало ясно, что «Эдвенчэр гэлли» нуждается в ремонте. Чиниться отправились на Мадагаскар, захватив с собой и два трофейных судна. Здесь и произошли события, в которых до сих пор не все еще ясно. Несомненно одно — команда взбунтовалась, сожгла два из трех судов, после чего присоединилась к пиратскому капитану Калифорду. С немногими верными матросами и частью добычи в тридцать тысяч фунтов Кидду удалось на «Кведаг мерчэнт» уйти от преследования.
Спустя несколько месяцев потрепанное штормами судно Кидда бросило якорь в гавани одного из островов Карибского моря. Матросы, посланные на берег за пресной водой, вернулись с дурной вестью. Они сообщили, что капитан Кидд объявлен пиратом.
Решив, что произошло недоразумение, уверенный в своей невиновности, Кидд поспешил предстать перед губернатором Нью-Йорка, членом «синдиката» Белле-монтом. Правда, на всякий случай накануне визита он закопал на острове Гардинер кое-какие ценности.
Кидд был поражен, когда услышал список своих «преступлений». Он-де грабил всех без разбора и захватил множество кораблей, проявлял бесчеловечную жестокость по отношению к пленникам, скопил и укрыл огромное богатство. Узнал он и о том, что на его розыски были снаряжены военные корабли и что всем матросам, плававшим с ним, кроме него самого, объявили об амнистии. Так родилась легенда о страшном пирате Кидде, на самом деле ничего общего не имеющая с подлинным капитаном.
Дальше события развивались в соответствии с инструкцией, полученной из Лондона. В ней предписывалось «указанного капитана Кидда поместить в тюрьму, заковать в кандалы и запретить свидания…».
Корабль его был конфискован. Когда в надежде на богатую добычу портовые чиновники спустились в его трюм, он оказался пустым. Сокровища исчезли.
В мае 1701 года, после того как Кидда доставили в английскую столицу, состоялся суд, скорый и неправый. Подсудимому отказали даже в праве иметь защитника и выставить свидетелей. Несмотря ни на что, Кидд пытался защищаться, утверждая, что все захваченные им корабли были неприятельскими, на них имелись французские документы. «Где же они?»— спрашивали судьи. Кидд заявил, что передал их Белле-монту. Тот же наотрез отрицал этот факт. Стало ясно, что бывшие партнеры по «синдикату» предали капитана. Почему? Видимо, опасаясь разоблачения со стороны оппозиции, которая без того усилила нападки на министров тогдашнего правительства за содействие «пиратам».
Уильям Кидд так и не признал себя пиратом. Его повесили 23 мая 1701 года. А через два с лишним столетия в архиве были найдены те самые документы, от которых зависела судьба Кидда. Кто-то, в чьи интересы не входило спасать какого-то капитана, надо полагать, специально припрятал их тогда.
Злосчастные документы, хотя и с опозданием, нашлись, а сокровища Кидда? Их еще тогда же пытался захватить Беллемонт. Для этого он поспешил допросить матросов с «Кведаг мерчэнт». Но они, узнав об аресте своего капитана, сожгли корабль и скрылись.
С тех пор, порожденный легендой о «страшном пирате», образ капитана Кидда вдохновляет писателей, а его призрачные сокровища не дают покоя кладоискателям — ремеслу столь же древнему, как и сам обычай прятать ценности.
Среди легенд о кладе Кидда бытовал и рассказ о том, как он будто бы зарыл сокровища на одном из островов у берегов Юго-Восточной Азии. Когда сундуки с драгоценностями были надежно спрятаны, Кидд вместе со своим помощником-лейтенантом убил всех матросов, которые помогали ему. После этого трупы убитых были распяты на деревьях таким образом, что правые их руки указывали направление в сторону клада. Не избежал общей печальной участи и лейтенант. Он был убит и распят у самого берега. Тогда-то остров якобы и стали называть Островом скелетов. Что касается клада, то его до сих пор так и не удалось найти, хотя и не раз пытались.
В наши дни поиски сокровищ поставлены на широкую ногу. В Париже, Лондоне и Нью-Йорке даже существуют «международные клубы кладоискателей». Члены их, согласно уставу, ищут зарытые или поглощенные морем сокровища. Они фанатически верят в свое счастье и с убежденностью одержимых рыщут по морям и островам, где будто бы похоронены в пучине или в земле драгоценности. Нельзя сказать, что им абсолютно не везет. Время от времени стражи подземных кладовых вознаграждают их усилия. В 1935 году на острове Ротэн в Гондурасском заливе были найдены пять сундуков, полных золота, видимо, зарытых пиратом Генри Морганом в 1671 году. Несколько раньше, в 1928 году, на острове Плам нашли железный сундук с драгоценностями, принадлежавшими пирату Черная Борода. Считается, что им же спрятано на островке Амелия у северо-восточного побережья Флориды еще чуть ли не три десятка кладов. К разряду «золотых» относится и островок Мона (между Гаити и Пуэрто-Рико), где в 1939 году нашли клад пирата У. Дженнингса.
Но, пожалуй, самой знаменитой находкой был и остается так называемый «золотой колодец», обнаруженный еще в конце XVIII века. Правда, и поныне не удалось извлечь на поверхность ни одной золотой монеты из клада, спрятанного, как считают, на дне этого колодца. Тем не менее, когда в 1795 году трое мальчишек на острове у восточного побережья Канады случайно наткнулись у подножия старого дуба на странный колодец, никто не сомневался, что наконец-то найдены следы загадочного клада Кидда. Ведь в то время, по словам Вашингтона Ирвинга, его имя, «словно талисман, воскрешало в памяти тысячи необыкновенных историй». Кто-то вспомнил, что Кидд бывал в этих местах и, вполне возможно, спрятал здесь, на одном из забытых клочков земли, свои сокровища.
Между тем на островке, который стали называть Оук айленд (Остров дуба), кладоискатели принялись за дело. Однако очень скоро стало ясно, что добыть клад не так-то просто. Под дубом с надпиленным суком, на котором мальчишки-первооткрыватели нашли подвешенный старый корабельный блок, была расположена шахта глубиной в тридцать метров. На дне этого сооружения, пробиться сквозь которое, скажу сразу, так и не удалось и по сей день, покоятся сокровища, оцениваемые в десятки миллионов долларов. Многие препятствия преграждают путь к богатству. Щиты из красного канадского дуба, как бы перекрывающие двухметровое жерло шахты, каменные плиты, но, главное, затопившая ее вода стоят на страже пиратского золота.
Как оказалось, под островом расположена целая система подземных туннелей и водопроводных каналов. Побуждаемые жадностью, желанием поскорее добраться до золота, кладоискатели разрушили эту систему. Тогда-то вода и затопила и «золотой колодец», и ведущие к нему подземные туннели.
Единоличные усилия первых, посвященных в тайну открытия кладоискателей ни к чему не привели, хотя попытки пробиться к сокровищу предпринимались постоянно с тех пор, как были обнаружены его следы. С середины прошлого века тайна «золотого колодца» перестала быть достоянием одиночек. Об острове стали широко писать газеты. Сообщения журналистов подлили масла в огонь. Одна за другой создавались компании по извлечению богатств: «Сокровища острова Оук», «Оук Эльдорадо», «Компания Галифакс», «Тритон эллайенс лимитед».
С упорством, достойным лучшего применения, на поиски пиратского золота пускались одержимые манией разбогатеть. Компании организовывали специальные экспедиции, надеясь с помощью новейших научных методов и современной землеройной техники добраться до спрятанного золота.
Среди тех, кто пытался проникнуть в секрет колодца, был, в частности, Франклин Рузвельт, будущий президент США, который с этой целью еще молодым πεловеком побывал на острове. Но и объединенные усилия людей и капиталов не давали ощутимых результатов. Тайна «золотого колодца» оставалась неразгаданной. И даже в наши дни, спустя почти двести лет после того, как обнаружили удивительное сооружение и начали раскопки, кладоискатели тщетно пытаются извлечь из земли острова Оук несметные сокровища пирата Кидда.
Впрочем, верно ли, что легендарный пират зарыл свое золото именно здесь, на Оук айленд? Есть ли какие-либо подтверждения этого? Сторонники того, что на дне «золотого колодца» покоятся сундуки с драгоценностями Кидда, накопили за многие годы немало вещественных свидетельств. Они безапелляционно отвергают любые другие версии. Скажем, что на Оук спрятано золото инков, вывезенное из Перу, что там покоятся (были и такие суждения) драгоценности казненной французской королевы Марии Антуанетты или что «колодец» — своего рода коммунальный банк пиратов, куда вносил пай каждый из капитанов-флибу-стьеров. Существует и такое предположение, что на Оук английские монахи из аббатства при соборе Сент-Эндрю, после того как парламент ликвидировал монастыри, а имущество их было конфисковано, в 1560 году спрятали здесь свои несметные сокровища — золото, бриллианты, произведения искусства.
Какие же доводы приводят в пользу того, что в «золотом колодце» сокрыт клад Кидда?
Для начала вас познакомят с некоторыми денежными расчетами. Напомнят, что в ночь перед казнью Кидд в надежде купить себе жизнь признался, будто он обладает огромной суммой в несколько сотен тысяч фунтов. Но ведь из них всего лишь четырнадцать тысяч были найдены после его смерти на острове Гардинер. Где же остальное золото? Не следует ли из этого, что Кидд зарыл свое сокровище на острове Оук задолго до того, как стал капером? А это значит, что, прежде чем отправиться в плавание на «Эдвенчер гэлли», он уже был самым настоящим пиратом и награбил несметные богатства.
Но что свидетельствует в пользу того, что на Оук айленд зарыто именно его, Кидда, золото? Как что! А карты, найденные в потайном отделении сундука?
Действительно, в начале 30-х годов нашего столе-тая некий коллекционер Палмер, собирающий пиратские реликвии, приобрел сундук с надписью: «Уильям и Сарра Кидд, их сундук». В секретном отделении оказались четыре старинные карты с изображением какого-то острова и загадочными цифрами. По очертаниям рисунок казался похожим на остров Оук.
Газеты и журналы под заголовками «Тайна сокровища капитана Кид да» публиковали статьи, описывающие сенсационную находку. Не было недостатка и в охотниках расшифровать загадочные надписи на обнаруженных картах. И все чаще остров Оук стали называть островом Кидда.
От журналистов решил не отставать Горальд Уилкинс, быстро состряпавший в 1935 году книжонку «Капитан Кидд и его Остров скелетов». В ней он приводил зашифрованную карту Кидда, якобы подлинную, на самом же деле ничего общего не имеющую с найденными в сундуке. Как ни странно, многие этот вымысел приняли за вполне достоверное свидетельство. Находили также, что шифр напоминает описанный в новелле «Золотой жук» Эдгаром По, который, кстати говоря, использовал в ней слышанные им в молодости легенды о шифре, с помощью которого можно отыскать клад пирата Черная Птица.
Однако что бы ни говорили сторонники версии клада Кидда на острове Оук, какие бы доводы ни приводили, только раскопки «золотого колодца» могут поставить точку во всей этой таинственной истории.
Не так давно одному из охотников за золотом Кидда, можно сказать, повезло. Некий Д. Бленкеншип оказался более удачливым, чем многочисленные его предшественники (некоторые из них погибли в шахте, не говоря о тех, кто разорился). Ему удалось с помощью телекамеры, опущенной на большую глубину, увидеть в «золотом колодце» что-то вроде большого ящика, установленного посредине какого-то помещения. Возможно, это и есть сокровище? Во всяком случае, в 1972 году Бленкеншип заявил, что в скором времени поразит мир своим открытием. Пока же несметные богатства острова Оук продолжают дразнить воображение кладоискателей.
Помимо легенды о золоте Кидда, существуют и другие загадки о неразысканных пиратских кладах, зарытых на островах Карибского моря, Тихого океана, у берегов Африки и даже далекой Австралии, где на одном из островков под названием Григан зарыт пиратский клад, который тщетно разыскивают уже многие годы. Желающие могут убедиться в этом, раскрыв «Атлас сокровищ», изданный дважды, в 1952 и 1957 годах, в Нью-Йорке. В этом своеобразном пособии для рьяных кладоискателей к их услугам описание более трех тысяч кладов, покоящихся в пучине морской и на суше. Есть на страницах этого «путеводителя» для одержимых мечтой разбогатеть и карта острова Кокос.
Этот клочок суши у побережья Коста-Рики пользуется особой популярностью кладоискателей. Здесь побывало пятьсот экспедиций, на которые были затрачены миллионы. Но считалось, что Кокос — «остров сокровищ» — с лихвой компенсирует эти затраты. Еще бы, ведь в земле его зарыли свои богатства несколько знаменитых флибустьеров, превратив остров в своеобразный «пиратский сейф».
Первым облюбовал это местечко и превратил в свою базу знаменитый корсар и мореход Уильям Дампьер. Здесь же покоятся и захваченные им во время пиратских рейдов драгоценности.
В недрах острова Кокос запрятал награбленное золото и бывший английский капитан Александр Грехем, ставший морским разбойником и известный под кличкой Пират Бенито. Этот джентльмен удачи, отличавшийся особой жестокостью, за что его прозвали Кровавый Меч, захватил однажды испанский галион с золотом на сумму в тридцать миллионов долларов. Бочки с монетами и сундук с драгоценностями он спрятал в подземной пещере на берегу бухты Уэйфер. Вскоре, однако, удача отвернулась от Бенито, его повесили на рее. Тайну клада он так и унес с собой в могилу.
Третий клад, зарытый на острове Кокос — самый, пожалуй, крупный из всех, — связан с именем Скота Томпсона. Испанцы, захватив в плен этого пирата, тщетно пытались вырвать у него тайну клада. Даже под пытками он хранил молчание. Случайно оказавшись на свободе, Скот Томпсон перебрался в Канаду, где жил, собирая деньги для экспедиции на Кокос. Но осуществить ее так и не успел. Умирая, он передал карту острова с отметкой о кладе одному капитану. Тому удалось добраться до заветного острова, но воспользоваться сокровищем не пришлось — команда, узнав о цели экспедиции, потребовала разделить золото. Скаредный капитан предпочел бегство. Вновь посетить остров он так и не сумел — смерть настигла и его.
С той поры многие кладоискатели бывали на Кокосе, влекомые призрачной надеждой разбогатеть. Одними из последних, в 1962 году, сюда предприняли экспедицию три француза — журналист Жан Портель, писатель Клод Шарлье и спелеолог Робер Верн. Но и их постигла жестокая неудача — двое из них погибли, как погибали многие до этого. Остров Кокос, как и Остров дуба, не пожелал расстаться со своей тайной.
Легенда о кладе капитана Кидда направила воображение Стивенсона. Однако в рукописи, которая создавалась им в ненастные дни уходящего лета, имя Кидда лишь упоминается два-три раза. Говорится о том, что он в свое время заходил на остров, куда держит путь «Испаньола». Но хотя только и упомянутое, имя его вводит читателя в подлинную атмосферу пиратских подвигов и зарытых на острове таинственных сокровищ. Точно так же, как и рассказы Джона Сильвера— сподвижника Флинта и других действительно существовавших джентльменов удачи привносят в повествование особую достоверность. Иными словами, историко-бытовому и географическому фону Стивенсон придавал немалое значение, стремясь свой вымысел представить в виде подлинного события.
Какие же другие факты стоят за страницами книги Стивенсона? Что помогало ему сделать вымысел правдоподобным, укоренив его в реальности?
Помимо книг о пиратах, Стивенсон проявлял интерес к жизни знаменитых английских флотоводцев. И незадолго до того, как приступил к своему роману, он написал довольно большой очерк «Английские адмиралы», который был опубликован в 1878 году в журнале «Корнхилл мэгэзин», а спустя три года, в апреле 1881 года, частично в «Вирджинибус пьюериск». В этом очерке речь шла о таких «морских львах», как Дрейк, Рук, Босковен, Родни. Упоминает Стивенсон и адмирала Эдварда Хоука. Того самого «бессмертного Хоука», под начальством которого якобы служил одноногий Джон Сильвер — едва ли не самый колоритный и яркий из всех персонажей «Острова сокровищ». По его словам, он лишился ноги в 1747 году в битве, которую выиграл Хоук. В этом же сражении другой пират, Пью, «потерял свои иллюминаторы», то есть зрение. Однако, как выясняется, все это сплошная неправда. Свои увечья и долговязый Джон Сильвер, и Пью получили, совершая иные «подвиги». В то время, когда они занимались разбойничьим промыслом и плавали под черным стягом знаменитых капитанов Ингленда, Флинта и Робертса.
Кстати сказать, имена пиратов, которые действуют в романе Стивенсона, в большинстве своем подлинные, они принадлежали реальным лицам. Так, второй боцман на «Испаньоле» Израэль Хенде в свое время был канониром у пирата Черная Борода и участвовал в бунте против капитана, поплатившись за это ранением. Томас Тью или Дью, английский пират, превратился в Пью, которого затоптали насмерть у трактира «Адмирал Бенбоу» и который был вызван к жизни и снова умер в пьесе «Адмирал Гвинеи», написанной У. Хенли, другом Стивенсона. Столь же реален и Дарби Макгроу, которого призывает голос «синерожего пьяницы» Флинта, — матрос, на чьих руках он умер, опившись рома.
Небезынтересно и такое совпадение: свою рукопись Стивенсон вначале подписал «Джордж Норт»— именем подлинного капитана пиратов. Начинал свою карьеру этот флибустьер корабельным коком на капере, потом был, как и Джон Сильвер, квартирмейстером, а затем уже главарем разбойников. Когда его судно на пути к Мадагаскару перевернулось, погибли все, кроме него и негритянки, которую он спас, позже женившись на ней, как был женат на негритянке и Джон Сильвер. Впрочем, возможно, имя Джордж Норт под рукописью Стивенсона — это всего лишь намек на его северное, шотландское происхождение.
Рассказывая, сколько повидал на своем веку его попугай по кличке Капитан Флинт, Джон Сильвер, в сущности, пересказывает свою биографию: плавал с прославленным Инглендом, бывал на Мадагаскаре, у Малабарского берега Индии, в Суринаме, бороздил воды Испанского моря, высаживался на Провиденсе, в Порто-Белло. Наконец, разбойничал в компании Флинта — самого кровожадного из пиратов. Его корабль «Морж», говорит Долговязый Джон, был насквозь пропитан кровью, а золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну. Почему Флинту так долго везло в пиратском промысле? Потому, что он ни при каких обстоятельствах не менял названия своего «Моржа». В этом, по мнению Долговязого Джона, главный залог успеха. Этому правилу твердо следовал и Ингленд, плававший на «Кассандре». Тот, кто осмеливался изменить поверью, рано или поздно становился добычей рыб. Именно поэтому погибли Робертс и его люди. А ведь сначала дела Бартоломео Робертса шли как нельзя лучше. На его счету, с тех пор как он примкнул к пиратам и стал их главарем, было свыше четырехсот судов. Долгое время этот, как его прозвали, «благочестивый пират» (он пил только чай, запретил азартные игры в карты и кости, не разрешал приводить на корабль женщин) разбойничал на морских путях у Антильских островов и отличался привычкой переименовывать свои корабли: «Жемчуг» на «Королевский Джемс», «Веселое рождество» на «Фантазию», «Питербороу» на «Победу». Это, считал суеверный Джон Сильвер, и погубило Робертса. Англичанам и испанцам надоели его бесчинства. Обеспокоенные ущербом, который он наносил торговым судам, они решили действовать против него совместно. Тогда «Рой-ял форчун» — «Королевское счастье» (очередное название корабля «благочестивого пирата») покинул район, где ранее он орудовал, и объявился у берегов Канады, а затем около Африки, в Гвинейском заливе. Здесь в феврале 1722 года его и ждало возмездие. В ожесточенном сражении с английским фрегатом, настигшем судно Робертса, пираты потерпели поражение. Не спасли их ни храбрость, с которой они сражались, ни мужество командира. Во время боя Робертс смело приказал плыть прямо на неприятеля, на ходу паля в него из всех пушек. Это было отчаяние смертников. Робертс был сражен осколком ядра. Большинство же его соратников попали в плен. Всех их до единого повесили на мысе Кост-Касл, на Золотом Берегу.
Среди казненных оказался и ученый хирург, который ампутировал ногу и Джону Сильверу. (Не тот ли это второй доктор, о котором автор сообщал У. Хенли в письме, написанном в первые дни работы над рукописью? Видимо, этот второй доктор по первоначальному замыслу должен был бы играть в романе более заметную роль.) Правда, Стивенсон не назвал имени этого хирурга, который «учился в колледже и знал всю латынь наизусть». А между тем это был Питер Скадемор из Бристоля. Он плавал на судне «Мерси» и был захвачен Робертсом, как был пленен Джоном Эйвери корабельный врач Уильям Уолтерс (факт, использованный Д. Дефо в романе о приключениях капитана Сингльто-на), да и сам А.-О. Эксквемелин был хирургом и, видимо, оставался в этом качестве на службе у морских разбойников.
Обычно, попав в плен, доктор — личность, столь же необходимая, сколь и уважаемая пиратами, — не подписывал с ними никакого договора об оказании им помощи. Тем не менее и в этом случае согласно «шасси-парти», то есть соглашению о разделе добычи, предусматривалась «доля лекаря». Причем на аптеку хирургу выделяли из добычи особые деньги. О значении доктора говорят пункты того же соглашения. Так, скажем, пирату, потерявшему какую-либо конечность, за получение увечья — ампутацию ноги или руки — полагалась своего рода страховка. За потерю левой ноги причиталось четыреста реалов и четыре раба. (Не такую ли компенсацию получил и Джон Сильвер за свою ногу?) Правая «стоила» дороже: пятьсот реалов и пять рабов.
Врач, который отказывался подписывать договор с пиратами, оставлял себе возможность избежать виселицы. Считалось, что помощь, которую он оказывал преступникам, — это его долг, так сказать, дело профессиональной этики. Собственно, так и поступает в романе Ливси, заявляя Джону Сильверу, что как доктор он должен лечить раненых, тем самым помогая мятежникам, несмотря на то, что его жизнь подвергается опасности.
Что касается хирурга Питера Скадемора, то он не только не отказался подписать договор с пиратами, но и хвастался тем, что первым из своих коллег пошел на это. В своем письме к судьям он, однако, пытался оправдаться, объяснял, что перешел к пиратам с целью образумить разбойников и отнюдь «не желая быть повешенным и сушиться на солнышке». Слова эти повторяет и одноногий Джон Сильвер в конце своего рассказа о судьбе ученого хирурга.
Откуда Стивенсон мог узнать о примкнувшем к пиратам враче Питере Скадеморе? Да все из той же книги Ч. Джонсона, где приводится его история. Естественно задать вопрос: не отсюда ли перешел к Стивенсону и сам одноногий Джон Сильвер?
Исследователь творчества писателя Гарольд Ф. Уотсон не сомневается в этом. Он напоминает, что Джонсон в своем сочинении рассказывает о многих пиратах с одной ногой. В том числе о Джемсе Скирме, потерявшем ногу в последнем сражении Робертса (и отказавшемся покинуть судно, когда уже не осталось никаких шансов на победу), о голландце Корнелио по прозвищу Деревянная Нога или о Джоне Уолдоне, также лишившемся ноги в бою. Стоит напомнить, что и адмирал Бенбоу, именем которого назван трактир, где начинается действие романа, был одноногим моряком.
Наконец, имелся еще один прототип у Долговязого Джона. На него указал сам автор. В письме, датированном маем 1883 года, Стивенсон писал: «Я должен признаться. На меня такое впечатление произвели ваша сила и уверенность, что именно они породили Джона Сильвера в «Острове сокровищ». Конечно, — продолжал писатель, — он не обладает всеми теми достоинствами, которыми обладаете вы, но сама идея покалеченного человека была взята целиком у вас».
Кому было адресовано это письмо? Самому близкому другу писателя, одноногому Уолтеру Хенли, рыжебородому весельчаку и балагуру.
Не так просто было автору решиться вывести лучшего приятеля в образе опасного авантюриста. Конечно, это могло доставить несколько забавных минут: показать своего друга, которого очень любил и уважал, откинуть его утонченность и все достоинства, ничего не оставив, кроме силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и попытаться найти им воплощение где-то на уровне, доступном неотесанному мореходу. Однако можно ли, продолжал спрашивать самого себя Стивенсон, вставить хорошо знакомого ему человека в книгу? Но подобного рода «психологическая хирургия», по его словам, — весьма распространенный способ «создания образа». Не избежал соблазна применить этот способ и автор «Острова сокровищ». Благодаря этой «слабости» писателя и появился на свет Долговязый Джон — самый сильный и сложный характер в книге.
…Который день «Испаньола» продолжала на всех парусах и при попутном ветре свое плавание.
… снасти были новы, и ткань крепка была, и шхуна, как живая, навстречу ветру шла…
За пятнадцать дней было написано пятнадцать глав. Стивенсон писал по выработанной привычке, лежа в постели и едва поднявшись с нее, писал, несмотря на вечное недомогание, задыхаясь от кашля, когда голова кружилась от слабости. Это походило на поединок и на подвиг — творчеством преодолевать недуг. Тем горше было думать, что и в этот раз его ждет поражение и что новую книгу опять не заметят. Неужто череда неудач так и будет преследовать его, ставшего уже главой семейства, успевшего лишиться здоровья, но не умеющего заработать и двухсот фунтов в год? Не об этом ли думает Стивенсон на фотографии, сделанной Ллойдом?
Писатель сидит за рабочим столом, плечи укрыты старым шотландским пледом — в доме сыро и зябко. На минуту, оторвав перо от листа бумаги, писатель задумался. Взгляд певца приключений и дальних дорог смотрит мимо нас. Может быть, перед ним возникают картины воспоминаний? И думает он вовсе не о своей писательской судьбе, а о лодочных прогулках в открытом море, о плавании на яхте в океане, о походах под парусами по бурному Ирландскому морю. В голубой дымке он видит очертания холмов солнечной Калифорнии, где не так давно побывал, золотистые, стройные, как свечи, сосны, буйную тропическую зелень и розовые лагуны. Он любил странствования и считал, что путешествия — один из величайших соблазнов мира. Увы, чаще ему приходилось совершать их в своем воображении.
Вот и сейчас вместе со своими героями он плывет к далекому острову, на котором никогда и не был. Впрочем, так ли это? Верно ли, что и сам остров и его природа — лишь плод фантазии писателя?
Если говорить о ландшафте Острова сокровищ, то нетрудно заметить его сходство с калифорнийскими пейзажами. По крайней мере, такое сходство находит мисс Анна Р. Исслер. Она провела на этот счет целое исследование и пришла к выводу, что Стивенсон использовал знакомый ему пейзаж Калифорнии при описании природы своего острова, принеся тем самым на страницы вымысла личные впечатления, накопленные во время скитаний. А сам остров? Существовал ли его географический прототип?
Когда автор в «доме покойной мисс Мак-Грегор» читал главы своей повести об отважных путешественниках и свирепых пиратах, отправившихся в поисках клада к неизвестной земле, вряд ли он точно мог определить координаты Острова сокровищ. Возможно, поэтому мы знаем все об острове, кроме его точного географического положения. «Указывать, где лежит этот остров, — говорит Джим, от имени которого ведется рассказ, — в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли оттуда». Эти слова как бы объясняли отсутствие точного адреса, но отнюдь не убавили охоты некоторых особенно доверчивых читателей отыскать «засекреченный» писателем остров с сокровищами.
По описанию это тропический оазис среди бушующих волн. Но где именно? В каком месте находился экзотический остров — мечта старого морского волка Билли Бонса, одноногого Джона Сильвера, отважного Джима Хокинса и благородного доктора Ливси? Книга ответа на это не дает. Однако, как утверждает молва, Стивенсон изобразил вполне реальную землю. Писатель якобы имел в виду небольшой остров Пинос. Расположенный южнее Кубы, он был открыт Колумбом в 1494 году в числе других клочков земли, разбросанных по Карибскому морю. Здешние острова с тех давних времен служили прибежищем пиратов: Тортуга, Санта-Каталина (Провиденс), Ямайка, Испаньола (Гаити), Невис. Не последнее место в числе этих пиратских баз занимал и Пинос. В его удобной гавани можно было спокойно подлатать судно, залечить раны, полученные в абордажных схватках, запастись пресной водой и мясом одичавших коз и свиней. Тут же, вдали от посторонних глаз, обычно делили добычу, о чем свидетельствует в своей книге А.-О. Эксквемелин. И нетрудно представить, что часть награбленных ценностей оседала в укромных уголках острова.
Пинос видел каравеллы Френсиса Дрейка и Генри Моргана, Рока Бразильца и Ван-Хорна, Бартоломео Португальца и Пьера Француза и многих других джентльменов удачи. Отсюда чернознаменные корабли выходили на охоту за талионами испанского «золотого флота», перевозившего в Европу золото и серебро Америки. Флаг с изображением черепа и костей господствовал на морских путях, пересекающих Карибское море, наводил ужас на торговых моряков, заставлял трепетать пассажиров.
Словно хищники, покинувшие свое логово, легкие и быстрые одномачтовые барки и двухмачтовые бригантины и корветы пиратов преследовали неповоротливые и тихоходные громадины галионы. Стоило одной из таких посудин с командой до четырехсот человек отбиться от флотилии, как, казалось, неуязвимый для пушечных ядер корабль (их строили из очень прочного филиппинского тика и дерева молаве) легко доставался пиратам. Трудно было противостоять отчаянным головорезам, идущим на абордаж. Добыча оправдывала такой риск. Не тогда ли и выучился попугай Джона Сильвера кричать «Пиастры! Пиастры!», когда на его глазах пиратам сразу достались, шутка сказать, триста пятьдесят тысяч золотых монет?! Со временем в руках пиратов, особенно главарей, скапливались огромные богатства. Вложить их в банк они, естественно, не могли, возить с собой тоже было рискованно. Вот и приходилось прятать сокровища в земле Острова дуба, на Кокосе, в недрах Ротэна и Плама, Мона и Амелии. Разве не зарыты они и на Пиносе, куда заходили самые знаменитые из рыцарей лёгкой наживы? Вполне возможно. Вот почему издавна остров этот, словно магнит, притягивает кладоискателей. Точно, однако, неизвестно о находках в его земле. Зато из прибрежных вод подняли немало золотых слитков и монет с затонувших когда-то здесь испанских галионов. Считается, что на дне около Пиноса все еще покоится примерно пятнадцать миллионов долларов.
Сегодня на Пиносе в устье небольшой речушки Маль-Паис можно увидеть, как уверяют, останки шхуны, весьма будто бы похожей на ту, которую описал Стивенсон. Корабельный остов, поросший тропическим кустарником, — это, можно сказать, один из экспонатов на открытом воздухе здешнего, причем единственного в мире, музея, посвященного истории пиратства.
Впрочем, слава Пиноса как географического прототипа стивенсоновского Острова сокровищ оспаривается другим островом. Это право утверждает за собой Рум — один из островков архипелага Лоос, по другую сторону Атлантики, у берегов Африки, около гвинейской столицы. В старину и здесь базировались пираты, кренговали и смолили свои разбойничьи корабли, пережидали преследование, пополняли запасы провианта. Пираты, рассказывают гвинейцы, наведывались сюда еще сравнительно недавно. В конце прошлого века здесь повесили одного из последних знаменитых флибустьеров.
Сведения о Руме проникли в Европу и вдохновили Стивенсона. Он-де довольно точно описал остров в своей книге, правда, перенес его в другое место океана, утверждают жители Рума.
А как же сокровища, спрятанные морскими разбойниками? Их искали, но также безрезультатно. Да и ценность острова Рум отнюдь не в сомнительных кладах. Его предполагают превратить в туристский центр, место отдыха для гвинейцев и зарубежных гостей.
Вера в то, что Стивенсон описал подлинный остров (а значит, подлинно и все остальное), со временем породила легенду. Сразу же, едва распродали 5600 экземпляров первого издания «Острова сокровищ», прошел слух, что в книге рассказано о реальных событиях. Естественная, умная достоверность вымышленного сюжета действительно выглядит как реальность, ибо известно, что «никогда писатель не выдумывает ничего более прекрасного, чем правда».
Уверовав в легенду, читатели, и прежде всего всякого рода искатели приключений, начали осаждать автора просьбами. Они умоляли, требовали сообщить им истинные координаты острова — ведь там еще оставалась часть невывезенных сокровищ. О том, что и остров, и герои — плод воображения, не желали и слышать.
— Разве можно было все эти приключения придумать из головы? — удивлялись одни.
— Откуда такая осведомленность? — вопрошали другие. И сами же отвечали: — Несомненно, автор являлся непосредственным участником поисков сокровищ.
— Уж не был ли Стивенсон пиратом?
— Да что и говорить, не иначе как лично причастен к морскому разбою.
Так «легенда о Стивенсоне» превратилась в «дело Стивенсона». Отголоски этой сенсации нет-нет да и дают о себе знать и сегодня.
В наши дни миф о «темном прошлом» Стивенсона попытался возродить некий Роберт Чейзл. Этот «литературовед» заявил, что Стивенсон отнюдь не то лицо, за которое он выдает себя в опубликованных письмах и дневниках, он — «фигура загадочная, даже зловещая на небосклоне европейской литературы». Свое заявление автор подтверждает «фактами», якобы разоблачающими «вторую жизнь» писателя.
На вопрос, откуда Стивенсон так хорошо был осведомлен о пиратах, Чейзл, не задумываясь, отвечает: из личного опыта. Свое первое знакомство с морскими разбойниками он свел году этак в 1876 в Марселе. Здесь прошел первую школу на контрабандном катере, научился владеть навигационными приборами. Здесь же и принял посвящение, своеобразный обряд, который «навеки» соединил его с тайным и грязным миром.
Однако вопреки обещанию Чейзл не приводит ни одного документа, факта, подтверждающего измышления. Его рассуждения — плод чистой фантазии. В этом же духе продолжает он громоздить один вымысел на другой.
Еще в конце 70-х годов Стивенсон будто бы оказался на пиратском бриге капитана Файланта, напоминающего «негодяя и знаменитого пирата по имени Тийч» из его романа «Владетель Баллантрэ». Как и в этом романе, на судне происходит бунт. Во главе мятежных матросов — Стивенсон. Захватив власть, он несколько месяцев плавает в районе Антильских островов и Юкатана, занимаясь пиратским промыслом. Матросы беспрекословно подчиняются Джеффри Бонсу, как теперь себя называет Стивенсон.
Случайно от Файланта он узнает о том, что на острове в устье реки Ориноко он, Файлант, плавая под флагом известного Дика Бенна, вместе с ним зарыл сокровища на сумму более миллиона долларов.
Известие это меняет все планы Стивенсона. С несколькими единомышленниками он бежит с судна, прихватив карту с координатами острова, как вскоре выяснилось — ложными координатами. С этого момента началась для Стивенсона полоса неудач. Его спутники, после того как под означенными координатами ничего не обнаружили, решили, что «Джеффри Боне» их обманывает, замышляя сам захватить всю добычу. Пришлось бежать. С невероятными трудностями Стивенсон добрался до Англии… и начал обычную, известную всем его биографам жизнь. Однако с тех пор он постоянно страшился преследований со стороны бывших дружков, особенно одного из них — одноногого Хуана Сильвестро, капитана пиратского судна «Конкорд». Между будущим писателем и этим капитаном существовала тайная переписка. Якобы расшифровав ее, Чейзл и поведал миру о своем «открытии».
Надо ли говорить, что выдумки Чейзла ничего общего не имеют с истиной и рассчитаны лишь на дешевую сенсацию?..
Как-то однажды под вечер стены тихого бремерского дома огласились криками. Заглянув в гостиную, Фэнни улыбнулась: трое мужчин, наряженные в какие-то неимоверные костюмы, возбужденные, с видом заправских матросов горланили пиратскую песню:
Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!..
При взгляде на то, что творилось в комнате, нетрудно было понять, что наступил тот кульминационный момент, когда литературная игра приняла, можно сказать, материальное воплощение.
Посредине гостиной стулья, поставленные полукругом, обозначали что-то вроде фальшборта. На носу— бушприт и полный ветра бом-кливер, сооруженные из палки от швабры и старой простыни. Раздобытое в каретном сарае колесо превратилось в руль, а медная пепельница— в компас. Из свернутых трубой листов бумаги получились прекрасные пушки — они грозно смотрели из-за борта. Неясно только было, откуда взялась «старая пиратская песня», известная лишь команде Флинта.
В самом деле, что за «сундук мертвеца»? Тот самый матросский сундук, как думал поначалу Джим Хокинс, который принадлежал Билли Бонсу и где он хранил драгоценную карту? Оказывается, ничего подобного. В таком случае что же означают эти два слова?
Сундук мертвеца — небольшой остров на пути к Пуэрто-Рико. Название этого острова Стивенсон встретил в книге «Наконец», принадлежавшей Ч. Кингсли — писателю, также оказавшему на него, как он сам отметил, некоторое влияние. Подобное объяснение происхождения двух загадочных слов песни — «Сундук мертвеца» — можно найти и в английской «Книге морских песен», изданной в 1945 году. А это значит, что «старая пиратская песня» была сочинена самим автором романа и никакого отношения к людям Флинта не имеет. Но все это оставалось неизвестным двум из трех участников игры. Ллойд и сэр Томас были уверены, что поют настоящую пиратскую песню. Стивенсон, лукаво улыбаясь, подтягивал им. Зачем разрушать иллюзию, пусть хоть песня будет подлинной.
Никто не спорил, когда распределяли роли. Ллойд с полным основанием исполнял обязанности юнги, сэр Томас, нацепив шляпу и перевязав глаз черной лентой, стал похож на Долговязого Джона, на долю же Луиса выпало поочередно изображать остальных персонажей своей книги.
И все же без дебатов не обошлось. Увлеченные игрой в путешествие «Испаньолы» и приключениями ее экипажа, они яростно спорили о нравах и обычаях пиратов, их жаргоне и вооружении. Нетрудно было заметить, что все они, в том числе и Стивенсон, находились в состоянии чуть ли не восторженного отношения к морским разбойникам. С той лишь разницей, что если Ллойд отдавал предпочтение «благочестивому» Робертсу, считая его незаурядным мореходом, то старому Стивенсону был больше по душе Генри Морган, хотя и безжалостный головорез, но тем не менее отважно сражавшийся с испанцами, смельчак из породы настоящих «морских львов», благодаря которым Англия и стала владычицей морей.
Двое взрослых мужчин и мальчик всерьез обсуждали преимущества абордажного багра перед топором и копьем. Или, скажем, каков должен быть запас пороха для двенадцатифунтовой пушки, где лучше хранить мушкетные заряды, фитили и ручные гранаты. Спорили и по поводу изображений на «веселом Роджере». Один считал, что чаще всего на пиратском флаге устрашающе красовались череп и кости. Другой доказывал, что столь же часто на черных стягах встречались человек с саблей в руке (полагай, морской разбойник), трезубец или дракон, песочные часы — напоминание о быстротекущей жизни (а проще говоря: лови момент), иногда, не мудрствуя лукаво, просто писали слово «фортуна». Те же изображения выбирали для татуировки, а в качестве амулетов суеверные пираты использовали ракушки и кусочки дерева. А какие напитки предпочитали они: ром или арак, пальмовое вино или смесь из морской воды и пороха? Это тоже являлось предметом обсуждения.
Одним словом, Стивенсон жил в мире героев рождавшейся книги. И можно предположить, что ему не раз казалось, будто он и в самом деле один из них. В этом сказывалось его вечное стремление к лицедейству, жившее в нем актерство. Многие отмечают эту особенность писателя — соответственно нарядившись, исполнять перед самим собой ту или иную роль. Здесь Стивенсон выступал как бы последователем теории творчества своего любимого Кольриджа: поэт должен уметь вживаться в чужое сознание и полностью перевоплощаться в своего героя. Но ведь такая способность художника разменивать свою душу на множество других приносит и великое счастье, и великую боль. Разве Бальзак умер не оттого, что был замучен поступками своих вымышленных героев? А Флобер? Больше всего он боялся «заразиться взаправду» переживаниями своих персонажей, испытывая в то же время огромное наслаждение «претворяться в изображаемые существа». Точно так же Э.-Т.-А. Гофман, когда творил образы своих фантазий и ему становилось страшно, просил жену не оставлять его одного. Над порожденными собственным воображением героями обливался слезами Ч. Диккенс, мучился Г. Гейне и страдал Ф. Достоевский. Они были, как того требовал от писателя Л. Фейхтвангер, актерами в самом подлинном смысле этого слова и заключали в себе жизнь каждого и всякого.
Думая о них, мы видим этих исполинов в окружении огромной и пестрой толпы порожденных ими образов.
Великие и ничтожные, богатые и нищие, знатные и бедные— они обступают своих творцов, неистовой силой воображения вдохнувших в них жизнь, отдавших им часть своей души.
Мечтатель Стивенсон щедро наделял себя в творчестве всем, чего ему недоставало в жизни. Прикованный часто к постели, он отважно преодолевал удары судьбы, безденежье и литературные неудачи тем, что отправлялся на крылатых кораблях в безбрежные синие просторы, совершал смелые побеги из Эдинбургского замка, сражался на стороне вольнолюбивых шотландцев. Романтика звала его в дальние дали. Увлекла она в плавание и героев «Острова сокровищ».
Теперь он жил одним желанием — чтобы они доплыли до острова и нашли клад синерожего Флинта. Ведь самое интересное, по его мнению, — это поиски, а не то, что случается потом. В этом смысле ему было жаль, что А. Дюма не уделил должного места поискам сокровищ в своем «Графе Монте-Кристо». «В моем романе сокровища будут найдены, но и только», — писал Стивенсон в дни работы над рукописью.
Под шум дождя в Бремере, как говорилось, было написано за пятнадцать дней столько же глав. Поистине рекордные сроки! Однако на первых же абзацах шестнадцатой главы писатель, по его собственным словам, позорно споткнулся. Уста его были немы, в груди — ни слова более для «Острова сокровищ». А между тем мистер Гендерсон, издатель журнала для юношества «Янг фолке», который решился напечатать роман, с нетерпением ждал продолжения. И тем не менее творческий процесс прервался. Стивенсон утешал себя: ни один художник не бывает художником изо дня в день. Он ждал, когда вернется вдохновение. Но оно, как видно, надолго покинуло его. Писатель был близок к отчаянию.
Кончилось лето, наступил октябрь. Спасаясь от сырости и холодов, Стивенсон перебрался на зиму в Давос. Здесь, в швейцарских горах, к нему и пришла вторая волна вдохновения. Слова вновь так и полились сами собой из-под пера. С каждым днем он, как и раньше, продвигался на целую главу.
И вот плавание «Испаньолы» завершилось. Кончилась и литературная игра в пиратов и поиски сокровищ.
Родилась прекрасная книга, естественная и жизненная, написанная великим мастером-повествователем.
Некоторое время спустя Стивенсон держал в руках гранки журнальной корректуры.
Неужели и этой его книге суждено стать еще одной неудачей? Поначалу, казалось, так и случится: напечатанный в журнале роман не привлек к себе ни малейшего внимания. И только когда «Остров сокровищ» в 1883 году вышел отдельной книгой (автор посвятил ее своемупасынку Ллойду), кСтивенсонупришлазаслужен-ная слава. «Забавная история для мальчишек» очень скоро стала всемирно любимой, а ее создателя— Роберта Луиса Стивенсона — признали одним из выдающихся английских писателей. Лучшую оценку в этом смысле дал ему, пожалуй, Р. Киплинг, написавший, что творение Стивенсона — «настоящая чернобелая филигрань, отделанная с точностью до толщины волоска».
С тех пор многим представляется невероятным его способность создавать неповторимые живые человеческие образы, его волшебное умение рассказывать чрезвычайно занимательно, без ложного блеска и дешевой напыщенности о самых необыкновенных приключениях. Он это умел, потому что, как заметил Л. Фейхтвангер, обладал той зоркостью взгляда, той мудростью рук и той прямотой сердца, которые поднимают любой материал над сферой только интересного, сенсационного. По этой же причине Стивенсон не написал ни одной скучной страницы.
Весь вечер он провел за книгой и лег поздно. Фэнни беспокоилась:
— У тебя жар, лихорадка, а ты изводишь себя чтением.
Она была права, его легкие ни к черту не годятся. Как чуткий барометр, они моментально реагируют на самые незначительные изменения погоды, на малейшие перегрузки. Теперь, чтобы уснуть, не поможет и прописанный ему бром…
Под утро внезапно Стивенсон начал во сне громко стонать. Жена пыталась разбудить его, освободить от «криков ужаса», как она это называла. Луис проснулся и неожиданно укорил ее:
— Зачем ты это сделала? Мне снилась такая чудесная дьявольская сказка…
Фэнни знала, что муж часто видит «живые и страшные сны», от которых он с воплем просыпался в диком, неистовом ужасе. Эти кошмары преследовали его с детства. Дневные впечатления ночью представали в виде чудовищных фантасмагорий. То ему снился сосед-горбун, пугавший его при встречах днем до полусмерти; то нечеловеческого обличья бородатое привидение с ужимками и ухватками ведьмы, вдруг оборачивающееся старухой прачкой; то заезжий француз, внешне образец добропорядочности, а на самом деле жестокий убийца, расправлявшийся со своими жертвами с помощью гренков с сыром, начиненным опиумом; то знаменитый лорд по прозвищу Судья-Вешатель, появлявшийся с огромными волосатыми руками, кровожадно изрыгая: «Давайте преступника…»
Иногда, уже взрослому, во сне ему являлись «человечки» и разыгрывали целые истории. Некоторые, проснувшись, он записывал, превращал в рассказы, как бы реализуя мощь созидательных сил своего подсознания. Поражаясь такому феноменальному свойству, английский писатель Р. Олдингтон, автор книги о Стивенсоне, изданной на русском языке, восклицал: «Кто еще, какой писатель брал образы и сюжеты из призрачной бездны снов?!» И действительно, нельзя не удивляться столь поразительной способности Стивенсона записывать свои «вещие сны». В этом Р. Олдингтон безусловно прав. Однако его слова требуют одной поправки. Не только Стивенсон обладал этой особенностью. Творчество во сне присуще многим художникам. Достаточно привести лишь несколько примеров. Пробудившись, Данте воспел в сонетах свою встречу с Беатриче, которая приснилась ему; во время сна Лафонтен сочинил басню, а Кольридж — целую поэму, которую так и назвал «Кубла Хан, или Видение во сне». В предисловии к ней он признавался, что, проснувшись и взяв перо, чернила и бумагу, мгновенно и поспешно стал записывать строки, сочиненные во сне. Известно, что и многие образы А. Пушкина рождались во время сна: вскакивая с постели, он торопливо записывал их впотьмах. Случалось во сне сочинять стихи А. Грибоедову и А. Фету. Сон подсказал Ф. Достоевскому мысль написать роман «Подросток», а Л. Толстому — сюжет «Отца Сергия».
Механизм творчества во сне исследован в интересной книге А. М. Вейна «Бодрствование и сон», где автор приводит много других подобных случаев. Однако один из наиболее типичных примеров — из творчества Стивенсона — у него отсутствует.
Какая же чудесная дьявольская сказка приснилась той ночью Стивенсону?
— Уродливого, субтильного человечка с росчерком зла на лице, — продолжал рассказывать он жене, — преследовали за совершенное преступление. Чтобы спастись, он принял какой-то порошок и должен был подвергнуться превращению на глазах своих гонителей. Как раз в момент «первого превращения» ты и разбудила меня…
Медленно наступало зимнее утро. С термометром во рту и карандашом в руках Стивенсон яростно набрасывал первый черновой вариант «приснившейся» ему истории.
— Пишу бульварный роман, — радостно сообщил он доктору, кода тот навестил его, к удовольствию Луиса, лишь ненадолго оторвав от листа бумаги.
Еще два дня назад, прикованный к постели, он находился в полном отчаянии: издатели настойчиво требовали новый приключенческий роман. Сон выручил его, дал толчок творческой мысли, направил ее. Конечно, сюжет будущей повести родился не в одну ночь. По его словам, более двадцати лет он вынашивал идею «о человеке, который был двумя людьми», искал, как наиболее точно показать в художественном произведении раздвоение личности. «Очень долго я искал, — писал Стивенсон, — как выразить это странное чувство раздвоенности, которое появляется у любого думающего человека».
После того как его издатель Лонгманс предложил ему написать какую-нибудь страшную историю, чтобы разделаться с долгами, Стивенсон два дня настраивался на сюжет подобного рода. «И на вторую ночь, — вспоминал он, — мне приснился сон…»
Никогда раньше он так не работал. Буквально с каждым часом на тумбочке рядом с кроватью росла стопа рукописных листов. История о человеке, у которого появляется злобный и себялюбивый двойник, выливалась на бумагу в виде фантастического каскада слов.
Чем объяснить, что, несмотря на болезнь, так спорилась работа над повестью?
Казалось, тема двойника, такая сложная, требовала глубокого изучения природы двойничества. И хотя у Стивенсона был уже некоторый опыт подобного рода — в его Маркхейме из одноименного рассказа жили как бы два существа, — это был лишь подступ к волновавшей его теме. Именно двойственностью натуры его привлечет образ Франсуа Вийона — талантливого поэта и ученого, а по ночам взломщика и пропойцы. В новой повести он возвращался к проблеме внутренней двойной сущности каждого человека и конфликту, порождаемому нередко этой раздвоенностью.
И так же, как в душе молодого монаха Медарда, созданного магическим пером Э.-Т.-А. Гофмана, спрятан великий преступник, в его герое, которого он назовет доктором Джекилом, притаился отвратительный двойник — мистер Хайд. Правда, в отличие от гофманского капуцина из романа «Эликсиры дьявола», а в еще большей степени от Вильяма Вильсона — безумца из одноименного рассказа Эдгара По, Стивенсона в его герое меньше будет интересовать анализ душевной болезни— психическое раздвоение личности, распад и разрушение психики. Не станет основным для него и попытка аллегорически изобразить процессы, происходящие в подсознании.
На первое место он выдвинет проблему нравственную. Его цель — с беспощадной откровенностью показать и разоблачить зло, которое тем опаснее, что подчас одерживает победу над добром. Однако доброта— основное свойство характера, и зло в конце концов оказывается бессильным перед ним. Иначе говоря, в его герое, по мнению писателя, как и в каждом из нас, живут два существа. Один благородный и порядочный джентльмен, сама доброта, а другой — злой и коварный, временами, к несчастью, берущий верх над первым.
Не один год Стивенсон наблюдал, изучал природу подобной раздвоенности в людях, пытался постичь психологическую тайну двойного существования, проникнуть в ту часть души, которую тщательно стараются скрыть. В постижении столь сложных свойств человеческого характера ему помогало острое психологическое зрение, но в немалой степени и анализ собственных поступков. И прав Р. Олдингтон, когда пишет, что в порожденной фантазией книге Стивенсона куда больше личных воспоминаний, чем кажется на первый взгляд.
Поэтому-то так быстро и писалась новая повесть, что у него было все необходимое. И прежде всего самое главное — прототип его героя. У него был мистер Броди и его двойная жизнь.
Образ этого странного и страшного человека преследовал его с детских лет. Бывало, няня Камми, дочь рыбака и ярая кальвинистка, пугала его дьяволом, который воплотился в мистере Броди. И хотя того уже лет девяносто как не было в живых, жители Эдинбурга уверяли, что его дух витает над домами, бродит по улицам, как бы прося прощения.
Во время прогулок с Камми по старому городу он с ужасом разглядывал узкий Броди-клоуз — двор и большой дом с дубовыми дверями, где когда-то развлекались Броди и его друзья. В музее старинных вещей юный Стивенсон во все глаза молча смотрел на фонарь и двадцать пять массивных поддельных ключей, которыми пользовался Броди.
Но и дома этот двуликий человек не оставлял его. В детской стоял комод, «жутко скрипевший по ночам», взрослые говорили, что его сделал «замечательный плотник и известный гражданин, оказавшийся, к несчастью, плохим человеком».
Надо ли говорить, что мальчик сгорал от любопытства и обожал слушать легенды о своем столь знаменитом земляке, которые по его просьбе рассказывала ему Камми. Конечно, она ограничивалась пересказом самых общих сведений о нем, преследуя главным образом назидательные цели. Из ее нравоучительных бесед он, однако, уже тогда усвоил, что продавшего душу дьяволу звали Уильям Броди, что днем это был уважаемый всеми человек, а ночью он превращался в картежника и мошенника, предводителя шайки бандитов. Иными словами, в мистере Броди словно жили одновременно два человека — талантливый краснодеревщик, член муниципалитета и староста корпорации мастеров и великий злоумышленник, подпольный игрок и вор, не один год державший в страхе весь Эдинбург.
Рассказы о его похождениях Стивенсону не раз доводилось слышать и позже, когда он, повзрослев, бывал в старом городе, в здешних тавернах, пользующихся дурной репутацией, где его хорошо тогда знали и называли не иначе, как Бархатная Куртка. Для завсегдатаев кабаков и притонов мошенник Броди оставался и во времена Стивенсона кумиром, о нем продолжали слагать невероятные легенды. Словом, память о мистере Броди жила среди земляков Стивенсона, и его тень многие годы сопровождала писателя.
Еще в юности, четырнадцатилетним, свою первую пьесу он написал именно о жизни Уильяма Броди. Позже вместе с У. Хенли, своим другом, они создали пятиактную пьесу «Староста Броди, или Двойная жизнь». В ней многие сцены были основаны на подлинных событиях. Так, например, эпизод, когда Броди пытается ограбить приехавшего к нему в гости жениха своей сестры, действительно произошел в жизни реального Броди. Пьесу напечатали и даже поставили на сценах многих городов — Лондона, Монреаля, Нью-Йорка, Чикаго, но подлинного успеха она не имела. Когда Бернард Шоу посмотрел эту пьесу, он заявил, что это неправдоподобное произведение с «эфемерными сценами и характерами», правда, отметил, что о Броди тем не менее будут помнить долго.
Как видим, у Стивенсона были основания считать себя неудовлетворенным пьесой, написанной вместе с У. Хенли. Не потому ли, думал Стивенсон, их постигла неудача, что они воссоздали как бы внешний облик Броди, не отразив его внутреннюю двойную сущность?
Но как показать это вечное соперничество двух противоположных натур в одном теле, это насильственное соединение двух чужеродных существ, эту непрерывную борьбу двух враждующих близнецов в истерзанной утробе души? Не внешнюю цепь событий дурной жизни мистера Броди следует взять за основу, размышлял Стивенсон, а его двуединую сущность. И все же, каким образом это двойное отразить в литературном произведении? Надо разъединить, как бы разъять на два облика, на два существа его человеческую душу. Один — само воплощение добра, порядочный, пользующийся безупречной репутацией; другой — бездушный и злобный, лицемерный, яростно ненавидящий людей, отвратительный не только внутренне, но и внешне, крайне несимпатичный, скорее даже уродливый, жаждущий лишь запретных развлечений и предосудительных удовольствий.
Разве не такова двойственная внутренняя сущность мистера Броди? И напрасно кое-кто пытался объяснить, а может быть, и оправдать его грехи, и прежде всего жажду обогащения, какими-то особенными причинами. «Были ли деньги для Броди главной целью воровства?» — спрашивала, например, вскоре после его смерти газета «Эдинбург ивнинг корент». И отвечала: «По-видимому, в воровстве Броди больше привлекало, так сказать, само искусство, чем извлекаемая из этого выгода». То есть его пытались представить этаким гра-бителем-артистом, получавшим удовольствие от участия в представлении, когда можно было показать ловкость рук, поболтать с ворами на их жаргоне, к тому же с чувством исполнить песенку из «Оперы нищего».
Но в таком случае можно сказать, что и Рене Карди-льяк из новеллы Э.-Т.-А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери» — всего лишь страстный любитель искусства, а не жестокий убийца. Герой Гофмана ведет двойную жизнь — днем добрый отец, честный и уважаемый мастер-ювелир, ночью — вооруженный грабитель. Что же заставляет его совершать преступления? Как художник он не в силах расстаться с творениями своих рук. И когда заказчик уносит созданное им произведение, Кардильяк идет по пустынным улицам следом и ударом ножа убивает клиента, чтобы вернуть свой шедевр.
В известном смысле Гофман в своей новелле касается темы двойственности личности, продолжая развивать мотив двойника, начатый в «Эликсирах дьявола». И в этом немецкий романтик является предшественником Стивенсона, как и Ф. Достоевский со своим «Двойником», и уже упомянутый в этом смысле Э. По, а также другие писатели, от Н. Гоголя до О. Уайльда и Г. Флобера с его рассказом о двойной жизни Дона Висенте — монаха-библиофила, совершающего преступления из-за маниакальной любви к редким книгам.
Однако, вопреки утверждениям газеты «Эдинбург ивнинг корент», Уильям Броди своими ночными выступлениями преследовал отнюдь не артистические цели. Чем же прославился этот «черный» субъект, подсказавший Стивенсону идею его повести о «человеке, который был двумя людьми»?
Вот уже несколько лет как эдинбуржцы жили в постоянном страхе. Причиной тому были таинственные ночные грабежи. Владельцы ювелирных магазинов, бакалейных, обувных и мануфактурных лавок неспокойно спали в своих кроватях. Нередко поутру выяснялось, что ночью нежданные гости побывали в их заведениях. Золотые кольца и часы, пряжки и серьги становились добычей воров; дорогостоящий черный чай, заграничные кружева, черный мострин и белый сатин, флорентин и шелк, сапоги и туфли, серебряная посуда, музейные экспонаты — ничем не брезговали загадочные ночные посетители. Случалось им хозяйничать и в банках, опустошать кассы и ларцы с гинеями и фунтами. Такого в благочинном Эдинбурге еще не бывало. Шериф и его сто двадцать караульных, заменявших полицию, сбились с ног, разыскивая неуловимых воров, горожане терялись в догадках и пребывали в страхе за свое имущество.
И только один человек загадочно улыбался. Это был Уильям Броди. Однако его собственное поведение было вне всякого подозрения и упрека. Да и кто бы посмел заподозрить всеми уважаемого старосту корпорации мастеров, члена муниципалитета, члена гильдии, члена привилегированного Кейп-клаба, знакомого со многими выдающимися личностями той эпохи — с поэтом Робертом Бернсом, с писателем Самюэлем Джонсоном и его помощником и биографом Джеймсом Босуэлом, с художником Генри Рэберном и многими другими. Нет, этот человек был вне подозрений.
Правда, как-то некая старая леди пыталась утверждать, что однажды ночью у нее в доме Уильям Броди оказался незваным гостем. Лицом к лицу она столкнулась с ним в своей спальне. Старая леди была так испугана, что не могла ни закричать, ни двинуться с места. Тем временем незваный посетитель спокойно подошел к столу, так же спокойно открыл бюро, взял несколько банкнот, галантно поклонился и покинул комнату. Когда дар речи вернулся к хозяйке, она прошептала: «Мне кажется, это был Броди!» Однако мысль эта была настолько невероятной, что она не решилась повторить ее еще раз. И долгое время хранила молчание, а Броди — ее деньги. Но и расскажи она о том, что произошло, никто бы ей не поверил. Всем бы показалось невероятным, чтобы известный на весь город всеобщий любимец Уильям Броди оказался ночным грабителем, похищавшим добро у знакомых и незнакомых горожан.
А между тем это было именно так. В течение двадцати лет Броди вел опасную двойную жизнь. Днем, элегантный и остроумный, он появлялся в домах аристократов и купцов, в их магазинах, куда его часто приглашали как лучшего мастера-краснодеревщика. Ночью же, когда начиналась его другая жизнь, он посещал те же дома и магазины в маске, с фонарем и связкой поддельных ключей. Никто не подозревал об этой его двойной жизни. Как и о том, что нередко с наступлением темноты он из степенного джентльмена превращался в игрока и пьяницу, ночи напролет проводил в грязных тавернах старого города, куда не мог себе позволить войти ни один порядочный человек. Здесь, в чаду и пьяном угаре, он играл в карты и кости с шулерами и бывшими каторжниками, с ворами, проигрывая им крупные суммы. После чего с горя напивался, затевал ссоры, и тогда его второе «я», отвратительное и грязное, проявлялось особенно явственно.
Вначале, чтобы возместить убытки от проигрыша, он нанимался грузчиком. Пытался отыграться на петушиной арене у Майкла Гендерсона — своего друга, популярного владельца конюшен и петушиной арены в Грасмаркете. Для этого изучал «петушиное искусство» и даже сам держал и тренировал бойцовых петухов. Но и это не спасало его от долгов. По-прежнему не хватало средств на разгульную жизнь. Обитал Броди в роскошном двухэтажном особняке, где жил вместе с престарелым отцом и замужней сестрой. Кроме того, имел еще два дома для двух своих любовниц. В конце концов содержать три дома стало настолько обременительным, а тайные расходы на игру в карты и посещение притонов — столь большими, что Броди начал искать пути обогащения. Это и привело его к мысли стать вором, хотя он прекрасно знал, что его ждет, будь он разоблачен. Случай вскоре представился. Его пригласили в банк, чтобы отремонтировать ларец, где хранили часть денег. Спустя несколько дней, сменив свой белый костюм на черный, в маске, с поддельными ключами, Броди вернулся в банк. Восемьсот фунтов стерлингов — целое состояние — достались ему той ночью. С этого момента и началась его вторая жизнь. Мало кто догадывался о его похождениях, даже любовницы не были посвящены в тайну. Только сообщники, появившиеся, правда, позже, знали об этой второй жизни достопочтенного мистера Броди.
О шайке головорезов Броди мечтал давно: легче было бы работать, да и масштабы стали бы иными. Наконец его желание сбылось. Летом 1786 года он познакомился у Гендерсона с тремя типами — Джорджем Смитом, Эндрю Эйнсли и Джоном Брауном. Все трое были порядочными негодяями, любителями выпить и заядлыми картежниками. Однако вором-профес-сионалом, бежавшим из ссылки, был один лишь Джон Браун.
Плоды такого союза появились очень скоро. Кражи следовали одна за другой, но преступники по-прежнему были неуловимы. Это объяснялось отчасти тем, что каждую «операцию» Броди тщательно готовил, изучал место будущего действия, привычки владельцев магазинов. Чтобы не вызывать подозрений, члены банды по настоянию Броди обзавелись «прикрытием»— открыли бакалейную лавку. После особенно удачных краж компания устраивала перерыв, пока страсти не улягутся. Особенно настойчиво добивались поимки воров владельцы мануфактурного магазина «Инглис, Хорнер энд компани», когда у них похитили товаров на пятьсот фунтов. Сам король откликнулся на их петицию о помощи. Было опубликовано объявление с обещанием выплатить сто фунтов в качестве вознаграждения тому, кому удастся изловить преступников, а тому, кто предоставит какую-либо информацию прокурору, — королевское прощение. А главный виновник тем временем преспокойно сидел в таверне Кларка и резался в кости с трубочистом Джоном Гамильтоном. Краденое же было надежно пристроено у мистера Тэскера, скупщика ворованных вещей.
Когда через несколько дней стало ясно, что и на этот раз все обошлось благополучно, Броди предложил новое дело. Он задумал налет на Главное акцизное управление Шотландии, помещавшееся в старом особняке, за железным забором на Чессел-корт. Ежедневно сюда поступали сотни фунтов стерлингов, которые собирали по всей стране.
План был продумал Броди до мельчайших деталей. Сообщники слушали его затаив дыхание — мероприятие было особо дерзким, грандиозным и, конечно, опасным. «У короля Георга толстый карман, но и длинные руки», — пытался пошутить Смит. Однако удача сулила каждому слишком лакомый кусок, чтобы от него отказываться, и все согласились.
Для подготовки к налету Броди установил срок— четыре недели. Не раз он сам посещал акцизное управление, изучал, так сказать, на месте будущее поле действий.
Как-то он появился со Смитом. И пока Броди разговаривал с кассиром, тот ловко приложил кусок замазки к ключу, висевшему у входной двери. Когда был составлен подробный чертеж всех помещений и изготовлен ключ, настала пора действовать. Ограбление запланировали на начало марта. В намеченный день Броди спокойно поужинал в обществе сестер и близких знакомых, переоделся в черный костюм, надел старый отцовский парик и треуголку, закутался в серый плащ, под которым укрыл два пистолета и фонарь, и вышел из своего дома.
Перед дружками он предстал слегка навеселе, размахивая пистолетом и напевая из «Оперы нищего»:
Час атаки приближается,
К оружию, хитрые ребята, заряжайте!
«Хитрые ребята» молча вооружились, захватили маски и по одному вышли на улицу. Погода стояла отвратительная, холодная и промозглая. Ветер раскачивал редкие фонари, тускло освещавшие улицу. У здания акцизного управления было пустынно. Последний служащий запер дверь в восемь часов и направился через двор отдать ключи сторожу. До десяти часов, когда стража совершала обход, оставалось два часа. Браун согласно плану незаметно последовал за служащим, дабы удостовериться, что тот не вернется. Остальные приступили к «операции». Эйнсли остался снаружи на часах, а Броди и Смит проникли в здание и заперли наружную дверь изнутри. Однако дальше события приняли совершенно неожиданный оборот. Взломав несколько дверей, трое грабителей (Браун к этому времени вернулся и присоединился к компании) наконец оказались у желанной кассы. И тут их постигло первое разочарование. Вместо, как они предполагали, многих сотен в ней оказалось всего шестнадцать фунтов стерлингов. Судорожно перерыв все вокруг, вскрыв ящики и шкафы, они обшарили все что могли, но ни одного шиллинга больше так и не нашли. В этот момент, как назло, неожиданно вернулся помощник стряпчего, чтобы взять некоторые бумаги, забытые им наверху, в конторе. Дело принимало скверный оборот. К счастью, он не заметил взломанных внизу дверей и спокойно поднялся наверх. Но внезапный его визит привел воров в страшное смятение. Стоявший на часах Эйнсли был буквально парализован и опоздал подать сигнал. Забыв о своих компаньонах, Броди бросился наутек, заметив его бегство, за ним последовали и остальные, в панике бросив лом и отмычки.
Вскоре незадачливые грабители ужинали на квартире Смита. Что касается Броди, то он, успев переодеться, уютно устроился в постели своей возлюбленной.
На другой день вся шайка встретилась, чтобы поделить жалкую добычу: на каждого пришлось по четыре фунта. Раздосадованные, они разошлись по домам. Только Браун пошел не домой, а в полицию. Что заставило его выдать сообщников? Ему нужны были деньги, много денег. Их он надеялся получить после набега на акцизное управление. План сорвался. Злость и досада толкнули его на признание. Всю вину он, однако, свалил на Эйнсли и Смита, не упоминая о Броди.
Когда на другой день Броди проснулся, он узнал, что Эдинбург бурлит, словно котел. Наконец-то арестованы члены шайки, многие годы терроризировавшие город.
Можно не сомневаться, что Броди плохо спал в ту ночь. Однако он понимал — раз не арестован, значит, дружки еще не выдали его. Следовательно, у него есть время. Надо принять срочные меры. Ждать? Или сразу же исчезнуть?
На рассвете он был уже на пути в Ньюкасл. Там пересел в карету, следующую в Лондон.
Когда Смит, сидевший в эдинбургской тюрьме Тол-буси, каким-то образом узнал, что Броди благополучно улизнул, он послал за шерифом и заявил, что желает сделать чистосердечное признание и рассказать правду.
Велико было удивление, когда выяснилось, что всеми уважаемый мистер Уильям Броди был главой банды и ее мозговым трестом. Свои показания Смит подтвердил тем, что привел полицейских в дом Броди, где они нашли поддельные ключи, пистолеты, отмычки. Другие члены шайки дали те же показания.
Таким образом, тайная жизнь мистера Броди стала всеобщим достоянием. Тотчас же было расклеено объявление, в котором перечислялись преступления Уильяма Броди и предлагалось «вознаграждение 150 фунтов стерлингов тому, кто доставит его живым». Давалось и описание его внешности: «роста среднего, возраст—48 лет, широк в плечах, тонкий в талии, большие темно-карие глаза, подвижной рот, ходит всегда с палкой, с гордым, важным видом». Портрет распространили по всей Великобритании, и королевскому чиновнику Д. Уильямсону поручили организовать розыск. С помощью агентов с Боу-стрит он прочесал весь Лондон. Обшарили дешевые таверны, искали среди завсегдатаев петушиных боев, в порту. Однако Броди как в воду канул. И после нескольких дней безуспешных розысков поиски прекратили.
Где же скрывался все это время беглец? У одной верной и надежной подружки. Но долго задерживаться в столице Броди не намеревался. И вскоре под именем Джона Диксона он плыл на небольшом судне в Шотландию. Вместе с ним на корабле находились еще двое пассажиров — Гедесс, торговец табачными изделиями, и его жена, также возвращавшиеся домой. Однако неужели Броди решил явиться с повинной? Впрочем, не будем торопиться с выводами.
Разговорчивый и любезный мистер Диксон пленил престарелых супругов. Даже костюм его — экстравагантное синее пальто с красным воротником, парик, черный жилет, бриджи и сапоги — не шокировали их.
Корабль был на полпути к цели, когда Броди вручил капитану предписание от владельца судна изменить курс и следовать в Голландию, высадить мистера Диксона в Остенде, а потом плыть в Шотландию. Капитан повиновался.
Прежде чем покинуть судно, мистер Диксон попросил своих попутчиков об одном одолжении. Не будут ли они столь любезны и не передадут ли его письма трем его друзьям, когда прибудут в Эдинбург? Гедессы с радостью согласились.
Однако ни одно письмо не дошло по назначению. Броди слишком доверился торговцу табачными изделиями. Едва сойдя с корабля, Гедесс услышал о знаменитом воре и грабителе Броди. Описание его внешности напомнило ему обаятельного мистера Диксона. Вскрыв письма и прочитав их, он убедился, что не ошибся. После чего поторопился вручить их шерифу Эдинбурга. Так, чисто случайно, напали на след незадачливого Броди. На свою беду, в одном письме, адресованном старому приятелю Гендерсону, он неосторожно сообщал о своем местонахождении и дальнейших планах.
В Эдинбурге ликовали и не замедлили поставить в известность английского консула в Амстердаме, где, как писал в письме Броди, он намеревался отсидеться, а затем удрать за океан, в Америку.
Курьеры передвигались быстро. Получив предписание, консул нанял одного молодца по имени Джонс Дели, которому поручил отыскать преступника. Без особого труда ему удалось в порту напасть на след. Он привел его в таверну, где на втором этаже жил все тот же мистер Диксон.
На стук в дверь ответа не последовало. Дели вошел. Комната была пуста. Он открыл шкаф и заглянул внутрь — там прятался Броди.
Дели был вежлив, но строг: «Как поживает мистер Диксон, он же Уильям Броди? Следуйте за мной». Сопротивляться не имело смысла — Дели был огромным детиной. Через несколько дней арестованный предстал перед Д. Уильямсоном. Его поместили в той же тюрьме Толбуси, приставили надежную стражу. Вскоре он узнал, что судить будут лишь его и Смита. Остальные два члена шайки обещали дать показания и тем самым заслужить прощение.
В конце августа 1788 года начался суд. Люди рвались на процесс, несмотря на довольно высокую цену— пять шиллингов за право присутствовать в зале. Среди публики находился издатель, впоследствии описавший этот суд, — едва ли не самый длинный в истории английского судопроизводства: он продолжался без малого целые сутки.
Когда ввели подсудимых и они заняли свои места за барьером, лицом к четырем присяжным и судье лорду Браксфилду, показалось, что публика в зале, на амфитеатре и на балконе чуть привстала с кресел и скамеек. Так велико было любопытство эдинбуржцев, всем хотелось получше разглядеть их знаменитого земляка.
После того как прокурор зачитал обвинительное заключение, лорд Браксфилд — беспощадный «судья-вешатель» обратился к главному подсудимому: «Уильям Броди, вы слышали обвинение, признаете вы себя виновным или нет?» На что последовал циничный, но твердый ответ: «Мой лорд, я не виновен». Видимо, Броди еще на что-то надеялся. Хотя и знал, что выскользнуть из железных лап «судьи-вешателя» мало кому удавалось. Этот сын шерифа, ставший лордом и в тот год как раз назначенный верховным судьей, был человеком грубым, саркастичным и отличался тем, что никого не щадил. Именно он, лорд Браксфилд, послужил прототипом для Уира Гермистона — главного героя одноименного последнего незаконченного романа Стивенсона. Писатель прямо указывал на то, что этот, по его мнению, самый сильный из его персонажей списан с Браксфилда.
Обвинение подготовило двадцать семь свидетелей, защита представила всего семерых. Главным ее козырем стала Джим Уэтт, возлюбленная Броди, с помощью которой адвокат пытался обеспечить алиби своему подзащитному. Однако ни ухищрения Генри Эрски-на — одного из лучших адвокатов Шотландии, нанятого Броди, ни его блестящая речь, в которой он пытался реабилитировать Броди, ни показания свидетелей, ничто не спасло его от справедливого возмездия.
На другое утро, в час пополудни, суд объявил о своем решении: признать виновными Уильяма Броди и Джорджа Смита и казнить их через повешение.
Броди поместили в камеру смертников. К ноге приковали цепь, правда, он попросил сделать ее подлинней, чтобы иметь возможность подойти к столу. Он много писал — просил друзей, советников, пэров походатайствовать за него. А пока, в ожидании помилования или смерти, Броди по давней привычке игрока сражался сам с собой в шашки на доске, которую начертил на полу, — правая рука играла против левой. Казалось, и в тюрьме оптимист Броди не унывал. В столь же хорошем настроении начал сочинять завещание. Он писал, что все его имущество конфисковали, поэтому у него ничего не осталось, кроме хороших и плохих качеств. «Одному своему близкому другу я завещаю, — писал он, — все мои политические знания о городском магистрате и корпорации», другому — «все мои фонды экономические, мою гордость и тщеславие», третьему «досталась его удачливость в игре в карты и кости». А своим «хорошим друзьям и старым компаньонам, Брауну и Эйнсли» он завещал «все свои плохие качества, и чтобы в конце концов они получили свою собственную петлю». Надо сказать, что в этом Броди не ошибся, их действительно вскоре повесили за другие преступления.
В день казни, как писала «Каледониен меркури», перед тюрьмой собралась толпа, какой «никогда не видели прежде», что-то около сорока тысяч. Взойдя на эшафот, Броди с достоинством поклонился членам городского магистрата, опустился на колени и прочел молитву. Затем поднялся и слегка подтолкнул дрожащего Смита: «Иди, Джордж, ты предстанешь первым». Когда настала его очередь, он спокойно отвязал галстук, надел петлю на шею и дал знак палачу. Так окончились две жизни Уильяма Броди.
Правда, он надеялся на третью жизнь. И не случайно перед казнью попросил, чтобы его тело сразу же отдали друзьям для погребения. Неужели он так спешил предстать перед Всевышним? Конечно, нет, его просьба объяснялась совсем другими причинами.
Дело было в том, что еще в тюрьме Броди навестил французский физик доктор Дегравер, который обещал воскресить его после смерти. Накануне казни сей эскулап вновь побывал в камере Броди и сделал карандашом отметки на висках и руках, чтобы не тратить зря время после повешения. Кроме этого, он вручил ему небольшую серебряную трубочку, которую тот вставил себе в горло за час до экзекуции. Она должна была предотвратить удушье.
После казни тело было доставлено в лабораторию, где ждал Дегравер. Однако специалист по оживлению так ничего и не добился. Броди умер, у него был переломан позвоночник.
Тем не менее, когда история с попыткой воскрешения Броди всплыла наружу, некоторые жители Эдинбурга с готовностью уверовали в нее и говорили, что Броди после казни выжил, что он вскоре уехал в Париж, где его будто бы и видел кто-то из соотечественников. Эта легенда жила долгие годы и до сих пор, как говорят, еще бытует в Шотландии. Хотя нетрудно удостовериться в обратном. Для этого достаточно посетить кладбище в Эдинбурге, где легко отыскать могилу того, кто жил двойной жизнью.
Нет, Уильям Броди не был воскрешен, пока Стивенсону не приснилась его дьявольская сказка о человеке с росчерком зла на лице.
… В три дня с работой было покончено. За это время Стивенсон написал три тысячи слов о докторе Джекиле и мистере Хайде. Конечно, трудность заключалась не в том, чтобы физически написать это количество строк, а в том, чтобы написать то, что хочешь. Ему казалось, что вещь удалась. Возбужденный и радостный Стивенсон сбежал вниз с рукописью в руках и заявил, что готов прочитать вслух новое произведение. С воодушевлением, часто жестикулируя, он читал низким, звучным голосом. Все слушали словно зачарованные. Лишь Фэнни оставалась равнодушной.
Когда чтение окончилось, Луис порывисто повернулся к жене, явно ожидая похвал. Она молчала. На вопрос мужа, как ей понравилась его новая повесть, мягко, но прямо высказала то, что думала. У повести нет цельности, и вместо настоящего художественного произведения получился бульварный роман. Так же как и в его пьесе о Броди, он увлекся внешним описанием, пожертвовал глубиной, вероятно, из-за спешки.
Что произошло потом, мы знаем из воспоминаний Ллойда Осборна — пасынка Стивенсона. Писатель побелел от гнева и буквально вылетел из комнаты. Однако вскоре вернулся относительно успокоенный. В руках он все еще держал рукопись. Подойдя к жене, коротко произнес: «Ты права». Затем направился к камину и бросил рукопись в огонь. Жена кинулась к нему, умоляла спасти написанное. Он отказался.
После этого Стивенсон вновь лег в кровать, взял карандаш и чистую бумагу. И хотя лихорадка усилилась, он никого не пускал к себе, лишь иногда звонил в колокольчик.
Три дня почти без сна он непрерывно писал, и наконец появились новые три тысячи слов «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда».
Теперь Стивенсон точно знал, что он написал то, что хотел. Наконец-то ему удалось ухватить внутреннюю сущность двойного образа Уильяма Броди и перевоплотить его в свои персонажи, расчленив на доктора Джекила и мистера Хайда.
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — тоненькая книжка в сто сорок девять страниц — была опубликована месяц спустя, в январе 1886 года. Однако сенсации не произвела. Более того, ее просто не заметили, пока лондонская «Таймс» не выступила с хвалебной рецензией. С этого дня произведение Стивенсона стало бестселлером.
И если всего было распродано пять тысяч шестьсот экземпляров «Острова сокровищ», то его новая повесть за шесть месяцев разошлась в количестве сорока тысяч экземпляров. Успех по тем временам невиданный. Не говоря уже о том, что автор заработал триста пятьдесят фунтов стерлингов — деньги, которые оказались весьма кстати.
Вспомнили в те дни снова и об Уильяме Броди. «Именно Броди, — писал критик Джон Хемпден, — породил доктора Джекила». То же самое утверждал и известный шотландский юрист того времени Уильям Рафед. Для него являлось несомненным, что «старое знакомство Стивенсона с Броди подсознательно оказало на него большое влияние» и что писатель не мог забыть эту «личность, чей характер представляет такой разительный пример смешения хорошего и дурного». Одним словом, для современников было ясно, что писатель был в долгу перед своим земляком, который как бы расщепил свое «я» надвое, жил двойной жизнью, резко разделив в своей душе добро и зло.
Почтовая карета, прибывшая из Нивеля, остановилась перед гостиницей «Отель де Колонн» в местечке Мон-Сен-Жан. Было одиннадцать часов утра 7 мая 1861 года. Погода стояла чудесная. Солнце успело высушить следы раннего дождя, и птицы звонко заливались в молодой листве.
Первым из кареты вышел пожилой мужчина лет шестидесяти, за ним, опершись на протянутую руку спутника, на землю ступила женщина с лицом, сохранившим следы былой красоты. Видно было, что путешественники утомлены дорогой. К тому же мужчина страдал от ломоты в ногах и непрестанно покашливал. Не дожидаясь, пока выгрузят багаж, оба направились в гостиницу. Едва они вошли в отведенное им помещение, как мужчина подошел к окну и распахнул его. Первое, что он увидел вдали, был каменный лев, памятник героям императорской гвардии, павшим на поле Ватерлоо в июне 1815 года. Точнее, перед ним простиралось плато Мон-Сен-Жан, где и разыгрались основные события теперь уже давнего трагического сражения.
Могло показаться, что приезжий только и ждал этого момента — окинуть взором поле великой битвы. Однако из окна гостиницы, естественно, сделать это в полной мере было невозможно. Но господин, по всей видимости, сгорал от нетерпения. Пока готовили завтрак, он успел сходить в табачную лавку под вывеской «Эсмеральда», где купил двенадцать открыток с видами местности. Впрочем, скоро он воочию увидит Женан, Ге-Сент, пройдет по холмам знаменитого плато…
Наскоро проглотив еду, он тут же один отправился по Нивельской дороге осматривать знакомые ему по книгам места былых боев.
Пора, однако, назвать имя господина, проявлявшего столь исключительный интерес к минувшему. Это был Виктор Гюго, известный писатель, живший в изгнании на острове Гернси. Вместе со своей давней подругой актрисой Жюльеттой Друэ он по морю добрался до Бельгии (во время морского путешествия схватил простуду, отчего и кашлял) и вот он в Мон-Сен-Жане, что напротив Ватерлоо.
Здесь, на месте великой битвы, он намерен завершить свой грандиозный роман. На целых шесть недель он укроется в этих местах, устроит себе логово, как позже скажет, в непосредственной близости от льва и напишет развязку своей книги. Только ради этого, собственно, Гюго впервые за девять лет своего изгнания и приехал с английского острова на материк.
Солнце стояло в зените, когда Гюго пешком отправился по широкому шоссе, вьющемуся по холмам, которые то как бы поднимали дорогу, то опускали ее, словно образуя на ней огромные волны.
Он миновал два каких-то местечка, состоявших из нескольких домиков, заметил вдали шиферную колокольню, прошел рощу и на перекрестке дорог остановился около «Гостиницы четырех ветров». Передохнув, двинулся дальше вдоль ярко-зеленых деревьев, посаженных у дороги. Дойдя до постоялого двора, Гюго свернул на скверно вымощенную дорожку. Она привела его к старинной кирпичной ограде. За ней виднелся фасад столь же древнего здания в суровом стиле Людовика XIV. Ворота были закрыты.
Гюго осмотрелся. Внимательный взгляд сразу заметил круглую впадину на правом упорном камне ворот. Не успел он нагнуться, чтобы получше рассмотреть изъян на камне, как ворота отворились и появилась крестьянка. Догадавшись, на что он смотрит, она с готовностью пояснила:
— Сюда попало французское ядро. — И добавила: — А вот здесь, — она указала на гвоздь чуть повыше на воротах, — след картечи…
— Как называется это место? — спросил Гюго.
— Гугомон, — ответила женщина.
Писатель понял, что находится перед знаменитой стеной. Теперь здесь располагалась ферма. Но всюду еще довольно отчетливо виднелись шрамы, нанесенные почти полвека назад. Гугомон — тогда это было «зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон; первый неподатливый сук под ударом его топора».
Ярость атакующих французов и отчаянная непоколебимость четырех рот англичан, засевших за стеной и в течение семи часов отбивавших натиск целой армии, оставили немало следов вокруг. Подле этой стены, ограждавшей строения, погиб чуть ли не целый корпус Рейля, а Келлерман израсходовал на нее весь свой запас ядер. «Если бы Наполеон сумел овладеть этим местом, — подумал писатель, — быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира».
Из-за стены послышалось рычание собаки. Как бы в ответ раздалось кудахтанье курицы и клекот индюшки, заскрипел ворот колодца. Мирная сельская картина. И тем не менее и эти развалины, источенные картечью, и некогда цветущий, а теперь полный сухостоя фруктовый сад, где в каждой от старости пригнувшейся к земле яблоне засела ружейная или картечная пуля, производили величественное впечатление.
В задумчивости стоял Гюго на месте, где началась великая битва.
— Мосье, — внезапно раздалось у него за спиной, — дайте мне три франка, и, если пожелаете, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо…
Перед Гюго возник неизвестно откуда появившийся небольшого роста человечек с хитрыми глазками, видимо, подрабатывающий тем, что добровольно исполнял роль гида в здешних местах. Писатель достал свою записную книжку.
Возвращался Гюго под вечер. Алые лучи заходящего солнца освещали плато Мон-Сен-Жан, по которому тогда, в июне, неслись в конной атаке кирасиры Мило. Сколько полегло их здесь! Вспомнились цифры: сто сорок четыре тысячи сражающихся, из них шестьдесят тысяч убитых. Адская бойня. Здесь яростно бурлил смешанный поток английской, немецкой и французской крови; здесь была истреблена английская гвардия, полегли двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля; у одной только стены и в развалинах замка Гугомон были изрублены, сожжены три тысячи человек… И все это лишь для того, размышлял Гюго, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог вызваться быть гидом у заезжего иностранца.
Вернувшись в гостиницу, Гюго записывает в дневнике: «Видел Гугомон и купил за два франка кусок садового дерева, в котором застряла картечь». Затем он раскрывает один из чемоданов и вынимает железный сундучок. Повернув ключ, извлекает оттуда толстую, исписанную быстрым почерком рукопись, десять лет уже странствующую вместе с ним по дорогам изгнания. В ней около тысячи пятисот страниц. Это последняя часть самого большого его романа.
В открытое настежь окно льется вечерняя прохлада, уютно горит лампа на маленьком столе из потемневшего орехового дерева. Тишина. Гюго перечитывает последние строки написанного:
«— Мариус! — вскричал старик. — Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив, благодарю тебя!
И он упал без чувств».
Рядом с этими словами Гюго помечает: «Прервано 17 марта 1861 года из-за подготовки к моему путешествию в Бельгию…»
К сожалению, сильная простуда, которую он подхватил во время бури на Ла-Манше, позволит возобновить работу над рукописью только через десять дней после приезда в Мон-Сен-Жан.
Постепенно, оправившись от болезни, он входит в свой обычный ритм. Каждое утро трудится по шесть часов. Прежде всего заготовляет огромное количество записей о битве при Ватерлоо. Связанные с этим эпизоды он напишет будущей зимой. Сейчас же главным образом сосредоточен на последних страницах своего романа.
Повествование идет к развязке. Гюго заканчивает главу «Бессонная ночь». В ней описана свадьба его молодых героев, двух влюбленных, Козетты и Мариуса, «которые ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет — любовь, увенчанную браком».
Вечером Жюльетта переписывает эти страницы, созданные накануне. И глухие рыдания подступают к горлу пятидесятипятилетней женщины. Читая, она вспоминает их собственную любовь, яркую толпу ряженых на улице Сестер Страстей Господних в последние дни масленицы, весь этот пестрый маскарад, смеющиеся маски паяцев, арлекинов и шутов, так красочно теперь описанные в этой главе, узнает многое из того, что они тогда, почти тридцать лет назад, переживали, о чем мечтали в ту ночь…
С особым чувством Жюльетта переносит на чистовую копию рукописи заключительные слова главы: «Любить, испытать любовь — этого достаточно. Не требуйте ничего больше. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь — это свершение».
В гостинице «Отель де Колонн» была написана и глава о самоубийстве Жавера. Сыщик, холодный и жестокий, причислявший себя к честным служителям закона, оказался принужденным выбирать между двумя преступлениями: отпустить человека — преступление, арестовать его — тоже преступление!.. Значит, на путях долга могли встретиться тупики?..
И неужели закон должен отступить перед преображенным преступником?
Не один десяток лет этот неподкупный полицейский, эта ищейка на службе общества, охотился за бывшим каторжником Жаном Вальжаном. А этот человек, которому надлежит надеть арестантский колпак, победил его, блюстителя порядка, победил, проявив к нему, Жаверу, великое милосердие, спас ему жизнь. И он, в свою очередь поправ закон, пощадил Жана Вальжа-на.
Дописав эту главу, Гюго зовет Жюльетту и читает ей. Это его ответ на вопрос, который она задала ему несколько месяцев назад: ей тогда не терпелось узнать, потерял ли этот чудовище Жавер след бедного и величественного господина мэра Мадлена, бывшего каторжника Жана Вальжана. Теперь Жюльетта знает, чем кончается этот поединок: «выведенный из себя» полицейский сыщик бросается в Сену. А что же будет с Жаном Вальжаном?
Об этом она узнает в той же гостинице 30 июня 1861 года.
В тот день, утром, в половине девятого, стремительное перо Гюго завершит свой бег по бумаге, и писатель поставит точку на последней странице рукописи.
За четыре часа до этого, на рассвете, его разбудила почтовая карета из Нивеля, вернее, ее кучер Жозеф, который, погоняя белую лошадь, насвистывал какую-то песенку. И в тот же час Гюго склонился над столиком из орехового дерева.
Лучи восходящего солнца постепенно наполняли светом комнату. Гюго простился со своим героем: он умер в феврале 1833 года, благословив два юных сердца, открыв им тайну и наказав вспоминать о нем. В предсмертные минуты Жану Вальжану показалось, что он, полуослепший старик, видит свет. Его озарял свет двух подсвечников епископа из Диня…
И в тот самый момент, когда Гюго дописал последнюю фразу, память его совершила скачок в прошлое, на тридцать лет назад.
Перед ним возник образ из далекого минувшего. Ему вспомнился вечер у парижского префекта и среди гостей брат хозяина монсеньер де Миоллис— благородный старец, который вот уже лет двенадцать как занимал епископскую должность в Дине.
Но почему именно этого служителя церкви вспомнил Гюго? В чем причина?
Истратив последнюю каплю чернил, которыми он писал, и поставив точку, Гюго пометил в дневнике: «Закончил «Отверженных» на поле битвы при Ватерлоо и в тот месяц, когда происходило сражение». В этот же самый месяц он дал и свое самое крупное сражение. Выиграл ли он его? Это станет ясно, когда книга выйдет в свет. Сейчас же важно одно — то, что многолетний труд завершен. И как часто бывает в соответствии с законами памяти, Гюго тогда же возвращается к началу, к истокам ручейка, которому с годами предстояло превратиться в многоводный мощный поток. Он совершает возврат в то время, когда еще смутно представлял, каким будет его главный труд (который сегодня, слава Богу, он закончил), но когда замысел уже зрел в нем и предстояло лишь выносить плод.
Целая жизнь прошла с тех пор, и многое из нее вобрали эти страницы. В том числе и образ его преосвященства де Миоллиса.
Когда Гюго встретился с престарелым епископом, а это было лишь однажды, то увидел невысокого роста человека, несколько располневшего, с мягкими, почти ласковыми чертами лица, но твердой поступью и прямым станом. На первый взгляд про него можно было сказать, что это добряк, и только. Но стоило с ним заговорить, как он преображался на глазах, становясь все значительнее, и тогда нечто возвышенное исходило от этой доброты. Это был, как скажет Гюго, пастырь, мудрец и человек. Про него говорили, что когда-то он, будучи скромным кюре в Бриньоле, говорил с самим Наполеоном и понравился тому своим чистосердечием. А вскоре после этой встречи простого и сравнительно тогда еще молодого священника, к удивлению всех, в том числе и его собственному, назначили епископом в Динь.
Что касается встречи Гюго с диньским епископом, то произошло то, что часто случается: хотя писатель и видел его только раз, но образ этого добродетельного пастыря с высоким спокойным лбом, увенчанным сединами, и мудрыми, излучающими добро глазами поразил воображение Гюго.
С этого момента писатель начал собирать материал о Шарле-Франсуа-Мельхиоре Бьенвеню де Миоллисе. Каким-то образом он раздобыл рукопись епископа, собственноручно им исписанную мелким, но четким почерком. В ней его преосвященство излагал учение священного писания, разъясненного отцами церкви и Вселенскими соборами. В сущности, это богословское сочинение носило компилятивный характер.
Автор трудолюбиво и скрупулезно собрал все сказанное отцами церкви и богословами на тему, скажем, «Об обязанностях» — общечеловеческих и каждого в отдельности. Из всех отобранных предписаний он составлял одно гармоническое целое. Ему хотелось сделать мудрость достоянием человеческих душ. В другом месте епископ рассуждал по поводу стиха из книги Бытия «Вначале Дух Божий носился над водами», сопоставляя этот стих с арабскими и халдейскими текстами; разбирал различные богословские сочинения.
Сведений, как видим, было не так уж много. Но этого оказалось достаточно, чтобы пробудить воображение Гюго. Перед ним вырисовывалась удивительная, как ему казалось, личность праведника, своей душевной чистотой творящего чудеса, доброго пастыря, исцелителя падших и заблудших. Впрочем, Гюго не ошибся. Вскоре ему удалось узнать в подробностях жизнь этого человека, пережившего революцию, разорение, изгнание, потерю семьи… Все это побуждает писателя и дальше делать о нем заметки, больше того, Гю-го задумывает роман, который должен был называться «Рукопись епископа». Правда, пока что у него нет четкого представления о будущей книге. Знает лишь, что в основу ее он положит историю о добродетельном динь-ском епископе, и прежде всего случай с каторжником.
Но каким образом Гюго стало известно о прошлом монсеньера де Миоллиса? Ведь, как было сказано, писатель видел епископа один лишь раз. И что это за случай с каторжником, о котором только что впервые было упомянуто?
Когда в 1826 году у Гюго родился сын Шарль и квартира на улице Вожирар стала тесной, семья перебралась в особняк на улице Нотр-Да-де-Шан. Дом, расположенный неподалеку от Люксембургского сада, казался по сравнению с прошлым жильем огромным, комнаты были просторными и светлыми. И сразу же зачастили друзья-литераторы, пошли гости, да и почитатели почувствовали себя свободнее.
Среди посетителей однажды оказался и каноник Ан-желен, пятидесятилетний священник, довольно моложавый для своих лет, крепкого телосложения и общительного нрава.
Что привело его на улицу Нотр-Да-де-Шан? Впрочем, вернее было бы задать вопрос наоборот: почему писатель пригласил к себе этого каноника? А именно Гюго назначил эту встречу. Ему было важно побеседовать со священником.
И вот гость сидит перед писателем. О чем же говорит святой отец? Он рассказывает о монсеньере де Миоллисе, епископе из города Динь, где в молодые годы служил секретарем епархии.
Проводив священника, Гюго коротко записывает только что услышанное. Он явно доволен. В это утро значительно пополнилось досье будущей книги. Особенно ценным окажется рассказ о встрече епископа с каторжником, чему каноник лично был свидетелем.
… Случилось это более двадцати лет назад, в первые дни октября 1806 года. Примерно за час до захода солнца в маленький городок Динь вошел путник. На вид ему было лет сорок шесть — сорок восемь, коренастый и плотный, с загорелым и обветренным лицом. Одет в лохмотья — рваная серая блуза с заплатами, ветхие, в дырах штаны, башмаки на босу ногу. Видно было, что шел он издалека и сильно устал.
Это был освобожденный с тулонской каторги преступник. Звали его Пьер Морен. Пять лет назад, в 1801 году, его приговорили к галерам за кражу куска хлеба.
Под деревьями эспланады он остановился и напился из фонтана. Затем направился к мэрии, где ему надлежало отметить свой паспорт. Жандарм, сидевший на крыльце, видел, как Морен вышел на улицу и, опираясь на суковатую палку, побрел к постоялому двору «Кольбасский крест». Хозяин, увидев желтый паспорт' преступника, выгнал Морена. Точно так же с ним обошлись в кабачке, куда он попытался войти, чтобы поесть за свои деньги, которые у него имелись. В тюрьме, где он попросил приюта на одну только ночь, его тоже не приняли, предложив совершить что-нибудь такое, за что его схватят, и тогда, пожалуйста, входи как арестант.
Ему казалось, весь городок ощетинился, всюду его провожали ненавистные взгляды, вслед неслось: «Воровское отродье». А когда он попросил у крестьянина с бычьей шеей, ради Бога, дать ему напиться, тот ответил: «А пулю в лоб не хочешь?»
Отчаявшись, Морен решил устроиться в собачьей конуре, но и пес оскалил на него зубы. Покидать город было поздно — ворота уже закрыли. В этот момент какая-то сердобольная женщина указала ему на низенький домик рядом с епископством.
— Попробуйте постучать в эту дверь.
Это была дверь монсеньера де Миоллиса. Здесь каждый, кто бы он ни был, мог рассчитывать на кров и пищу. Так, бывший тулонский каторжник провел ночь под кровлей милосердного епископа города Диня. Факты — а они абсолютно достоверны — этим, впрочем, не ограничиваются.
Епископ принял самое горячее участие в судьбе Пьера Морена. Не раздумывая, он написал своему брату графу Секстиусу, наполеоновскому генералу, исполнявшему одно время обязанности губернатора Рима, письмо, в котором рекомендовал тому Пьера Морена.
Граф выполнил просьбу и сделал бывшего каторжника не то своим денщиком, не то чем-то вроде ординарца. И Пьер Морен оправдал доверие. Он был храбрый солдат, честно исполнял свой долг. Во время боя его видели в самой гуще сражения. Казалось, он стремился вернуть себе доброе имя. «Цена выкупа в его глазах все увеличивалась. Он всячески старался изгладить и искупить свое прошлое». И он доблестно искупил его: Пьер Морен пал под наполеоновскими знаменами на поле Ватерлоо.
В отличие от него епископ Миоллис прожил долгую жизнь праведника и умер глубоким стариком.
Встреча с каноником Анжеленом и его рассказ как бы подлили масла в огонь воображения Гюго. Писатель продолжает пополнять досье романа, в частности наводит справки о епископе у его родственников, живших в Париже, и даже рисует план Диня, где указаны улицы и площади города. К этому времени, видимо, первый начальный замысел будущей книги стал более определенным, а образ диньского епископа все больше, казалось, походил на своего прототипа. Много лет спустя все так и восприняли выведенный в романе образ, хотя в книге у него другое имя — епископ Мириэль. И когда каноник Анжелен, доживший до дня опубликования «Отверженных», раскрыл роман Гюго и прочел первые главы, он не удержался от восклицания: «Это он, это монсеньер Миоллис! Я узнаю его!» И действительно, епископ в романе во многом походил на его преосвященство в жизни. Возмущенные родственники покойного, признав это сходство, выступили, однако, с протестом в защиту его памяти: Мириэль в «Отверженных» не соответствует своему историческому прототипу. В негодующем письме, опубликованном в «Юнион», племянник епископа писал о том, что автор злостно исказил характер Миоллиса, извратив к тому же и некоторые факты его жизни.
Особенно возмущало их то, что по воле писателя епископ испрашивает благословения у бывшего члена Конвента, смутьяна и революционера. Такого в жизни монсеньера Миоллиса действительно не происходило. Господа родственники гневались, мы же с удовлетворением отмечаем это несоответствие с фактами жизни диньского епископа, так как в этом видим подлинно художнический подход к материалу. Впрочем, и у этого эпизода имелись свои источники. Так, в 1927 году в журнале «Ревю д’Истуар литтерер де ла Франс» была опубликована статья, в которой утверждалось, что вся сцена своеобразного поединка бывшего члена Конвента с епископом Мириэлем восходит к книге лионского автора Балланша «Человек без имени», первое издание которой вышло в 1820 году.
Однако если обратиться к этой книге, то нельзя не заметить, что в ней происходит противоположное тому, что случается у Гюго. Балланш рисует скромного, из хорошей семьи человека, исполненного благих намерений, который, став членом Конвента, проголосовал за смерть короля, «заразившись настроениями жаждущей убийства толпы». Ужаснувшись некоторое время спустя своему поступку, он бежит за границу, где живет много лет в одиночестве, в раздумьях, в угрызениях совести до того дня, когда в 1816 году священник утешает, просвещает его и учит, что все, принимаемое за отчаяние, было только искуплением его вины, какого желал Господь. И бывший член Конвента бросается перед святым отцом на колени, а спустя некоторое время умирает, примиренный с миром и Богом.
Но позвольте, в романе Гюго происходит прямо противоположное: епископ, который приходит отвратить бунтаря от пагубных помыслов, понимает, что перед ним не злодей, а праведник, убеждается в правоте идей революционера и просит у него благословения. Иначе говоря, вместо того, чтобы самому благословить покаявшегося грешника, Гюго придает, возможно и вычитанному факту, абсолютно противоположный смысл. Он заставляет своего епископа преклонить колени перед умирающим членом Конвента. Это не исключает того, что Гюго действительно знал книгу «Человек без имени», знал и ее автора, избранного в 1844 году членом французской академии и три года спустя умершего, о чем есть отметка в дневнике Гюго.
Впрочем, исследователи указывают еще один источник этого эпизода в романе. В 1935 году в журнале «Меркюр де Франс» появилась статья, автор которой доказывал, что Гюго воспользовался устным рассказом своего коллеги, писателя Ипполита Карно, об обстоятельствах смерти бывшего члена Конвента по фамилии Сержан-Марсо. Что же, возможно, Гюго знал и об этом члене Конвента. И тем не менее епископ Мириэль в романе Гюго, в общем-то столь мало похожий на священнослужителей той эпохи, одновременно является и не является монсеньером Миоллисом, как и член Конвента, описанный Балланшем, не есть Се-ржан-Марсо, о котором поведал Карно. Вспомним слова самого Гюго: «Мы не претендуем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен, скажем только одно — он правдив». Руководствуясь реальными фактами, писатель взял своих героев в соответствии со своими замыслами. Для этого и понадобилось изменить смысл и «перевернуть» заимствованный у других авторов эпизод встречи священника с членом Конвента. У Гюго встреча бывшего члена Конвента с епископом Мириэлем с самого начала повествования обозначает тему революции.
Точно так же, в соответствии со своим замыслом, Гюго переосмыслил и историю Пьера Морена. Случай с каторжником послужил главному — подал мысль о создании широкой социальной фрески.
В какой, однако, мере Гюго воспользовался ставшим ему известным случаем с каторжником? И знал ли писатель о дальнейшей судьбе Пьера Морена? Возможно, что и знал. Однако вся последующая жизнь бывшего преступника, его военные приключения, честно говоря, мало интересовали писателя. Занимал его один-единственный факт — встреча епископа и каторжника, благодеяние святого отца и то, как гость отплатил за это черной неблагодарностью, украв, как вы помните, столовое серебро. Впрочем, вот этого уже не было на самом деле. Вся история с кражей серебра— гениальный вымысел художника. Гюго оставался бы холодным копиистом действительности, если бы не был наделен способностью выдумывать правду. Реальная жизнь дала зыбкие и смутные образы, пишет в связи с этим А. Моруа, Гюго же по своему усмотрению распределил свет и тени.
А теперь вновь заглянем в досье романа и обратим внимание на документ, под которым стоит дата: «31 марта 1832 года». Это составленный по всем правилам контракт с парижским издателем Госленом о задуманном, но не озаглавленном двухтомном романе— социальной панораме XIX века. В основе его сюжета — все та же история епископа из Диня и каторжника Пьера Морена, которую Гюго хранит про запас.
Второй документ из досье — простая заметка о заводе черного стекла и его изготовлении в одном из северных департаментов. Но при чем тут черное стекло?
— Мой каторжник, ставший честным человеком, — объяснял писатель Гослену, — будет промышленником и облагодетельствует небольшой городок Монтрей-сюр-Мэр, в котором с незапамятных времен специальной отраслью промышленности была выработка поддельного, под немецкое, черного стекла. Какой-то неизвестный усовершенствовал этот способ. Этим неизвестным и был мой каторжник.
— Отличная идея, — согласился из вежливости издатель. — А что же дальше?..
Порывы осеннего ветра сотрясают стекла в доме на улице Сен-Анастаз, где живет Жюльетта Друэ. Хозяйки, однако, не видно. В комнате за большим дубовым столом с изогнутыми ножками сидит Виктор Гюго.
Потрескивают и чадят сырые дрова в камине. Скрипит перо…
Неслышно входит Жюльетта, в руках у нее плед: надо укрыть гостя. Подойдя, она через его плечо читает написанные посреди листа два слова: «Жан Трежан». И рядом на полях дату — «17 ноября 1845 года». Она знает — это роман, над которым писатель трудится много лет. Гюго не раз рассказывал ей о епископе из Диня, о каторжнике Пьере Морене — прототипе его героя Жана Трежана и о канонике, который, собственно, и поведал ему эту историю чуть ли не пятнадцать лет назад.
— Пьер Морен был каторжником, всеми гонимым, униженным и отверженным, — говорит ей Гюго. — Никто, кроме милосердного Миоллиса, не захотел сжалиться над ним, проявить человеческое сострадание. Но за что этому несчастному приходится платить столь дорогой ценой, какое преступление совершил этот бедняк? Всего-навсего украл немного хлеба, может быть, лишь одну булку, чтобы не умереть с голоду. И только за это из него сделали каторжника! Да, именно так — сделали, ибо каторжников создает каторга. Не будет странным, если он, оказавшись на воле с волчьим паспортом и изуродованной душой, озлобленный и отчаявшийся, пойдет на новое преступление. И он совершает его: у человека, давшего ему кров и пищу, крадет столовое серебро. Жандармы хватают вора. Это значит — снова арестантская куртка, тяжелое ядро, прикованное цепью к ноге, голые доски вместо постели, работа, галеры, палочные удары. Но тут совершенно неожиданно для него происходит следующее: епископ заявляет, что серебро не украдено, это его подарок. Мало того, на глазах оторопевших полицейских он отдает в придачу и серебряные подсвечники, которые будто бы тоже подарил ему. И предлагает опешившему вору употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком. Так бывший каторжник рождается к новой жизни. Монсеньер Мириэль — этим именем я назову епископа Миоллиса — вместе с подсвечниками передает Жану Трежану залог искупления.
Кстати, — продолжает Гюго, — почтенный Миол-лис, оказавший мне, сам того не ведая, столь ценную услугу, скончался всего лишь два года назад. Он умер в своем родном городке Экс-ан-Провансе…
Таков все еще в общих чертах замысел будущего романа. Но на подступах к нему уже созданы повести «Последний день приговоренного к смерти» и «Клод Ге». Обе основаны на подлинных фактах, лично собранных писателем, хотя первую автор выдал за найденные в тюрьме записки приговоренного к гильотине, сюжет второй взят прямо из газетной хроники. У Гюго хранилась пожелтевшая вырезка из «Судебной газеты», где говорилось, что рабочий Клод Ге из Труа был казнен за убийство надзирателя тюрьмы, в которую он был заключен за кражу хлеба для своих голодающих жены и ребенка. Хлеб и дрова на три дня для семьи и пять лет тюрьмы — таков первоначальный печальный результат. А дальше — убийство жестокого надзирателя и смерть несчастного, доведенного до отчаяния узника. «Снова казнь, — записал в те дни Гюго. — Когда же они устанут? Неужели не найдется такого могущественного человека, который разрушил бы гильотину?» Для обслуживания этого тяжелого железного треугольника содержат восемьдесят палачей, получающих жалованье шестисот учителей. И дальше Гюго переходит к главному — вопросу об устройстве общества в целом. Почему он украл, почему убил этот человек со светлым умом и чудесным сердцем? Кто же поистине виновен? Он ли? — спрашивает писатель. И добавляет, что любой отрывок из истории Клода Ге может послужить вступлением к книге, в которой решалась бы великая проблема народа XIX века.
Сейчас он пишет как раз такую книгу. Чтобы ускорить ее рождение и продлить свой рабочий день, Гюго обедает лишь в девять часов вечера. «Так будет продолжаться два месяца для того, чтобы продвинуть Жана Трежана», — записывает он в дневнике. Уверенный, что теперь работа пойдет, он заключает повторный договор с Госленом на издание первой части своего романа.
Новая его книга вберет в себя многие события, свидетелем которых был Гюго: и треск перестрелки на парижских улицах в июньские дни 1830 года, и революционный, недолгий, как весенняя гроза, взрыв 1832 года, и баррикады 1848-го. И всякий раз, чувствуя приближение бури, Гюго откладывал перо, прятал незаконченную рукопись в железный сундучок вместе с другими тетрадями, записными книжками, крепко перевязанными пачками писем и выходил на улицу. Он слышал, как летом 1830-го возле Аустерлицкого моста какой-то каменщик прокричал: «Рабочие, объединяйтесь!» Видел мужчин в рубахах с засученными рукавами, несущих по улице Сен-Пьер-Монмартр знамя, на котором было написано «Свобода или смерть!». Шел в июне 1832 года вместе с толпой, провожавшей в последний путь генерала Ламарка, и был свидетелем того, как над головами демонстрантов взметнулось красное знамя, вслед за тем воздух разорвали три выстрела: мятеж снова расцвел на парижских мостовых. В феврале 1848 года на улице Сен-Флорантэн он присутствует при сооружении баррикады, которую строят, распевая песни, гамены — уличные мальчишки лет четырнадцати. Разбирая мостовую, ребята весело перекликаются:
— Баболен!
— Шаврош!
На другой день король-буржуа Луи-Филипп взял в руки перо, которое ему подал сын, герцог де Немур, в нерешительности немного подержал его и вдруг гневно расписался под своим отречением. А еще день спустя, в пятницу 25 февраля, Гюго был назначен исполняющим обязанности мэра VIII округа. К этому моменту Временное правительство ликвидировало звание пэра, титул, которого Гюго был удостоен четыре года назад.
Под последней строкой рукописи, начертанной в феврале 1848 года, Гюго позже пометит: «Здесь умолкает пэр Франции и продолжает изгнанник». Запись эту он сделает в декабре 1860 года на острове Гернси, где живет после переворота, совершенного Луи Бонапартом. Девять лет назад писателю пришлось покинуть родину. Ему удалось вывезти кое-какие бумаги и среди них рукопись романа, который теперь называется «Нищета». На чужбине, продолжая работать над ней, он снова сменит название.
Перечитав за семнадцать дней свой роман, строку за строкой, переделав многие главы, написанные ранее, а заодно и имя героя на Жан Вальжан, Гюго зачеркивает старое название и выводит новое: «Отверженные». И Жюльетта, переписывая свежие рукописные листы, потрясенная, признается автору:
— Я переживаю судьбу всех этих персонажей, разделяю их несчастья, как если бы они были живыми людьми, — так правдиво ты их описал…
Никто не сомневается сегодня в том, что каторжник Пьер Морен, сложивший свою буйную голову под Ватерлоо, послужил прообразом бессмертного Жана Ва-льжана. Но только ли этот ушедший в безвестность несчастный стал прототипом героя Гюго? А другой заключенный, описанный в одноименной повести, — Клод Ге? И его называют в числе прототипов. Он тоже попал в тюрьму только за то, что украл немного хлеба.
Неужели те, кто творит правосудие, не понимают, что только голод толкает на воровство, а воровство ведет к дальнейшим преступлениям! Может быть, кому-то это покажется парадоксом, но каторжники вербуются законом из числа честных тружеников, вынужденных совершать преступление. Поэтому смирный подрезальщик деревьев Жан Вальжан превращается в грозного каторжника под номером 24601.
Гюго давно задумался над этими вопросами. Преступление и наказание, причины, толкающие к роковой черте, закон, косо смотрящий на голод… Красный муравейник Тулона и Бреста — каторга, где в красных арестантских куртках, в цепях томятся галерники с позорным клеймом на плече. Они живут одной надеждой— вырваться из этой страшной «юдоли печали». Но, оказавшись на свободе с волчьим паспортом, всюду гонимые, без работы, они вынуждены совершать новые проступки. И снова должны надеть красную куртку. Либо, пройдя все ступени падения, взойти на эшафот.
Всю жизнь Гюго боролся за отмену смертной казни. Произносил речи, выступал за амнистию, обращался с просьбами о помиловании, писал статьи. Писатель доказывал, что смертная казнь уже не соответствует нашей цивилизации. «Давно уже кто-то провозгласил, что боги уходят, — писал Гюго в 1832 году. — Недавно другой голос громко заявил: короли уходят. Теперь уже пора появиться третьему голосу и громко сказать: палач уходит».
В этой долгой борьбе, которую вел писатель, сильнее любых логических доводов, сильнее самых веских доказательств оказались художественные образы, созданные им. Среди них — и осужденный, который ПИшет свои записки перед казнью, и Клод Ге, и, конечно, Жан Вальжан.
Но чтобы создать эти характеры, надо было их изучать.
В бумагах писателя находились записи, сделанные еще в 1823 году, где перечислялось, какие наказания полагаются каторжнику за те или иные проступки: смерть, продление срока, палочные удары.
С этого времени писатель начнет постигать мир отверженных и неоднократно посетит ад, где томились парии закона. Не раз Гюго пересекал ворота Тулонской каторги, бывал в тюрьмах Бреста и Парижа, наблюдал, как заковывают в цепи партии каторжников, отправляемых на галеры.
Миром отверженных, миром низвергнутых в этот ад нельзя было пренебрегать при описании нравов, при точном воспроизведении тогдашнего общества.
… В начале сентября 1861 года Виктор Гюго вместе с Жюльеттой вернулся из Мон-Сен-Жана на остров Ге-рнси. Спустя месяц писатель начал переговоры с бельгийским издателем. За тридцать лет Гюго четыре раза продавал права на «Отверженных». Теперь он подписывает в последний раз контракт с Альбером Лакруа, безоговорочно согласившимся на условия автора. За исключительное право на опубликование романа в течение двенадцати лет Гюго получил триста тысяч франков золотом. Сумма по тем временам астрономическая, и банкиру Оппенгеймеру, взявшемуся предоставить издателю такого размера ссуду, пришлось самому часть денег занимать у коллег. Менее чем за шесть лет, с 1862 по 1868 год, молодой Лакруа заработал на романе Гюго более полумиллиона чистой прибыли.
Что знали о книге Гюго, над которой он так долго работал, до того, как она вышла в свет? Ровным счетом ничего. Известно было лишь ее название — «Отверженные». Оно настораживало, книгу ждали с любопытством. Не удивительно, что первое издание, появившееся в начале 1862 года, разошлось молниеносно: за два дня был распродан весь тираж — семь тысяч экземпляров. Тотчас же потребовалось новое, второе издание, которое и вышло через две недели. Почти одновременно роман появился в книжных лавках Лондона и Брюсселя, Лейпцига и Мадрида, Варшавы и Милана; его успели издать даже в Рио-де-Жанейро, так как перевод во всех случаях делался заблаговременно по гранкам.
В России роман «Отверженные» напечатали сразу в трех журналах. Однако, спохватившись, цензура, в лице самого царя, запретила отдельное издание книги из-за сильного революционного воздействия ее на читателя.
В самой же Франции вокруг книги Гюго разгорелся горячий спор.
Критики разделились на два лагеря. Одни хвалили роман, признавая его удачным, но таких было меньшинство, другие обрушились на Гюго с хулой. Его обвиняли в том, что все события и персонажи он выдумал. Такого нет в действительности и не может быть! В книге все вымысел, все невероятно, все ложь! Реакционная критика объявила книгу опасной и вредной.
До хозяина Отвильхауза на далеком острове Гернси доходили отзвуки битвы, разыгравшейся вокруг его книги. Прием, который оказала ей реакционная критика, не был для него неожиданным. Он предполагал, что не всем его правдивый рассказ придется по нраву. Но он и не думал потрафлять вкусам всех. Его цель была— потрясти, взволновать сердца картиной нищеты, безработицы, страшной жизни всех отверженных обществом. Данте создал свой ад, пользуясь вымыслом; Гюго пытался создать ад, основываясь на действительности. И считал, что до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, небесполезными.
— Ну вот, дело Пушкина и решено! — сообщил граф Милорадович, петербургский военный генерал-губернатор состоявшему при нем полковнику по особым поручениям Федору Николаевичу Глинке.
Пройдя затем из приемной в кабинет и, по обыкновению, сняв мундир, продолжал:
— Знаешь, душа моя, когда я вошел к государю с тетрадью, накануне за этим столом собственноручно заполненной Пушкиным своими недозволенными со-чиненнями, и подал сие сокровище, я присовокупил: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать!» И как ты думаешь, что он? Улыбнулся на мою заботливость.
Потом я рассказал, как у нас вышло дело. Мне ведь велено было взять его и забрать все его бумаги. Но я счел более деликатным пригласить Пушкина к себе. Вот он и явился… На вопрос о бумагах отвечал: «Граф, все мои стихи сожжены! У меня ничего не найдется на квартире, но, если вам угодно, все найдется здесь», — и указал пальцем на свой лоб. Затем заявил, что готов тут же вновь написать все когда-либо им сочиненное (разумеется, кроме печатного) с отметкою, что его и что разошлось под его именем.
И представь, сел за стол и исписал целую тетрадь!
Внимательно меня слушавший государь спрашивает: «А что ж ты сделал с автором?» — «Объявил ему от имени вашего величества прощение!..» — говорю я. «Не рано ли?! — нахмурился государь. И, еще подумав, прибавил: — Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соответствующим чином при соблюдении возможной благодарности отправить служить на юг…»
А ведь еще недавно, — продолжал Милорадович, — государь имел намерение сослать его в Сибирь за то, что наводнил Россию возмутительными стихами. И вот как все обернулось: на юг… — закончил граф свой рассказ, не то сожалея, не то радуясь решению царя.
В тот же час дело завертелось и, как свидетельствует Ф. Н. Глинка, исполнялось буквально по решению.
Между тем друзья Пушкина, еще ранее узнав, что его куда-то ссылают, чуть ли не в Соловки, принялись хлопотать о нем. За поэта вступился влиятельный при дворе В. А. Жуковский, считавший его надеждой российской словесности. «Неизменный друг» П.Ф. Чаадаев бросился к историку Η. М. Карамзину: умолял его просить о заступничестве императрицу Марию Федоровну, а также графа Каподистрию, тогдашнего министра иностранных дел. Не сидели сложа руки и Гнедич, Александр Тургенев, Оленин.
Видимо, хлопоты эти были не напрасны и «милость» царя, удивившая даже Милорадовича, не слу-чайна. Что касается места назначения службы, а точнее сказать — изгнания, то здесь сыграл роль Каподи-стрия.
Это был просвещенный человек, грек по национальности, уважаемый в литературных кругах, «умнейший и душевный», как отозвался о нем Карамзин. Графу Каподистрии тем легче было принять участие в судьбе Пушкина, что тот после окончания Лицея числился в подвластном ему ведомстве иностранных дел. Под видом перевода по службе коллежский секретарь Пушкин и был отправлен в распоряжение главного попечителя иностранных колонистов Южной России генерал-лейтенанта И. Н. Инзова, старого знакомого Каподистрии. Для свободного проезда ему вручили паспорт за № 2295 от 5 мая 1820 года.
Едва состоялось решение царя, Каподистрия распорядился в тот же день выдать опальному поэту тысячу рублей на дорожные расходы. Кроме того, ему поручили срочную депешу для Инзова и официальное письмо этому генералу, где говорилось о причине удаления Пушкина из столицы — «несколько поэтических пиес, в особенности же ода на вольность…» — и где также содержалась просьба принять поэта под свое «благосклонное попечение», на чем рукой императора было начертано: «Быть по сему».
Майским теплым утром следующего дня Пушкин уже тащился на перекладных по нескончаемому Белорусскому тракту. Одет он был в красную косоворотку, подпоясанную кушаком, на голове поярковая, из овечьей шерсти, шляпа, уберегающая от солнца, — стояла небывалая для той поры жара. До Царского Села друга провожали Дельвиг и Яковлев. А дальше путь на Ека-теринослав предстояло совершить вместе со своим дядькой Никитой Козловым.
Мелькали верстовые столбы, сменялись почтовые станции и лица смотрителей, кибитку трясло на ухабах и рытвинах, пыль проникала, казалось, под кожу— поэт впервые познавал «прелести» путешествия по дорогам России.
Десять дней спустя прибыли на место. Пушкин вручил депешу Инзову, в которой сообщалось о назначении того наместником Бессарабского края. Выходило, что и Пушкин, откомандированный в распоряжение генерала, должен был следовать за ним. Но в Кишинев, к месту пребывания наместника, он поспеет лишь через пять месяцев. За это время по разрешению доброго Ин-зова посетит Кавказ и Крым. И только в двадцатых числах сентября начнется его «душное азиатское заточение».
Опальный поэт, прибыв в Кишинев, остановился вначале в небольшой горенке заезжего дома Наумова. Город поразил его восточной пестротой, своим разноязычием.
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Ему нравилось затеряться в шумной толпе народного гулянья, влекло «базарное волненье… и спор, и крик, и торга жар». С любопытством вслушивался в незнакомые звуки молдавской речи, ловил греческие слова, узнавал французские и похожие румынские, стремился постичь цыганские и турецкие, пытался объясниться по-болгарски. А вечерами со скучающим видом появлялся в гостиных кишиневской знати: у богатого откупщика Варфоломея, где одно было хорошо — домашний цыганский оркестр да дочка Пульхерица «с нежной красой»; у вице-губернатора Крупенского, где собирались любители картежной игры и засиживались допоздна; а также у других, где обычно ему становилось, как говорил он, «молдованно и тошно». Посещал иногда бильярдную при трактире, здесь же обедал с приятелями, бывал на танцах в клубе и казино. Словом, вел рассеянную светскую жизнь. И только в компании военной молодежи, собиравшейся у подполковника Ивана Петровича Липранди, отводил душу, сыпал эпиграммами на молдавских бояр и иных вельмож, шутил, смеялся, спорил.
Был, правда, еще один дом, где бывать ему доставляло особое удовольствие, — у Михаила Федоровича Орлова, генерал-майора, командира 16-й дивизии. За столом в обед здесь собирались чуть ли не все квартировавшие в Кишиневе офицеры, а нередко гости из частей, расположенных в других городах.
И Липранди, и Орлов были людьми в высшей степени интересными не только по образованности и уму, но и по своим взглядам.
Пушкину нравилось в Липранди «истинная ученость», поэт охотно пользовался его богатейшей библиотекой и первое, что взял, был томик Овидия, сосланного, как и он, когда-то в эти места. Интересовала Пушкина и литература славянских народов, и история Молдавии, и труды по географии… Привлекала в дом Липранди и загадочная биография хозяина. Не то француз, не то испанец по рождению, человек, как говорили, странной судьбы, бретер и дуэлянт, он был десятью годами старше Пушкина. Ходили слухи, что после одной из своих многочисленных дуэльных историй Липранди вынужден был перейти из гвардии в пехотный полк, который, однако, вскоре оставил. В отставку он вышел в чине полковника. Положительно, образом жизни он походил на какого-нибудь Калиостро, ибо жил открыто и бог знает откуда брал для этого деньги. Много позже несколько прояснится возможный источник его дохода — видимо, Липранди состоял на службе в военно-политической разведке, в чем, собственно, впоследствии он и сам признавался, писал, что ему надлежало «собирание сведений о действиях турок в при-дунайских княжествах и Болгарии». Но тогда, в дни пребывания Пушкина в Кишиневе, никому это в голову не приходило. Липранди был просто добрым малым с таинственным прошлым.
Что касается Μ. Ф. Орлова, то его жизнь тоже как бы делилась на явную и скрытую. И у него собирались горячие головы, обсуждали политические события в Европе, жарко спорили о будущем России, о ее литературе, а потом читали стихи, пели лихие гусарские песни, и жженка лилась рекой, и веселью не было конца. Нередко в жарком споре сходились хозяин и молодой Пушкин, увлеченный тогда идеями Сен-Симона и в особенности аббата Сен-Пьера о вечном мире. В то время поэт верил, что правительства, совершенствуясь, постепенно устроят вечный и всеобщий мир. Орлов думал иначе. Не ждать милости от владык, а действовать. Как? От прямого ответа на этот вопрос генерал уклонялся. Однако из его рассуждений кое-что становилось ясно. Он, например, предрекал скорый насильственный перелом правления в Пруссии, после чего и Польша не замедлила бы тому последовать. Не скрывал своей радости по поводу революционных событий в Испании, в Неаполе и Пьемонте, в Португалии. Известия об успехах революционных полков Риего, Кироги, Пепе встречались мало сказать сочувственно — с энтузиазмом. Восхищаясь итальянскими победами, намекал на возможность подобного и в России, где общее недовольство всех сословий способно прийти в движение при первом же серьезном толчке. Особое сочувствие выказывал генерал борющимся греческим патриотам и вообще освободительному движению балканских народов.
Однажды, как обычно, у генерала собралась компания. За столом во время обеда речь зашла о свободолюбивых греках; их борьбе против турецкого владычества сочувствовала вся передовая Россия.
— Американский федерализм, гишпанские происшествия и неаполитанская революция подают пример другим. Вот и греки пуще взялись за турок, — заметил Μ. Ф. Орлов. И не то в шутку, не то всерьез добавил: — Ежели б мою 16-ю дивизию пустили на освобождение, это было бы не худо.
Слова привлекли всеобщее внимание, воцарилась тишина.
— У меня шестнадцать тысяч под ружьем, — продолжал при общем молчании генерал, — тридцать шесть орудий и шесть полков казачьих. С этим можно пошутить…
— Вы правы, — с горячностью произнес однорукий князь Александр Ипсиланти, грек, находившийся в чине генерала на русской службе. — Давно уже европейские народы, сражаясь за свои права и свободу, приглашали нас к подражанию. — И, поправив пустой рукав своей синей венгерки, воскликнул — Теперь час близок! — После чего таинственно умолк.
Пушкин с любопытством разглядывал героя Дрездена (в сражении при этом городе в 1813 году ему ядром оторвало правую руку). Умные глаза, благородный лоб, говорит с жаром, уверенно, при этом усы топорщатся в разные стороны, точно острые клинки. Он знал, что князь прибыл в Кишинев из столицы почти в одно с ним время, но видел его впервые. Знал и о том, что с Орловым тот был знаком еще по Кавалергардскому полку. Оба были баловнями судьбы — в двадцать с небольшим стали самыми молодыми генералами русской армии, оба являлись приверженцами вольнолюбивых идеалов. Пройдет совсем немного дней, и один возглавит дружины гетеристов, другой, чуть позже, выступит как декабрист.
Но тогда за хлебосольным столом кишиневского дома Μ. Ф. Орлова можно было лишь догадываться о существовании какой-то тайны, в которую был посвящен хозяин и его гость князь Ипсиланти. Поэту показалось, что и некоторые другие офицеры — В. Ф. Раевский, П. С. Пущин, Е. А. Охотников — во время разговора понимающе переглядывались, как какие-нибудь карбонарии.
Некоторое время спустя поэт заехал в Каменку, в поместье В. Л. Давыдова, куда прибыли на именины хозяйки дома и ее внучки и многие офицеры из Кишинева (все они были членами Южного общества декабристов). У милых и умных отшельников, как назвал он хозяев имения, Пушкин вновь оказался среди заговорщиков, не желавших, однако, открыть тайну поэту, видимо, оберегая его. Однако здесь поэт еще больше уверился в том, что тайное общество, по всей вероятности, существует, и весьма огорчился, когда понял, что от него это скрывают. Раскрасневшись, в сердцах, он вскричал с досадой: «Я никогда не был так несчастен, как теперь, я уже видел жизнь мою облагороженной и высокую цель перед собою…»
В конце зимы пришла весть о том, что в Молдавии и Валахии греки-гетеристы подняли знамя освободительной борьбы. Кто были эти гетеристы и почему их так называли?
В одном из одесских переулков стоит небольшой двухэтажный дом с балконом. У входа мемориальная доска. «В этом здании, — высечено на ней, — находился центр основанного в Одессе в 1814 году тайного греческого патриотического общества Гетерия, которое начало в 1821 году восстание в Греции против турецкого ига». По-гречески организация, о которой сообщает надпись, называлась «Филики Этерия» (то есть «Дружеское общество»). В России же она стала известна просто как Гетерия, и ее члены именовались гетериста-ми. Почти каждый греческий эмигрант (к тому времени их проживало в России довольно большое число, они бежали сюда, спасаясь от притеснения турок) становился членом общества, цель которого состояла в освобождении Греции.
Действия гетеристов были хорошо законспирированы. И хотя общество было массовым, мало кто знал о его существовании: каждый участник давал клятву строго хранить тайну. Измена каралась смертью. Гете-ристы основали эфории (комитеты) во многих странах, имелись они и в городах России, в том числе в Кишиневе. К сожалению, среди греков находились горячие головы, которые действовали недостаточно осторожно. Одним из таких людей был Николас Галатис. О нем Пушкину не раз рассказывали в Кишиневе, куда этот искатель приключений был выслан по высочайшему повелению года за два до прибытия сюда поэта.
В Россию Галатис приехал из Стамбула летом 1816 года. Человек смелый, а главное, настойчивый и энергичный, член «Филики Этерия», он добился того, что ему разрешили приехать в Петербург. Здесь он встретился с министром иностранных дел Каподистрией. Выступая как эмиссар «Филики Этерия», Галатис рассказал русскому министру о тайном обществе, готовящем восстание против османского ига, и предложил ему встать во главе заговорщиков. Министр категорически отверг предложение и обо всем доложил царю. Дальше Галатис вел себя столь же неосторожно. Неудивительно, что полиция пристально следила за каждым его шагом, постепенно раскрывая связи и намерения. Наконец заговорщическая деятельность Галатиса была прервана, его посадили в Петропавловскую крепость. Следствие выявило любопытные подробности о тайном обществе, весьма интересовавшие лично царя. После тщательного дознания, когда властям многое стало ясно, незадачливого эмиссара выслали в Кишинев. Но и здесь он продолжал агитировать за вступление в «Филики Этерия», делая это опять-таки неосторожно, подчас даже бравируя опасностью. Спустя некоторое время он был передан под расписку чиновнику русского генерального консульства в Яссах. С тех пор фигура его возникала то в Бухаресте, то в Вене, где он появлялся под различными именами. Возвращался и колесил по Молдавии и Валахии — снова Яссы, Черновицы, Ботошани… Склонный к авантюрам, он то и дело попадал в неприятности. Однажды в Ботошани поссорился с исправником города и решил проучить его. Сформировал вооруженный отряд, переодел всех в форму русских казаков и захватил на время исправничество. Это случилось как раз за два года до приезда Пушкина в Кишинев, и поэт долго смеялся, когда ему рассказали об этой проделке. Кончил Гала-тис тем, что отправился в Стамбул, где принялся шантажировать своих соратников — стал угрожать, что выдаст организацию, если ему откажут в деньгах. Это было равносильно измене.
Таков был Галатис. К счастью, подобных ему оказалось немного, и общество продолжало успешно действовать. Слухи о тайной организации дошли и до Пушкина. «Зачем я не грек!» — досадовал поэт, сожалея, что не может вступить в ряды гетеристов.
Еще осенью Пушкин перебрался на житье в дом самого Инзова. Он поселился в двух комнатах нижнего этажа. Окна, защищенные решетками, выходили прямо в сад, словно напоминая о том, что он все-таки узник, обреченный на изгнание неугодный поэт. Теперь он часто обедал у наместника, который, по всему было видно, полюбил юношу. Однако и любя нередко наказывал, оставляя без сапог, чтобы сидел дома. Выговаривал за безрассудство, за несдержанные политические речи, но особенно за дуэльные истории. Случались они большей частью по сущим пустякам. Так было, когда он стрелялся с офицером Зубовым. Поединок состоялся в предместье, называемом Малина, среди садов и виноградников. В то время как противник наводил пистолет и целился, Пушкин хладнокровно вынимал из шляпы черешни и ел ягоды, выплевывая косточки, выказывая полное пренебрежение к смерти. Зубов нажал курок, но, слава Богу, промахнулся. Пушкин же ушел, не сделав ответный выстрел, но и не помирившись.
Там же произошла и другая его дуэль — с подполковником Старовым. Дело вышло зимой, была метель, и глаза слепило. Пушкин стрелял первым и промахнулся. Сдвинули барьер до 12 шагов — и снова два промаха. Так и пришлось отложить поединок из-за непогоды.
В другой раз чуть было не дошли до дуэли с Н. С. Алексеевым и Ф. Ф. Орловым, одноногим полковником, известным своим удальством. Вспылив во время игры на бильярде, поэт вызвал их обоих. Друзьям с трудом удалось уладить дело.
Но и после этого Пушкин не переставал упражняться на пистолетах. И часто поутру, еще сидя в постели, стрелял по мишени на стене, пугая пальбой дядьку Никиту. А может быть, поэт готовился к иным битвам?
И когда вспыхнуло восстание гетеристов, когда наконец зашумели «знамена бранной чести», поэт с ликованием воспринял известие о начале освободительной войны, твердо веря, что Греция восторжествует и будет возвращена законным наследникам Гомера и Фемистокла. В те дни Пушкин всерьез задумывался, не присоединиться ли к повстанцам, чтобы лично участвовать в их действиях. Он внимательно следил за событиями по ту сторону Прута, восхищался гетеристами и даже внешне стремился походить на них, для чего отпустил по их подобию длинные волосы, написал Ипсиланти письмо и переправил его с французом, который отправлялся в греческое войско. Одним словом, готовился, ждал подходящего момента. Вот тогда-то, надо полагать, и пригодилось бы ему умение обращаться с оружием в иных, нежели дуэльные, обстоятельствах. «Праздный мир не самое лучшее состояние жизни», — записывает он в те дни.
Между тем Инзов продолжал всячески выгораживать своего неспокойного жильца. И, отвечая на запрос Каподистрии, желавшего знать суждение генерала о молодом Пушкине, а главное — о его поведении и умонастроении, писал, что тот, живя в одном с ним доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Однако в то же самое время, вопреки выгораживанию Инзова, в донесении секретного агента говорилось о том, что «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство…».
Возможно, причина его критических суждений заключалась как раз в том, что царское правительство оставило греков на произвол судьбы, один на один с турками, и отказалось двинуть войска через Прут.
Во всяком случае, известно, что в это время поэта привлекали образы тираноборцев и бунтарей.
Кавалькада всадников на рысях вышла к Пруту и около Скулян по льду переправилась через реку. Во главе конного отряда из пятидесяти человек на белом коне гарцевал Александр Ипсиланти — теперь глава восставших греков. Незадолго до этого князь оставил службу в русской армии и стал во главе тайного общества «Филики Этерия».
Все пятьдесят одеты были в венгерки черного сукна, того же цвета рейтузы и кушак, за поясом по два пистолета. На другом берегу черных всадников поджидали двести арнаутов из албанцев, болгар и молдаван.
Развернув темно-синее знамя с изображением золотого креста на одной стороне и феникса, а также надписи «Из пепла восстаю» — на другой, всадники направили коней на запад. Путь их лежал на Яссы, центр одного из двух дунайских княжеств — Молдавского. Хотя оно, как и другое княжество, Валахшское, находилось под турецким управлением, согласно договору с турками, пользовалось особым «покровительством» России. Вскоре в Яссах, в конце февраля 1821 года, митрополит освятил знамя восставших и меч Ипсиланти. И вслед за этим во все стороны полетели прокламации «безрукого князя». Начинались они обычно словами: «Час пришел, храбрые греки!..» — и призывали соотечественников к оружию. «Европа удивится доблестям, — заявлял Ипсиланти, — а тираны, трепеща и бледнея, избегут от лица нашего…» В конце своих прокламаций князь всякий раз многозначительно намекал на некую великую державу, которая будто бы «одобряет сей подвиг великодушный». Едва ли кто сомневался, что глава повстанцев намекал на Россию и ее помощь восставшим. Однако если даже Ипсиланти искренне верил в то, что русские войска вмешаются и выступят против турок, он, не имея на то достоверных данных, довольно легкомысленно вводил в заблуждение своих сподвижников. Русский царь и не помышлял помогать гетеристам.
Тем не менее призывы Ипсиланти возымели свое действие. Заволновались греческие общины Одессы и Кишинева; даже в Москве и других городах патриоты вносили деньги на правое дело. А вскоре потекли в войско Ипсиланти волонтеры, готовые сразиться с ненавистными поработителями. Из одной Одессы отправились полторы тысячи греков. Кто на подводах, а иные пешком, одетые в красно-синие безрукавки, в шароварах и цветных кушаках, они двигались по дорогам Бессарабии, оглашая степь словами гимна, написанного поэтом Ригасом, казненным турками лет двадцать назад. Судьба этого греческого патриота была хорошо известна Пушкину, как и его пламенные стихи:
Воспряньте, Греции народы!
День славы наступил,
Докажем мы, что грек свободы
И чести не забыл…
Их пели добровольцы, направлявшиеся в лагерь восставших. Многие из них, как писал Пушкин, став невольным свидетелем событий, распродали свое имущество, накупили сабель, ружей, пистолетов и присоединились к войску Ипсиланти. Восторг умов дошел до высочайшей степени. И вот под знаменем Ипсиланти семь тысяч человек!
То же, что в Одессе, происходило в Кишиневе. Тут создавались тайные склады оружия и боеприпасов, здесь окончательно формировались и обучались отряды добровольцев, и отсюда они переправлялись через границу.
Сюда же вскоре потекли и первые беженцы с той стороны Прута, главным образом знать и богатеи, встревоженные восстанием. И вскоре создалось положение, когда карантин в Скулянах не поспевал пропускать поток беженцев, число которых все возрастало и достигло нескольких тысяч.
В первые недели выступления Ипсиланти, казалось, ни у кого не было сомнения в исходе дела греков. Μ. Ф. Орлов так отзывался о своем друге Ипсиланти: «Тот, кто кладет голову за отечество, всегда достоин почтения, каков бы ни был успех его предприятия». Почти в тех же словах писал о нем и Пушкин: «Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал!»
В те дни Греция была символом борьбы за свободу. Горячее сочувствие Пушкина восстанию греков выразилось в стихотворениях «Гречанка верная! не плачь…», «К Овидию», «В. Л. Давыдову», в заметке об Ипсиланти и одном из его сподвижников Пендадеке, в дневниковых записях, в письмах…
Приблизительно к этому же времени относятся и замыслы поэта написать поэму о гетеристах, в том числе об отважном Иордаки Олимпиоти. Но почему, однако, о нем, а не о самом Ипсиланти, поначалу так восхищавшем поэта? В том-то и дело, что Пушкин изменил свое отношение к руководителю восставших. Отдавая должное личной его храбрости, он, как, впрочем, и многие другие, начал понимать, что тот «не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно».
Тогда-то поэт и обратил свое внимание на истинных героев восстания. К тому времени Ипсиланти бросил своих сподвижников на произвол судьбы. Сам бежал с поля боя, а их называл ослушниками и трусами. «Эти трусы и негодяи, — заметит позже Пушкин, — большею частью погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля, вдесятеро сильнейшего».
Среди тех, кто бился до конца, был и Иордаки Олимпиоти.
После того как в жестоком сражении при Драгошанах полностью погибла «Священная дружина»— личная гвардия князя из молодых греков, а сам он бежал в Австрию, остатки его армии продолжали отчаянно сопротивляться. Часть из них засела в монастыре Секу во главе с Иордаки. Огромные силы турок окружили монастырь. Участь его защитников была решена. И когда под мощными ударами рухнули стены и турки хлынули в монастырь, Иордаки с последними оставшимися в живых его защитниками укрылся на колокольне. Чтобы не попасть в руки турок, он поджег бочку с порохом и взорвал себя вместе с ворвавшимися сюда врагами.
Так погиб один из героев Гетерии. Другие сложили головы на берегу Прута под Скулянами — в последней битве повстанцев.
Сражение под Скулянами — одно из самых ожесточенных — нарисовано Пушкиным в его повести «Кирд-жали» столь подробно, с такими деталями, что невольно задаешься вопросом: откуда поэт мог узнать все это? Тем более, как он сам признавался, что сражение это «никем не описано во всей его трогательной истине». Повесть А. Вельтмана «Радой», где приводится рассказ о битве, содержит ряд интересных и ярких зарисовок событий и характеров гетеристов, с которыми, кстати, автор, будучи в одно время с Пушкиным в Кишиневе, был знаком лично. Однако появилась эта повесть в 1839 году. Встречается описание героической обороны при Скулянах и в анонимном произведении «Возмущение князя Ипсиланти в Молдавии и Валахии в 1821 году». Но едва ли оно было в то время известно многим. Документ этот был обнаружен в архивах только в наше время. Писатель Л. Большаков рассказал об этой первой, как он считает, рукописи по истории Гете-рии и возможном авторе ее в своей книге под названием «Отыскал я книгу славную».
О чем же свидетельствует Пушкин в своей повести «Кирджали»? Поэт рассказывает, как семьсот человек (греков, болгар, албанцев и представителей других народностей) героически сражались против значительно превосходящих сил неприятеля — нескольких тысяч турецких конников. Поначалу потери турок были огромными — до тысячи человек, меж тем как из гетеристов было ранено всего тридцать. Отряд их прижался к берегу Прута и выставил перед собой две маленькие пушки. Но скоро положение горстки храбрецов стало отчаянным. Часть была перебита, другие ранены. Оставшиеся в живых бросились в стремительное течение реки, и многие из них погибли в его водоворотах, преследуемые пулями.
И все же некоторые гетеристы достигли русского берега и укрылись в Скулянском карантине. Спустя несколько недель их можно было видеть в кишиневских кофейнях. Узорные куртки героев и красные, с острыми носами туфли начинали уже изнашиваться, но скуфейки все еще лихо были надеты набекрень, а из-за широких поясов по-прежнему торчали ятаганы и пистолеты. Герои Скулян вспоминали, попыхивая длинными чубуками, о сражениях с турками, ругали своих бездарных предводителей и славили тех, для кого смерть была слаще «угрызений чести». Рассказы гетеристов из кофеен разносились по городу, и весь Кишинев обсуждал недавние события.
Как-то зашел об этом разговор в канцелярии Инзова. Молодой чиновник Михаил Иванович Леке, по характеристике Пушкина, «человек с умом и сердцем», рассказал о том, что услышал от одного из участников Скулянской битвы.
— Нет, только представьте, — горячился Леке, — у гетеристов всего две крохотные пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря. Из них, бывало, палили во время именинных обедов. Так вот, когда защитники скулянского укрепления расстреляли из этих пушечек всю свою картечь, они послали Сафьяноса (позже он был убит) на наш берег, где в карантине содержались раненые. У них он отобрал для последних зарядов— что бы вы думали? — пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с ятаганов. Тот же, что поведал мне об этом, отдал на заряды свои последние двадцать беш-лыков. И теперь этот герой живет подаянием!
Присутствующий при сем Пушкин отложил перо (по повелению Инзова он в тот день переводил составленные по-французски законы для Бессарабии) и внимательно слушал рассказ молодого чиновника.
— А как звать вашего героя? — поинтересовался поэт.
— Кирджали, — был ответ.
Рассказ этот еще больше разжег интерес Пушкина к уцелевшим после поражения гетеристам. Он наблюдает их на улицах, в кофейнях, с некоторыми беседует и с восхищением пишет о них П.А. Вяземскому, обещая, если тот завернет в Кишинев, познакомить с героями Скулян и Секу и с сподвижниками Иордаки.
Возможно, что поэт побывал и в самих Скулянах, чтобы своими глазами увидеть места, где герои Гетерии переходили Прут. Такое предположение, в частности, высказывает Валентин Катаев в своей повести «Кладбище в Скулянах». Если так и было, то легко вообразить, что поэт остановился в Новых Скулянах на постоялом дворе, который расположен был на главной улице. Бывал, конечно, в карантине и на таможне, на почтовой станции, наблюдал смену пограничной стражи, ходил в молдавское село, где находилась православная церковь…
На берегу Прута к нему, возможно, подошел однажды инвалид, еще недавно служивший в карантине. Сразу же определив приезжего, решил излить ему свою досаду на начальника карантина, до срока уволившего его со службы. Весьма нелестно охарактеризовав того с разных сторон, инвалид закончил с издевкой: «Чего-чего, а уж храбрости ему не занимать. Сорок лет, говорят, служит, а отроду не слыхивал свиста пуль. Но вот во время недавнего сражения турок с греками там, на том берегу, Бог привел услышать. Как начали жужжать басурманские пули мимо его ушей, он чуть от страха не помер. И давай распекать нашего майора Корчевского, как допускаешь, мол, такое безобразие. Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которой гарцевали делибаши, и погрозил им пальцем. Представьте, те, увидя это, повернулись и ускакали…»
Пушкин почти точно запомнил фамилию этого майора, пригрозившего туркам пальцем, и вывел его в своей знаменитой повести под именем Хорчевского. Главное же его внимание было обращено на подлинных героев Скул янской битвы. Это и Сафьянос, погибший после того, как вернулся с зарядами к пушкам, и раненный в живот Кантагони. Одной рукою он поднял саблю, другою схватился за вражеское копье, всадил его в себя глубже, чтобы саблею достать своего убийцу, с которым вместе и повалился. Знаем мы, что и капитан Пендадеки, которому поэт посвятил специальную заметку, и Иордаки Олимпиоти — реальные персонажи, привлекшие внимание Пушкина.
Кто же в таком случае Кирджали? Был ли такой среди участников Гетерии? Да и существовал ли он вообще? Или герой этот — плод фантазии автора?
Вопрос этот возник давно, чуть ли не тотчас по выходе в свет повести Пушкина в 1834 году. С тех пор пытались дать ответ, придумал ли поэт своего героя или у него был реальный прототип.
Одни восприняли всю историю о разбойнике как «просто анекдот, только очень хорошо рассказанный», другие, подвергая сомнению ее подлинность, утверждали, что она «за весьма малыми исключениями неверна». Позже установят, что имя Кирджали упоминалось в документах иностранных консулов в Бухаресте и Яссах в период восстания Ипсиланти. Но большинство высказывали сомнение в существовании исторического прототипа у героя Пушкина. Считали, что Кирджали имя нарицательное, так, мол, называли всех разбойников — «кирджалиями». Может быть, и был подлинный герой, известный поэту, но имя его установить нет возможности. И вообще заявляли, что «история Кирджали темна», образ его «потускнел от времени, утратил историчность».
И все же не верилось, чтобы свою повесть Пушкин написал, изменив своему обычаю черпать вдохновение в самой жизни; недаром же он называл себя «поэтом действительности».
Едва ли не все, что было им написано в кишиневский период или создано позже на материале тех лет, основывалось на реальных фактах, на впечатлениях, полученных непосредственно во время поездок, от встреч и рассказов.
Из подлинного случая родились «Братья-разбойники». Направляясь в южную ссылку и оказавшись по дороге в Екатеринославе, Пушкин узнал здесь о действительном происшествии с двумя братьями-разбойниками, совершившими дерзкий побег, хотя они и были скованы одной цепью. Бросившись в Днепр, они достигли острова, где и укрылись. «Их отдых на острове, потопление одного из стражей мною не выдуманы», — сообщал Пушкин в письме к Вяземскому. Несколько позже, уже в Кишиневе, поэт побывал в остроге, где видел Тараса Кирилова — «разбойника», а по существу, народного мстителя. Встреча эта напомнила о двух братьях, бежавших на волю. Тогда же поэт набросал первый план будущей поэмы.
Известно, что и поэма «Цыганы» была написана на основе личных впечатлений. Поэт кочевал с цыганским табором по Бессарабии, влюбился в черноокую Земфиру, дочь булибаши — старосты цыган. Кончилась эта любовная история тем, что юная красавица бежала из табора с молодым цыганом. Покинутый, как и его Але-ко, поэт помчался было в погоню, но цыганки и след простыл.
А биография Сильвио? Разве его жизнь не напоминает кишиневскую жизнь И. П. Липранди: веселое общество, холостяцкие пирушки, карточная игра? К нему вполне относятся слова Пушкина, писавшего о своем герое Сильвио, что какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он и бедно, и расточительно, держал открытый стол для всех офицеров. Никто не знал источника его доходов. У него была неплохая библиотека, и он охотно давал читать книги, как Липранди давал их самому Пушкину.
Схож с прототипом и сам образ рассказчика— подполковника И. Л. П. (можно предположить, что это переставленные инициалы И. П. Липранди).
Что касается дуэли Сильвио и графа Б., то она, как мы знаем, почти доподлинно скопирована с поединка самого Пушкина и офицера Зубова.
А конец пушкинского бретера? Был убит под Ску-лянами, где предводительствовал отрядом гетеристов. Чью же судьбу изобразил поэт в этом случае? Ведь известно, что И. П. Липранди, хотя и просил разрешить ему сражаться вместе с греками, получил отказ. Однако и здесь Пушкин следовал за известными ему фактами, правда, относящимися к судьбе другого человека. Под Скулянами, как узнал поэт, погиб также его лицейский товарищ С.-Ф. Броглио.
Что касается Кирджали, то о нем упоминают Леке и Липранди. Значит, поэт и в этом случае изобразил подлинное лицо, о котором слышал от сослуживцев, а также от ветеранов похода Ипсиланти или с которыми лично встречался сам. Вероятность такой встречи не исключает, например, Б. А. Трубецкой, автор обширного исследования «Пушкин в Молдавии». «Может быть, — пишет он, — поэт присутствовал и при выдаче его туркам…» А это значит, что этот эпизод в повести «Кирджали» носит документальный характер. И Пушкин видел у ворот острога почтовую каруцу, окруженную толпой любопытных горожан, видел, как полицейские и солдаты вывели скованного Кирджали. Он показался поэту лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого роста, широкоплеч, необыкновенной физической силы. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; доломан из толстого синего сукна, широкие складки длинной рубахи навыпуск и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.
Разве не звучат как свидетельство очевидца тогда же написанные пушкинские строки:
… сегодня мы
Выпровождаем из тюрьмы
За молдаванскую границу……
..Кирджали.
Поэт запомнил эту встречу с грозным мстителем— одним из «известнейших клефтов», то есть греческих партизан. Впрочем, разве Кирджали был грек? Липранди пишет о нем как о болгарине родом из окрестности Охриды. А это значит, что герой Пушкина был самым настоящим гайдуком — так называли в Болгарии борцов против турецких поработителей. Не один год воевал Кирджали с ними, нападал на торговцев, на поместья бояр, а награбленное возвращал крестьянам.
Недалеко от древнего болгарского города Мелника есть старая водяная мельница. Возле нее нетрудно отыскать надгробную плиту. И хотя камень зарос мхом и покрыт плесенью, можно разобрать слова стершейся надписи. Она говорит об отважном гайдуке Донно, погибшем в бою с турецкими аскерами.
Таких примет немало встретишь на дорогах Болгарии.
… Едва начинал зеленеть лес и раздавались первые зовы кукушки, как в чаще на условленном месте и в назначенный час собирались гайдуки. Зиму они проводили в родных селах, ремесленничали, а по весне подавались в горы, где объединялись в дружины. И тогда от Шаргоры до Странджи, на Английской поляне и на вершине Мургаш, у Синих камней и Девичьей скалы, в ущелье, где пробивают себе дорогу чистые воды Ме-сты, раздавались гайдуцкие песни.
Настанет вечер — при лунном свете усеют звезды весь свод небесный.
В дубравах темных повеет ветер — гремят Балканы гайдуцкой песней!
Так писал Христо Ботев, воспевший непокорных духом удалых гайдуков, пять веков оглашавших своими песнями горы и леса.
Гайдуками их прозвали турки. Для них это слово означало разбойника, а для болгар стало синонимом народного защитника, борца за свободу.
Под гайдуцкое знамя вставали многие смельчаки. У них было отважное сердце и грозный вид: на плече старинное ружье, за поясом пара пистолетов и ятаган, на боку сабля. Одевались они по-разному, но почти на каждом была красная суконная рубаха старинного покроя, сборчатые домотканые шерстяные штаны, шитый серебром жилет и дамасский шелковый пояс.
Укрывшись под защитой леса и расположившись лагерем где-нибудь около студеного ключа, гайдуки приносили клятву верности и взаимопомощи. С этого момента жизнь их всегда была в опасности. Турецкая погоня постоянно шла по их следу. Головы убитых выставляли на шестах для устрашения. Но ничто не могло загасить пламя народного гнева. Повсюду гайдуков поддерживали, укрывали и кормили. И так было с давних пор, с того самого времени, как непокорные болгары поднялись против иноземцев.
Первое письменное свидетельство о болгарских гайдуках относится к 1454 году. В старинной хронике упоминается имя прославленного болгарского воеводы Радила, взятого в плен самим султаном. В ней говорилось: «В то же лето Мехмед II пленил Радила, болгарского воеводу, в Софии».
С тех пор во многих документах встречаются сведения о жизни и подвигах болгарских гайдуков. Султанский фирман от 1565 года предписывал покончить с болгарскими гайдуками. Известно, что в 1638 году был убит свирепый гайдук Чавдар-хан. Но оставался в живых его побратим Страхил-воевода. По приказу Мелек Ахмедпаши его софийский наместник Халил-ага в 1651 году преследовал с несметным войском гайдуков, поскольку их развелось больше, чем зайцев. Из подобных же документов известны и прибежища гайдуков. Такими местами в разное время являлись София, Рила и Пирин, а в 1683 году гайдуки контролировали всю главную военную дорогу от Царьграда до Белграда, от Софии и до Солуна. Это было немаловажно, так как жившие вблизи больших дорог находились под постоянной угрозой. Турки, проезжавшие мимо, могли любого угнать в плен, забить плетьми, обрезать уши каждому, кто пришелся им не по нраву.
В XVIII веке гайдуцкое движение стало поистине всенародным, боролась вся Болгария. Даже женщины шли в гайдуки, и многие из них становились их предводителями, например Береза-воевода, о подвигах которой рассказывали легенды. Гайдуки не только мстили за поруганную честь жен и матерей, но и выступали в защиту порабощенных соотечественников.
Насколько расширилось и какой размах приняло гайдуцкое движение, можно судить по путевым запискам некоего Евлия Челебича. Говоря о «великолепном» городе Петрич, он пишет: «Из-за многочисленных гайдуков почтенные люди не могут жить в этом городе, поэтому земли не обрабатываются».
Но турки не собирались просто так уступать гайдукам. Напротив, они ужесточили преследования народных мстителей. Многим из них пришлось тогда покинуть болгарскую землю и укрыться в соседней Валахии или перебраться в Бессарабию. Уходили в Сербию и Грецию, где вступали в местные отряды гайдуков и продолжали борьбу.
Дело этих соседних народов было делом и болгар. Многие из них отличились в борьбе совместно с греками против турецкой тирании и были отмечены наградами. Греческий историк Лавадис пишет: «Обильно лилась болгарская кровь вместе с греческой на полях сражений, где получил смертельный удар считавшийся до 1821 года непобедимым турецкий колосс». Против турок в тот год на стороне греков сражалась добровольческая болгарская гайдуцкая дружина под командованием отважного Панката. Тогда же, как сообщают документы, в боях участвовали «Спиро-болгарин из Бодена», «Димитр-болгарин из Сереса» и другие гайдуки. По всей Сербии гремели имена болгарских гайдуков братьев Бимбаши. Участвовали гайдуки во французской революции и в корпусе Гарибальди, добровольцами — в армии Кутузова, а позже — генерала Дибича, их видели в рядах повстанческих отрядов Тудора Влади-миреску, поднявшего знамя восстания в 1821 году, одновременно с выступлением Александра Ипсиланти. Да и среди тех, кто пошел за «безруким князем», было немало сынов Болгарии. Многих привел в отряды гетеристов прославленный капитан Мамарчев, до этого сражавшийся с турками на стороне русских в войне 1806–1812 годов. О нем написан исторический роман болгарским писателем К. Калчевым, изданный на русском языке. Примкнул к делу «Филики Этерия» и гайдук Кирджали. Двести человек привел с собой он в войско Ипсиланти. Перед тем как присоединиться к восставшим, Кирджали, собрав своих гайдуков, сказал им: «Братья, вот уже четыре года, как мы делим все опасности и радости борьбы. Но настало время, когда надо принимать решение… ибо пробил час независимости христиан от Турции…» Так гайдук Кирджали стал гетеристом.
Пройдет несколько лет, и Пушкин снова встретится с тем самым М. И. Лексом, от которого впервые услышал о знаменитом гайдуке. С того дня как на глазах поэта Кирджали, закованного в цепи, вывели из острога, усадили на каруцу и повезли, он ничего не знал о нем.
Кирджали выдали тогда туркам по настоянию паши. Для этого полиции пришлось немало потрудиться, и она буквально сбилась с ног, разыскивая укрывшегося на русской территории «разбойника». «Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами», — писал Пушкин в точном соответствии с подлинным фактом, как позже установили исследователи. Нетрудно догадаться, откуда поэт узнал об этом. В канцелярию Инзова в связи с делом о поисках гетериста Кирджали и трех его сподвижников поступали донесения от частного полицейского пристава Павлова. Вполне естественно, что сообщения эти обсуждались и в канцелярии, в доме гражданского губернатора К. А. Катакази, где бывал поэт. Все это подогревало интерес Пушкина к прославленному гайдуку, участнику Гетерии. Наконец представился случай его повидать, но, к сожалению, уже скованного и в окружении солдат. С тех пор образ отважного гайдука жил в памяти. Его имя возникало в набросках стихотворений, поэт даже помышлял было сочинить о нем что-нибудь значительное: сначала задумал поэму и записал несколько первых строк, а потом стал склоняться к тому, чтобы написать небольшую повесть о гайдуке, участнике Гетерии.
Новая встреча с М. И. Лексом, возможно, ускорила осуществление замысла. Когда старые знакомые по Кишиневу разговорились о прошедшем, Пушкин спросил:
— А что ваш приятель Кирджали? Не знаете ли, что с ним сделалось?
В ответ поэт услышал продолжение истории гайдука, которую и поведал нам в своей повести.
«Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покамест заключили его в тюрьму.
Невольника стерегли семеро турок… Между стражами и невольником возникла определенная связь. Однажды Кирджали сказал им: «Братья! Час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память».
Турки развесили уши.
— Братья, — продолжал Кирджали, — три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Ясс котел с гальбина-ми. Видно, ни мне, ни ему не владеть этим котлом. Так и быть: возьмите его себе и разделите полюбовно.
Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.
Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою и с ним отправились из города в степь…
Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двадцать шагов на полдень, топнул и сказал: «Здесь».
Турки распорядились. Четверо вынули свои ятаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень и стал смотреть на их работу.
— Ну что? Скоро ли? — спрашивал он. — Дорылись ли?
— Нет еще, — отвечали турки и работали так, что пот лил с них градом.
Кирджали стал оказывать нетерпение.
— Экой народ, — говорил он. — И землю-το копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! Развяжите мне руки, дайте ятаган.
Турки призадумались и стали советоваться.
— Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим ятаган. Что за беда? Он один, нас семеро. — И турки развязали ему руки и дали ему ятаган.
Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали… Вдруг он в одного из них вонзил свой ятаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.
Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, разбежались.
Кирджали ныне разбойничает около Ясс», — говорит Пушкин в конце повести.
И это действительно было так, если иметь в виду то время, когда поэт находился еще в Кишиневе. Кирджали после своего хитроумного побега, как сообщал царю И. Н. Инзов в марте 1823 года, «собрав свою партию», производил «новые грабительства», то есть, как и прежде, нападал на бояр и богатеев. В рапорте наместника Бессарабии говорилось, что это и есть тот самый Георгий Кирджали, «главнейший из числа молдавских разбойников». О действиях в апреле 1823 года некоего Георге Кырджалиуле говорят документы, обнаруженные уже в наше время в архивах Бухареста.
Но в конце концов удача изменила храбрецу. Его изловили снова, выдали туркам, и те повесили народного мстителя в Яссах 24 сентября 1824 года. Произошло это уже после отъезда Пушкина, поэтому вполне вероятно, что он ничего не знал о печальном конце гайдука.
Да и М. И. Леке, скорее всего, тоже не располагал сведениями о смерти Кирджали, и поэтому не мог ничего об этом сообщить Пушкину при встрече. А может быть, поэт сознательно не захотел лишать жизни полюбившегося ему героя?
Немало времени минуло с тех пор, как Пушкин опубликовал свою повесть в журнале «Библиотека для чтения». Однако те, кто утверждал, что герой ее лицо вымышленное, либо в лучшем случае Кирджали — имя не собственное, а нарицательное, продолжали настаивать на своем. Они заявляли, что имя это перешло к описанному в повести гайдуку от «кирджалий» — как называли на Балканах в то время участников кирджалийского движения, боровшихся с феодалами. А само название «кирджалии» происходит, мол, по имени первого их вождя Кирджа Али.
Вопреки тем, кто считал пушкинского героя если и не полностью, но все же вымышленным, были опубликованы факты, говорившие об обратном. Еще в 1838 году молдавский писатель К. Негруци, знакомый Пушкина и переводчик его повести, сообщил, что в 1824 году Кирджали был повешен.
В 1839 году вышел в свет роман польского беллетриста М. Чайковского «Кирджали». Повесть Пушкина была ему известна, и он считал, что русский поэт лично видел своего героя.
Что касается романа М. Чайковского, то автор прямо указывал: «Ни один случай, содержащийся в моей повести, не является плодом пустого вымысла; все, что я рассказал, это правда, основанная на рассказах людей, знавших Кирджали».
Где же удалось польскому писателю разузнать о подробностях жизни болгарского гайдука? Как говорит он сам, описание деяний его героя ему помог раздобыть в Париже один знакомый валах. Скорее же всего М. Чайковский, видимо, располагал сведениями, почерпнутыми у французских авторов, возможно, у историков Вайяна, Реньоля или у других, писавших о Кирджали.
Второе, исправленное и дополненное, издание романа М. Чайковского появилось в 1863 году. А за год до этого, в 1862 году, украинский поэт Ю. Федькович, изучавший молдавские предания и документальные сведения, выпустил поэму «Киртчали». В начале нашего века появится еще одна поэма под тем же названием «Кирджали» болгарского поэта Калифарского.
На русском языке роман М. Чайковского был опубликован в 1885 году. Однако некоторые все еще сомневались, что у героя пушкинской повести был реальный прототип по имени Кирджали.
Только в 1919 году В. Язвицкий в статье «Кто был Кирджали, герой повести Пушкина» на основе сообщений французских и румынских историков и рапортов прусских консулов в Бухаресте и Яссах и других источников высказал предположение, что Кирджали собственное имя действительно существовавшего исторического лица — Георгия Кирджали, родом болгарина, гайдука, а потом гетериста, бежавшего после поражения в Бессарабию.
В конце сороковых годов в поиски новых доказательств реальности пушкинского героя включился академик В. А. Гордлевский. Но его вывод оказался неожиданно пессимистическим. Он заявил о бесплодных попытках установить, существовал ли в действительности гетерист и гайдук Кирджали — прототип героя пушкинской повести, и повторил мнение о том, что Кирджали, видимо, нарицательное имя, скорее всего народности, живущей в Болгарии. Подлинного же прототипа у пушкинского героя в жизни якобы не было. А это, по существу, означало сомнение и в исторической правдоподобности всей повести.
В решении загадки подлинности пушкинского героя все-таки не хватало последнего аргумента, чтобы поставить точку. Необходимо было найти исторический документ, подтверждающий, что болгарский гайдук Кирджали, перешедший в Молдавию и принимавший участие в Гетерии, — лицо подлинное.
И такой документ, а вернее, несколько документов были найдены. Произошло это сравнительно недавно. Долгий, настойчивый поиск увенчался успехом.
Первому посчастливилось обнаружить в архивах столь необходимые свидетельства Б. А. Трубецкому, много лет изучавшему жизнь и творчество А. С. Пушкина в бессарабской ссылке.
В 1950 году в Центральном государственном архиве Молдавской ССР литературовед натолкнулся на бумаги канцелярии бессарабского гражданского и военного губернаторов и наместника Бессарабии, в которых говорилось о поисках и аресте гетериста Еоргия Кирджали в апреле 1822 года. В уже упоминавшемся рапорте частного полицейского пристава Павлова речь шла о гетеристе Еоргии Кирджали, которого следовало «отыскать и взять для доставления под особым присмотром в Кишинев». Впрочем, тотчас арестовать его не удалось. В местечке, где Кирджали искали, его не оказалось — он укрылся в самом Кишиневе.
Между тем из документов ясно, что власти настойчиво требовали поимки и заключения в тюрьму бывшего гетериста как важного преступника. Пойман был Кирджали так, пишет Б. А. Трубецкой, как это описано Пушкиным. Таким образом, впервые было найдено документальное подтверждение того, что пушкинский герой по имени Кирджали — лицо вполне реальное.
Позже были обнаружены и другие материалы о судьбе Кирджали. В частности, Л. Н. Оганян разыскала тот самый рапорт И. Н. Инзова на имя царя, о котором упоминалось выше.
Теперь все встало на свое место. Подтвердились показания М. И. Лекса и И. П. Липранди, свидетельство К. Негруци, утверждения М. Чайковского и выводы В. Язвицкого и т. д. Загадка прототипа героя пушкинской повести перестала существовать. И вслед за одним из тех, кто помог ее разрешить, уместно повторить, что поразительное совпадение фактов повести Пушкина о Кирджали с фактами историческими, подлинность происшествия, описанного в ней, бесспорно говорят о том, что поэт был прекрасно осведомлен о своем герое и его подвигах. А это значит, что образ Кирджали имел своим прототипом народного мстителя, участника Гетерии Георгия Кирджали, жившего в Молдавии в то же время, когда там находился Пушкин.
Два выстрела грянули подряд. Сначала показалось, что это раскаты грома, отзвуки которого ворвались, резонируя, под своды небольшой церкви. Кюре, служивший мессу, резко повернулся и, ошеломленный, застыл. Перед ним на каменном полу лежала, истекая кровью, его прихожанка госпожа Мишу. Рядом, ближе к дверям, распростерся тот, кто стрелял, — молодой семинарист Антуан Берте, хорошо известный в Бранге. Лицо его заливала кровь. Но он еще что-то шептал, о чем-то умолял. Толпа молящихся в панике ринулась к выходу. Привлеченные шумом, из соседних домов высыпали жители. Кто-то, не разобравшись, завопил: «Пожар!» Дама с растрепанными волосами, в сбитой набок шляпке истошно кричала, указывая на церковь: «Там убивают женщин!»
Полуглухой, дряхлый старик хватал каждого за руки, домогаясь, что случилось, и, наконец, сделав вывод — Революция! — пустился бежать к дому.
Так трагическое, согласно законам жизни, переплелось с комическим. Впрочем, комическое во всей истории, о которой пойдет речь, занимает ничтожную ее часть.
Убийцу отправили в тюрьму.
Выстрелы, прозвучавшие во время мессы, нарушили спокойную жизнь маленького провинциального города Бранга.
Всюду — в лавках, за столиками кафе — долго обсуждали поразившее всех событие.
— Почему именно ее выбрал этот злодей?
— Как, разве вы ничего не знаете?
— Слышал, что господин Мишу отказал Берте, воспитателю его детей, в месте. Но это было, кажется, год или два назад. Вот и все.
— А то, что произошло между учителем и госпожой Мишу, вам неизвестно?
— ???
— Конечно, утверждать я не могу, но все говорили, что они были в отношениях… ну, сами понимаете в каких. Иначе зачем было бы господину Мишу выгонять учителя.
— Но почему все-таки этот Берте стрелял в нее?
— Если вас так это интересует, советую пойти на суд, там все и узнаете.
В субботу 15 декабря 1827 года перед Изерским судом присяжных предстал Антуан Берте, обвиняемый в преднамеренном убийстве. И хотя его жертва госпожа Мишу не умерла (доктору Морену — хирургу и помощнику мэра — удалось ее спасти), обвинение настаивало на убийстве с отягчающими обстоятельствами— поругание святыни и попытка самоубийства.
Зал был переполнен. В дверях началась давка: желающих попасть на суд оказалось слишком много. Ведь на этом процессе речь должна была идти о любви, о ревности, о мести и о безумии — так потом напишут в газетных отчетах.
Когда ввели обвиняемого, показалось, что все привстали со своих мест и замерли в напряженном ожидании. Взоры устремились на молодого человека, довольно тщедушного, но с выразительным бледным лицом. Большие черные его глаза медленно оглядывали скопище людей. Похоже, что он растерялся, ибо не ожидал такого интереса к своей особе.
«Одет он был в черную карманьолу; воротник белоснежной сорочки, без галстука, спадал на плечи; белая повязка, поддерживавшая его подбородок, завязана была узлом на голове и скрывала рану, свидетельствовавшую о его мужестве и о его отчаянии, рану, которой он надеялся положить конец своим мукам, — писал очевидец судебного разбирательства. — Сострадание изображалось во всех взглядах; негодование безмол-ствовало во всех сердцах; мысль о его преступлении вызывала лишь жалость к нему: особенно женщины, которыми переполнены были все трибуны, не могли оторвать от этого нежного и тонкого лица своих взоров, полных странной смеси сочувствия, недоумения и ужаса».
Между тем председатель предоставил слово прокурору Гернон-Ранвиллю. Тот приступил к своим обязанностям: зачитал обвинительный акт и изложил обстоятельства дела, «того злодеяния, которое привело Берте в этот зал», — патетически воскликнул прокурор и, обращаясь к господам присяжным заседателям, призвал их вынести смертный приговор.
Человек на скамье подсудимых держится спокойно и остается неподвижным все то время, пока говорит прокурор. Своего адвоката метра Массоне он как будто не замечает. И вообще на вид он кажется совершенно равнодушным. И только полные мрачного огня глаза свидетельствуют о внутренней борьбе.
— Берте, какие мотивы толкнули вас на это преступление? — задает вопрос председатель.
— Две страсти, терзавшие меня в течение четырех лет: любовь и ревность.
Прокурор срывается со своего места.
— Берте, — начинает он, — кюре из Бранга, принимавший в вас такое участие — ведь он способствовал вашему поступлению в Гренобльскую начальную семинарию, которую, впрочем, вы не закончили, — помог вам устроиться к господину Мишу воспитателем его сына… Не прошло, однако, и года, как пришлось положить конец вашему пребыванию в его доме. Но не из-за неспособности к выполнению ваших обязанностей. Напротив, все признают, что ваш уровень умственного развития превышает ваше положение.
Публика, затаив дыхание, ждет продолжения.
— Госпожа Мишу, мать двоих детей, чье поведение и нравственность выше всяких подозрений, призналась мужу, что вы посмели, несмотря на ее негодование, обратиться к ней с самыми оскорбительными предложениями…
— Это неправда! — с горячностью выкрикивает подсудимый, вскакивая при этом с места. — Она поклялась мне перед распятием, что не забудет меня и никогда не полюбит другого. Она обещала принадлежать мне до последнего вздоха.
Еще во время следствия, которое длилось более четырех месяцев, Берте пытался изобразить госпожу Мишу осквернительницей его юности. Более того, он рассказал, как с помощью ласк и вкрадчивых улыбок она погубила его невинность и не в меру просветила его простодушную, долго не прозревавшую невежественность в той области, которую хотела ему приоткрыть.
Оправдывая себя, он стремился взвалить вину на женщину, которая, будучи младше своего мужа на шестнадцать лет, легко поддалась искушению дьявола.
Уже на первом допросе он заявил, что причиной его преступления являются «месть и ревность». Позже он объяснил свой поступок отчаянием, которое охватило его, когда он понял, что оказался очерненным в глазах нужных ему лиц и что честолюбивые замыслы его рушились. Виновницей своих несчастий он вновь назвал госпожу Мишу, на жизнь которой он покушался, находясь, однако, в состоянии умоисступления.
Во время судебного процесса Берте продолжал изображать госпожу Мишу своей совратительницей. Присутствующим в зале показалось, что никто так никогда и не узнает, была ли госпожа Мишу любовницей Берте или же он лжет, выгораживая себя.
— После того как вам отказали в месте у господина Мишу, — продолжал прокурор, — вам удалось устроиться воспитателем в благородное семейство господина де Кордон. И что же? Спустя год вас снова увольняют. На этот раз из-за интриги с мадемуазель де Кордон. Тогда вы обратились к мысли о карьере на духовном поприще и поступили в семинарию. Но уже через месяц вас сочли не достойным церковного сана, к которому вы стремились. Вас исключили и, добавлю, без всякой надежды на возвращение. Ваш отец в справедливом гневе прогнал вас из дому. Вы нашли приют у своей замужней сестры, жившей в Бранге… Отсюда вы продолжали писать супругам Мишу угрожающие письма. Но этого вам было мало. Вы начали распространять всякие измышления, порочащие госпожу Мишу, упрекали ее в том, что она охладела к вам и отдала якобы предпочтение тому, кто заменил вас в качестве воспитателя, то есть господину Жакэну. В это именно время от вас слышали зловещие слова: «Я хочу ее убить». Столь ужасные намерения казались всем, к несчастью, неправдоподобными в силу своей жестокости. А они были уже близки к осуществлению!
С напряженным вниманием зал вслушивается в монолог прокурора. Он продолжает:
— В середине июля вы пишете госпоже Мишу письмо, полное новых угроз, и предупреждаете, что ей недолго осталось торжествовать. Затем вы едете в Лион и покупаете пару пистолетов. И начинаете упражняться в стрельбе. И вот настает роковой день. Рано утром вы заряжаете свои пистолеты двумя пулями каждый и отправляетесь в церковь, где совершалась воскресная месса…
На стол перед судьями кладут для опознания вещественные доказательства — два пистолета. Не проявляя никаких признаков волнения, Берте показывает на один из них: из него он стрелял в госпожу Мишу.
Вещественный факт убийства подсудимым признан. Прокурор заявляет, что подсудимого обличает в заранее обдуманном намерении его абсолютно сознательное поведение в церкви, преднамеренность доказывается предварительными угрозами и подготовительными к убийству действиями.
После допроса свидетелей и прения сторон— обвинения и защиты присяжные заседатели покидают зал для совещания. Когда они возвращаются с мрачными лицами, нетрудно угадать их решение.
Председатель присяжных рантье Боннар угрюмо произносит: «Положа руку на сердце, перед Богом и людьми…» — в наступившей тишине слышно, как поскрипывает перо секретаря суда, ведущего протокол. Под прицелом двух сотен глаз Берте выслушивает роковые слова: «Виновен, и при наличии всех отягчающих вину обстоятельств…»
В этот момент, по свидетельству одного из очевидцев, Берте походил на человека, опаленного молнией, но оставшегося на ногах. Тем не менее он покинул зал, ни на кого не опираясь и не пошатываясь.
Спустя день он написал заявление, в котором признался, что в целях самозащиты и стремясь спасти честь своей семьи возвел лживые наветы на несчастную жертву и умолял госпожу Мишу простить его. «Только искреннее мое раскаяние, мой долг и моя совесть, с которой я хочу примириться раньше, чем предстать перед Богом, побуждают меня чистосердечно воздать должное добродетелям госпожи Мишу».
Через сорок дней, утром 23 февраля 1828 года, на гренобльской площади Антуан Берте поднялся на эшафот.
Лицо его, теперь уже свободное от повязки, было по-прежнему худым и бледным. Встав рядом с палачом, он на минуту преклонил колено, после чего шагнул к гильотине…
Так закончилось дело Антуана Берте, которое вошло в историю отнюдь не криминалистики, а литературы.
За несколько дней до процесса, о котором только что шла речь, в парижском «Кафе англе» сидел тучный коренастый господин и рассеянно перелистывал старые номера «Журналь де Деба». Рядом с ним на круглом столике лежал боливар с очень широкими полями и трость с сердоликовым набалдашником. Высоко повязанный галстук, сверкавшие золотым блеском пуговицы на бархатном камзоле с низким воротником и длинной баской, шелковый жилет с отворотами — все свидетельствовало о том, что это человек, следующий моде.
Здесь, в кафе, он завсегдатай. Правда, последнее время, более полугода, отсутствовал — путешествовал по Италии. Теперь вернулся, и его снова часто видят в большом зале с зеркалами и малиновыми коврами, расшитыми золотом.
Зовут его Анри Бейль. Впрочем, после того как он опубликовал первые заметки о Риме, Неаполе и Флоренции, он называет себя Стендалем и выдает за кавалерийского офицера.
Господин Стендаль не замечает никого вокруг — ни окутанных табачным дымом играющих в вист, ни таких же, как он, убивающих время денди, ни снующих между столиками официантов. Он погружен в чтение.
На одной из страниц помещено объявление о том, что некий господин Рио прочтет курс лекций по истории. Человек этот незнаком Стендалю. Зато Шато-бриан, о котором сообщается, что он будет присутствовать на открытии этих лекций, хорошо ему известен и он терпеть не может его писанину. Чем убивать время на его потусторонние выдумки, лучше изучать материалы судебной хроники. Вот где поистине неисчерпаемый источник вдохновения для художника, желающего проникнуть в нутро современного общества, постичь его законы. Только судебные процессы обнажают трагические события частной жизни с такими подробностями, которые невозможно подглядеть со стороны.
Вот почему Стендаль взял за правило просматривать разделы судебной хроники в газетах. Особенно богатый в этом смысле материал предоставляла недавно образованная «Газетт де Трибюно» («Судебная газета»). О ней, однако, речь впереди. Что же касается раздела судебной хроники в «Журналь де Деба», то здесь он занимал всего лишь одну колонку. Взгляд Стендаля задержался на заметке о некоем Годене, приговоренном к «позорному столбу и клеймению» за кражу шестнадцати франков. А вот известие в тридцать строк из родного его Гренобля. Речь идет о преступлении какого-то Антуана Берте.
Газетное сообщение привлекло внимание Стендаля прежде всего потому, что действие разворачивалось в известных ему местах. Более того, фамилия госпожи Мишу показалась знакомой. Не из тех ли она Мишу, что жили в Бранге, а один из них по прозвищу «Толстый Мишу» был его однокашником по гренобльской школе. Кажется, он умер год или два назад.
Догадка Стендаля подтвердится. Жертва Берте была замужем за кузеном Толстого Мишу.
Небольшое сообщение о преступлении в Бранге запомнилось, — как знать, может быть, со временем он использует его. «Когда вы изображаете мужчину, женщину, местность, — всегда думайте о ком-нибудь или о чем-нибудь реальном», — напишет он позже, в мае 1834 года. Таков, можно сказать, творческий метод Стендаля: художественное произведение должно покоиться на «сваях», или «опорах», заимствованных из реальной жизни, — для творческого воображения романиста они служат как бы точкой отсчета или основанием.
Поэтому, когда некоторое время спустя в руки Стендаля попал номер «Газетт де Трибюно» с описанием части процесса Антуана Берте, писатель решил поближе познакомиться с обстоятельствами дела.
Подробный отчет о процессе был помещен в четырех последних номерах газеты за 1827 год. О казни обвиняемого Стендаль узнает позже. Та же газета сообщит об этом в феврале следующего года.
Как все происходило в тот февральский день, ему нетрудно было представить. На гренобльской площади, где совершилась казнь, находился дом его деда Рамона Ганьона. Он живо вообразил толпу любопытных, балконы, заполненные дамами, и бледного юношу, всходящего на эшафот…
В тот год Стендаль вел светскую жизнь. Почти ежедневно встречался с писателем Проспером Мери-ме — они были неразлучными друзьями; часто виделся с художником Эженом Делакруа, с которым был знаком не первый год; бывал у «отца палеонтологии» Кювье в его квартире у Ботанического сада; посещал также знаменитый «чердак» Этьена Делеклюза, где, кстати говоря, Мериме впервые читал друзьям свою «Клару Гасуль» и где он позировал хозяину в наряде испанки. Портрет этот украсил первое издание сборника пьес «Клары Гасуль», как бы удостоверяя реальное существование этого выдуманного автора.
В начале 1829 года Делакруа познакомил Стендаля со своей кузиной, молодой баронессой Альбертой де Рюбампре, и он влюбился в нее с первого взгляда. В его дневнике появляется запись: «6 февраля — новые надежды». Но и оба его ближайших друга, Мериме и Делакруа, были неравнодушны к Альберте. Про Делакруа говорили, что он даже пользовался у нее более чем родственной благосклонностью.
Стендаль мучается ревностью и то и дело рисует на полях своих рукописей изображения пистолетов.
Наконец, Альберта уступила, и он с удовлетворением отмечает в дневнике: «Счастье». Однако Альберта не удержалась от соблазна похвастаться его пылкостью и неистовой страстностью перед Мериме. Уязвленное самолюбие побуждает того с еще большей настойчивостью ухаживать за баронессой. Вскоре он добивается своего, о чем сообщает Стендалю в присущей ему насмешливо-язвительной манере: «Госпожа де Рюбампре совершенно разочаровала меня, Бейль… Я обнаружил, что у нее чулки свисают гармошкой!..»
Чтобы избежать открытого разрыва с «госпожой Лазурь» (Альберта жила на рю Блё — Голубой улице) и унять смятение чувств, Стендаль в начале сентября покидает Париж. Он спешит уехать от столицы подальше, и ему вспоминаются слова Жан-Жака Руссо: «Если хочешь скоро приехать куда-нибудь, нужно мчаться почтовой каретой». Стендаль мчится на почтовых на юг. Маршрут его проходит через Либурн, Бордо, Тулузу, Каркасон, Барселону, Монпелье и Гренобль.
В родном городе, где он не был со смерти отца в 1819 году, Стендаль задержится на десять дней.
Странно, но первый, о ком он подумает, подъезжая к дому деда на площади, будет Антуан Берте, сложивший здесь голову двадцать месяцев назад. История недоучившегося семинариста теперь буквально не дает ему покоя. Он просит родных рассказать о подробностях драматических событий, случившихся в Бранге. Выспрашивает знакомых, которых у него здесь предостаточно. Узнает, что известный ему Габриель Дюбу-шаж был мэром Бранга в то время, когда совершилось преступление, и подумывает о встрече с ним.
Его интересуют детали. Он хочет знать, как все произошло тогда в церкви. Словом, увлекшись делом Берте, Стендаль собирал где только мог устные рассказы свидетелей, чтобы потом, сопоставив их с данными «Газетт де Трибюно», полнее представить всю картину преступления и его мотивов.
Он уже знал, что набрел на сюжет, достойный романа.
Покинув Гренобль, Стендаль держит путь в Марсель. Здесь он задержится почти на четыре недели.
Он бродит по городу, вдыхая теплый и влажный осенний воздух, прогуливается по бульвару, прислушивается к шуму волн в порту. Ему вспоминается молодость, те годы, когда он двадцатидвухлетним очертя голову бросился за своей подругой — актрисой Мелани Гильбер и приехал в Марсель, где она получила ангажемент. Ради того, чтобы не разлучаться с ней, он стал приказчиком бакалейной лавки, и они виделись каждый день. А потом появился этот русский помещик Басков, и Мелани уехала с ним в Петербург…
Незаметно для него самого воспоминания перенесли его в Милан. Щемящая тоска, как боль незажившей раны, пронзила сердце. С Метильдой Висконтини все было иначе. С мужем она разошлась и была тогда свободна. Он влюбился, словно юноша. Но знатная синьора осталась равнодушной к его страсти, предложив лишь дружбу. Бешеная ревность мучила его душу, и, казалось, на всю жизнь засела в ней неутоленная жажда любви к миланской красавице. Говоря его же словами, «образ возлюбленной всегда жил в его воображении, и все в природе напоминало его». Даже смерть ее в 1825 году не могла изгладить эту чудесную иллюзию.
С тех пор всем героиням, порожденным воображением Стендаля, будут свойственны черты Метильды.
Однако главное, чем заняты теперь его мысли, — это новый роман, о чем свидетельствует его собственная запись: «Марсель. Ночь с 25 на 26 октября. Идея «Жюльена». Впоследствии Стендаль будет неоднократно отмечать, что в Марселе он начал работу над романом, который позже получит название «Красное и черное».
Первые наброски появились осенью 1829 года.
Как же в таком случае относиться к словам предисловия первого издания «Красного и черного», в котором от издателя говорится, что «этот труд был готов к выходу в свет, когда пришли великие события июля и придали всем умам направление, мало благоприятствующее игре воображения. Мы смеем полагать, что предлагаемые страницы написаны в 1827 году». Обычно подобные предисловия «от издателя» писал сам автор. Однако известно, как любил Стендаль ввести в заблуждение, замести след, загадать загадку. Если внимательно прочитать «Красное и черное», то нетрудно обнаружить намеки на отдельные июльские события 1830 года, когда Париж охватило пламя восстания. Видимо, писатель стремился отвлечь читателя от мысли, что его произведение вдохновлено жгучей актуальностью, он хотел создать дистанцию, временной зазор.
Позже подтвердит он и то, что в основу своего романа положил подлинную историю, ибо всегда ценил «преимущество работать над совсем готовым сюжетом». В письме к флорентийскому адвокату графу Са-льваньоли он сделает знаменательное признание: «Этот роман вовсе не является романом. Все, о чем в нем рассказывается, произошло на самом деле…» Герой, уточняет Стендаль, погиб после того, как выстрелил из пистолета в свою первую любовницу, воспитателем детей которой он был и которая своим письмом помешала ему жениться на второй любовнице, очень богатой девушке. «Господин де Стендаль ничего не выдумал», — закончит он свое признание.
Действительно, он ничего не выдумал. Все, о чем он расскажет, происходило в Гренобле, что и было признано соотечественниками романиста. В год смерти Стендаля на это укажут две газеты. По поводу романа «Красное и черное» «Газетт дю Дофинэ» напишет, что это произведение «пользовалось большим успехом, как по причине его подлинных достоинств, так и потому, что это был рассказ о печальном и кровавом эпизоде, который в 1816 году произвел тягостное впечатление в Гренобле и его окрестностях». В свою очередь, на страницах «Насьональ» появится материал, где по поводу того же романа будет сказано, что «сюжет его представляет собой сильно опоэтизированную историю молодого человека, казненного в Гренобле в 1818 или 1819 годах». Как впоследствии докажут, обе газеты правы, только ошибаются в датах. Да и не мудрено — спустя четырнадцать лет едва ли кто-либо помнил о деле Антуана Берте. Первым укажет на связь романа с этим происшествием Ромен Коломб — кузен, друг и душеприказчик писателя. Он упомянет об этом в заметке 1846 года, посвященной Стендалю.
С этого времени связь подлинного преступления с сюжетом романа считается неопровержимой. Но наиболее отчетливо скажет об этом в 1894 году на страницах журнала «Ла ревю бланш» молодой литературовед Казимеж Стрыенский, сделавший, как известно, сенсационные открытия в гренобльском архиве Ромена Ко-ломба, в частности, им была обнаружена здесь рукопись неоконченного романа Стендаля «Ламьель».
С тех пор многие исследователи пытались выявить соотношение между эпизодом судебной хроники и романом. Со временем для всех стало абсолютно очевидным, что главным источником сюжета романа послужило дело Антуана Берте. Оно предоставило в руки автора готовую фабулу и как бы освободило его от необходимости составлять план, чего он терпеть не мог, так как при этом терял всякое вдохновение.
От готовой сюжетной канвы Стендаль не собирался отклоняться. Антуан Берте получил имя Жюльена Со-реля, госпожа Мишу превратилась в госпожу де Ре-наль, мадемуазель де Кордон — в мадемуазель Матильду де ля Моль. Из Бранга писатель перенес действие в Верьер, маленький городок в Франшконте, на самом деле напоминающий Гренобль.
Стендалеведы скрупулезно изучили каждого— главного и второстепенного — персонажа романа, пытаясь установить, кто мог вдохновить писателя. Казалось, все известно, просмотрены все документы, имеющие отношение к этому событию, обшарены архивы, опрошены даже дети тех, кто был свидетелем драмы и мог передать потомкам какие-либо ее подробности.
Тем не менее гренобльскому эрудиту, или, как бы мы сказали, краеведу, Рене Фонвьею удалось разыскать нечто оригинальное. Находки, сделанные им в Национальном архиве департамента Изер, мунициальном архиве Гренобля, в частных семейных собраниях и библиотеках позволили по-новому представить историю прототипа стендалевского героя на страницах написанной им книги «Подлинный Жюльен Сорель», изданной в Париже в 1971 году. Посетил автор и те места, где еще живут потомки семей, имеющих отношение к давней драме.
Конечно, существует огромная разница между Жю-льеном Сорелем, рожденным воображением писателя, и казненным недоучившимся семинаристом. Используя выражение одного литературоведа, можно сказать, что «Жюльен Сорель превосходит Антуана Берте на всю высоту Стендаля». Но несомненно и то, что подлинный случай и те сведения, которые собрал писатель о прототипе своего будущего героя, оплодотворили фантазию романиста.
Однако Р. Фонвьей рассматривает печальную судьбу семинариста Берте, сознательно отвлекаясь от литературного ее использования Стендалем. История молодого человека, современника писателя, исполнена интереса сама по себе. Автор поступает как судья, которому «выпадает тяжелая обязанность по справедливости судить людей», — замечает известный стендалевед Витторио дель Литто в предисловии к книге. Призвав на помощь волшебницу Гекату, обладающую, как известно, даром вызывать души умерших, Р. Фонвьей воскресил облик и образ жизни давно отошедших в мир иной обитателей маленького французского городка. Какие же сведения удалось собрать этому разы-скателю? Для удобства разложим собранные им данные по воображаемым папкам и познакомимся с их содержимым.
ПАПКА № 1
В ней представлены материалы о семье Антуана Берте, его обучении в семинарии, о том, как он попал в качестве учителя в дом Мишу и что после этого произошло
Скажем фазу, о семье Антуана Берте известно немного.
Отец его был в Бранге кузнецом и каретником. Мать, Жанна Мишу, являлась дальней родственницей богатеев этой местности. В семье было семеро детей, последний из них родился 4 марта 1804 года и получил имя Антуан — свидетельство о его рождении хранится в архиве департамента Изер. Не следует, однако, думать, будто семья Берте была такой уж нищей — она владела двумя домами и кузницей. По фотографиям можно убедиться, что дома эти далеко не были лачугами. Просторные, с каменными стенами, крытые черепицей, вместе с примыкающими садами они образуют внушительный ансамбль и поныне принадлежат потомкам семьи Берте.
Говоря о своих родителях, Антуан каждый раз будет использовать одно и то же выражение: «бедные, но честные». Так оно и было. Даже генеральный прокурор де Гернон-Ранвилль засвидетельствует перед властями, что «семья этого молодого человека являет все, каких можно желать, моральные гарантии и что старый отец, обремененный шестью другими детьми, которых он воспитал в лучших принципах, внушает самый живой интерес». Того же мнения придерживался и председатель суда Турно де Вантавон. В документе, хранящемся в Национальном архиве, указано, что глава семьи пользуется «репутацией безупречно честного человека». Как считает Фонвьей, отец Берте был грамотным человеком, об этом говорит его подпись на свидетельстве о рождении сына Антуана: твердая и свободная, с росчерком, «удивляет, что ее поставил рабочий с мозолистыми руками». Болтали, впрочем, что Антуан не был сыном Берте. Основанием сплетен служила непохожесть молодого человека на своих братьев — парней крепких и здоровых — в то время как он был худеньким и хрупким и казалось, что никогда не будет в состоянии орудовать тяжелыми кузнечными инструментами. Природа компенсировала физические недостатки предрасположенностью к учебе. По слухам, настоящим его отцом был Луи Мишу, будто бы холостяком обхаживавший свою кузину Жанну.
В судьбе юноши принял участие местный кюре. Заметив его способности и набожность, он вознамерился устроить своего подопечного в духовную семинарию. Дело было в оплате за пансион — двести франков в год. Видимо, приход взял на себя расходы по образованию.
Как выглядел Антуан Берте? Портрета его не сохранилось, но есть несколько точных описаний его внешности, которые были сделаны во время суда, а также людьми, близко его знавшими.
У него было хрупкое сложение и слабое здоровье: рост — 1 метр 65 см; волосы и брови темно-каштановые, почти черного цвета; довольно низкий лоб, нос скорее острый, рот несколько крупный, округлый подбородок, слегка вытянутый, смуглая кожа, лицо овальное.
Те, кто видел его на суде, утверждали, что у него были черные глаза. В протоколе допроса в жандармерии после ареста записано, что глаза у него «рыжие». То есть коричневые, каштановые. Впрочем, издали они могли казаться черными.
Из всего этого можно сделать вывод, что это был худой и трогательно нежный молодой человек, не лишенный очарования, которое подчеркивалось аккуратным костюмом.
«Описание внешности Жюльена Сореля, сделанное Стендалем, — замечает Фонвьей, — так близко к внешности Антуана Берте, что этому можно только поражаться».
Итак, Антуан Берте стал семинаристом. Что же он изучал в Малой семинарии Гренобля, куда поступил?
В Муниципальной библиотеке Гренобля хранится «Проспект для родителей и воспитанников», напечатанный у Баратье, печатника архиепископства, в 1821 году. В нем сказано, что религия — основа, «на которой зиждется Малая семинария и которая охватывает все ее части и проникает все предметы». Здесь изучали языки: французский, латинский и греческий, «включая поэзию». Мифологию, которая, «показанная в своем истинном свете, соединяет полезное с приятным и являет нам, каким образом люди поставили себя на место Бога и обожествили свои собственные страсти». Историю, которая включала: священную историю, историю церковную, римскую историю и «особенно историю Франции». Хронологию — «наука о временах, датах и эпохах, не отделимая от истории». Географию, литературу, «включающую все жанры», а также математику и физику.
Какие отношения сложились у Антуана с товарищами?
Видимо, они были хорошими. Один из них, Панжон, оставил «воспоминания», которые частично опубликовал его сын под названием «По поводу Стендаля» в 1903 году. Так вот, этот самый Панжон засвидетельствовал, что в семинарии «не было более мягкого человека, чем Антуан». Уточнил он и другое: «Я все еще вижу перед своей партой его длинное и белое лицо, его черные, широко раскрытые и устремленные в одну точку глаза. Это был молодой человек 16 лет (на самом деле ему было 17.— Р. Б.), хрупкий и деликатный. Звук его нежного и слабого голоса почти всегда обладал каким-то выражением жалостливого настроения. Он никогда не играл с нами; чаще всего стоял в стороне, в углу, прислонясь к колонне, в одиночку он занимался не знаю чем или смотрел, как мы играем. Довольно мало уделял внимания классным занятиям, и все-таки ум его всегда, казалось, что-то поглощал; впрочем, ничего особенно странного или особо примечательного в нем не наблюдалось. Я только вспоминаю, что он был чувствительным, раздражительным и с нетерпением, гневом и презрением переносил замечания своих учителей».
Несколько лет Антуан оставался в стенах семинарии, как вдруг настоятель объявил, что ему следует оставить учебу. Чем был вызван этот отказ, ошеломивший молодого семинариста? Причина якобы заключалась в том, что у него в чемодане обнаружили «книги, опасные для нравственности, и сочинения современных философов». Можно лишь гадать, что это были за книги, предполагали, что Антуан читал «Опасные связи» Шодерло де Лакло, о которых говорили, будто прототипы персонажей, выведенных в этом романе, жили в Гренобле. Сам же Антуан заявил на суде, что истинная причина заключалась в его бедности.
Так или иначе, он покинул семинарию, и все тот же благодетель кюре поспешил пристроить его домашним учителем в семью Луи Мишу. Было условлено, что большая часть его жалованья пойдет впоследствии на оплату его содержания в семинарии города Беллэ. (Все эти сведения фигурируют в докладе председателя суда по поводу прошения Берте о помиловании.) Итак, его вышвырнули, по крайней мере на время, из той среды, где он рассчитывал на продвижение в жизни, надеялся победить бедность, угнетавшую его. Теперь его неотвязно преследовала одна мысль: неужели будущее испорчено непоправимо? (Следует отметить, что ситуация Жюльена Сореля была иной: он начал с того, что был учителем у г-на де Реналя, и его отъезд в семинарию не являлся регрессом в его социальном восхождении. Антуан Берте прошел этот путь как бы назад, что его сильно волновало — неудача грозила потерей надежды добиться сана священника.)
К своим новым хозяевам Антуан пришел, надо думать, не в крестьянской блузе, как Жюльен Сорель к г-ну Реналю, а в черной сутане и круглой шляпе— униформе семинариста.
Его хрупкая фигура и бледное, оживленное большими глазами лицо произвели хорошее впечатление.
В свою очередь, его поразил этот дом, являвший собой такой контраст с скромным жилищем его родителей. Ему понравился салон с креслами, покрытыми чехлами из черного полотна; на втором этаже — кабинет г-на Мишу и детская, рядом спальня г-жи Мишу, кровать, комод в стиле ампир с золотыми сизелюрами. Видимо, Антуана поселили вместе с детьми в комнате, примыкающей к спальне г-жи Мишу; их разделяла тонкая перегородка, в которой была дверь.
Хозяева были очень приветливы к Антуану. По свидетельству Викторины Сюби, внучатой племянницы Луи Мишу, «когда он пришел в дом, то был принят словно член семьи; старые слуги видели в нем будущего священника, обращались с ним, как будто он не был им ровня. Образование ставило его выше их. Г-жа Мишу вела себя с ним, как с другом».
Поскольку было упомянуто имя Викторины Сюби, необходимо кое-что пояснить. Свои заметки она набросала в 1886 году на девяти листках, вырванных из хозяйственной книги, несмотря на «большое отвращение ко всякой писанине». Побудила ее к этому статья об Антуане Берте, опубликованная в газете «Республиканец Изера», в которой давался «ключ» к роману, восстанавливая «часть подлинных имен, которые скрыл Стендаль». Преследуя цель опровергнуть утверждения газеты, Викторина Сюби решилась записать свои свидетельства, так как, уточняет она, «то, о чем я слышала рассказы в моей семье, имело такое малое отношение к заметкам в этой книге, что я расспросила посторонних людей, чтобы побольше узнать об этом нашумевшем деле». Сведения ее были опубликованы сравнительно недавно, в 1962 году, на страницах журнала «Стендаль-клуб», но принимать их нужно с осторожностью, как считает В. дель Литто, хотя в то же время нельзя ими и пренебрегать, — многочисленные подробности в них должны быть правдивыми.
Нет сомнения, что Антуан испытывал в первые недели своего пребывания в доме чистую радость. Послушаем его: «Мои юные ученики стали предметом моей самой нежной привязанности, и сам я не замедлил завоевать благожелательство и дружбу всех». Он ревностно исполнял свои обязанности. Покой вернулся в его сердце. Но, увы, сердце оказалось «слишком чувствительным», в нем бушевали бурные страсти, преследовали и «роковые мысли о любви», и «губительные образы, образы женщин». Неудивительно, что почтительное внимание, которое он изъявлял хозяйке, госпоже Мишу, превратилось в пылкую страсть. Подражая героям книг, он написал ей пылкое послание, закапав его своей кровью. Она была удивлена. Кто бы мог предположить, что этот робкий и сдержанный юноша способен на такое? Но что это — любовь или религиозная экзальтация? — в письме смешивались оба эти чувства.
Если верить рассказу Викторины Сюби, г-жа Мишу решила было рассердиться, но ее подруга по пансиону г-жа Мариньи сочла все это весьма забавным, пояснив, что при дворе юные пажи всегда поступали так и все фрейлины тоже получали любовные записки.
Между тем Антуан написал новое любовное письмо и положил его рядом со статуэткой Христа из слоновой кости, стоявшей в комнате г-жи Мишу.
На суде Антуан утверждал, что госпожа Мишу очень быстро ответила на его любовь, «они безумно любили друг друга, и она поклялась ему Христом, что никогда не будет принадлежать другому». Выходит, страсть была взаимной, во всяком случае на этом настаивал Антуан Берте. Другая сторона занимала тем не менее иную позицию. Госпожа Мишу в единственном сделанном ею заявлении протестовала и утверждала, что поведение ее было безупречным. Что касается господина Мишу, то он заявил лишь одно: его жена призналась ему, что учитель обращался к ней с оскорбительными предложениями.
Где же истина? Она в том, как заметили толкователи, что «никогда, ни на суде, ни как-либо не было доказано, что госпожа Мишу виновна, но в Бранге народная молва осудила ее».
Антуан покинул дом семьи Мишу в ноябре 1823 года. Новый элемент в вопрос о причине отъезда Антуана внесла та же Викторина Сюби. По ее свидетельству, Антуан был изгнан не за поведение, а из-за того, что «проповедовал бунт». «Он был Поль Дидье», — заявляла она, имея в виду гренобльского адвоката, организовавшего бонапартистский заговор и вскоре казненного. По ее словам, в матраце Антуана случайно были обнаружены бумаги, свидетельствующие, что он переписывался с заговорщиками.
Возможно, Викторина Сюби выгораживала свою родню, но не исключено, что так и было. И можно думать, об этом знал Стендаль, который рассказывает аналогичный случай в романе, упоминая Дидье. Впрочем, если даже Антуан и находился в сношениях с заговорщиками, то в 1822 году не мог переписываться с ними, поскольку Дидье был казнен в 1816 году. Здесь Викторина Сюби допускает ошибку.
Благодаря тому же кюре Антуану вновь повезло: он попал в Малую семинарию в Беллэ. Это, действительно, была удача — оказаться учеником коллежа, про который один из его блистательных воспитанников поэт Альфонс Ламартин писал в свое время, что «руководимая иезуитами семинария в Беллэ, на границе с Савойей, пользовалась тогда громкой известностью не только во Франции, но также в Италии, Германии, Швейцарии». Но нельзя сказать, что ему было здесь легко. И дело не в трудностях учебы и распорядка. Его угнетала разлука с той, которую он любил. К тому же он узнал, что у Мишу появился новый учитель, да еще бывший его однокашник, некий Жакэн. Терзаемый ревностью, он пишет госпоже Мишу письма, полные упреков и угроз. После этого ему окончательно отказали от дома. В ответ он послал письмо с вполне серьезной угрозой: «Положение мое таково, что если оно не изменится, произойдет катастрофа».
Но, видимо, г-н Мишу не желал открытой ссоры. Ему пришла в голову мысль, довольно нелепая, попросить Жакэна поговорить с Берте и отсоветовать тому писать, а тем более ходить в их дом. Такой разговор состоялся, причем Жакэн не преминул резко упрекнуть своего прежнего однокашника за то, что тот в своих письмах к г-же Мишу намекал на его, Жакэна, отношения с ней. Из этого Антуану стало ясно, что его письма г-жа Мишу показала Жакэну, который, как теперь ему казалось, несомненно, был ее любовником. В результате этой беседы дело чуть было не дошло до дуэли между молодыми людьми. Тогда, дабы не доводить возбужденного молодого человека до отчаяния, кюре при содействии господина Мишу переводит Антуана подальше от Бранга — в Большую семинарию Гренобля. Но и тут ему не суждено было задержаться. Вняв призыву настоятеля исповедоваться, он решился и рассказал о своей любви. Коварный слуга Божий поспешил закрыть доверчивому юноше дорогу к сану.
ПАПКА № 2
Здесь собраны сведения о семье Мишу, называемой де ля Тур, о трагедии, разыгравшейся в ней, и об их доме, его сегодняшнем состоянии и владельцах
Многие подробности о жизни зажиточной семьи Мишу (упоминания о ней восходят к концу XVI века) известны благодаря все той же Викторине Сюби.
В молодые годы Луи Мишу учился в хороших коллежах, жил в лоне своей семьи, где был «маленьким богом». Летом проводил время на охоте, зимой часто наведывался в столицу. Эту патриархальную, не лишенную очарования жизнь перевернули события 1789 года. Семья Мишу, тогда еще не получившая дворянства, но очень зажиточная, считалась привилегированной в бедной местности, поэтому потрясения ее не миновали. Старший брат был расстрелян в Лионе после взятия города революционерами. Младший, Луи, поспешил заявить о своей лояльности и вступил в армию, участвовал в итальянском походе, но потом был отчислен по состоянию здоровья. С тех пор жил в родительском доме, увлекался охотой и галантными приключениями, одно из них, с кузиной, возможно, зашло слишком далеко— если верить сплетне, девушка родила сына. Но женился он на дочери нотариуса Жанне Франсуазе Эвелине Жиро. Ему было тридцать три, ей девятнадцать. Жили они в Бранге, в большом доме, хозяином которого Луи Мишу стал после смерти отца, и, казалось, могли быть счастливы. Но у них была причина для страданий — из восьмерых детей, которых родила госпожа Мишу, лишь двое выжили. Здоровье детей поглощало всю ее жизнь. Как говорит Викторина Сюби, при малейшем недомогании детей их мать удваивала подаяния и просила бедняков «помолиться за здоровье деток».
В 1936 году в бывшем доме Мишу был обнаружен документ, устанавливающий, что в феврале 1795 года Луи Мишу санитарной службой было выдано удостоверение о том, что он болен «влажной астмой», которую в альпийской армии называли «неаполитанской болезнью». Некоторые авторы усмотрели в этом причину смертности детей четы Мишу. Мол, отец страдал тяжелым недугом и в этом надо видеть причину того, что из восьми детей, родившихся с 1810 по 1828 год, в живых остались лишь двое. Едва ли, впрочем, в этом была причина. А если учесть, что Луи Мишу умер в преклонном возрасте, 79 лет, и до конца дней оставался красивым стариком, страдающим лишь от водянки, то ее и вовсе следует исключить. Скорее, правы те, кто усматривает причину в кровном родстве супругов: они были двоюродными братом и сестрой.
В 1962 году в журнале «Стендаль-клуб» было опубликовано фото с миниатюры, изображающей господина Мишу. Это единственный известный его портрет. Он запечатлен на нем в форме офицера на коне. История миниатюры такова.
В апреле 1805 года Наполеон направлялся в Милан и должен был проехать через Лион. Луи Мишу вместе с другими 50 всадниками встречал императора и императрицу у ворот города и сопровождал их до дворца архиепископа. На другой день Наполеон принял офицеров почетного эскорта, в том числе и Луи Мишу, затем в сопровождении их ездил осматривать строительство плотины в Бротто, и, возможно, именно во время этой прогулки верхом император заметил полковника Мишу де ля Тура, обратив внимание на его блестящую езду. Этот момент и запечатлел художник Фердинан Машера на миниатюре. Но кто он, этот человек в блестящем мундире? Сведения о нем собирали буквально по крупицам. Известно, что он был «очень скучным и очень прозаическим». К такому выводу, в частности, пришел Э. Эррио, изучавший расходную книгу Мишу. Нашли ее вскоре после второй мировой войны за оконной рамой в бывшем доме Мишу. В ней оказались сведения, связанные с расходами: плата за скамью в церкви, деньги, розданные нищим во время поста, жалованье слугам и т. п. Здесь же и такая лаконичная запись: «Моя супруга умерла 8 октября 1831 года». Похоже, что Луи Мишу так и не простил свою жену. Разумеется, деловая книга не предназначена для записей похоронной речи, но и самые лаконичные строки о смерти жены могли быть отмечены более горьким чувством потери.
Крайне скудны сведения и о госпоже Мишу.
Училась в пансионе Сакрёкёр (в Лионе), где оставалась до 18 лет. Потом, до замужества, жила в Море-стеле. Еще меньше известно о жизни ее сердца. Но несомненно, смерть детей она глубоко переживала и искала утешения в молитвах. Некоторые жители Гренобля и его окрестностей считали мадам Мишу виновницей драмы, разыгравшейся в Бранге, и, несмотря на опровержение Антуана Берте, говорили о ней как о совратительнице, а в народе ее называли «злой дамой». Если верить Викторине Сюби, то многие даже в приличном обществе питали симпатии к юному семинаристу. По словам ее, «дамы Гренобля пылали страстью к красивому Берте; дело шло о том, кто подарит ему больше нежностей».
В 1942 году на чердаке дома Мишу было обнаружено письмо Жозефа Жакэна, учителя, сменившего Берте, адресованное в ноябре 1828 года господину Мишу. Он писал: «Госпожа Мишу, так же, как и вы, будет чудовищно страдать, пока вы остаетесь в Бранге; напрасно вы станете искать утешения в чтении и прогулках; все это может ненадолго развлечь вас, а через мгновенье вы станете еще несчастнее, чем прежде. Почему же надо держаться за место, где можно быть только несчастными? Надо принести жертвы и уехать отсюда; но когда речь идет о покое, о том, чтобы облегчить свои муки, разве не пойдешь ради них на любые жертвы?»
Письмо это не оказало воздействия на адресата, но оно дает представление о смуте, привнесенной в семью Мишу драмой 1827 года.
Не эта ли тяжелая атмосфера ускорила кончину г-жи Мишу? На этот вопрос нет прямого ответа. Викторина Сюби намекает, что г-жа Мишу скончалась спустя четыре года от полученных ран: «Пулю смогли извлечь, но кусочек ее шелкового платья, который извлечь не сумели, заставил ее страдать легкими». Очевидно, отразилась на ее здоровье и смерть сына Габриеля— бывшего воспитанника Антуана Берте, внезапно умершего в возрасте двадцати лет, за год до смерти матери. Словом, несомненно, драма, разыгравшаяся под крышей их дома, сказалась на хозяйке, и тяжелая атмосфера скандала ускорила ее кончину.
Господин Мишу оставался мэром до самой смерти в 1855 году. Сохранилась надпись на фасаде новой церкви в Бранге, освященной в 1847 году, «когда мэром был Луи Жозеф Мишу». Точно неизвестно, почему была разрушена старая церковь, возможно, она находилась в плохом состоянии, но тем не менее символично, что храм, где было совершено святотатственное преступление, был срыт и возведен новый при участии Луи Мишу.
Что касается его дома, то он сохранился до наших дней, однако претерпел многие изменения. В 1905 году, вопреки воле бывшего владельца, перешел к местному торговцу яблоками.
В наши дни Рене Фонвьей посетил этот дом. «Оставив машину на площади, возле церкви, — рассказывает он, — мы пошли по прямой дороге, что ведет в Сен-Виктор де Моресталь. Ансамбль домов мало изменился с начала XIX века.
Это было весной, в воскресенье, сразу после полудня; на площади и на улице не было ни души. В сотне метров от нас, на узком тротуаре с левой стороны улицы, на соломенном стуле сидела старая крестьянка и читала книгу. На вопрос, где проживает г-н Женэн, она ответила: «Значит, это вы писали? Мой брат показал мне письмо. Следовало бы вам ответить, но вы знаете… Я сразу подумала, что вы приедете…» После обмена любезностями она сказала, ткнув пальцем в дешевую книжку: «Вы знаете… я владелица «Красного и черного». Эти слова заставили нас переглянуться. «Вы хотите осмотреть дом?» Конечно, мы хотим осмотреть «Красное и черное».
Наша новая знакомая г-жа Коттар сообщила, что ей 79 лет, что несколько лет назад муж умер, оставив ей большую часть поместья. Господин Женэн, брат г-жи Коттар, обнаружил три письма Жозефа Жакэна, учителя, который сменил Антуана Берте в этом доме, три найденных на чердаке письма, которые он, несомненно, подарит Музею Стендаля в Гренобле».
ПАПКА № 3
Содержит данные о семье графа де Кордона, его дочери Генриетте и о ее тайне, а также о замке де ля Барр
Покинув семинарию в Гренобле, где проучился только месяц, Антуан вернулся в отчий дом. Но папаша Берте не пожелал принять сына, разгневавшись, он выгнал его, на людях избив палкой. Что делать без денег, крова и работы? И снова на помощь пришел кюре — помог устроиться учителем детей графа де Кордона.
Замок де ля Барр — родовое поместье семьи Кордон — был расположен по другую сторону Роны, в Савойе, километрах в десяти от Бранга. Кордоны принадлежали к старинной фамилии. Самым знаменитым из них был Жак, кавалер ордена св. Жана Иерусалимского, упоминаемый Маргаритой Наваррской в «Гептаме-роне», занимавший в 1526 году пост парижского прево— высший полицейский чин.
Больше всего Антуан опасался, что спесивые аристократы будут обращаться с ним как со слугой. Но он ошибся. И граф, и его восемнадцатилетняя дочь Генриетта встретили учителя радушно, обращались как с равным. Вспомним, что Жюльен Сорель испытывал то же чувство беспокойства, и вообще, можно предположить, что Стендаль, неоднократно гостивший у сестры Полины в замке де Тюэллэн, расположенном неподалеку, знал графа де Кордона и его маркиз де ля
Моль многими чертами напоминает владельца замка де ля Барр, хотя тот и был менее богатый сеньор, нежели герой «Красного и черного».
Очень скоро между Антуаном и Генриеттой установились дружеские отношения. Они вместе совершали верховые прогулки, беседовали, и молодой человек, пребывавший в тоске, поведал девушке печальную историю своей любви, признался, что терзаем воспоминаниями о женщине, страстно им обожаемой. Сентиментальную Генриетту растрогало это признание, но и пробудило чувство неосознанной ревности. Отныне она стала проявлять еще большее внимание молодому человеку с красивым бледным лицом и большими черными глазами. Незаметно для самих себя они перешли к сердечным излияниям. Так, по рассказам самого Антуана, началась их идиллия. Убедившись, что у нее будет ребенок, девушка призналась родителям. Чтобы избежать скандала, те решили выдать ее за Антуана.
Что произошло дальше, точно неизвестно. Но неожиданно, в апреле 1827 года, ровно год спустя после появления молодого учителя в замке, ему приказали покинуть дом. Видимо, каким-то образом графу стало известно о неблаговидном поведении Антуана в семье Мишу, о его прежней любовной связи. Не исключено, что де Кордону в руки попали письма госпожи Мишу, которые Антуан хранил в своем чемодане.
Во избежание огласки Генриетту отправили в замок де Сомок, резиденцию ее деда, где она в декабре 1827 года родила мальчика, «покинутого, как записано в церковной книге, отцом и матерью», которого нарекли Луи Жозефом. В округе все знали, что у Генриетты де Кордон был внебрачный сын. Много лет спустя она вышла замуж, однако детей от второго (законного) брака у нее не было. Но рядом с ней часто видели мужчину, которого называли отец Камиль, — это был монах-капуцин, и все говорили, что это и есть ее сын.
Впервые указал на этот факт историк М. Сент-Олив незадолго до смерти в 1970 году. После него остался текст, написанный еще в 1957 году и озаглавленный «Сын Берте». Этот текст хранился в Муниципальной библиотеке Гренобля, а в 1971 году в журнале «Стен-даль-клуб» появилась статья «На родине Антуана Берте», в которой сообщалось, что «эрудит Сент-Олив несколько лет тому назад обнаружил, что мадемуазель де Кордон имела ребенка от Берте». Факт, установленный этим историком, тем более интересен, что у Матильды де ля Моль — героини Стендаля — был ребенок от Жю-льена Сореля, разница в том, что последний был казнен, не зная, что станет отцом.
Сегодня замком де ля Барр владеет господин Перрэн, антиквар из Лиона. До сих пор в одной из башен замка стоят три деревянных дорожных чемодана, принадлежавших когда-то Генриетте. Может быть, где-то рядом с ними еще сохраняется и чемодан Антуана, в котором он прятал любовные письма госпожи Мишу.
Такова подлинная история семинариста, послужившего прототипом Жюльена Сореля. Единственная цель, к которой стремился рассказавший ее Рене Фон-вьей, сводилась к тому, чтобы по-новому представить «Дело Берте». Ему это удалось. Во всяком случае, так считает знаток Стендаля Витторио дель Литто, заметивший, что «отныне никто не сможет рассматривать генезис романа «Красное и черное», не обращаясь к труду Фонвьея».
В воскресенье 10 января 1836 года парижские газеты сообщили, что рано утром у заставы Аркой состоялась казнь Ласенера и Авриля — знаменитых грабителей и убийц. Несмотря на ранний час, темноту и туман, собралась громадная толпа перед эшафотом, построенным за семь часов до этого.
Без четверти девять, рассказывал, в частности, репортер из «Шаривари», осужденных доставили в карете, которые в народе называли «салатницами». Авриль вышел первым. Взойдя на эшафот он повернулся к толпе и бесстрастно сказал: «Прощайте». Затем обнял Ласенера, который, казалось, воспринял это объятие с некоторым отвращением, и ответил: «Прощай, любезный». После чего Авриль склонил голову под нож гильотины.
Ласенер, с которого не спускали глаз, продемонстрировал меньше стойкости. Его шаг был не тверд, лицо казалось почерневшим в обрамлении густых темных волос и бакенбард, губы побелели. Но никаких следов волнения, никаких других эмоций нельзя было обнаружить в тот момент, когда он повернулся к инструменту казни — национальной бритве, как прозвали в народе гильотину. Помощники палача, поддерживая его за руки, наклонили его голову…
Спустя пару дней Ласенер стал обитателем кладбища в Кламаре, где издавна хоронили преступников и которое В. Гюго называл «ужасным погостом». Если бы из тьмы гробовой раздались голоса погребенных здесь, то заговорила бы сама история, вернее, одна из мрачных, постыдных ее страниц, тяжким бременем лежащая на совести человеческой. Послышались бы зловещие вопли наемных убийц и гнусных изменников, клейменых каторжников и хладнокровных душегубов, жестоких бандитов и грабителей.
Итак, Ласенер поселился в Кламаре после нашумевшего процесса, за которым публика следила с напряженным вниманием. Еще бы! На скамье подсудимых оказался не простой головорез, не темный, безграмотный злодей, а своего рода уникальный экземпляр— образованный убийца, претендовавший на звание поэта, автор написанных в тюрьме циничных воспоминаний.
Интерес к личности необычного преступника подогревался и тем, как он выглядел. Это был довольно импозантный тридцатипятилетний мужчина, с вполне благородным обликом, тонкими чертами и выразительными темно-серыми глазами. «Небольшого роста, — рисовала его портрет «Котидьеа», — одет в голубой редингот, физиономия одушевленная и живая. У него открытый лоб, шатеновые волосы разделены пробором с намеком на претензию, маленькие рыжеватые усики, в глазах — искорки, но в то же время неподвижность взгляда, что придает ему странное выражение полной беззаботности и отваги. Кажется, он наделен определенным хладнокровием, отдающим цинизмом, он беседует с адвокатом, не оставляя своей привычной улыбки — надменной и иронической». В немалой степени публике были интересны его ум и удивительное самообладание. Но главная причина, вызывавшая интерес, заключалась в том, что этот грабитель и убийца сознательно стал преступником.
Первые шаги на поприще порока он сделал еще в юности, там, где родился, вблизи Лиона. Был вором, занимался подлогами, играл в азартные игры, дезертировал из армии, сражался на дуэлях и, наконец, стал убийцей по профессии.
Для этого преднамеренно попался на краже. Его присудили к одному году тюремного заключения. Таким способом он смог пройти школу у других уголовников с тем, чтобы превзойти всех в избранной «профессии», к которой относился абсолютно серьезно. Он убивал без малейшего угрызения совести и сожаления, без страха. «Я понимаю, — цинично заявлял Ласенер, — что, будучи убийцей, я заключаю некий контракт между собой и эшафотом, между нами устанавливается некая связь; пусть моя жизнь больше не принадлежит мне, а лишь закону и палачу, но это не искупление, а проигрыш в азартной игре». Он утверждал, что такую роль навязали ему насильно, что в его жизни наступил момент, когда единственным избавлением от самоубийства стало преступление, «на кон была поставлена моя голова, я не рассчитывал остаться безнаказанным», — откровенничал Ласенер.
В течение трех дней, когда шел суд, хладнокровие ни на минуту не изменило ему, он был совершенно спокоен, временами даже улыбался. На последнем заседании произнес изысканную речь, которая длилась целый час, причем он не пользовался никакими записями и ни разу не запнулся. В течение двух месяцев до казни он принимал журналистов и давал интервью, любопытные великосветские дамы выпрашивали у него автографы, его посещали френологи, которых привлекала большая его голова с широким лбом, «благоприятно сформированным». Он разрешил, чтобы с его лица сделали прижизненную маску, писал мемуары и сочинял стихи. Эти его опусы с охотой публиковали бульварные газетки вроде «Курье де театр», где незадолго до казни появилось девять заметок о Ласенере и его стихи.
Его тщеславие было безгранично. Именно это побудило его разыгрывать из себя этакого «идейного» убийцу и перед эшафотом принять позу преследуемого обществом страдальца. Иначе говоря, он не хотел довольствоваться ролью обычного убийцы, а пытался выдавать себя за борца с социальной несправедливостью, жертвой которой он будто бы стал. «В эту эпоху, — писал он в своих мемуарах, — началась моя дуэль с обществом, которая прерывалась иногда по моему желанию, но которую меня заставляла возобновить нужда, я решил сделаться бичом общества».
Реакционеры моментально подхватили признание Ласенера и не преминули поддержать и развить мысль о происшедшем якобы превращении его бандитизма в социальное бунтарство. Родилась легенда о «поэте-революционере», которую поспешили использовать, чтобы очернить подлинных борцов.
Таким образом, Ласенер был не только зачислен в список поэтов-преступников, какими вынужденно в прошлом стали, скажем, Франсуа Вийон или Лассе-Майа, но и оказался в особом положении «интеллигентного» убийцы, вставшего на путь преступления во имя «идеи» мести обществу.
«Этот человек бессмертен», — изрек полтора века назад писатель и журналист Леон Гозлан, имея в виду, что в лице Ласенера криминалистика встретилась с особым типом преступника — «философа и теоретика». «Гневное восхищение» вызывало его имя у многих современников. Правда, он не удосужился «чести», оказанной его знаменитому предшественнику Картушу, череп которого выставлен в парижском Музее Человека (кстати говоря, рядом с черепом Декарта!), но в частной коллекции какого-то любителя подобных «раритетов» хранилась забальзамированная кисть руки Ласенера.
И манит любопытных ближе,
След казни все еще храня.
Обрубка в шерсти темно-рыжей
Коснулся с омерзеньем я,—
писал Теофиль Готье в стихотворении «Ласенер».
Воздал должное «поэту-громиле» и другой сочинитель того времени, Эжезиппо Моро. В сатирических стихах «Поэт Ласенер», разоблачая ореол бунтаря и справедливого мстителя, он гневно обличал убийцу, который осмелился называть себя поэтом, «в старушечьей крови сбирая луидоры». Это был ответ представителя республиканских кругов тем, пишет Ю. Данилин, исследователь творчества Э. Моро, кто пытался использовать имя Ласенера для борьбы с демократическими силами.
Тем же собратьям по перу, кто не знает, как добиться известности, Э. Моро давал иронический совет: встать, как Ласенер, на путь преступления:
Вам нужно покорить читателей? Так что ж?
Пускай как молния сверкнет ваш острый нож
Средь людной улицы над жертвою кровавой,
И — пред сбежавшейся полицией и славой,
Избрав подножьем труп, — вы покорите мир,
Держа под маскою тетрадь своих сатир!
На Западе буржуазные историки и сегодня пытаются представить судьбу Ласенера как обвинительный акт гуманности, а его самого сделать апостолом дегуманизации. «Человеком нашего времени» назван он в предисловии к последнему изданию его мемуаров, выпущенных в Париже в 1968 году. В том же году в Лондоне был показан телеспектакль «Литератор-убийца», а еще ранее, в 1946 году, образ Ласенера возник на киноэкране в французском фильме «Дети райка».
Если и был прав Леон Гозлан, то лишь в одном — в течение более века образ Ласенера привлекал писателей и поэтов.
Чем можно объяснить такое внимание?
Тема преступления, как отражение преступления в обществе, занимала писателей во все времена — от создателей античного эпоса до Шекспира, Бальзака, Золя, Достоевского. «Грабеж и убийство, шантаж и предательство, — говорит болгарский писатель Б. Райнов в своем исследовании, посвященном «черному роману», — в той или иной форме присутствуют в великом множестве художественных произведений». В связи с этим вспоминаются слова А. Франса о том, что «не будет преувеличением сказать, что пролитая кровь заполняет добрую половину всей созданной человеческой поэзии».
Особенно широкое распространение тема преступления получает в европейской литературе начиная с прошлого века. В буржуазном обществе, где нравственность уступает место аморальности, писатели, часто в морализаторских целях, живописали пороки и преступления, изображали людей безнравственных. Именно такая книга считалась тогда нравственной, как заметил английский писатель К. Честертон, сетуя на то, что в нашем веке буржуазная литература ассоциирует нравственность книги со сладким оптимизмом, с красивостью. «Для нас, — писал он, — нравственная книга — это книга о нравственных людях, но раньше считали как раз наоборот». Вот почему Бальзак произнес свою знаменитую фразу о том, что «великое преступление — это порой почти поэма», и, вторя ему, А. Франс восклицал: «Красивое преступление прекрасно!»
Лучшие из писателей прошлого стремились, таким образом, не бесстрастно живописать пороки и преступления, но ощущали необходимость заботиться о нравственном здоровье нации, выставлять язвы общества на всеобщее обозрение.
В связи с этим и заинтересовал многих литераторов образ Ласенера.
Казалось, французскую публику тех лет трудно было удивить типом вора и бандита — общество кишело ими, процессы и казни не прекращались. И чтобы воссоздать социальный и историко-бытовой фон, на котором стали возможны отдельные «беспримерные» уголовные преступления, писатели обращаются к судебной хронике, в ней черпают сюжеты и образы. Жизнь преступного мира, похождения авантюристов становятся излюбленными темами. Даже исторический роман преимущественно избирает жестокие сюжеты и мрачные сцены.
Чудовищные преступления, нагромождение ужасов, самые невероятные ситуации возникают в литературе как отклик на события времени, характеризуют нравственное состояние тогдашней Франции. В свою очередь, в Англии возникает целый жанр так называемого «ньюгейтского романа» — популярной литературы о преступлениях.
Среди тех, чье воображение в той или иной степени оказалось во власти личности Ласенера, был Стендаль.
В работе над романом «Ламьель», оставшимся незаконченным, Стендаль воспользовался данными шумного процесса авантюристки и преступницы, известной в 20-х годах прошлого века как «донья Конча». Отчет о суде над нею был опубликован в «Газетт де Трибюно». И то, что казалось редактору этой судебной газеты «чем-то невероятным» — женщина влюбляется в бандита, который собирался ее убить, — писатель с успехом использовал в романе. Разбойник
Вальбер с ножом в руках, по замыслу автора, должен был встретиться с Ламьель в момент ограбления ее квартиры. Как пишет исследователь творчества Стендаля Жан Прево, установивший источники этого романа, бандит Вальбер, увидев грудь Ламьель, должен был произнести: «Очень жаль», пощадить героиню и влюбить в себя. Ей кажется, что в беглом каторжнике и убийце она нашла того, которого так тщетно и долго искала — настоящего человека. Он покоряет ее сердце своей искренностью и активной деятельностью, и она гибнет, спасая его, для чего поджигает здание суда.
Был ли прототип у Вальбера? — спрашивает Жан Прево. И отвечает утвердительно: «Ламьель должна была найти свою большую любовь и невольную причину собственной смерти в страстной привязанности к несколько романизированному Ласенеру». Стендаль переписывает слова Ласенера, в нескольких строках рисующих образ Вальбера: «Я воюю с обществом, которое воюет со мной. Я слишком хорошо воспитан, чтобы работать собственными руками и зарабатывать три франка за десять часов работы». О тонких руках Ласенера тогда много писали, Теофиль Готье изобразил их так:
Она была аристократкой,
Не зналась с честным молотком,—
Приятель жизни бурно-краткой,
Лишь острый нож был ей знаком.
И не была на пальце этом
Мозоль — священный знак трудов.
Убийца явный, лжепоэтом
Был Манфред темных кабаков.
По замыслу Стендаля, Вальбер, которого преследовали, случайно становится убийцей (очень точная деталь, непосредственно внушенная автору, как считает Жан Прево, процессом Ласенера). Для этого нужно было описать людей с ненормальным психическим складом, проанализировать самые глубины их души и «показать события и людей глазами Вальбера — Ласенера». Нужно было «влезть в шкуру этих чудовищ» — иметь в душе своеобразный музей патологической анатомии. Однако, повторяю, эта часть романа до нас не дошла. Тем не менее Жан Прево приходит к выводу, что «в душе Стендаля Ласенер, по-видимому, одержал победу посмертно», и писатель выбрал этого «поэта и философа» в прототипы героя своего романа.
По-разному использовали образ Ласенера другие французские писатели. В. Гюго не раз вспоминает о нем в стихах, в романе «Отверженные», в письмах. В своем известном политическом памфлете «История одного преступления», где он заклеймил преступные действия банды политических проходимцев во главе с Ділі Бонапартом, проложивших себе путь к власти с помощью убийства, обмана и подкупа, снова возникает страшный образ Ласенера. «Он довел гнусность до предела, — писал В. Гюго о Наполеоне III. — Он завидовал размаху великих преступлений и решил совершить нечто, равное наихудшим из них. Это стремление к чудовищному дает ему право на особое место в зверинце тиранов. Жульничество, силящееся стать вровень со злодейством, маленький Нерон, надувающийся до размеров огромного Ласенера, — таков этот феномен».
Имя Ласенера мелькает в переписке А. Дюма, встречается оно у Максима Дюкана, Андрэ Бретона, у упомянутых Теофиля Готье и Эжезиппо Моро, у В. Ирвинга. И что особенно интересно, Ласенер оказался в поле зрения Ф. М. Достоевского.
Интерес Достоевского к судебным отчетам, к психологии преступника общеизвестен. В каждом номере газеты, говорил писатель, можно встретить отчеты о действительных фактах, и задача литератора замечать их, разъяснять, описывать и углублять.
Чаще всего внимание его занимали судебные разбирательства и расследования уголовных дел. «Есть еще много следов в наших газетах, — говорил он, — необыкновенной шаткости понятий, подвигающих на ужасные дела». Читал же Достоевский газеты, особенно во время пребывания за границей, регулярно и «до последней литеры». Они были единственным источником, который помогал уяснять происходящее на родине и где он мог черпать нужные ему факты русской действительности.
Использование газетной информации позволило Достоевскому говорить о том, например, что «многие вещицы» в романе «Идиот» «взяты с натуры». Конкретный материал в этом смысле предоставляли «Московские ведомости», «Голос», «Петербургские ведо-мости» и другие. Отчеты об уголовных процессах, опубликованные на их страницах, вошли в том или ином виде в сюжет «Идиота». Знакомство, в конце ноября 1867 года, с судебным делом потомственного почетного гражданина Мазурина пришлось как раз на момент нового, вторичного обдумывания романа и произвело на Достоевского, как известно, сильное впечатление. В романе оно нашло отражение в описании взаимоотношений Настасьи Филипповны и Рогожина, который с тем же хладнокровием, что и Мазурин, обдуманно осуществляет убийство. И вообще, все литературоведы, которые пытались выявить связь Рогожина с преступлением Мазурина, приходили к выводу, что образ Рогожина задуман и введен в роман под влиянием завладевшего воображением Достоевского образа Мазурина. «История создания Рогожина, быть может, должна начаться именно с того момента, когда Достоевский прочел в газетах судебное разбирательство дела об убийстве ювелира Калмыкова», — писала В. С. Дороватовская-Любимова в своей статье «Идиот» Достоевского и уголовная хроника его времени».
Восстановить обстоятельства дела Мазурина помогают «Московские ведомости» за ноябрь 1867 года.
С самого утра, писала газета, густая толпа в буквальном смысле загородила проезд Мясницкой улицы в Златоустинский переулок. Перед запертыми воротами дома почетной гражданки Мазуриной стоял полицейский караул, с трудом сдерживая напиравших людей. Еще летом 1866 года об этом доме ходили странные слухи в связи с исчезновением художника-ювелира Ильи Калмыкова.
Именно в этот дом, к своему приятелю Мазурину он заходил 14 июля, после чего бесследно исчез, и поиски его оказались напрасными. Только в феврале 1867 года, т. е. через 8 месяцев, случайно был открыт пустой магазин Мазурина и в нем найден разложившийся труп Калмыкова. При следствии обнаружилось, что Мазурин пригласил к себе Калмыкова, чтобы сговориться с ним о выкупе заложенных им у одного ростовщика бриллиантов. Калмыков нашел предложение интересным и отправился к приятелю на другой же день. Мазурин сам отворил ему дверь в передней, где ничего не было, и повел для переговоров вниз, в свой пустой и запертый магазин. Выйдя за перегородку, чтобы достать реєстр заложенных вещей, Мазурин вместо него вынул из конторки бритву, крепко связанную бечевою, чтобы бритва не шаталась и чтобы удобнее было ею действовать, вошел в комнату, где сидел Калмыков, и так сильно резанул по горлу своей жертвы, что Калмыков, не вскрикнув, повалился на пол и захрипел. Покончив дело, Мазурин вынул из кармана убитого деньги, завернутые в бумагу, снял кольцо и поднялся к себе наверх. Сбросив запачканное кровью платье, он вымыл руки в комнате рядом со спальней матери. После обеда, к которому он не притронулся, Мазурин отправился к вечерне, потом, около 9 часов вечера, купил ждановской жидкости[3] и черную американскую клеенку, спустился в магазин, налил жидкость в два поддонника и две миски, а труп покрыл старым пальто, лежавшим тут уже давно, и принесенною клеенкою. По показанию Мазурина, бритва была завязана им гораздо ранее, чтобы она не шаталась, так как служила для разрезывания тонкого картона, а новый кухонный нож со следами крови, найденный в магазине, был куплен для домашнего употребления.
В романе некоторые обстоятельства и детали этого уголовного дела были использованы Достоевским.
Не говоря уже о том, что, по замыслу писателя, об этом деле знает Настасья Филипповна, прочитав отчет о суде в газетах, дом Рогожина, большой, мрачный и скучный, вызывает в ее воображении другой дом, в нижнем этаже которого восемь месяцев лежал покрытый американской клеенкой труп. Образ убийцы из газеты сливается в ее восприятии с образом Рогожина. Не заключается ли в этом «причудливое указание автора на скрытые пути его собственного воображения, на сродство в его собственном представлении двух этих типов?» — спрашивает В. С. Дороватовская-Лю-бимова. Само собой, речь не идет о копировании уголовной хроники, что вообще было не свойственно Ф. Достоевскому, а о том, что Мазурин мог послужить толчком к замыслу образа Рогожина, не говоря об использовании писателем целого ряда деталей подлинного уголовного дела. Какие же это детали? Это и пач-ка денег, завернутая в «Биржевые ведомости»; и новый нож, купленный для домашнего употребления и потом послуживший орудием убийства; и время, когда совершается преступление, — погожие июньские дни; и место убийства — мрачный, зловещий дом, окутанный какой-то тайной, где «все как будто скрывается и таится»; это и срок наказания, определенный убийце, — пятнадцать лет каторги; наконец, это и черная американская клеенка, и склянки с ждановской жидкостью, обычные аксессуары тогдашнего быта, перешедшие из жизни на страницы романа, и уж конечно ничего общего не имеющие с тем мистическим смыслом, который пытались придать им некоторые западные исследователи.
Но историко-бытовой фон, на котором разворачивается трагическая история, рассказанная Достоевским, не ограничивается упоминанием только об одном убийстве, совершенном в Москве. Неоднократно в романе «Идиот» упоминаются подлинные печатные сообщения о других убийствах и ограблениях: «печатно известно» о судебном деле Данилова, убившего и ограбившего ростовщика Попова; про убийство шести человек семейства Жемариных студентом Горским, о чем они «в газетах изволили проследить»; о преступлении крестьянина Балабанова, зарезавшего за часы мещанина Суслова, — случае, о котором «все говорили».
Особенно часто в разговорах героев речь заходит о Горском и Данилове. Несомненно, как считают исследователи, Достоевский очень внимательно читал отчеты о следствии и суде над ними.
В начале марта 1868 года газета «Голос» поместила известие из Тамбова о том, что 1 марта вечером в доме купца Жемарина убито шесть человек: жена Же-марина, его мать, одиннадцатилетний сын, родственница, дворник и кухарка. Подозрение пало на гимназиста Витольда Горского, восемнадцатилетнего домашнего учителя семьи Жемариных. Позже и «Московские ведомости» начали освещать подробности этого преступления. В ходе следствия выявилась следующая картина. Горский признался, что совершил убийство с целью грабежа, так как испытывал тяжесть бедности. Замыслив убийство, он подробно разработал его план: заблаговременно приобрел револьвер, оказавшийся, впрочем, не совсем исправным, для чего потребовалось отнести его для починки к слесарю. Затем по им самим сделанному рисунку он заказал кузнецу изготовить нечто вроде кистеня — снаряд, якобы необходимый ему для гимнастики. Дальше он действовал с тем же обдуманным хладнокровием. Предвидя, что неожиданные выстрелы могут напугать членов семьи, он стал обучать мальчика, своего ученика, стрельбе из револьвера с целью приучить их к звукам выстрелов.
С тем же хладнокровием он совершил злодеяние: по очереди убил находившихся в доме членов семьи, а потом хозяйку с младшим ребенком и родственницу, которых вначале не было дома. Однако ограбить своих хозяев не успел.
Самое, пожалуй, удивительное состояло в том, что Горский не был каким-то прирожденным злодеем, умственно недоразвитым монстром. Ничего подобного. Напротив, и учителя в гимназии, и товарищи отзывались о нем, как о юноше прекрасно развитом, дворянине, любившем чтение и литературные занятия. Правда, при этом отмечали присущий ему резкий характер, волю не юношеского возраста и неверие в Бога, в чем он и сам сознавался.
Не менее громким в то время считалось и дело студента Данилова. Возникло оно раньше дела Горского, и о нем начали писать газеты в январе 1866 года. Но и два года спустя печать продолжала уделять ему внимание в связи с возникшими новыми обстоятельствами.
В чем же состояло преступление дворянина Алексея Данилова?
Неопровержимо было установлено, что именно он, девятнадцатилетний студент Московского университета, убил и ограбил отставного капитана Попова, принимавшего в заклад драгоценные вещи, а также его служанку. Арестованный, однако, категорически отрицал свою причастность к преступлению — убийству и краже двадцати девяти тысяч рублей и давал весьма противоречивые показания.
Суд над ним состоялся в феврале 1867 года и вызвал исключительный интерес. Билеты на процесс продавались по десяти рублей, а чтобы попасть на свободные места в зале, очередь занимали с пяти часов утра. В немалой степени такому ажиотажу способствовало то, что газеты много писали о личности подсудимого, о его высоком умственном развитии, хорошем образовании и твердом спокойном характере. С особым, казалось, удовольствием расписывали газеты его красивую незаурядную внешность: большие черные выразительные глаза и длинные, густые, откинутые назад волосы.
По суду Данилов был признан виновным и приговорен к девяти годам каторжных работ. Десять месяцев спустя, в ноябре, газеты сообщили, что по городу ходят слухи, будто Данилов осужден невинно и что отыскался настоящий убийца. Спустя некоторое время стало известно, что совершил преступление арестант Глизков, который сам во всем признался. Однако через месяц он заявил, что взял на себя вину за убийство по договоренности с Даниловым, рассказавшим ему историю своего преступления. Таким образом, выявилось, что Данилов, задумавший жениться и нуждавшийся в связи с этим в деньгах, действовал по совету отца, который научил его «не пренебрегать никакими средствами и для своего счастья непременно достать деньги, хотя бы путем преступления». Было установлено также, что Данилов, его отец и товарищ — все трое принимали участие в убийстве.
Последнее дело, особенно громкое, казалось Достоевскому наиболее показательным, отражающим черты времени.
Видимо, это и были те самые «мудреные факты», которые встречались в любом номере газеты, составлявшие «как бы живой, движущийся фон современной жизни, на котором разыгрываются» события романа. Однако в общем его развитии эти факты были переосмыслены автором и приобрели высокое художественное значение.
Писатель много размышлял над характерами преступников, прежде всего Горского и Данилова. Причем особенности характера последнего были использованы им еще ранее, при работе над образом Раскольникова. Ведь и он — студент, исключенный из университета, решается на убийство, чтобы покончить с отчаянным нищенским своим положением.
В связи с этим всплывает еще одно преступное имя, упоминаемое в романе «Идиот». Встречается оно и в черновых записях к «Подростку». Мрачный образ этого убийцы прослеживается также в «Бесах», но прежде всего в «Преступлении и наказании». Можно сказать, что этот образ сопутствовал Достоевскому в течение четырнадцати или даже больше лет.
Речь идет о Ласенере.
Осенью 1860 года петербургские газеты сообщили о том, что в следующем году начнет выходить новый ежемесячный журнал «Время». Редактором издания был отставной инженер-поручик, литератор и табачный фабрикант Μ. М. Достоевский, брат его, Федор Михайлович, являясь соредактором, значился в числе будущих авторов.
Конец года ушел на подготовку издания. Хлопот по составлению первых номеров и подбору сотрудников было немало. Да и помещение требовалось подыскать соответствующее. За этим, в буквальном смысле, далеко ходить не пришлось. Сняли квартиру неподалеку от прежнего места проживания Μ. М. Достоевского, на углу Казначейского и Столярного переулка, где и поместилась редакция. Федор Михайлович жил рядом, во втором этаже дома Алонкина, тоже на углу Казначейского и Столярного.
Естественно, братьев Достоевских прежде всего беспокоил вопрос о читателях. Соберет ли достаточное число подписчиков задуманное издание, чтобы быть неубыточным? Это зависело от того, что будет печатать новый журнал, какие имена привлечет на свои страницы, что интересного из отечественной и зарубежной жизни узнает современный читатель, насколько редакции удастся уловить последние умонастроения и новейшие взгляды в общественной жизни и отражать их в журнале.
В связи с этим журнал предполагал время от времени помещать материалы судебно-уголовной хроники, надеясь тем самым «угодить читателям». Однако не только стремление привлечь внимание к журналу и доставить подписчикам занимательное чтение руководило издателями. Знаменитые иностранные уголовные процессы, с которыми журнал намеревался знакомить читателей, «занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом, в виде эпизода». Выбирать процессы журнал обещал «самые занимательные», чтение которых «будет не бесполезно для русских читателей». Публикации эти могли бы стать поучительными. Они познакомили бы с уголовным правом разных европейских стран, с судебным опытом на Западе, новейшими теориями и их практически наглядным применением. В атмосфере ожидания судебной реформы в России подобные публикации могли действительно оказаться небесполезными.
Первой такой публикацией стал материал, напечатанный во втором номере журнала «Время» под названием «Процесс Ласенера». В примечании от редакции говорилось, что «в предлагаемом процессе дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной». Подчеркивая сложность психологии преступника вообще, редакция отмечала, что Ласенера привели на скамью подсудимых «низкие инстинкты и малодушие перед нуждой», он же вознамерился «выставлять себя жертвой своего века. На самом же деле он стал жертвой своего безграничного личного тщеславия, доведенного до последней степени».
Источник, откуда был переведен очерк о процессе Ласенера, не указывался. Теперь установлено, что, как и другие судебные очерки, опубликованные позже во «Времени», он был заимствован из иностранной серии «Знаменитые процессы всех народов», выпускаемой Арманом Фукье с 1857 по 1874 год. Всего вышло девять томов, носивших большей частью компилятивный характер. Очерк о Ласенере был включен в первый том и сопровождался шестью иллюстрациями. Построчное сравнение убеждает в верности русского текста французскому подлиннику, за исключением одного небольшого сокращения.
Что касается того, читал ли Достоевский мемуары Ласенера по-французски, то свидетельства на этот счет отсутствуют. Можно только предположить, что если бы они были знакомы Достоевскому, то он, надо полагать, выбрал бы более характерные стихи Ласенера, к примеру, «Мое превращение», чем «Бессонница осужденного», помещенное во «Времени», которое, кстати говоря, сам Ласенер не признавал своим.
Начинался судебный очерк о Ласенере обычными «анкетными данными». Далее — некоторые сведения о семье, учебе в семинарии и коллеже, где вел себя «хорошо и благонравно». Впрочем, сам он впоследствии утверждал обратное — был, мол, непокорен, богохульствовал, предавался разврату. Скорее, это его собственная выдумка более позднего времени, когда он начал изображать из себя исключительную личность.
«Ласенер желал посвятить себя изучению права. Париж тянул его, Париж, где так быстро создаются карьеры. Париж, где публичная речь получила в ту эпоху царственную силу, где в один день, единым словом можно было себя прославить! Звание адвоката в Париже— это ли не разумная греза юности!.. Но пришлось от нее отказаться. Средства отца были слишком скудны, и молодой Ласенер принужден был поступить в купеческую контору…» Вскоре, однако, ему наскучило сидеть за конторкой, и он подался в армию. Сам он потом в своих воспоминаниях признавался, что совершал из полка два побега. На вопрос, в чем была причина, он отвечал: «потому что не умею слушаться».
К этому времени семья его вконец разорилась, отец покинул Францию, оставшись должником многих. Сын решил искать счастья в Париже. Здесь он завел не слишком надежные знакомства. В числе молодых людей был и племянник Бенжамена Констана. Ничтожная ссора, случившаяся между ними, привела к дуэли, которая кончилась смертью противника Ласенера. Эта дуэль заключила первый акт жизни Ласенера, была для него первым поводом сопричислиться к группе людей исключительных, натур необыкновенных… «Зрелище агонии моего противника, — говорил он впоследствии, — нисколько меня не тронуло… Надо полагать, уж таково свойство моей организации, особенная бесчувственность».
Существует и такое предположение, что этот поединок задал фатальное направление его жизни, сгубил его будущность. Убийца племянника знаменитого политика и оратора был отвергнут обществом.
Чтобы достать денег не работая, Ласенер решился на подлог. Был уличен и посажен на год в тюрьму. Освободившись, он вздумал заняться литературой. Именно в это время появились написанные им песни и стихи. В значительной мере они были продуктом подражания.
Но деятельность на ниве литературы оказалась тоже не по нем. Он предпочел снова сойтись с бывшими дружками по тюрьме. Существование его как бы раздвоилось. То брался он за перо, писал из желания щегольнуть своими легковесными произведениями, то пускался на воровские проделки, подгоняемый голодом и неутомимою жаждою золота и наслаждений.
Летом 1833 года Ласенера приговорили за воровство к годичному заключению. В тюрьме он сошелся с редактором журнала «Здравый смысл» г-ном Вигуру, содержавшимся там за свои политические убеждения. Ловкая речь, оригинальный склад ума Ласенера, его песенки на злобу дня пришлись тому по душе. Он принял живое участие в судьбе арестанта; у них завязалась переписка. Редактор попытался помочь своему новому другу издать его стишки. Однако никто из типографов не пожелал печатать эти вирши, порожденные тюремной музой.
Зато с другим опусом Ласенера ему повезло больше. Статью «О тюрьмах и карательной системе во Франции», написанную во время заключения, удалось поместить в приложении к «Здравому смыслу». Нельзя сказать, что статья эта не представляла интереса. Напротив, она отличалась смелостью взгляда и выразительным изображением тюремных нравов. Главная мысль ее заключалась в том, что несовершенства карательной системы способствуют совершению вторичных преступлений. «Казематы каторжников, камеры тюрем и исправительных заведений, эти благодетельные учреждения не что иное, как омуты деморализации, где накопляется и разлагается яд, проникающий до сердца арестанта.
В тюрьме новичок, занесенный в эту преисподнюю, попадает в общество закоренелых преступников, проходит у них школу, получает воспитание. Он постигает воровское арго, слышит рассказы о доблестных похождениях молодцов с большой дороги и постепенно начинает брать пример с колодников, усваивает их привычки, изучает в совершенстве их язык. Если даже все это он проделывает, не желая прослыть чужим в среде, где оказался, и если подражает скорее по форме, чем по существу, все равно, будьте уверены, первый шаг уже сделан, остановиться на этой дороге трудно. Из исправительной тюрьмы он выходит уже кандидатом на получение железного убора с ядром, прикованным к ноге…»
Именно это произошло с самим Ласенером. Правда, во второй раз он угодил в тюрьму преднамеренно, с целью усовершенствоваться, сознательно пройти ту самую школу, о которой писал.
К этому времени он уже считал себя вором по ремеслу. А каждое ремесло требует совершенствования.
В его голове зрели кровавые замыслы, он изучал характеры арестантов, заранее подбирая из них будущих сообщников. Выбор его остановился на некоем Авриле, кровельщике, приговоренном на пять лет за воровство в ночную пору. Это был «человек с. характером» — врожденной кровожадностью, с кошачьими глазами, которые в момент гнева становились свирепыми.
Ласенер счел, что такой подручный ему подходит.
Когда их освободили, они встретились, закусили и тут же обсудили план, предложенный Ласенером.
Порешили убить некоего Шардона. Ласенер знал его по тюрьме Пуасси, где они оба сидели лет пять назад. По словам Ласенера, о чем он пишет в своих «мемуарах», они тогда были врагами. Жак Франсуа Шар-дон, по кличке «тетка Мадлен», провел два года в тюрьме за грабеж и вызов нравственности. Отсидев срок, поселился на улице Сен-Мартин в переулке Шваль Руф, в маленькой квартирке из двух комнат на первом этаже вместе с шестидесятилетней матерью. Он продавал различные стеклянные богослужебные предметы, называл себя «братом общества благотворительности Святого Камиля» и в одной из своих петиций, обращенных к королеве, потребовал учреждения гостеприимного дома для мужчин. Болтали, что у его матери припрятаны деньжонки и кое-что из серебряных вещей. Кроме того, прошел слух, что Шардон получил-таки десять тысяч франков от королевы на учреждение приюта.
Ласенер поверил этим слухам и рассчитывал на изрядный куш.
В назначенный день он и Авриль зашли позавтракать в винный погребок и тут условились, что кому делать в квартире Шардона. Ласенер запасся отточенным в виде шила трехгранным стальным напильником. Не прошло и часа, как он пустил в ход свое страшное оружие. Покончив с Шардоном и его матерью, убийцы разделили добычу: пятьсот франков золотом, столовое серебро, плащ и шелковая шляпка. Уходя, они прихватили статуэтку из слоновой кости.
В тот момент, когда Ласенер собирался закрыть дверь, случилось непредвиденное. Двое посетителей спросили Шардона. Сохраняя спокойствие, Ласенер ответил, что того нет дома. Между тем сам пытался закрыть полурастворенную дверь, под которую попал коврик и мешал ее движению. Если бы посетители случайно заглянули в эту полурастворенную дверь, они могли бы увидеть страшную картину преступления.
Избежав, таким образом, разоблачения на месте, преступники отправились кутить в воровской притон. Причем Ласенер облачился в плащ убитого. Что касается статуэтки из слоновой кости, то ее бросили в Сену, после того как антиквар оценил вещь в три франка.
Убийство Шардонов не было целью, а только средством. Преступление, совершенное из таких ничтожных видов, побудило Ласенера обратиться к более широким замыслам.
Меняя имена и квартиры, он совершал одно злодеяние за другим. Наконец, Ласенер попал за решетку на каком-то мелком деле. Тем временем угодил в тюрьму и его дружок Авриль. Желая выгородить себя, он «раскололся» и заявил, что убийца Шардонов — Ласенер. На этом окончилась кровавая карьера этого убийцы.
Когда он узнал, что его выдал его же товарищ и соучастник, то решил отомстить, избрав для этого путь чистосердечного признания. По ходу дела он рассказал о всех остальных своих преступлениях, подлогах, кражах, ограблениях, убийствах. Заодно Ласенер охотно разглагольствовал о своей натуре, которую любил выставлять как исключительную. Рисуясь, злодей заявлял: «Убить человека для меня то же, что выпить стакан вина». Неожиданный случай пробудил еще больше его тщеславие, авторское самолюбие возобладало даже над самолюбием героя судебно-уголовной драмы.
По делу Ласенера к суду были привлечены известный книготорговец Паньер, журналист Альтарош и типограф Герган. Они обвинялись в издании сборника предосудительных песен, сочиненных Ласенером, напечатанных в разных изданиях и газетах, парижских и провинциальных. Двоих из них оправдали, а книготорговец был приговорен к шести месяцам заключения и штрафу в пятьсот франков. Все это еще больше подогревало любопытство общества к личности Ласенера, делало его самой модной фигурой.
Так, на страницах «Газетт де Франс» в ноябре по-явилась статья, в которой, в частности, говорилось: «Этот несчастный! Подумать только! Человек твердой закалки, редкой интеллигентности, высокообразованный, отличающийся глубиной мыслей и идей, живым воображением, этот человек попадает в грязь тюрем и каторги, водит дружбу с самым подлым и отвратительным, он пропитывается всеми ужасами преступления и его карьера завершается на эшафоте!..
Почему же тогда, — вопрошала далее газета, — этот человек, с такими выдающимися способностями, с таким интеллектуальным багажом, не стал знаменитым военачальником или полезным в какой-либо другой области, требующей его энергии и талантов? Почему вместо того, чтобы стать врагом социального порядка, не стал он его светочем, его поддержкой? Он сам ответил на этот вопрос, когда у него спросили — верит ли он в другую жизнь! — Я никогда не хотел об этом думать! — ответил он.
Теперь проследим за последствиями подобной ситуации: нет другой жизни, нет Бога, — дедукция крайне риторична. Бога нет, морального закона в мире в соответствии с божественным законом тоже нет. В таком расположении духа молодой атеист открывает своего Жан-Жака или Дидро и усматривает свою поддержку в двадцати местах, где говорится, что социальный порядок это насилие над законами природы, что зло человека не в нем самом, а в социальных и политических институтах; что собственность — эго бич всего мира и источник всех зол и всех преступлений.
Следуйте за такими рассуждениями, и вот вы непосредственно подходите к разбою и убийству… Остается страх перед каторгой и казнью! Но, как мы видим, достаточно поставить себя над страхом, хладнокровно играть, как играет игрок в деньги, чтобы стать самым популярным философом-практиком».
Во время одного из допросов в больнице тюрьмы Форс присутствовали врачи, адвокат и журналисты. Они-то и поведали, о чем шла речь. «Ласенер устроился рядом с нами возле печурки, — писала «Конститюсьо-нель», — и болтал с нами о литературе, морали, политике, религии, делая это как бы ненароком, мимоходом, демонстрируя глубину мысли и цепкость памяти. Беседа шла о новых религиях, о Сен-Симоне, о тамплиерах и т. д. Ласенер верит в миграцию интеллекта во всех телах, созданных природой. «Все живет, все чувствует, — утверждал он, — даже камень обладает своей жизнью, своим интеллектом».
Его разглагольствования, таким образом, тотчас становились достоянием публики. С циничным апломбом он заявлял, что никогда его не мучили угрызения совести и что мысль о смерти его не страшит. «Мне тридцать пять лет, — витийствовал он, — но я пережил свыше срока человеческой жизни, и, видя стариков, влачащих жалкое существование, угасающих в медленной, мучительной агонии, я убедился, что лучше покончить с жизнью одним взмахом и при полном обладании силами и способностями».
Диалоги Ласенера с посещающими его журналистами и юристами, его «откровения», при меткости и находчивости суждений, некоторым казались необычными, оригинальными. Подогревая этот интерес, Ласенер из темницы разжигал любопытство к своей личности. «Я полагаю, что эшафот не смутит меня, — позировал он. — Казнь заключается не столько в механическом совершении ее, сколько в ожидании и нравственной агонии, ей предшествующих. Притом я властвую над своим воображением и создаю новый мир, собственно для себя… Если я захочу, то не подумаю о смерти до встречи с нею».
И все же однажды он проговорился, выдав себя и показав, что он уязвим. «Как вы думаете, — спросил он с тревогой, — будут меня презирать?» Презрение людей— единственное, что беспокоило этого тщеславного монстра.
Надо ли говорить, что начавшийся в такой обстановке суд привлек всеобщее внимание.
Ласенер вошел в зал суда улыбаясь и грациозно опустился на скамью подсудимых с выражением самодовольства. На нем был костюм безукоризненного покроя. На молодом лице маленькие усики, кокетливо подстриженные по последней моде — все это никак не вязалось с грозными обвинениями, числом тридцать, по различным делам. Он не отрицал ни одного из пунктов обвинения. И вообще выказывал полное равнодушие к происходящему, непринужденно переговаривался с адвокатом, изящно и остроумно отвечал на вопросы судьи, шутил с жандармами, безучастно читал свежий номер «Здравого смысла», улыбался, хмурился лишь тогда, когда неуважительно отзывались о его литературных опусах.
После выступления прокурора, потребовавшего самого сурового приговора, слово было предоставлено адвокату. Положение его оказалось не из легких: защищать признанного виновным и не отрицающим этого подсудимого. Ловкий адвокат нашел, однако, способ попытаться спасти своего подопечного. «Этот человек с невозмутимым спокойствием повествует о всех своих злодеяниях, входит в самые возмутительные подробности, чтобы затронуть ваши сердца и вызвать на свою голову кару, ибо в этой каре он надеется обрести конец жизненных превратностей. Это самоубийца, который сам старается рассказать суду обстоятельства дела, подобно тому, как человек, решившийся наложить на себя руку, внимательно осматривает оружие, которое должно ему сослужить службу…» — заявил адвокат. Его преступления ужасны, продолжал он, но сердце его окаменело, страх, как и надежда, ему неведомы, это человек, снедаемый жестокой болезнью… Прислушайтесь к словам его, когда он выставляет себя умнее других, и вы сами скажете: это сумасшедший! «Разве не так, — патетически восклицал господин адвокат. — Разве нормальный человек станет с таким хладнокровием описывать свои злодеяния, с улыбкой о них рассказывать и накануне суда сочинять какую-то песенку, выказывая полное равнодушие к подножию эшафота?..»
Самые знаменитые процессы не представляли, по словам защитника, подобного примера. Он призывал вникнуть, разобрать строго аналитически все наклонности Ласенера, и тогда нетрудно будет убедиться, что он действовал под каким-то неотразимо-фатальным влиянием, что снедавший его нравственный недуг повлиял на его свободную волю. «Заприте, закутайте его, поставьте его в условия, при которых он не сможет творить зло… но не убивайте его!..» И дальше защитник излагал свой основной довод: «Смерть за столько злодеяний! Смерть человеку, который смеется над нею, ни во что ее не ставит! Нет… этого слишком мало!.. Приговорите его к жизни!
Надо заключить этого человека в жизни вечной скорби, где ежедневно он изведает тысячу смертей. В цепях, в позорной арестантской одежде пусть тянет мучительную, безнадежную, позорную жизнь! Обреченный на страдания, он просветлеет нравственно и в бедствии, его постигшем, прозрит перст божий, преклонится перед его всемогуществом и примет все уготованные ему страдания как праведное возмездие за совершенные злодейства».
Когда адвокат, изнуренный, сел на место, Ласенер улыбкой выразил ему свою признательность. Однако, получив слово, обвиняемый наотрез отказался от подобной меры наказания. Рисуясь, он произносит напыщенную речь: «Какое помилование могут мне оказать? Пощадить жизнь? О, этой милости я не прошу! Другое дело, если б мне предложена была жизнь со всеми наслаждениями, с деньгами, с достатком, положением в обществе… Но жизнь, попросту жизнь!.. Нет, и без того я уже давно живу прошедшим. Восемь месяцев, каждую ночь, смерть сидит у моего изголовья. Ошибаются те, которые думают, что я приму смягчение приговора. Пощада! Вы не можете оказать, а я не прошу и не ожидаю ее от вас и не нуждаюсь в ней».
Эти слова продиктованы были не надменностью, а презрением и ненавистью к людям, в них гиперболическое, сконцентрированное выражение враждебности к ним. И принадлежали они личности вне сомнения с патологической психикой.
Нашлись в зале, однако, поклонники, которые бросились поздравлять Ласенера с блестящей речью. Казалось, он только и ждал этого: весь засиял, преисполнился самодовольства. «Поверьте, господа, — изрек он, — я всегда смотрел на жизнь, как на ратоборство; я вел игру напропалую — где силой взять, где тонкостью: проиграл, обдернулся — и все тут…»
Он остался верен себе. И даже перед казнью его обуревало тщеславие, занимало одно — желание, чтобы о нем говорили, и умолял сберечь местечко для него в воспоминаниях «любивших и ненавидевших» его. Лишь в последний момент он посетовал на то, что так недолго осталось до конца: если бы ему дали сроку, он сочинил бы нечто почище господина Гюго с его «Последним днем приговоренного к смерти».
Как бы подводя итог рассказанной на страницах журнала «Время» истории из уголовных дел Франции, редакция подчеркивала, что «процесс был веден доблестно, беспристрастно, передан с точностью дагерротипа, физиологического чертежа…»
Когда Ф. Достоевский вынашивал идею повести, которую вначале называл «психологическим отчетом одного преступления», впоследствии превратившуюся в роман «Преступление и наказание», писатель, по обыкновению, внимательно просматривал газетную уголовную хронику. Собственно, она и дала толчок замыслу об интеллигентном преступнике. «Несколько случаев, бывших в самое последнее время, убедили, что сюжет мой вовсе не эксцентричен», — писал он из Висбадена в сентябре 1865 года. К этому времени, видимо, уже окончательно сложился замысел романа.
Возникает вопрос: случайно ли появился отчет о процессе Ласенера на страницах журнала «Время»? Советские исследователи творчества Ф. Достоевского, а также некоторые зарубежные признают, что писатель не случайно выбрал из известных ему иностранных судебных процессов прежде всего дело Ласенера. В какой, однако, степени Ф. Достоевский находился под властью этой впечатляющей личности?
Несомненно, образ подлинного преступника Ласенера с его психологическими контрастами привлек внимание Достоевского еще тогда, во время публикации отчета о его процессе в журнале «Время». Это была прекрасная первичная модель, ложившаяся в русло его замысла — показать «психологический процесс преступления», вывести тип преступника-философа, образованного убийцы и дать анализ его «души».
Постепенно замысел обогащался новыми источниками, новыми впечатлениями. Но образ Ласенера продолжал владеть воображением писателя. Одно время он предполагал писать задуманный роман в форме исповеди или воспоминаний героя о совершенном им убийстве. Не был ли этот замысел — вести повествование от имени героя, в виде его дневников, — подсказан пресловутыми воспоминаниями Ласенера? Английский литературовед Ф. Д. Стед видит здесь параллель, он пишет: «…порой мемуары Ласенера предвосхищают мытарства Раскольников в кошмарной нищете Петербурга».
Однако прежде всего Достоевского привлек в деле Ласенера нравственно-психологический аспект преступления.
Но Ласенер был французом, продуктом француз-ской культуры, французской истории. Для писателя было нелегкой задачей преобразовать тот образец западного нигилизма, который он видел в Ласенере, в явление чисто русское. В конце концов он выбрал лишь несколько черт характера Ласенера и его преступления, но характер Раскольникова и его развитие пошли совершенно по иному пути. Как всякий большой художник, Достоевский, используя подлинные факты, сообщения газет и т. п., дополнял их своим воображением, пропускал их «через призму своих философских и социально-политических концепций», — пишет советский литературовед Г. Фридлиндер, отчего «эти факты подчас довольно далеки от жизненного первоисточника».
На первый взгляд Ласенер и Раскольников имеют немало общего. Оба — одаренные молодые люди, получившие образование, обреченные на нищету и обуреваемые навязчивым желанием властвовать. «Он хочет властвовать, — говорит Достоевский о своем герое, — не знает никаких средств. Поскорей взять во власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая». Оба, Ласенер и Раскольников, находятся под влиянием Наполеона и Руссо. Оба выходцы из провинциальной семьи, оба бросили занятия в университете. Оба — неверующие, враждебно настроены по отношению к обществу, поражены цинизмом. Обоими руководит жажда мщения. Ласенер пишет статью «О тюрьмах и карательной системе во Франции». Раскольников сочиняет статью «О преступлении». Оба чрезвычайно горды: «в его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу», подчеркивал Достоевский; в нем «глубокое презрение к людям», говорит он в другом месте. Но под этой гордостью и надменностью у них скрывается чувство собственной неполноценности. Ни один из них не думает о самоубийстве. Оба точно и ясно дают показания, «не запутывая обстоятельств, не смягчая их в свою пользу, не искажая фактов», и оба принимают свое наказание.
Сцена убийства Шардонов напоминает убийство, совершенное Раскольниковым. Некий человек, занимавший квартиру в одном из бедных кварталов, по словам других, прячет у себя большую сумму денег. Погиб не только этот человек, но и тот, кто случайно оказался у него в доме. И вместо большой суммы денег убийца обнаружил жалкие гроши. Топор (напильник) играет трагическую роль в злодеянии. Посетители чуть было не обнаруживают убитых и преступника, но в последний момент уходят в неведении. В первом случае один из украденных предметов брошен в реку, Раскольников имеет намерение предпринять то же самое, но в последний момент прячет награбленное под камнем. Временно убийцам удается скрыться от рук правосудия. Оба сознаются в содеянном, и их обвиняют в убийстве.
И тут начинается резкое расхождение. Достоевский с поразительной силой проникновения, вдумчиво и всесторонне воспроизводит процесс внутреннего развития преступления, рисует, как заметил известный в свое время юрист А. Ф. Кони, «сложную по замыслу, страшную по выполнению» картину убийства. Но в отличие от Ласенера Раскольникову знакомы угрызения совести. Он страдает, совершив преступление.
Совершенно очевидно, что для Достоевского убийство служит лишь завязкой дальнейшего развития действия. Автору гораздо важнее другие проблемы, философские и психологические, которые он ставит в своем романе.
После убийства, пишет Достоевский, развертывается весь «психологический процесс преступления». По словам самого писателя, «неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести». Его приговаривают к жизни, то есть определяют наказание, которого требовал для Ласенера его защитник. И он, Раскольников, готов страдать, готов «хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое… Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело…» Он «нравственно требует» этого, заключает Достоевский.
Тюрьма, таким образом, должна стать для него духовным и моральным чистилищем, где он, искупая грех страданием, постигнет новый смысл жизни.
Ничего подобного не происходит с Ласенером, ему неведомо искупающее страдание Раскольникова, образ которого, по словам самого автора, «не совсем похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя». Поэтому едва ли правильно будет назвать Ласенера в полном смысле слова прототипом героя Достоевского. Однако, несомненно, что дело Ласенера подсказало писателю некоторые штрихи для разработки темы «интеллигентного убийцы» и что отдельные черты его характера и детали преступления он использовал в соответствии со своим замыслом. Можно сказать, что процесс Ласенера, опубликованный на страницах журнала «Время», послужил толчком к работе воображения автора «Преступления и наказания».
Что касается самого Ласенера, то он был и остался убийцею, чье имя, вопреки его упованиям, если сегодня и помнят, то разве что историки-криминалисты.
Широкий, «властительный» лоб Эдгара По навис над свитком исписанной бумаги — он любил писать на узких полосках, напоминавших гранки газетных статей. Рядом на столе кипа таких же узких листков— рукопись нового рассказа «Тайна Мари Роже». Объем его — двадцать тысяч слов. Вряд ли удастся напечатать весь текст сразу в одном номере журнала. Придется разбить на части. Но прежде надо решить, в какой журнал послать рукопись. Впрочем, лучше разослать копии сразу в несколько редакций — где-нибудь да клюнет.
Махнув рукой на Филадельфию, где жил, Эдгар По посылает рассказ в разные города. Вскоре из Нью-Йорка приходит конверт. Владелец журнала «Лэдис компэнион» («Дамский спутник») сообщает, что рассказ принят и будет опубликован, как автор и предполагал, по частям в трех номерах. А еще несколько дней спустя Э. По оповещают о том, что первая часть появится в ноябрьской книжке журнала за 1842 год.
В середине октября, как обычно заранее, вышел ноябрьский номер «Лэдис компэнион». В нем увидела свет первая часть рассказа «Тайна Мари Роже». Вторая— в декабрьском номере — поступила в продажу примерно 15 ноября. Третья часть — в типографии.
И тут случилось то, чего автор никак не мог предположить.
Примерно за полтора года до этого, в апреле 1841 года, в журнале «Грехеме мэгэзин» появился рассказ «Убийство на улице Морг». Под ним стояло уже известное тогдашнему читателю имя Эдгара По. Незадолго перед этим вышли два тома его новелл, ранее публиковавшихся в различных изданиях. Но рассказ «Убийство на улице Морг» сразу же занял особое место в творчестве писателя. Это было необычное повествование, построенное на принципе логического рассуждения, по существу, положившее начало всей современной детективной литературе. А сыщик-любитель Огюст Дюпен — персонаж этого и последующих рассказов Э. По — открыл список знаменитых детективов в мировой литературе. Используя известное сравнение, можно сказать, что все они — от Шерлока Холмса и патера Брауна до Эркюля Пуаро и Жюля Мегрэ— вышли из рукава дюпеновского сюртука.
Аналитический дар, присущий самому Э. По, обожавшему всяческие психологические загадки и запутанные ситуации, позволяет его герою демонстрировать проницательность, которая «уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной». Для Дюпена анализ — источник живейшего наслаждения, он «радуется любой возможности что-то прояснить или распутать». В этом смысле Огюст Дюпен вобрал в свой характер многое от своего создателя — математика и поэта, которого манило все таинственное, загадочное.
Появившись на свет, Дюпен, сибарит и книгочей, равнодушный к прелестям жизни, очень скоро стал популярным персонажем. Его полюбили вместе с его причудами— бодрствовать ночью и занавешивать окна днем. А его уединенный образ жизни и та сосредоточенность, с которой он совершенствует в одиночестве свое искусство, тренируя ум, казались вполне естественными для человека, раскрывающего законы диалектического мышления.
Слава Дюпена укрепилась еще более после того, как он вторично встретился с читателями, вновь поразив умением распутывать криминалистические загадки, оказавшиеся «не по зубам» сыщикам-профессионалам.
Встреча эта произошла на страницах журнала «Лэдис компэнион», где публиковался рассказ «Тайна Мари Роже».
Итак, две его первые части опубликованы. Третья, последняя, должна появиться в следующем, январском номере. Однако, к удивлению читателей, с нетерпением ожидавших обещанного окончания, они не нашли его в очередной книжке журнала. Что же произошло? Отчего заключительная часть рассказа появилась лишь в февральском номере? По мнению некоторых исследователей творчества Э. По, в частности Джона Уолша, произошло это отнюдь не случайно. Но в таком случае почему?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к творческой истории этого рассказа.
Сила воображения Э. По была такова, что заставляла поверить и в невозможное. Эту его способность Ф. Достоевский назвал «фантастическим реализмом», который опирается на достоверность деталей, элементы «документированности». И действительно, реализм подробностей приковывает к страницам его творений, словно завораживает. Писатель любил, например, точно обозначать время действия, выводил реальные прототипы, часто строил сюжет своих новелл на подлинных событиях.
«Правда всякой выдумки странней», — утверждал байроновский Дон-Жуан. Вслед за ним Э. По считал, что «правда — странная штука… более странная, чем сама фантазия». Вот почему, когда страницы нью-йоркских газет, а вслед за ними и газет других городов в июле 1841 года запестрели сенсационными шапками заголовков о таинственном убийстве некоей Мэри Сесилии Роджерс, писатель стал собирать вырезки этих сообщений. Чутье подсказывало ему, что здесь будет чем «поживиться» его аналитическому дару.
Вскоре, примерно через год, он передаст эти вырезки в руки своего литературного двойника Огюста Дюпена и тот приступит по ним к расследованию.
О том, что Э. По положил в основу своей новеллы подлинный случай, он без обиняков указывал во втором абзаце, где заявлял, что все описанное им имело место в действительности. И недвусмысленно отсылал к делу об убийстве нью-йоркской «табачницы» Мэри Сесилии Роджерс, хотя имя героини, как и место действия, изменены им. Впрочем, разница усматривается лишь в незначительных деталях. Например, возраст героини— 22 года, место работы — парфюмерная лавка в Париже.
Дело об убийстве «табачницы» оказалось весьма сложным. Полиция топталась на месте, будучи бессильна распутать загадочный клубок. Тогда-то Э. По и решил бросить на помощь своего Дюпена.
Как и в рассказе «Убийство на улице Морг» (кстати говоря, в основе которого тоже лежал подлинный, правда, сильно переработанный случай), префект Г., приятель сыщика, приглашает его принять участие в следствии.
Потомок знатного рода шевалье Огюст Дюпен, маг и чародей сыска, отвечает согласием.
Разумеется, он не переступает порога своей квартиры. Больше того, остается сидеть в своем излюбленном кресле, прямой, чопорный, в очках с зелеными стеклами. Нужные сведения для него собирает приятель, безымянный рассказчик, от лица которого ведется повествование. Он роется в газетах, посещает полицию, и, наконец, предоставляет Дюпену результаты своих усилий.
Проведя неделю в раздумье, сыщик-аналитик раскладывает перед приятелем шесть выдержек из различных газет с отчетами об убийстве и излагает свое решение…
Как говорилось, в основе этой новеллы Э. По лежит подлинное преступление. В чем же оно состояло?
В Нью-Йорке сороковых годов прошлого столетия убийства были обычным явлением, хотя до «рекордов» сегодняшних дней тогда было еще далеко. Газеты уделяли таким событиям один-два абзаца и забывали о них. Однако убийство Мэри Сесилии Роджерс оказалось надолго в сфере их пристального внимания.
Трагическая судьба девушки вызвала всеобщий интерес. Пытаясь объяснить причину ее посмертной известности, репортеры приписали ей несуществующую славу, точнее говоря, дурную славу. При этом газетчики откровенно намекали на профессию Мэри — она работала продавщицей в табачной лавке, была исключительно хороша собой, недаром «влиятельные и богатые покупатели обожали прекрасную табачницу».
За прилавком она оказалась в 1837 году, когда разразился финансовый кризис. Мэри вынуждена была пойти работать. Отец ее погиб незадолго до этого при взрыве парохода, и семья осталась без кормильца.
Молодой торговец Джон Андерсон взял ее продавщицей в свой магазин. Это было смелое по тем временам новое веяние, оказавшееся весьма прибыльным. В магазине, обслуживающем главным образом мужчин, «прекрасная табачница» стала приманкой для покупателей.
У матери Мэри были все основания опасаться за дочь. Скоро эти тревоги оправдались. За два года и восемь месяцев до смерти с Мэри случилось нечто такое, что и сегодня остается неясным.
В четверг, 5 октября 1838 года, четыре утренние газеты вышли с кратким сообщением о том, что исчезла некая Мэри Сесилия Роджерс, оставив записку с извещением о задуманном ею самоубийстве (эпизод этот играет важную роль в рассказе Э. По). Газета «Нью-Йорк сан» под заголовком «Нечто загадочное» сообщала, в частности, что в полицию было доставлено письмо, оставленное молодой особой по имени Мэри Сесилия Роджерс своей матери, проживающей по Плитт-стрит, 114. В письме говорилось, что Мэри покинула дом навсегда, дабы покончить счеты с жизнью.
Испуганная мать бросилась искать дочь. Но до сегодняшнего утра, писала газета, след ее не найден.
Однако уже на следующий день другая газета, «Таймс энд коммершл интеллидженсер», опровергла сообщение. «Мисс Р., — говорилось на страницах солидного органа коммерсантов и торговцев, — просто-напросто поехала с визитом к подруге в Бруклин. И в настоящее время находится дома с матерью».
И это была правда. После этого Мэри продолжала работать в табачном магазине. Но потом ушла.
К тому времени ее мать, благодаря помощи сына, приобрела на Нассау-стрит дом и приспособила его под меблированные комнаты. Теперь мать и дочь могли жить безбедно.
Прошло два года. Дом, видимо, не пустовал, но из всех жильцов известны имена лишь тех, кто оказался так или иначе причастным к истории Мэри.
В воскресенье 25 июля 1841 года солнце взошло рано, и очень скоро Нью-Йорк бросило в удушливую жаРУ·
В десять часов утра Мэри вышла из своей комнаты, расположенной на втором этаже, спустилась по лестнице и подошла к двери Дэниела Пейна — жильца их дома. По его словам, она сообщила, что отправляется в город к тетушке, некоей миссис Даунинг, живущей на Джейн-стрит, чтобы отвести в церковь своих племянников и племянниц. Пейн условился с Мэри о том, что они встретятся вечером на углу Бродвея и Энн-стрит. Следует заметить, что они с Мэри были обручены.
Примерно в 11 часов утра Пейн ушел из дому и отправился к брату, который жил на Уоррен-стрит. В час дня Пейн находился в салуне на Дий-стрит; в два часа пополудни он обедал в ресторане на Фултон-стрит; домой вернулся в три часа дня и отдыхал до шести, а затем предпринял пешую прогулку на полмили, до Бэтте-ри, и снова встретился с братом. Около семи часов вечера он поджидал Мэри на конечной остановке на Энн-стрит. Но тут разразилась сильнейшая гроза, которой опасались весь день, и Пейн, зная, что в такую погоду Мэри не вернется, снова направился в салун на Дий-стрит. К девяти часам он был снова дома на Нассау-стрит, где другая тетка Мэри, миссис Хейс, подтвердила, что Мэри наверняка заночует на Джейн-стрит. Пейн улегся спать со спокойной душой. Он не знал, что окончился последний неомраченный день его жизни.
Таким рисует ход дела Джон Уолш, специально изучивший все его обстоятельства. Таким оно представлялось тогда и Эдгару По. Во всяком случае, в основном писатель, если обратиться к тексту новеллы, придерживался точно такого же хода развития событий. Дальше это станет еще очевиднее.
… На другой день, в понедельник, Пейн вышел на работу (он служил на пробковой фабрике). Придя домой во время обеденного перерыва, он узнал, что Мэри до сих пор никто не видел, не поступило от нее и каких-либо известий. Тогда Пейн решил отправиться к тетке Мэри на Джейн-стрит. На конке дорога заняла пятнадцать минут. Здесь он выяснил, что в воскресенье миссис Даунинг не было дома и она ничего не может рассказать о племяннице. Остаток дня Пейн в смятении метался между домами друзей и родственников Мэри. Но так ничего и не узнал. Мэри исчезла. Тогда Пейн отправился в редакцию нью-йоркской газеты «Сан», где дал осторожно составленное объявление. Оно появилось в газете на следующий день. «25 июля, в воскресенье, — говорилось в нем, — ушла из дому девица в белом платье, черной шали, голубом шарфе, шляпке с перьями, светлых туфлях и с таким же зонтиком; предполагают, что с нею произошел несчастный случай. Тому, кто сообщит о ней какие-либо сведения в дом № 126 по Нас-сау-стрит, будет выдано вознаграждение».
Когда об исчезновении Мэри узнал Элфред Кро-млайн, за месяц до описываемых событий покинувший меблированные комнаты и ухаживавший за дочкой хозяйки до Пейна, он не на шутку переполошился.
Прежде всего он навестил миссис Роджерс, затем стал наводить справки, предпринял кое-какие розыски. Скоро он пришел к выводу, от которого, как он объяснял впоследствии, у него мороз пошел по коже: Мэри похищена с гнусными намерениями и даже, возможно, содержится под стражей — вероятно, в одном из «веселых» домов на противоположном берегу Гудзона.
Примерно в полдень 28 июля Кромлайн со своим другом Арчибальдом Пэдли сели на паром, идущий на ту сторону Гудзона, в Гобокен. Они шли по берегу. И вдруг, неподалеку от Пещеры Сивиллы, поиски Мэри неожиданно завершились успехом. Заметив у самой воды группу людей, Кромлайн растолкал их локтями и очутился перед изуродованным телом молодой девушки, лежавшим на песке.
Позднее репортер газеты «Геральд», случайно оказавшийся на том же самом месте происшествия, так описывал зрелище, открывшееся глазам Кромлайна: «Самое тяжкое впечатление произвел первый взгляд на нее… Черты лица едва различимы — до того сильны нанесенные повреждения… в целом она представляла собой одно из самых ужасающих зрелищ, какие только можно вообразить».
Несмотря на то что лицо было изуродовано, Кромлайн сразу узнал Мэри.
И пресса, и полиция, не задумываясь, приписали злодеяние одной из бесчисленных нью-йоркских шаек, бесчинствующих в Гобокене и его окрестностях.
В начале августа Нью-Йорк жил сенсацией таинственного убийства Мэри Роджерс. Место происшествия привлекало массу любопытных. «В Гобокене по-прежнему наблюдаются толпы народу, у всех на устах имя бедняжки Мэри Роджерс», — писал репортер газеты «Геральд». Нашелся предприимчивый дагерроти-писг с Уолл-стрит, некто Бэкер, раздобывший портрет девушки, с которого изготовил копии — «вылитая мисс Роджерс». «В розницу можно продать большое количество копий, — рекламировал он свое мастерство в „Сан“, — если отвезти товар в Гобокен, куда ежедневно приезжает такое множество людей, чтобы посетить место происшествия». В те дни фотография едва ли насчитывала год от роду, и Бэкеру надо отдать должное: он быстро сориентировался, нашел коммерческое применение новой технике.
Тайна убийства оставалась злобой дня, однако ключа к разгадке все еще не было. Туман слухов и маловероятных догадок распространялся по городу. Но ничего нового не происходило — полиция тщетно пыталась выйти на след преступника.
Как же развертывались события дальше? В конце августа в руках полиции оказались кое-какие данные. А именно: некая миссис Фредерика Лосс, хозяйка небольшой гостиницы неподалеку от берега, известила го-бокенскую полицию, что ее сыновья нашли предметы женской одежды, разбросанные в кустарнике метрах в трехстах от ее заведения. В числе этих «предметов» были зонтик, носовой платок с инициалами Μ. Р., шелковый шарф, пара перчаток и, как ни странно, белая нижняя юбка. На вересковом кусте обнаружили также два лоскутка материи.
Миссис Лосс тотчас же опознала шарф: он принадлежал молодой девушке, которая побывала в гостинице в воскресенье, в тот день, когда исчезла Мэри. По словам миссис Лосс, девушка пришла в гостиницу часа в четыре пополудни в сопровождении «загорелого молодого человека». В гостинице девушка, продолжала миссис Лосс, выпила лимонаду и полчаса спустя ушла, опираясь на руку своего спутника. Она запомнилась «любезностью и скромными манерами»; уходя, улыбнулась и сделала прелестный книксен.
Проведя расследование, полиция официально потребовала не предавать эти сведения огласке. Таким образом, в печать не просочилось даже намека о находке. Впрочем, газета «Геральд», пронюхав о каких-то фактах, кратко сообщила, что «найдены» принадлежавшие Мэри «шаль и зонтик». Вскоре газете стали известны все подробности, но требование полиции не оглашать сведения сильно осложняло дело. Тем не менее «Геральд» разразилась драматическим абзацем: газета заверила читателей, что располагает «всеми жуткими фактами, раскрытыми за последние дни». «Как только будет дозволено, — обещала газета, — мы приподнимем завесу тайны и покажем сцены жестокости и кровопролития, от которых волосы встанут дыбом». Однако вскоре умолкла и «Геральд». Взбудораженным читателям приходилось снова довольствоваться слухами и строить собственные догадки. Наконец, в середине сентября атмосфера несколько разрядилась. «Геральд» разразилась пространной статьей о находке вещей Мэри и показаниях миссис Лосс. Плюс к этому газета опубликовала гравюру — гостиницу миссис Лосс с подписью: «Вот дом, где Мэри Роджерс в последний раз видели живой».
К сожалению, многообещающие находки ни к чему не привели. Разумеется, полиция допросила миссис Лосс и ее сыновей, обследовала найденную одежду, обшарила кустарник, привлекла к дознанию членов наиболее известных шаек города. Но все это кончилось ничем. И к тому времени, когда прекратился ажиотаж статей в «Геральд», дело об убийстве Мэри Роджерс потеряло свою популярность.
Последний раз убийство упоминалось на страницах газет в середине октября 1841 года. Видимо, до этого Эдгар По, как и многие читатели, лишь следил за сообщениями прессы. И только после того как следствие кончилось ничем и дело предали забвению, писатель решил пустить своего героя-сыщика Дюпена по следу. Замысел новеллы «Тайна Мари Роже» возник, видимо, в мае, то есть почти год спустя после убийства.
А уже 4 июня Э. По в письме Джорджу Робертсу, редактору бостонской «Нейшн», сообщил, что «только что закончил вещь, похожую на „Убийство на улице Морг“, которую назову „Тайна Мари Роже“. Рассказ основан на истории убийства Мэри Сесилии Роджерс».
Дюпену вновь представилась возможность блеснуть своими талантами криминалиста. Нетрудно было предположить, что расследование и выводы «частного сыщика» по поводу нашумевшего убийства привлекут всеобщее внимание. Тем самым умножат успех рассказа. Конечно, можно сказать, что в известной степени писатель рисковал, выдвигая свою версию об убийстве. Но ведь полиция оказалась неспособной раскрыть преступление, и дело положили в архив. Во всяком случае, тогда казалось, что с этим покончено и Дюпен может без ущерба для личного авторитета выдвигать свою версию.
Поставленный в конкретные рамки хотя и неопределенным, но все же общеизвестным фактом, Дюпен в ходе логических рассуждений приходит к заключению, что Мари Роже — аналог Мэри Роджерс была убита тем «загорелым молодым человеком», с которым ее видели в гостинице, возможно, он был морским офицером. Этот вывод Дюпен сделал после недели раздумий над вырезками газетных сообщений. Из их потока сыщик отбирает шесть и по ним строит свои выводы. В последующих изданиях в сносках будут указаны источники, где были опубликованы приведенные цитаты. Впрочем, вопреки общему заблуждению, эти выдержки отнюдь не представляли собой дословное изложение газетных текстов, якобы без изменений вставленных Э. По в свое повествование. Четыре из них, как считает Дж. Уолш, были компиляциями или адаптациями, пятая — близким к тексту пересказом одного источника, шестую же проследить вообще не удалось: ее, видимо, придумал Э. По, стремясь придать развязке больший эффект.
В таком виде — с тщательно обоснованной развязкой и продуманной, аргументированной версией об умышленном убийстве, совершенном офицером флота, — рассказ ушел в типографию.
Когда же первая и вторая части его были уже опубликованы, а третья находилась в печати, случилось, как было сказано, непредвиденное.
После более чем годичного молчания нью-йоркские газеты, начиная с 18 ноября, вновь подняли шумиху вокруг дела Мэри Роджерс.
Причем на сей раз газеты без обиняков заявляли, что тайна ее убийства вот-вот будет раскрыта.
И в самом деле, вскоре появились сообщения о сенсационном признании миссис Лосс — хозяйки гостиницы, где Мэри видели живой в последний раз. На смертном ложе почтенная миссис — ее нечаянно ранил один из сыновей — покаялась: девушка стала жертвой незаконного аборта, произведенного в гостинице.
Самый злостный недоброжелатель писателя не мог бы выбрать время, более подходящее для того, чтобы нанести удар. Не забывайте, в печати последняя часть рассказа о совершенно противоположной версии гибели Мэри Роджерс — прототипа героини Эдгара По.
Репутация писателя, а вместе с ним и его героя— непревзойденного детектива — оказалась под угрозой. Э. По прекрасно понимал, что критики не преминут воспользоваться его промахом. Надо было срочно спасать положение и исправлять ошибку, допущенную его Дюпеном. Но что мог он предпринять?
О том, как и где провел Э. По последние пять недель 1842 года, неизвестно. Все без исключения биографы писателя обходят этот вопрос, как заявляет Дж. Уолш, молчанием, видимо, не сомневаясь, что Э. По находился дома, в Филадельфии.
А между тем это было не так. Несомненно, считает тот же Дж. Уолш, что писатель решил спасти свою репутацию и выехал в Нью-Йорк. Вернулся же он лишь к рождественским праздникам. Что же делал Э. По в Нью-Йорке? Что мог он предпринять?
Прежде всего писатель навел справки у знакомых газетчиков, побывал в гостинице и ее окрестностях — словом, подключился ко всевозможным источникам новых сведений о гибели Мэри Роджерс. И очень скоро он понял, что его Дюпен действительно шел по ложному следу. Писатель лично убедился в справедливости своих собственных слов о том, что в глубокомыслии легко перемудрить и что в насущных вопросах истина не всегда обитает на дне темного ущелья.
У Э. По оставалось несколько дней, чтобы спасти положение. Однако он, видимо, еще колебался. Должно быть, откровения миссис Лосс не убедили его своевременно. Когда же он, наконец, бросился в редакцию журнала и потребовал гранки последней части своего рассказа, увы, было уже поздно — январский номер ушел в печать. Необходимо внести изменения, убеждал он редактора, и отложить публикацию последней части. Редактор был, естественно, недоволен, но пришлось пойти на это. В январском номере продолжение не появилось.
Тем временем автор в одной из нью-йоркских ГОСТИниц спешно вносил поправки и исправления в заключительную часть своего рассказа. Об этом свидетельствует анализ текста рассказа. Прежде всего обращает на себя внимание текст от редакции «Лэдис компэнион». Видимо, выяснение подлинных обстоятельств гибели прототипа и несовпадение выводов о причинах смерти Мари Роже у автора бросило бы тень в глазах читателей и на сам журнал. Стремясь спасти свою честь, редакция сообщала, что она, по соображениям, от уточнения которых воздерживается, взяла на себя смелость опустить ту часть рукописи, где описаны события, развернувшиеся после того, как Дюпен подобрал свой, пока еще ненадежный, ключ к разгадке.
Однако какого же характера исправления внес сам автор? Наиболее существенные — это вписанные позже слова о том, что между судьбой Мэри Роджерс и Мари Роже отсутствует прямая параллель, хотя она и напрашивается сама собой. Весь этот абзац довольно противоречив. Не говоря о том, что читатель хорошо помнил фразу в самом начале рассказа, где автор открыто настаивал на этой параллели, призывал к сравнению судеб прототипа и героини.
И вот, несмотря на это, Э. По многословно предостерегает читателя от мысли продолжить установившуюся между двумя убийствами параллель и отметает ее «с безоговорочностью и настоятельностью, возрастающими прямо пропорционально тому, насколько далеко эту параллель уже провели, и тем больше, чем точней она до сих пор получалась».
В этом же абзаце автор туманно говорит о «просчетах», заявляя, что к ним ведет подчас самая незаметная нетождественность параллельных фактов. В результате два потока событий будут отклоняться в разные стороны один от другого точно так же, как в арифметике ошибка, сама по себе, может быть, и пустяковая, приводит, умножаясь в каждом новом звене последовательных вычислений, к ответу, чудовищно не совпадающему с правильным.
Эти изменения и вставки в тексте, которые сейчас при отсутствии рукописи Э. По в полной мере невозможно проследить, были, как справедливо пишет Дж. Уолш, паллиативом, но, бесспорно, лучшим из всего, что мог предпринять автор в столь ограниченный срок и при такой двусмысленной ситуации. Во всяком случае, Э. По достиг главного — эти изменения спасли его и Дюпена от полного провала.
Но Э. По не ограничился только предупреждением о том, что не следует отождествлять историю прототипа с судьбой героини его рассказа. Он попытался, насколько это было тогда возможно, внести поправки в последнюю часть публикуемого рассказа, каждая из которых предусматривает возможность смерти Мари Роже в гостинице мадам Делюк (литературного аналога миссис Лосс).
Позже, готовя издание сборника своих новелл, Э. По прошелся по всему рассказу «Тайна Мари Роже» и внес еще ряд поправок того же свойства. В общей сложности их было сделано пятнадцать.
Кроме того, в авторской сноске, помещенной в этом издании, Э. По сделал подстрочные замечания, которые ранее отсутствовали. Из них явствовало, что автор якобы знал истину с самого начала и следовал основным фактам подлинного убийства Мэри Роджерс. Но вместе с тем признавал, что многое из того, чем он сумел бы воспользоваться по-своему, случись ему побывать на месте и ознакомиться с обстановкой лично, оказалось упущенным.
Делая эти оговорки, Э. По, однако, продолжал утверждать, что его попытка раскрыть реальное убийство при помощи одних лишь газетных отчетов увенчалась успехом. Это утверждение послужило толчком к тому, что рассказ оброс значительным количеством литературы. Одни твердят, что Э. По раскрыл убийство, другие — что не раскрыл, некоторые предлагают новые версии. Сравнительно недавно была высказана совсем смехотворная мысль, будто убийца — сам писатель. Это превосходно показывает, иронизирует Дж. Уолш, до чего довела «Мари Роже» тех, кто пытался проникнуть в ее тайну. А таких было немало.
Еще при жизни писателя появились, как правило, дешевые, рассчитанные на обывателя, душещипательные сочинения, излагавшие трагическую судьбу нью-йоркской девушки. Образ ее ожил на страницах романа Дж. Ингрэма «Прекрасная табачница». Через несколько лет, уже после смерти Э. По в 1849 году, ее история послужила основой для романа Эндрю Дж. Дэвиса «Рассказы доктора». А еще позже, лет сорок спустя, когда Дж. Ингрэм — первый биограф Э. По — работал над его жизнеописанием, он неожиданно для всех обронил фразу: «Имя морского офицера, убившего девушку, было Спенсер». Никаких ссылок на источники, никаких комментариев при этом он не сделал. Однако, тем самым возвращаясь к версии, как будто уже опровергнутой, он вновь пробудил интерес к ней.
Впрочем, до некоего Уильяма К. Уимсэтта никто всерьез не пытался пойти по этому следу. Свой розыск, предпринятый через сто лет после трагедии, литературовед начал с поисков офицера по имени Спенсер. Скрупулезно изучив отчеты в архивах американского флота, он пришел к такому выводу: «Без подтверждения слова Ингрэма ничего не доказывают». Однако добавлял, что был лишь один офицер-моряк по имени Спенсер, который мог бы оказаться «причастным». А вообще в те годы на флоте числились два Спенсера. Один находился в Огайо и, следовательно, отпадал. Другой жил в Нью-Йорке. В 1841 году ему было 48 лет.
В 1837–1838 годах он находился «в отпуске», а в 1841-м — «ждал назначения». В декабре 1843 года капитан Уильям А. Спенсер — таково его полное имя — вышел в отставку. Проведенные расследования показали, что он не мог иметь какого-либо отношения к нашумевшему делу. Тем не менее поиски Спенсера— того, кто мог быть причастным так или иначе к давним событиям, — оказались все же ненапрасными.
От Уильяма А. Спенсера ниточка привела к сыну тогдашнего военного министра Дж. К. Спенсера— брата Уильяма. Молодого человека звали Филип Спенсер. Он числился гардемарином и плавал на бриге «Сомерс». Неожиданно разразился скандал: сын военного министра был повешен прямо в море за попытку поднять на корабле мятеж. Дело получило широкую огласку: газеты раструбили о нем на всю страну, вызвав сильное возбуждение общественности. И возникает вопрос: не подала ли скандальная история с молодым гардемарином писателю мысль о таинственном морском офицере — убийце Мэри? На этот счет существует свидетельство некоей миссис Уитмен. В марте 1867 года она сообщила, что будто бы году этак в 1848-м, незадолго до смерти, Э. По лично заявил ей, что «морского офицера» в его рассказе зовут «Спенсер». Осталось неизвестным, что сказал он еще, указал ли точно, кем был этот «Спенсер». Но именно это заявление миссис Уитмен, которое стало известно Дж. Ингрэму, дало ему основание использовать его в биографии Э. По.
И очень может быть, что биограф писателя был недалек от истины. Вполне возможно, что Э. По, не желая ограничивать себя рамками одного случившегося факта, стремился использовать другие, в том числе и нашумевший случай с гардемарином. В основе метода писателя лежал принцип монтажа действительности и вымышленного. Он комбинировал реальное, достоверное с тем, что подсказывала интуиция, воображение.
Среди версий, связанных с разгадкой тайны Мэри Роджерс, имелась еще одна, впрочем, довольно нелепая. Существовало мнение, что Э. По создал свой рассказ по просьбе владельца табачного магазина Андерсона, чтобы отвести от последнего подозрения.
Но если это утверждение само по себе абсурдно и не может вызвать ничего, кроме улыбки, то упоминание имени Андерсона в связи с гибелью Мэри дает повод для некоторых размышлений.
Фигура торговца осталась в тени в ходе расследования убийства. Имя этого торговца почти не упоминалось в колонках газетных сообщений того времени. А между тем судьба Мэри Роджерс, как оказалось, была тесно связана с Андерсоном и его табачным магазином. Но об этом мало кто знал. И только после смерти торговца в 1880 году, ставшего к концу жизни весьма богатым человеком, хорошо известным в общественных и политических кругах, выявились некоторые обстоятельства его молодости. Произошло это в связи с тем, что завещание Андерсона было оспорено. Начался десятилетний процесс. Свидетельские показания, которые давались во время следствия, неожиданно пролили некоторый свет на судьбу Мэри Роджерс.
Ее дух преследовал Андерсона всю жизнь, заявил на суде один из свидетелей. Он утверждал, что Андерсон всякий раз, проходя мимо дома, где когда-то жила Мэри, проклинал это место, которое «послужило причиной его отхода от политики и лишило его возможности дальнейшего продвижения». Вспомнили, что, когда пытались уговорить Андерсона выставить свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка, тот отказался. Это выглядело странным. Причиной могла быть его осторожность, боязнь раскрытия «грехов молодости» политическими противниками с целью скомпрометировать его.
Другой свидетель под присягой показал на процессе по делу о наследстве в 1891 году, что Андерсон был связан с расследованием смерти Мэри. Его даже вначале арестовали по подозрению, но позже отпустили из-за отсутствия улик. «Подозрения повредили его репутации, — заявлял этот свидетель, — и серьезно отразились на его политической карьере». По этому поводу припомнили статью в «Геральд», которая в августе 1841 года утверждала, что «Мэри три года назад находилась с Андерсоном в интимной связи». Торговец был вынужден тогда признать этот факт, но утверждал, что, «кроме этого, нет решительно никаких оснований подозревать его в том, что он имел какое-то отношение к убийству». Однако, судя по тому, как он настаивал, чтобы его не впутывали в историю с гибелью девушки, создается впечатление, что он мог быть соучастником, действовать в качестве человека, который устроил посещение ею гостиницы миссис Лосс.
Не обошлось на процессе и без курьезных показаний. Друг Андерсона сенатор Мэттун рассказал, что тот на склоне лет увлекался спиритизмом. Во время сеансов, по его словам, Мэри будто бы часто являлась Андерсону, говорила и даже давала советы, какие капиталовложения делать, а также обсуждала обстоятельства своей смерти и называла убийц.
Однако раскрытию причин гибели молодой табачницы это мало что дало. Безуспешными оказались и попытки отыскать отчеты о следствии по делу Мэри, предпринятые в 1930 году.
Впрочем, так ли уж важно, скажете вы, докопаться сегодня, спустя столько лет, до истины. Ведь правосудию это не поможет. Современники тех событий давно умерли. Тогда отчего же и сейчас нас интересуют подлинные обстоятельства смерти Мэри Роджерс? Почему литературоведы так настойчиво листают старые газетные и книжные страницы, придавая значение каждому слову, так или иначе связанному с ними? Конечно, только потому, что трагическая история нью-йоркской девушки привлекла внимание великого писателя и что волею судьбы она стала, хоть и посмертно, героиней знаменитого рассказа. И мы хотим проникнуть в конце концов не столько в тайну смерти Мэри Роджерс, сколько в тайны творчества Эдгара По. Проследить, если это вообще возможно, насколько действительное переплелось в этом произведении с вымыслом, выявить принципы отбора жизненного материала писателем, лучше постичь волшебную силу его воображения. Того самого воображения, с помощью которого он, перевоплощаясь в своих героев, становился потомком знатных предков, владел сказочными богатствами, жил, вопреки реальной действительности, в роскоши, щеголял в дорогих костюмах, пил редкие вина. Эта же волшебная сила переносила его из затхлого мира современной ему одноэтажной Америки в иные страны, на необитаемые острова, в шумный Париж, где его герой Огюст Дюпен — двойник своего создателя — творил чудеса, разгадывая человеческие характеры и демонстрируя поразительные способности аналитика и психолога.
Именно эти качества американского писателя позволили еще в прошлом столетии братьям Гонкурам прозорливо заметить, что рассказы Эдгара По — это литература двадцатого века, интересующаяся происходящим в голове больше, чем в сердце.
Ранним утром, когда чешуйчатая поверхность Сены дышит туманом, на набережных вдоль реки раскладывают свой товар парижские букинисты. Говорят, их зеленые лотки появились в 1609 году на Новом мосту, едва по нему проехали первые экипажи (незадолго до этого, в 1578 году, книжная торговля была разрешена специальным указом). С тех пор не одну сотню лет парижских букинистов на набережных Сены моют дожди, опаляет солнце, пронизывает холодный ветер. Кожа их задубела, время сгорбило, полунищенское существование приучило к лишениям. Безвестными проживали они всю жизнь, бесхитростны были их сердца, писал Анатоль Франс, сам воспитанный на этих набережных, среди книг.
И сегодня, в непогоду и в жару, по утрам раскладывают на лотках свой пыльный товар парижские букинисты — на набережных Малаке и Гранд-Огюстин, у моста Петипон, на набережной Турнель по ту сторону Сены, у моста Искусств…
«Букинистическая» Сена — это огромная публичная библиотека, ее книжные запасы не уступают многим книгохранилищам. Вот почему около лотков всегда толпятся библиофилы в надежде отыскать какую-нибудь редкость.
Любил порыться в книжных развалах и Уилки Коллинз, английский писатель, когда случалось ему бывать в Париже. Прежде всего его, юриста по образованию, привлекали разного рода старинные судебные хроники, отчеты об уголовных процессах. Однажды ему особенно повезло. Было это в 1856 году. Уилки Коллинз приехал в Париж вместе с Чарлзом Диккенсом, своим новым другом, с которым уже совершил поездки в Булонь, Швейцарию и Италию. В Париже они вели беспечную жизнь путешественников, бродили по улицам, знакомились с историей города, частенько заглядывали и к старым букинистам на набережных Сены. Здесь среди книжных редкостей Коллинзу попалось несколько ветхих, потрепанных томов Мориса Межана с описанием знаменитых французских судебных процессов — издание 1808 года.
— Вот это находка! — обрадовался Коллинз.
Сочинения Межана, парижского юриста, оказали ему неоценимую услугу. Писатель бережно их хранил среди книг своей библиотеки в лондонской квартире на Олбени-стрит. Особенно дорог был ему четвертый том. «В нем, — говорил писатель, — я нашел самый прекрасный из моих сюжетов». Что имел он в виду?
Если встреча и дружба с Диккенсом помогли ему выбрать жизненный путь и стать писателем, то сочинение Межана подсказало сюжет произведения, которое, собственно, и сделало его имя известным. В четвертом томе «Знаменитых судебных процессов» он прочитал о трагическом случае с маркизой де Дуо.
Началась эта печальная история в 1787 году, когда маркиза овдовела в возрасте сорока шести лет. Путем обмана ее брат присвоил себе значительную часть принадлежащего ей наследства. Тогда маркиза отправилась в Париж искать справедливости. Она остановилась у своих родственников, где ей оказали радушный прием. Однажды ей предложили понюшку нюхательного табака. Ничего не подозревавшая маркиза вдохнула и впала в тяжелый сон. Очнулась она в сумасшедшем доме. Здесь ее называли не иначе, как мадам Бленвиль, и тщательно следили, чтобы она не смогла дать о себе знать на волю. Между тем брат объявил о ее смерти и завладел всем имуществом сестры.
С невероятным трудом маркизе удалось наконец вырваться из заточения. Знакомые признали ее, но не закон, по которому она числилась умершей. В суде, куда она обратилась, ее называли не маркизой де Дуо, а мадам Бленвиль, претендующей на имя и имущество покойной маркизы.
Судебная тяжба тянулась несколько лет, пока несчастная не скончалась, так и не добившись восстановления своих прав.
Подлинное дело маркизы де Дуо разожгло воображение Коллинза. Прекрасный сюжет для романа, подумал он. Писатель привлек и другие факты, развил и усложнил прочитанную историю, обогатил ее новыми деталями.
В 1860 году вышел в свет роман Коллинза «Женщина в белом», который по достоинству оценили Ч. Диккенс, Э. Фицджеральд, Э.-Ч. Бульвер-Литтон и многие другие. В частности, Чарлз Диккенс, отдавая должное повествованию, восторгался даже заголовком, считая его «лучшим из лучших». Много лет спустя, когда уже ни Диккенса, ни Коллинза не было в живых, появились воспоминания, автор которых рассказал, как возникло так понравившееся Диккенсу название. Дело будто бы было так. Однажды поздним вечером Уилки Коллинз возвращался вместе с братом Чарлзом домой. Была прекрасная летняя лунная ночь, и они решили пройтись пешком. Около темного мрачного особняка на Ковер-стрит внезапно раздался крик. И в следующее мгновение они увидели, как из дома выбежала женщина в развевающемся белом платье. Братья поспешили на помощь и отвели женщину к себе, где она, заливаясь слезами, поведала о том, что вот уже много месяцев хозяин особняка насильно держит ее в заточении, часто прибегая к воздействию гипноза.
Коллинз помог несчастной, а ее образ — женщины в белом, возникший перед ним той ночью, подсказал заголовок будущего романа.
Впрочем, у героини Коллинза был еще один прототип. Говорят, что внешностью Анна Катерик— «женщина в белом» напомнила современникам младшую дочь Чарлза Диккенса Кэт, которая вышла замуж за Чарлза Коллинза, брата писателя. Сама же Кэт, прожившая долгий век и оставившая воспоминания, утверждала, что обликом свою героиню Коллинз сделал похожей на его возлюбленную Каролину Грейвс.
Прошло несколько лет. Уилки Коллинз стал известным писателем, на его счету было уже несколько романов, пьесы, рассказы. Они отличались напряженным сюжетом, драматической остротой, живостью повествования. И нередко темы для своих произведений писатель по-прежнему находил в судебных хрониках, в несовершенстве законодательства; его волновала судьба незаконнорожденных детей, проблема наследственности, он бросал вызов лицемерию и ханжеству, особенно по отношению к женщине, осуждал пережитки в вопросах брака.
В библиотеке Коллинза специальный шкаф был отведен под литературу, посвященную юридическим вопросам, судебным отчетам и т. п. Здесь же хранились и томики Мориса Межана. Но не только в его записках об уголовных процессах прошлого, айв других аналогичных книгах писатель вычитывал истории, дававшие толчок его фантазии, служившие побудительным мотивом творчества. Библиотека являлась поставщиком литературного сырья, служила непременным подспорьем в работе, словом, была литературной мастерской, где в атмосфере «тайны творчества» рождалось вдохновение. Для Коллинза, так же как, скажем, для Пушкина или Гете, не имело значения, взят ли сюжет из жизни или из книги. Вопрос заключался лишь в том: хорошо ли получилось? Причем первичным импульсом, толчком для развития замысла мог послужить даже самый обычный финансовый отчет. А почему бы и нет? Ведь вдохновлялся же Стендаль чтением «Кодекса» Наполеона!
Библиотека Коллинза постоянно расширялась. Хозяин, заядлый библиофил, стремился пополнять ее не только редкими изданиями, которые удавалось разыскать у парижских и лондонских букинистов, но и современными новинками.
Одна из таких новинок встала на полку коллинзов-ской библиотеки в 1865 году. Называлась она «Подлинная история драгоценных камней». В тот же день после вечернего чая, удобно устроившись в кресле и вооружившись костяным ножом для разрезания страниц, Коллинз приступил к чтению только что купленного тома.
Автор, некто Д. Кинг, рассказывал о поразительных случаях с алмазами, о похищении бриллиантов и о роковом возмездии, настигавшем незаконных владельцев драгоценностей. Это были поистине драматические истории о прекрасных самоцветах — свидетелях многих несчастий и горя людского.
Увлекшись, он не заметил, как стемнело. Зажгли лампу. Отсветы от красного абажура казались его разгоряченному воображению алыми пятнами крови на ковре, а в них таинственно блестели, переливаясь разноцветными оттенками, зловещие бриллианты. Живые свидетели многих минувших трагедий, камни рассказывали о себе…
Было это давно, несколько сот лет назад. Его нашли в алмазных копях Центральной Индии. Пройдет не одно десятилетие, и он станет известен под именем «Надежда» — голубой алмаз, добытый в долинах рек близ Голконды. Тогда это был богатейший город и мощная крепость, огражденная поясом неприступных стен. За ними возвышались острые верхи минаретов, плоские крыши дворцов, ребристые купола усыпальниц владетелей королевства.
Нескончаемой вереницей тянулись сюда караваны с товарами, шумели многоголосьем рыночные площади, день и ночь толпился народ около караван-сараев, а в роскошных дворцах и сказочных садах слышалась волшебная музыка.
Но не красота и оживленная торговля составили славу Голконды, а легенды о невиданных в мире алмазах. Некоторые из них попадали на знаменитый бриллиантовый рынок города, но большая часть добытых рабами в окрестных алмазоносных песках драгоценных камней хранилась в королевской сокровищнице, разжигая алчность воинственных соседей.
Когда в середине XVII века французский путешественник Тавернье вернулся из Индии и рассказал о несметных сокровищах Голконды, ему никто не поверил. Так и прослыл бы он фантазером, если бы не продал за двести пятьдесят тысяч ливров Людовику XIV голубой алмаз неслыханной величины и красоты.
С тех пор начались приключения этого камня при дворах европейских владык. А еще через сотню лет он приобрел репутацию зловещего, приносящего смерть тому, кто им владел. Его крали, прятали, дарили, продавали, проигрывали в карты, увозили за океан, но всякий раз бриллиант словно возрождался, чтобы принести новые несчастья своим очередным владельцам.
Тем временем, пока алмаз «Надежда» странствовал по Европе, в далекой Индии пала под ударами воинов Аурангзеба — Великого Могола — когда-то неприступная Голконда. Богатая добыча досталась завоевателям, в том числе и сокровища. Теперь в руках Великих Моголов оказались чуть ли не все самые известные крупные алмазы, когда-либо добытые в индийской земле. И прежде всего желтоватый «Шах», зеленовато-голубой «Великий Могол» и чистейшей воды «Ко-инур».
По крайней мере, два из этих самых величественных алмазов мира украшали знаменитый трон Великих Моголов — поистине невиданное сооружение. Семь долгих лет придворные мастера Шах-Джехана (отца Аурангзеба) трудились над созданием этого чуда. Как повествует летописец, шаху «пришла в голову мысль, что огромное количество редких драгоценностей, имевшихся в сокровищнице, лучше всего использовать на сооружение трона, на котором император восседал бы во все возрастающем сиянии». И действительно, трон был буквально усыпан драгоценными камнями. С внешней стороны его покрыли эмалью с вкрапленными бриллиантами. Над спинкой — изображения двух украшенных драгоценностями павлинов, а между ними — дерево с листьями из рубинов, бриллиантов, изумрудов и жемчуга. И все это покоилось на двенадцати опорах из изумрудов.
По подсчету того же Тавернье, описавшего трон, на его украшение ушло 108 кабошонов красной благородной шпинели, каждый по сто карат, около 160 изумрудов весом по шестьдесят карат и множество алмазов.
Но главным украшением являлся алмаз «Шах» после того, как он попал в руки Аурангзеба. На трех сторонах этого камня выгравирована его родословная. Первая запись относится к 1591 году, последняя сделана в 1824 году и гласит, что тогда он принадлежал персидскому шаху. Пять лет спустя, в 1829 году, когда в Тегеране был зверски убит русский посол А. С. Грибоедов, персы «во искупление вины» передали России алмаз «Шах», цинично заплатив им за кровь великого русского писателя.
Существует и другая версия (на ней настаивал ученый и путешественник П.-С. Паллас), согласно которой трон украшали два огромных алмаза — «Коинур» и «Великий Могол». Некоторое время даже считали, что оба они осколки одного природного камня. Возможно, это и так, зато судьбы их сложились различно. Правда, общее у них еще и то, что эти алмазы послужили причиной возникновения многих легенд.
Однако что же стало с троном Великих Моголов?
Когда могущественный правитель персов Надир-шах захватил Кабул — административный центр провинции и империи Моголов, он направил индийскому владыке Мохаммед-шаху ультиматум с требованием отдать Персии две богатые провинции — Пенджаб и Кашмир. Особый пункт ультиматума гласил: «Я пришел, чтобы взять также известный трон Моголов». Мо-хаммед-шах отказался удовлетворить эти требования. Тогда на пенджабской равнине произошло сражение. Победителями вышли персы. И первым условием мира Надир-шах выдвинул требование передать ему знаменитый трон.
С тех пор трон находился при персидском шахе, пока тот не погиб во время сражения с курдами.
Дальнейшая судьба трона не вполне ясна. Курды утверждали, что разбили его на части, которые поделили между собой. Вскоре, однако, наследнику Надир-шаха будто бы силой удалось возвратить большую часть сокровищ своего предшественника. Среди них оказались и части разбитого трона, тогда же воссоединенные. Точно, правда, не известно, был ли трон действительно восстановлен из осколков оригинала или же его собрали, добавив недостающие части из «жемчужного тента» — чехла для трона, изготовленного из шелка, расшитого бриллиантами и жемчугом.
Впрочем, поговаривали, что курдам достался не подлинный трон Великих Моголов, а его искусная имитация. Оригинал же якобы остался целым и невредимым и в конце XVII века попал в руки англичан.
А куда делись украшавшие его алмазы? «Шах» хранился в сокровищнице персидских владык. «Коинуром» в конце концов завладела Ост-Индская компания, которая и преподнесла этот алмаз английской королеве Виктории. С тех пор он является центральным украшением английской короны и составляет часть королевских драгоценностей, хранящихся в Лондоне.
Интересно, что в наши дни этот камень вновь стал объектом внимания. О нем заговорили многие газеты мира. Что же произошло? Дело оказалось в том, что премьер-министр Пакистана обратился с письмом к английскому правительству с просьбой вернуть бриллиант «Коинур», захваченный англичанами во время аннексии Пенджаба в 1849 году.
Претензия Пакистана не осталась незамеченной и тотчас вызвала реакцию в других странах.
Информационное агентство Индии опубликовало заявление, в котором утверждалось, что подлинным владельцем бриллианта является Индия, поскольку он был найден в ее земле. В свою очередь представители Ирана — три профессора истории — взялись доказать, что «Коинур» был якобы «отдан» персидскому шаху Надиру Великим Моголом, иначе говоря, подарен в обмен за сохранение ему власти. Тогда же была восстановлена история этого бриллианта. Какова же она?
По индийским легендам, бриллиант принадлежал богу любви Каме, одному из героев «Махабхараты». Согласно другой версии «Коинуром» владел раджа Викрамаджиту, правитель Гвалиора. В 1526 году он был убит в сражении. Когда войска противника ворвались в город, где находились родные погибшего раджи, предводитель победителей пощадил его семью. Якобы в благодарность ему и преподнесли пригоршню бриллиантов, в том числе и «Коинур».
Но достоверные сведения об этом камне первым сообщил француз Франсуа Бернье, путешественник и придворный врач Аурангзеба, проживший десять лет при дворе Великого Могола.
Своими глазами видел он этот необыкновенный бриллиант (сейчас он весит 106 каратов) в 1665 году в Тавризе. По его описанию, тогда вес камня доходил до 279 каратов.
Наступил 1739 год. Надир-шах вторгся в пределы Индии. Император Мохаммед Гурхани вынужден был вступить с непрошеным гостем в переговоры. Цель их состояла в том, чтобы путем уступок склонить грозного Надир-шаха сохранить власть индийскому императору. Встреча состоялась. Мохаммед предстал перед своим победителем в короне, которую украшал «Кои-нур». Увидев это чудо, Надир-шах будто бы воскликнул: «Что это за „гора света“ у вас?» И предложил в знак «братской» дружбы обменяться головными уборами. Так взамен своей простенькой тюбетейки кочевника Надир-шах получил корону с понравившимся ему бриллиантом. С этих пор камень и стали называть «Коинур» — «Гора света».
Однако недолго наслаждался его красотой и грозный персидский владыка. Когда он был убит, бриллианта в его шатре не оказалось, он исчез…
… Роковой, волшебный огонь алмазов. Сколько человеческих жизней сгорело в их испепеляющем пламени! Сколько принесли они горя и слез!
Особое внимание Уилки Коллинза, о чем он сам писал в предисловии к своему роману, привлекла история «Великого Могола», позже получившего наименование «Орлов», и «Бриллианта Питта», впоследствии названного «Регент». Не обошел он вниманием и историю «Большой розы», добытой в копях Голконды и совершившей удивительное путешествие по свету.
Заинтересовавшись, писатель начал делать выписки из книги по истории драгоценных камней. Он узнал, что алмаз «Орлов» — один из крупнейших в мире— когда-то сиял в глазнице индийского бога в храме Се-ренгама. Отсюда его выкрал французский солдат и бежал с ним на Малабар, рассчитывая добраться до родины. Но здесь камень перешел к капитану корабля, на котором солдат думал вернуться домой, причем незадачливый вор поплатился жизнью.
Претерпев затем ряд приключений, драгоценность попала невесть каким образом в руки армянского купца. Чтобы переправить столь редкую вещь, почитавшуюся на Востоке священной, пришлось зашить камень в ногу и так доставить в Европу. Тут его и купил граф Орлов, который позже подарил алмаз Екатерине И.
Читая о приключениях алмазов, Коллинз заметил, что в истории почти каждого из них странным образом совпадали детали «биографий». Например, алмаз «Регент» был найден в копях Голконды в 1701 году. Раб, который добыл его, решил утаить редчайшую находку.
Он понял, что с помощью такого прекрасного камня добудет себе свободу. Недолго думая, он ударил себя киркой по ноге. Рваная рана оказалась достаточно глубокой, чтобы как раз спрятать в ней драгоценный камень. А сверху хитроумный раб наложил повязку из листьев. Таким образом ему удалось провести бдительных надсмотрщиков. Ночью он бежал. Проделав нелегкий путь, добрался до Малабара, где договорился с английским матросом, что тот тайком увезет его в трюме судна. В случае удачи невольник пообещал щедро оплатить услугу единственной ценностью, которой владел. Матрос был поражен, увидев необыкновенный алмаз. Желание немедленно завладеть им охватило его. Удар ножом — и он стал владельцем сокровища. На берегу матрос нашел ювелира и продал ему добычу за тысячу фунтов стерлингов. В свою очередь тот сбыл камень подороже. Целых двадцать тысяч фунтов стерлингов выложил за невиданный алмаз Томас Питт, английский губернатор Мадраса.
Когда о покупке столь редкого сокровища узнали в Лондоне, никто не поверил, что Питту действительно достался по такой сравнительно недорогой цене необыкновенный алмаз. В таком случае откуда же у него оказался камень весом в 400 карат? Всем казалось это подозрительным. Тем более что прошлое губернатора было покрыто мраком неизвестности. Болтали, будто он был когда-то пиратом. А раз так, то, возможно, алмаз — незаконная добыча морского разбойника.
Питт не стал ждать, когда его попросят представить доказательства на право владения алмазом. Тайком он передал камень лондонскому ювелиру, чтобы огранить его.
Известно, ценность алмаза зависит не только от его величины, но и от формы, придаваемой ему огранкой, от цвета, прозрачности. Причем огранка значительно меняет стоимость камня. И хотя при этом он теряет в весе (придавая алмазу «Коинур» правильную форму, его вес уменьшили почти вдвое), но чистота обработки, придающая алмазу блеск и «игру», повышает его цену.
Два года трудился ювелир над огранкой алмаза, найденного рабом в копях Голконды. И вот наконец камень вспыхнул еще более прекрасным, чудесным огнем. Отныне его стали называть «Бриллиантом Питта».
Однако владел им Питт недолго. Он предпочел все же избавиться от столь известной и обременительной драгоценности ив 1717 году успешно сбыл бриллиант регенту Франции герцогу Орлеанскому за три с половиной миллиона золотых франков.
По желанию герцога бриллиант был вновь огранен. И хотя при этом он опять изрядно «похудел» — вес его достигал 136 карат, — ценность его отнюдь не уменьшилась. С тех пор бриллиант стал собственностью французской королевской семьи. Сменив хозяина, он получил и новое имя — «Регент».
Дальнейшая его судьба также полна драматических коллизий.
Однажды злополучный бриллиант похитили грабители. След камня отыскался лишь много лет спустя в Берлине. Немецкий ювелир продал камень Наполеону, и тот велел вставить его в эфес своей шпаги. После падения Бонапарта «Регент» снова был продан на аукционе за шесть миллионов франков, затем наконец оказался в Лувре.
Но больше других поразила Коллинза вычитанная им в книге удивительная история бриллианта «Большая роза», названного так, видимо, из-за типа огранки в виде высокой «розы».
К этому бриллианту, пожалуй, наиболее относятся слова Артура Конан Дойла о том, что каждая грань подобного камня «может рассказать о каком-нибудь кровавом злодеянии».
И действительно, почти все, кто обладал им, рано или поздно погибли.
Когда-то бриллиант этот сиял третьим глазом во лбу бога Шивы в одном из индийских храмов. Камень считался священным, и его день и ночь стерегли жрецы. Но вот однажды чужеземец, пренебрегший богами и законами индийской земли, проник в храм и вырвал алмазный глаз из каменного лба бога Шивы. Жрецам, которые не уберегли бесценный священный бриллиант, пришлось отправиться на его поиски. Упорно шли они по следу похитителя. А след этот вел в Европу.
Год проходил за годом, но так и не удавалось вернуть священный камень в пустующую глазницу Шивы. Между тем бриллиант продолжал свои странствия, меняя владельцев. От него словно спешили избавиться, предчувствуя недоброе. Иные, не желавшие расставаться с камнем, странным образом погибали: французский граф, подаривший бриллиант своей жене (оба были убиты в спальне); принцесса Маргарита, согласившаяся на брак с принцем Конде при условии, что знаменитый бриллиант станет ее собственностью, и другие. Причем странно, что завладеть алмазом преступникам так и не удалось.
Кто были убийцы? Жрецы, многие годы охотившиеся за священным камнем? Обыкновенные грабители? Ответить на это не могла даже французская полиция.
Коллинз понял, что и на этот раз перед ним прекрасный сюжет для романа. Похищенный алмаз, приносящий несчастье, таинственные жрецы, тщетные усилия полиции…
Впрочем, подумал Коллинз, если бы делом о загадочных убийствах, связанных с алмазом, занялся детектив Джонатан Уичер, преступники давно уже сидели бы на скамье подсудимых.
Писатель не только был наслышан о его поразительных успехах на поприще сыска, но и лично не раз встречался и беседовал с этим любопытным и умным человеком из Скотланд-Ярда. Недаром Чарлз Диккенс опубликовал в своем журнале «Домашнее чтение» несколько статей об Уичере, заменив, правда, его имя на Уитчем. Коллинз знал, что беседа писателя с сержантом Уичером (незадолго до того вместе с другими 12 полицейскими впервые в истории Англии сменившего мундир на гражданское платье и отныне ставшего детективом) состоялась в редакции журнала на Веллинг-тон-стрит. Хорошо помнил он и слова Диккенса, назвавшего прославленного сержанта из Скотланд-Ярда одним из самых выдающихся полицейских офицеров Лондона.
К тому времени, когда Коллинз, начитавшись о приключениях драгоценных камней, задумал новый роман, Джонатан Уичер был уже пожилым, седым человеком, до того худым, что, казалось, у него нет ни грамма мяса на костях. Лицо его было остро, как топор, а кожа желтая, сухая и поблекшая, словно осенний лист. Одет инспектор Скотланд-Ярда всегда был в черное платье с белым галстуком на шее. Таким и предстанет перед читателями в новом романе Уилки Коллинза сержант Ричард Кафф, прототипом которого послужил реальный Уичер.
Действие нового романа, который пока что назывался «Змеиный глаз», начнется в Индии, затем перенесется на английскую почву, где и развернутся основные события.
Но прежде чем вплотную приступить к работе над книгой, Коллинзу потребовалось собрать еще кое-какой материал. Он знакомится с мемуарами, пишет в Бомбей знакомому английскому чиновнику, много разъезжавшему по Индии, и просит его сообщить некоторые недостающие сведения о знаменитых алмазах, добытых в копях Голконды, тщательно штудирует специальную литературу по драгоценным камням и исторические труды, делает выписки из энциклопедий.
Вместе с тем он пристально изучает фигуру детектива Джонатана Уичера и раскрытые им преступления. Одно из таких дел привлечет особое внимание писателя.
В 1860 году, то есть несколько лет назад, инспектор Уичер вел дело о зверском убийстве в загородном доме Роуд-хилл. Восстановить ход этого расследования не представляло труда, так как газеты в свое время помещали подробные отчеты. Из них Коллинз и почерпнул некоторые обстоятельства, которые затем использовал в сюжете романа.
Итак, летом 1860 года инспектор Уичер прибыл в Роуд-хилл, чтобы раскрыть запутанное преступление. Тогда это был среднего возраста, спокойный, с чувством собственного достоинства, решительный человек. У него была медленная, степенная походка, меланхолический голос, отчего он походил, скорее, на пастора, чем на детектива.
Джонатан Уичер не один год работал в лондонской полиции, ум и воображение способствовали его повышению по службе, на счету у него числились раскрытыми несколько особо важных и трудных дел.
Прибыв в загородный дом, инспектор неспешно осмотрел место трагедии. За две недели до этого здесь убили трехлетнего ребенка правительственного фабричного инспектора Сэмюэля Кента, жившего в Роуд-хилл с своей второй женой Мэри Прэтт, еще недавно гувернанткой его детей. Вместе с ними в доме жили трое детей от первого брака мистера Кента и столько же от второго. Теперь за детьми присматривала молодая няня Элизабет Гаф. Среди детей особенно трудной оказалась шестнадцатилетняя Констанс, дочь от первого брака. Она ненавидела мачеху, случалось, грубила ей и однажды даже пыталась убежать из дома.
Убийство было совершено ночью. В тот вечер хозяин, как всегда перед полуночью, запер окна, задвинул засовы на дверях, дом рано погрузился в сон.
В пять часов утра няня проснулась и обнаружила, что Фрэнсис Сэвилл — любимец супругов — исчез из своей кроватки. Решив, что мальчик пошел к матери, няня постучала в спальню. На ее вопрос последовал еще более недоуменный возглас матери: где ее сын? Так началось это дело в Роуд-хилл.
Обо всем этом инспектор Уичер узнал, опросив домашних, а также от представителя местной полиции, тупого и самодовольного сыщика Фаули, утаившего, впрочем, главное. Ни словом он не обмолвился о том, что при осмотре в грязном белье нашел окровавленную дамскую рубашку, а также обнаружил кровавый отпечаток руки на окне. Скрыть эти важные улики его побудило не столько уязвленное самолюбие и ненависть к детективу из столицы, сколько, по-видимому, собственная оплошность и нерадивость. Дело в том, что и рубашка, и след на окне таинственно исчезли. Таким образом, Уичеру, не знавшему об этом, приходилось начинать на голом месте спустя несколько дней после совершения преступления.
Продолжая расследование, Уичер установил, что окно и дверь в доме утром в день преступления оказались открытыми. А вскоре неподалеку, в тайнике в кустарнике, нашли труп мальчика, завернутый в одеяло. Сыщик Фаули с безапелляционным видом излагал свою версию: ночью кто-то, скорее всего из фабричных рабочих, проник в дом и убил ребенка, чтобы свести счеты с хозяином. Возможен и другой вариант: преступление совершила Элизабет Гаф, а посему на всякий случай он арестовал няньку. Обе версии, это было ясно, являлись ложными. Уичер потребовал освободить няню и сосредоточил свое внимание на другом.
Два дня спустя ему стало ясно, кто совершил преступление в Роуд-хилл. А еще через четыре дня он арестовал убийцу.
Все были поражены — жестокое убийство совершила флегматичная Констанс, ненавидевшая махечу и ее любимца от второго брака. Но одного этого довода было, естественно, недостаточно, нужны были улики. И инспектор Уичер представил их.
Он установил, что тайник в кустарнике был известен одной Констанс и что она уже однажды использовала его, когда собиралась бежать из дома. Но самой важной уликой стала пропажа ночной рубашки. После убийства одна из трех ночных рубашек Констанс, та, которую видел Фаули, исчезла. На вопрос Уичера, где ее третья рубашка, значащаяся в перечне белья, девушка заявила, что у нее их всего две, а третью потеряли, когда стирали, за неделю до убийства. Это была заведомая ложь.
Уичер понял, что он на верном пути. Дальнейшее не представляло особого труда.
Убийство, совершенное ночью, рассуждал инспектор, едва ли не оставило следов на одежде. Бесследное исчезновение третьей рубашки Констанс, ее попытки замести следы, а также показания прачки не давали оснований сомневаться. И все же Уичер понимал, когда сообщал в Главное полицейское управление свои соображения, что тем не менее у него нет достаточно веских улик, чтобы обвинить Констанс на суде. Но он был уверен, что она сознается. И вот в этом-то он ошибся, недооценив самообладание девушки. Ее ледяное спокойствие на суде едва не погубило его репутацию. При аресте она рыдала и кричала, что не виновата. В зале суда держалась уверенно и тихим голосом произнесла: невиновна. Ее защитник упирал на молодость своей подзащитной, уверяя, что такой невинный ребенок не мог совершить преступление.
Через несколько дней Констанс освободили. А инспектор Уичер стал объектом жестокой травли. Газеты обвиняли его в «глупости и жестокости», его метод расследования называли наивным и детским. Дошло до того, что начальству пришлось уволить Уичера, дабы оградить полицию от нападок общественности.
Дело об убийстве в Роуд-хилл так и осталось нераскрытым. Элизабет Гаф судили и оправдали, семья Кентов вынуждена была переехать в Уэльс, а Констанс определилась в монастырь во Франции.
Три года спустя она вернулась на родину, была удивительно ласкова с маленькими детьми и невероятно набожна. Весной 1865 года она призналась своему духовному отцу, что совершила убийство, чтобы отомстить своим родителям.
Ее признания на суде, как писала «Таймс», были ужасны. Все оказалось так, как и предполагал Уичер, вплоть до рубашки, запачканной кровью и уничтоженной преступницей.
Испытал ли Уичер удовлетворение, когда судья огласил приговор — смертная казнь? Трудно сказать, хотя его репутация детектива была восстановлена. Несмотря на это, Уичер остался в отставке. Что касается Констанс, то смертную казнь ей заменили пожизненным заключением. Через двадцать лет ее освободили, и вскоре она умерла.
Джонатан Уичер спокойно дожил до глубокой старости. Его имя осталось в истории английской криминалистики. Встречается оно и на страницах немецкого публициста Ю. Торвальда «Сто лет криминалистики», изданной на русском языке в 1974 году. Но подлинным памятником Уичеру стал сержант Ричард Кафф— герой романа Коллинза, списанный с реального прототипа.
Вместе с прототипом писатель перенес в роман и некоторые обстоятельства дела об убийстве в Роуд-хилл. В частности, эпизод с пропажей запачканной ночной сорочки служанки Розанны Спирман, подозреваемой в совершении преступления, ее тайник и другие детали. Незадачливый полицейский Фаули принял облик столь же никчемного инспектора Сигрэва — антагониста и тайного противника сержанта Каффа, которому поручено расследование дела о пропаже алмаза, известного под названием «Лунный камень». Так, собственно, и назовет свой роман Уилки Коллинз. В нем он мастерски соединит историю алмаза с современным детективным сюжетом. Причем история желтого алмаза — «Лунного камня», «вещи, знаменитой в отечественных летописях Индии», — во многом напоминает подлинные истории тех самых бриллиантов, о которых Коллинз узнал из книги Д. Кинга.
Судите сами. «Лунный камень», как гласит стариннейшее из преданий, сообщает Коллинз, украшал чело четверорукого бога Луны до тех пор, пока в XI столетии не начались его приключения. Во время нашествия завоевателя Махмуда Газни один бог Луны избег алчности магометанских победителей. Охраняемый тремя жрецами неприкосновенный идол с желтым алмазом во лбу был перевезен ночью в город Бенарес. Здесь жрецы продолжали, согласно повелению бога Вишну, день и ночь до скончания века охранять «Лунный камень». «Вишну предсказал несчастье тому дерзновенному, кто осмелится завладеть священным камнем, и всем его потомкам, к которым камень перейдет после него», — было написано на вратах святилища, где хранился драгоценный камень.
Век проходил за веком, и из поколения в поколение преемники трех жрецов день и ночь охраняли «Лунный камень». Так продолжалось до тех пор, пока на престоле Великих Моголов не воцарился Аурангзеб. По его приказу подверглись грабежу и разорению города и храмы. Тогда-то и удалось похитить «Лунный камень». Верные клятве жрецы-хранители, переодевшись, продолжали следить за ним. Одно поколение сменялось другим. Воин, совершивший святотатство, погиб ужасной смертью: «Лунный камень» переходил, принося с собой проклятье, от одного незаконного владельца к другому. Наконец, алмаз попал в руки серин-гапатамского султана.
В его дворце три жреца-хранителя тайно продолжали стеречь алмаз — в свите султана находились три чужеземца, заслужившие доверие своего властелина, перейдя (может быть, притворно) в магометанскую веру; по слухам, это-то и были переодетые жрецы. Но им снова не удалось сберечь священный камень. Во время штурма города Серингапатама алмазом завладел английский солдат, убив трех его стражей. Умирая, последний из них прохрипел: «Проклятие «Лунного камня» на тебе и всех твоих потомках!»
Такова завязка романа Уилки Коллинза. Дальше действие переносится в современную писателю Англию, в загородный дом в Йоркшире. Здесь произошло чрезвычайное происшествие: только что исчез доставленный сюда двенадцать часов назад алмаз, известный под названием «Лунный камень» — едва ли не самый крупный в мире бриллиант, оцениваемый в двадцать тысяч фунтов стерлингов.
Кто же похитил его? Кто-нибудь из домашних, может быть, прислуга? А возможно, таинственные индусы, которых видели около дома? На этот вопрос и пытается ответить сержант Ричард Кафф — лучший сыщик, с которым в Англии никто не может сравниться, когда дело идет о том, чтобы раскрыть тайну.
В ходе расследования детективу приходится разгадывать многие загадки, раскрывать все новые и новые преступления, совершаемые ради того, чтобы овладеть «Лунным камнем».
Подчас кажется, что события в книге принимают невероятный характер, однако роман Коллинза, как справедливо заметила М. Шагинян, интересен для нас не только своим захватывающим сюжетом, но и реалистическим изображением действительности. На эту же черту в свое время указывали и современники, отмечавшие «глубокое знание писателем материала, что встречается сейчас крайне редко».
Больше года Уилки Коллинз писал свой новый роман. Первые наброски были сделаны еще в Париже, в начале 1867 года. Полуслепой из-за болезни глаз, страдающий от ревматизма, Коллинз большую часть романа диктовал лежа в постели, то и дело принимая опиум, чтобы заглушить мучившую его боль.
В январе 1868 года в журнале Чарлза Диккенса «Круглый год» появились первые главы романа «Лунный камень», можно сказать, продолжившего в мировой литературе список художественных произведений о драгоценных камнях. (Известно, что некоему библиофилу удалось собрать более тысячи романов и рассказов, посвященных только одному камню — алмазу.) Тираж журнала сразу возрос. А вскоре, в том же году, Уильям Тинсли выпустил отдельное издание романа в трех томах.
Сто пятьдесят экземпляров первого пробного издания разошлись молниеносно. Лондонская «Таймс» поместила хвалебную рецензию. Тинсли поспешил выпустить новое издание. И надо полагать, остался доволен: несмотря на объем — девятьсот страниц — все хотели читать «Лунный камень». Общее восторженное мнение подытожил Чарлз Диккенс. «Это очень занятная вещь, — писал он, — необузданная и все же послушная воле автора, в ней превосходный характер, глубокая тайна и никаких женщин под вуалью». Великий писатель отметил необыкновенную тщательность и достоверность романа Уилки Коллинза, «во многих отношениях лучшего из всего, что он сделал».
Оценка Диккенса и сегодня остается справедливой. Роман Коллинза «Лунный камень» по-прежнему пользуется вниманием читателей. Как тут не вспомнить слова Стефана Цвейга: «Кто выдержал испытание столетием, то выдержал его навсегда».
Небо над Парижем в эти последние дни уходящего лета 1868 года было затянуто прозрачной серебристой дымкой. Темно-зеленая вода Сены переливалась перламутровыми бликами. По реке, словно трудолюбивые жуки, буксиры тащили тупоносые барки.
У моста Искусств 20 августа было необычно людно. Издали казалось, что через реку движется процессия, похожая на карнавальное шествие: зеленые, красные, синие пятна напоминали картину Альбера Марке. Толпа собралась и на набережной. Мальчишки гроздьями висели на деревьях. Видимо, кого-то ожидали.
Но вот масса людей всколыхнулась. Шляпы, трости, зонты взлетели над головами, указывая вниз по течению. Там, медленно продвигаясь по обмелевшей реке, на буксире шла шхуна. На ее мачте реял трехцветный со звездой флаг. Ни один, даже самый опытный, видавший виды мореход не смог бы по этому флагу определить, какому государству принадлежит корабль. Да это и невозможно было сделать, ибо такой страны не существовало. Это была страна капитана Верна, а точнее — писателя Жюля Верна, прибывшего на своей шхуне «Сен-Мишель» в Париж.
На палубе появился хозяин — капитан Верн. Высокий, крепкого телосложения, в зубах по-матросски зажата трубка, он походил на потомственного моряка. Сзади капитана скромно разместились члены экипажа — два отставных матроса — Сандр и Альфред, одетые в синие шерстяные робы и красные береты.
Три года назад Жюль Верн приобрел на побережье в поселке Кретуа небольшой рыбачий баркас. Вскоре он превратился в шхуну. На борту свежей краской было выведено: «Сен-Мишель» — в честь небесного покровителя нормандских рыбаков. А на мачте поднят трехцветный со звездой флаг «страны Жюля Верна». Ее владения к тому времени уже охватывали огромные пространства и простирались от северных до южных широт. А подданные этой страны — литературные персонажи — совершали дерзкие путешествия по этой необъятной стране, проникали в самые неизведанные уголки, пускались в самые рискованные плавания. Они побывали в дебрях Центральной Африки, объехали вокруг света, пробились к Северному полюсу, спустились к центру Земли и успешно облетели нашу ближайшую соседку в космосе. Имена смельчаков, отважно ринувшихся в неизведанное, пустившихся в опасные приключения, были на устах не только у французских читателей. Путешествие на воздушном шаре доктора Фергюсона, поход капитана Гаттёраса, приключения на море и суше тех, кто отправился на поиски капитана Гранта, полет отважных космонавтов Барбикена, Никола и Мастона, спуск в преисподнюю профессора Лиден-брока — волновали сердца читателей многих стран. И часто книги Жюля Верна, повторяя маршруты его героев, достигали отдаленных стран и материков.
Каждую весну «Сен-Мишель» покидал место своей зимней стоянки на побережье и выходил в море. Песчаные дюны становились похожими на небольшие холмики, рыбачьи лодки превращались в маленькие скорлупки, разбросанные на прибрежном песке,—
«Сен-Мишель», распустив паруса, уходил в большое плавание. За кормой бурлили серые волны Ла-Манша. На палубе капитан Верн пристально всматривался вдаль. Там, за линией горизонта, лежала Англия. В ясную погоду были видны меловые ее берега. Или капитану Верну виделось другое? Может быть, в его воображении возникали неведомые земли, необитаемые острова и морские глубины? И там, в пучине, прорезая темноту электрическим светом, проносился подводный корабль. Не тогда ли вспомнились ему строки из письма Жорж Саид, восторженной его почитательницы, надеявшейся на то, что он скоро увлечет читателей в пучину моря и заставит своих героев совершить путешествие в подводной лодке, которую усовершенствуют его, Жюля Верна, знания и воображение. Слова эти, как позже признавался писатель, действительно подсказали ему замысел романа о путешествии под водой.
С тех пор как был задуман новый роман, капитан
Верн все чаще покидал палубу и скрывался в своей каюте — довольно тесной каморке, очень скромно обставленной. Здесь, в «плавучем кабинете», за своеобразным письменным столом — откидной доской на шарнирах— Жюль Верн работал. Писал он быстро и много, выработав в себе железную привычку к труду.
Сохраняя свой обычный режим, он и в море вставал в пять часов утра и трудился не отрываясь до самого обеда. Спать ложился поэтому рано — в половине десятого. Этот образ жизни он вел полвека, написав за это время несколько десятков томов, которыми зачитывались миллионы, поражаясь дару прозрения их автора. «Кто он? — спрашивали они. — Фантазер, провидец, поэт? В чем секрет творчества Жюля Верна?»
Слева перед ним лежат чистые листы бумаги, справа — исписанные карандашом черновики с широкими полями. Во время следующего этапа работы он обводит чернилами написанное карандашом, а на свободной половине листа записывает новые варианты.
Так лист за листом росла рукопись, на первой странице которой было выведено: «Путешествие под водой».
О том, что популярный писатель задумал новую книгу, уже известно в Париже. Но еще не скоро рукопись попадет к издателю — Жюль Верн скрупулезно шлифовал написанное, заново переписывал некоторые главы, стремился, как он сам говорил, «сделать правдоподобными вещи очень неправдоподобные». Надеялся, что новая книга о подводном мире, о недрах океана заинтересует и обогатит читателей. И признавался, что желание открыть этот любопытный, причудливый, почти неведомый мир стоило ему особенно больших усилий и трудностей.
Лето 1868 года ушло на доделки и доработку романа, который теперь назывался «Двадцать тысяч лье под водой».
И вот «Сен-Мишель» пришвартовывается у моста Искусств в столице Франции.
Жюль Верн спускается по трапу. Под одобрительные возгласы и приветствия садится в экипаж. В руках у него толстый, перевязанный тесьмой сверток. Это именно то, что с таким нетерпением ждет издатель Эт-цель, уже оповестивший читателей о новой книге господина Жюля Верна, о самом необыкновенном из всех его «Необыкновенных путешествий».
Так с самого начала называлась задуманная им грандиозная серия романов. В ней он хотел объять весь земной шар, следуя из страны в страну по заранее установленному плану. Ему предстояло описать «довольно много стран, чтобы полностью расцветить узор». Он мечтал довести число романов этой серии до ста. В последней, сотой книге намерен был дать в виде связного обзора полный свод своих повествований о земле и небесных пространствах и, кроме того, напомнить о всех маршрутах, которые были совершены его героями.
Жюль Верн не написал задуманных ста книг знаменитой эпопеи. Их всего шестьдесят пять. Но и они возвышаются как величественный памятник деяний человека, как гигантский монумент его разуму и отваге и, конечно, как свидетельство писательского гения Жюля Верна.
«1866 год ознаменовался удивительным происшествием, которое, вероятно, еще многим памятно, — этими словами начинался новый роман Жюля Верна, с таким нетерпением ожидавшийся читателями. — Дело в том, что с некоторого времени многие корабли стали встречать в море какой-то длинный, фосфоресцирующий веретенообразный предмет, далеко превосходящий кита как размерами, так и быстротой передвижения…
По милости «чудовища» сообщение между материками становилось все более и более опасным, и общественное мнение настоятельно требовало, чтобы моря были очищены любой ценой от грозного китообразного».
Постичь тайну подводного гиганта случайно удается профессору естественной истории в Парижском музее Пьеру Аронаксу и его спутникам слуге Конселю и гарпунеру Неду Ленду. Вместе с ними профессор участвует в погоне за «чудовищем» на фрегате «Авраам Линкольн».
Начальные строки романа читаются как хроникальное сообщение тех дней. И это не случайно. Жюль Верн никогда не поддавался соблазну чистой выдумки. Никогда не брался за книгу, пока не подводил под ее сюжет точные знания. Иначе говоря, трамплином для полета его писательской фантазии служили подлинные факты, реальные достижения инженерной мысли и научные гипотезы.
Было ли только плодом воображения писателя грозное «чудовище», разбойничавшее на морских путях? Не использовал ли Жюль Верн странные сообщения, появлявшиеся время от времени в шестидесятые годы прошлого столетия в газетах многих стран? В них говорилось о внезапной гибели торговых и пассажирских судов в результате полученной пробоины. Паника охватила пароходные компании, моряков, пассажиров. Газеты «Морнинг стар» в 1860 году, «Глэзгоу» в 1861 году, «Нью-Йорк тайме» в 1863 году высказывали в связи с таинственными событиями на море невероятные предположения и догадки. На поиски «морского разбойника» вышел фрегат американского военно-морского флота «Авраам Линкольн».
Долгое время о нем не было никаких известий. А с 1870 года он числился в списках без вести пропавших. Лишь двум его пассажирам, как считает американский исследователь Дональд Мэчем, удалось спастись. Это был профессор Жюль Опонакс и его слуга Тони — через полгода их будто бы нашли на одном из Фолклендских островов.
Тот же Д. Мэчем высказывает, прямо скажем, весьма смелое предположение о том, что Жюль Верн и герой его романа профессор Аронакс — одно и то же лицо. Свою гипотезу Д. Мэчем, который, по его собственным словам, изучал архивы и переписку писателя, пытается подкрепить тем, что Жюль Верн якобы провел немало дней своей жизни в странствиях по белу свету. Однако, склонный к мистификациям, он пускался в путешествия тайком, не оповещая ни родных, ни друзей. Им он сообщал, что уезжает на отдых либо на лечение. Сам же, как и его герой Паганель, «невзначай» перепутав каюту корабля, пускался в плавание на яхте «Донки-ант» на поиски некоего капитана Гаттера, исчезновение которого зафиксировано в архиве судовых журналов за 1865 год.
В результате этого и родился, мол, первый в трилогии роман «Дети капитана Гранта», писал Д. Мэчем в начале 1972 года. Подлинное событие, по его словам, лежит и в основе последней книги трилогии — романе «Таинственный остров». Известно, что Жюль Верн поднимался на воздушном шаре вместе со знаменитым фотографом и страстным воздухоплавателем Надаром. «Неизвестен лишь тот факт, — пишет Д. Мэчем, — что после столь удачной вылазки наш «фантаст» с несколькими друзьями построил воздушный шар, чтобы пролететь над Средиземным морем. Во время полета поднялся сильный ветер и шар унесло в Атлантику. Что случилось далее, повествует роман «Таинственный остров», где Жюль Верн выступает в роли Сайруса Смита. Различие в том, что пребывание на острове Линкольна (о. Табор) длилось четыре месяца».
Столь неожиданное утверждение Д. Мэчема требует безусловно всесторонней проверки, новых обстоятельных доказательств. Возможно, они будут более аргументированы в книге, над которой, как сообщает Д. Мэчем, он работает.
Пока же нам точно известно, что Жюль Верн действительно нередко выводил в своих книгах героев, имевших реальных прототипов. Так, знаменитый полярный исследователь капитан Джон Франклин отчасти послужил прообразом капитана Гаттераса; известный геолог Сен-Клер Девиль — это прототип гамбургского профессора Отто Лиденброка; фотограф, журналист и воздухоплаватель Феликс Надар превратился в Мишеля Ардана (на что указывает и анаграмма этого имени); а профессор математики Анри Гарсе, друг и помощник, — получил имя Импи Барбикена.
Охота за морским животным кончается трагически. Фрегат после нападения на него «чудовища» получает пробоину и теряет управление, а трое из его экипажа попадают в волны океана. А затем — в «утробу» страшного животного, которое оказывается гигантским подводным кораблем. С этого момента начинается одиссея профессора Аронакса и его спутников на борту «Наутилуса».
Не было плодом одного воображения и созданное фантазией писателя столь необычное в то время подводное судно. У жюль-верновского «Наутилуса» имелось немало исторических предшественников. Писатель прекрасно знал об этом. И не только знал, но и специально изучал родословную своего подводного корабля. Энтузиасты-ученые в разных странах и в разные эпохи пытались создать подводную лодку: англичане и голландцы, русские и французы, американцы и немцы. Жюль Верн подхватил и использовал мечту о подводном корабле в своем романе, создав невиданную дотоле «субмарину».
Впрочем, и в литературе Жюль Верн не был первым. Задолго до него английский философ и писатель Фрэнсис Бэкон в 1627 году на страницах своей утопии «Новая Атлантида» описал корабль, способный плавать под волнами океана.
Умаляет ли все это заслугу Жюля Верна? Нисколько. Лишь еще раз доказывает, что он отталкивался от гипотез ученых и реальных достижений. Значит, Жюль Верн всего лишь использовал то, что уже было известно тогдашней научной мысли? Да, с той, однако, разницей, что писатель умел заглянуть в завтрашний день научного открытия, предвидел бурное развитие века электричества, подсказал эпоху полетов к Луне.
Можно ли в связи с этим сказать, что главное в новом романе Жюля Верна была машина, подводное судно, движущееся с помощью одной лишь электрической энергии? Отнюдь нет. Если бы это было так, если бы центром повествования стал «воздушный механизм», то книга о подводном путешествии давно бы устарела. Современные «Наутилусы» совершают гигантские подводные броски, проходят подо льдами Северного полюса, по многу дней скользят в глубинах океана. Мечта, тревожившая воображение в прошлом, сегодня стала повседневной реальностью.
На первом месте у Жюля Верна, писателя-гуманиста, был человек — творец, мыслитель, борец. В этом секрет долголетия его книг. В этом ключ к разгадке «тайны» его творчества.
Героем нового — второго в трилогии — романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» стал человек исключительный, необыкновенного ума и странной, трагической судьбы — капитан Немо.
Среди огромной и пестрой толпы жюль-верновских персонажей его колоритная фигура выделяется особенно ярко. Это был новый образ литературного героя— ученый-новатор, смелый инженер, но и загадочная личность, «гений моря», навсегда порвавший с миром людей и обрекший себя на скитания под водой.
В чем же тайна этого человека, скрывшего свое подлинное имя под безликим латинским словом «Немо»— «Никто»? Почему он бежит от людей, отчего порвал с цивилизованным миром?
Загадки вокруг капитана Немо громоздятся одна на другую. Раскрыть их нелегко, ибо сам капитан Немо предпочитает о себе молчать.
За семь месяцев невольного заточения, которые профессор Аронакс провел на борту «Наутилуса», о командире подводного корабля ему удается разузнать немногое.
У капитана Немо была запоминающаяся с первого взгляда внешность южанина, не то испанца или турка, не то араба или индуса.
Черные глаза, твердые и спокойные, были полны холодной решимости, но и возвышенных мыслей. Мужество и непреклонность воли, прямота натуры, уверенность в себе — таковы основные черты его характера. «Он был высокого роста; резко очерченный рот, великолепные зубы, рука, тонкая в кисти, с удлиненными пальцами… все в нем было исполнено благородства. Словом, этот человек являл собой совершенный образец мужской красоты».
Особенно поразил профессора Аронакса при первой встрече взгляд капитана Немо: «Он пронизывал душу!»
Язык, на котором он говорил со своими подчиненными и отдавал приказания, казался странным и непонятным. Это был благозвучный, гибкий, певучий язык с ударением на гласных, язык, о существовании которого профессор Аронакс и не подозревал. Что это за язык — оставалось загадкой. Как и черного цвета флаг, который устрашающе реял над «Наутилусом». Это не было пиратское полотнище с изображением скрещенных костей и черепа на черном фоне. Что же в таком случае он означал? Символом чего являлось черное знамя с вышитой на нем золотой буквой «Ν»? И на это не было ответа.
Словом, все, что удалось узнать профессору, не содержит ничего конкретного. Одно ему ясно, что «в прошлом этого человека скрыта страшная тайна», что «он поставил себя вне общественных законов», «ушел за пределы досягаемости, обретя независимость и свободу в полном значении этого слова!».
Сам о себе капитан Немо говорит, что он порвал всякие связи с обществом. И на это у него, по его словам, были веские причины. Насколько они основательны, судить мог лишь он один.
Да, капитан Немо порвал с человечеством. Он стал обитателем океанских глубин, которые любит, потому что «море — это все! Оно покрывает собою семь десятых земного шара. Дыхание его чисто, животворно. В его безбрежной пустыне человек не чувствует себя одиноким, ибо вокруг себя он ощущает биение жизни». Но главное — «море не подвластно деспотам. На поверхности морей они могут еще чинить беззакония, вести войны, убивать себе подобных. Но на глубине тридцати футов под водою они бессильны, тут их могущество кончается! Тут, единственно тут, настоящая независимость! Тут нет тиранов! Тут я свободен!» — восклицает капитан Немо.
Не те же ли чувства испытывал к морю и сам автор? И не потому ли его так влекло каждую весну на побережье, в Кретуа, где, распустив паруса, его ждал красавец «Сен-Мишель», готовый выйти в плавание? Жюль Верн часто повторял: «Море, музыка и свобода — вот все, что я люблю».
Капитан Немо тоже любит музыку. На борту подводного корабля, в салоне, находится огромная фисгармония. На ней разбросаны партитуры сочинений многих великих композиторов.
А в библиотеке «Наутилуса» собрано двенадцать тысяч книг на разных языках. Нетрудно предположить, что столь же обширными были и познания в языках командира «Наутилуса». Книги являлись и свидетелями разносторонних интересов их владельца. На полках были представлены произведения великих писателей и мыслителей древнего и нового мира — «все то лучшее, что создано человеческим гением в области истории, поэзии, художественной прозы и науки».
Когда-то капитан Немо был страстным, неутомимым коллекционером произведений живописи. Теперь собрание картин, так же, как и книг, — это единственное, что связывает его с землей, это последнее воспоминание о ней.
И снова возникает вопрос, какие причины заставили этого человека искать свободы под водой?
«Нет, не пошлая мизантропия загнала капитана Немо с его товарищами в железный корпус «Наутилуса», но ненависть, столь колоссальная и возвышенная, что само время не могло ее смягчить». Ненависть? К кому? К деспотам и тиранам, к тем, в чьих руках была власть.
Против нее и направлял смертоносные удары своего «Наутилуса» капитан Немо.
Месть его, однако, не носит личный характер. Нет, он мстит не только за себя, но и за всех угнетенных на земле. «Неужто я не знаю, — восклицает он, — что на земле существуют обездоленные люди, угнетенные народы? Несчастные, нуждающиеся в помощи жертвы, вопиющие об отмщении!» Каждый угнетенный был ему братом, «его сердце отзывалось на человеческие страдания, и он широкой рукой оказывал помощь угнетенным»!
Значит, вернее будет сказать: капитан Немо — не столько мститель, сколько борец за права людей, за их будущее. Такими были и те, чьи портреты висели на стенах его каюты, — «портреты видных исторических лиц, посвятивших себя служению высокой идее гуманизма: Костюшко — герой, боровшийся за освобождение Польши; Боцарис — этот Леонид современной Греции; О’Коннель — борец за независимость Ирландии; Вашингтон — основатель Северо-Американского союза; Линкольн, погибший от пули рабовладельца; и наконец, мученик, боровшийся за освобождение негров от рабства и вздернутый на виселице, — Джон Браун».
И все отчетливее перед нами вырисовывается фигура капитана Немо. «Не был ли он защитником угнетенных народов, освободителем порабощенных племен? Не участвовал ли он в политических и социальных потрясениях последнего времени?» — спрашивает профессор Аронакс, начинавший смутно догадываться о том, что представляет собой капитан Немо.
Роман «Двадцать тысяч лье под водой» — книга не столько о море и подводных скитаниях «Наутилуса», сколько о видном ученом и революционере, борце и мстителе за поруганное человечество.
Таким и нарисовал капитана Немо художник Не-вилль, иллюстрировавший издание, вышедшее осенью 1871 года. На мостике подводного корабля стоит его бесстрашный и благородный капитан. А в образе профессора Аронакса художник изобразил самого автора романа.
Пленникам удается бежать с «Наутилуса», ставшего для них плавучей тюрьмой. Они вновь обретают свободу, возвращаются к жизни среди людей. «Однако что же сталось с «Наутилусом»? Жив ли капитан Немо, — спрашивает профессор Аронакс в конце книги. — Каково его настоящее имя»? — Ответа на это в романе не было.
Много лет Жюль Верн вел свою особую картотеку. Это было поистине уникальное собрание всевозможных фактов и сведений, почерпнутых им при чтении разного рода литературы: книг, журналов, газет. Выписки эти (он делал их еще со студенческих лет) оказывали неоценимую услугу во время работы над книгой, а часто подсказывали и сюжет произведения.
К концу жизни картотека насчитывала более двадцати тысяч тщательно пронумерованных тетрадок с выписками. Здесь можно было быстро и без труда найти сведения по астрономии и физике, географии и истории, геологии и химии и т. д.
В читальном зале библиотеки у него был свой стол. И часто посетители видели его склонившимся над журналами и газетами, записывавшим что-то в свою тетрадь. Привычку просматривать таким образом свежую прессу он сохранил на всю жизнь. И даже в старости, больной и наполовину ослепший, он стремился быть в курсе всех научных и политических новостей. Читальный зал он уже посещать не мог: свежие журналы и газеты доставляли на дом, где жена и внучка ему помогали штудировать их.
Картотека его пополнялась с невероятной быстротой. И в этом не было ничего удивительного. Вторая половина девятнадцатого столетия стала эпохой величайших научных и технических открытий. Одну за другой ученые раскрывали тайны природы, отвоевывали у нее вековые секреты. Границы бытия расширялись. И Жюль Верн считал себя счастливцем, что родился в такой век, когда на его глазах было совершено столько замечательных открытий и изобретений. Верил он и в то, что живет на пороге эпохи, которая сулит еще больше чудесного не только в науке. А география? Разве наш земной шар, его материки, моря и горы досконально изучены? Разве нет еще «белых пятен» на карте мира? В том-то и дело, что есть. Они ждут своих исследователей. Жюль Верн внимательно следил за теми, кто пытался стереть на карте очередное «белое пятно». Знал о всех экспедициях, снаряжаемых в африканские джунгли и австралийские дебри. Читал отчеты отва-ясных путешественников о странствиях, изучал их маршруты.
Но не только научные и географические открытия находили отзвук в его душе.
Внимательно следил он и за политическими событиями своего времени. Об этом лучше всего говорят книги писателя. В них, словно эхо, отозвались многие потрясения эпохи, они полны злободневных откликов на волновавшие современников события.
Кровавые экспедиции французских колонизаторов в Индокитае, их бесчинства в Алжире, участие в «опиумной войне», которую уже не первый год вели англичане на Дальнем Востоке. Ко всему этому «Наполеон-маленький» послал своих солдат убивать восставших китайских крестьян, когда в 1856 году мощная крестьянская революция тайпинов прокатилась по огромным пространствам Китая. Но и после того, как крестьянское восстание было подавлено, в Китае то и дело вспыхивали народные мятежи.
Издалека до Франции доносился гул событий, которые разворачивались в Индии. Начавшееся здесь в 1857 году антианглийское восстание охватило многие провинции британской «заморской жемчужины».
В эти дни Жюлю Верну встретилось в печати имя Нана Сахиба, одного из руководителей индийских повстанцев. В картотеке писателя в разделе, посвященном событиям в Индии, долгое время занимавшим внимание писателя, появляются все новые и новые записи.
Однажды, мальчиком, Жюль Верн вознамерился бежать в далекую сказочную Индию. Побег тогда со-"рвался. Беглеца сняли с борта готового к отплытию корабля. Путешествие, полное загадок, опасностей и открытий, не состоялось. Но Индия, страна несметных сокровищ, широких рек и красивых храмов, страна-тайна, продолжала волновать его воображение. К тому же ему были глубоко ненавистны англичане, завоевавшие эту прекрасную землю. «Британская политика направлена к уничтожению туземных племен, — писал Жюль Верн, — к изгнанию их из тех местностей, где жили их предки». По его словам, такая пагубная политика проводилась англичанами во всех их колониях, в том числе и в Индии, «где исчезло пять миллионов индийцев».
Зная все это, невозможно было оставаться равнодушным и бесстрастно описывать путешествия своих героев по морям и странам. Реальная жизнь вносила свои поправки. И писатель все более чутко прислушивался к сейсмографу, фиксирующему политические потрясения времени.
Из газетных сообщений можно было составить весьма искаженное представление о вожде индийского восстания. Ненавистный англичанам, Нана Сахиб изображался ими варваром, насильником. Его называли «битхурским зверем» и за ним охотились, как за зверем.
По мере успехов восставших росла и цена за голову Нана Сахиба. Сначала генерал-губернатор Индии обещал 50 тысяч рупий тому, кто доставит Нана и передаст его в руки англичан, или тому, кто укажет, где он находится и поможет захватить его. Через несколько месяцев цена за голову вождя возросла до ста тысяч. Англичане готовы были заплатить и еще больше, лишь бы покончить с народным возмущением, с руководителями масс и тем самым обезглавить восстание.
Кто же был этот индус, осмелившийся поднять та-львар — меч против ненавистных чужеземцев?
Битхур — небольшой городок на берегу Ганга. Недалеко, километрах в сорока, расположен Каппур— шумный, многоязычный центр, через который проходят важные торговые пути. Ниже по течению — священный город Бенарес, в храмы которого стекаются паломники со всей страны.
В тихом зеленом Битхуре находилась резиденция главы государства маратхов пешвы Беджи Pao II. С тех пор как его владения были захвачены колонизаторами, старый правитель жил здесь в своем дворце.
Англичане довольно щедро оплачивали лояльность его хозяина — пенсией в 800 тысяч рупий в год. Старый пешва доживал свои дни в тишине и покое. Большую часть дня проводил в тени деревьев своего сада. Кормил ручных оленей и косуль, любовался великолепным одеянием павлинов, разгуливавших среди цветников, с гордостью показывал гостям своих прекрасных коней.
В залах дворца поражало богатое собрание картин. Тут были представлены работы европейских и индийских мастеров. Не меньшей гордостью владельца бит-хурского дворца являлась и коллекция оружия: сабли и пистолеты, кинжалы и пики, щиты и ружья, легкие кавалерийские седла и громоздкие кабины — хауды для слонов. Но жемчужиной этого редкостного собрания был драгоценный меч пешв. Мирно висел старинный клинок на стене. Во дворе, перед дворцом, не слышно воинственных кличей, бряцания оружия, не видно боевых слонов и знаменитых маратхских всадников на быстрых скакунах. Грозные битвы забыты. И только в рассказах пешвы о героическом прошлом маратхов, об их многовековой борьбе оживали картины ожесточенных схваток и кровавых сражений, которые некогда приходилось вести его предкам.
Особый интерес к этим рассказам проявлял приемный сын пешвы юный Нана Сахиб. Часами просиживал он возле старика, слушая предания о походах против воинственных афганцев, о том, как, возглавляемые национальным героем, «замечательным предводителем закаленных горцев» Шиваджи, портрет которого висел во дворце, маратхи воевали с могольской державой, и о многом другом, чему свидетелем был старинный меч.
С благоговением и почтением юноша прикасался к легендарному оружию. Но самыми счастливыми были минуты, когда ему разрешали подержать в руках прославленный клинок. Тогда в глазах Нана вспыхивал огонь, с уст готов был сорваться боевой клич. Он представлял, как на взмыленном скануне во главе отряда конников врезается в ряды противника и мечом предков разит ненавистных врагов. Но об этом приходилось лишь мечтать. А пока Нана проводил время в военных упражнениях, фехтовал, стрелял из пистолетов, занимался верховой ездой. Его часто видели вместе с братьями, с друзьями — Тантия Топи, сильным и ловким юношей, с Лакшми Бай — отважной девушкой, дочерью священнослужителя при дворе пешвы.
Увлекался молодой индус и музыкой, отлично разбирался в искусстве. Хорошо знал литературу, любил цитировать отрывки из поэмы «Рамаяна», славящей подвиги мифического героя Рамы.
Вызывал восхищение и внешний вид Нана, манера держать себя. У него были черные, гладко причесанные волосы, чуть полноватое лицо светло-коричневого цвета, прямой нос. Его крепкую спортивную фигуру плотно облегал богатый костюм индийского вельможи. Холодный и твердый взгляд как бы подчинял себе.
Но вот безмятежной жизни Нана Сахиба пришел конец. Умер пешва Беджи Pao II. Англичане отказались признать права его приемного сына и наследника. Он был лишен пенсии и всех привилегий.
Напрасно Нана Сахиб пытался восстановить справедливость, напрасно писал письма генерал-губернатору в Калькутту и даже в Лондон. Здесь не собирались тратить золото на какого-то юнца без роду и племени. И поспешили одобрить решение генерал-губернатора, отказавшего приемному сыну пешвы в праве на пенсию.
Оставалось лишь возмущаться вероломством и наглостью ненавистных ферингов-чужеземцев. Рассчитывать на их милость было безнадежно. Несправедливость рождала гнев, побуждала взяться за меч. Но что мог сделать он один?!
…Звуки вина перед дворцом привлекли внимание Нана. Он вышел на террасу. Народ заполнял площадь— праздник был в разгаре.
Певцы, перебирая струны, славили героев древности, пели о великих подвигах божественного Рамы, о мудром и справедливом Викрамадитья, об Акбаре— великом правителе и собирателе земель.
Тут же, среди толпы, разыгрывалось нехитрое представление. Зрители внимательно следили за действом. Актер, изображавший героя древнего эпоса, демонстрировал свое умение обращаться с мечом.
На сцену вынесли куклу в костюме ферингов. Зрители потребовали от актера решительных действий. Но он и не собирался отступать. Напротив, мгновение — и меч пронзил одежду чужеземца. Толпа разразилась восторженными криками. Удар, еще удар… Кукла повержена наземь. Всеобщее ликование охватило толпу.
Нана думал о тяжелой участи этих людей, о том, что, доведенные до крайней степени нищеты, забитые, обездоленные, они готовы подняться против ненавистных пришельцев из-за моря. Люди, как порох, нужно лишь высечь искру.
В народе только и разговоров, что скоро настанет конец владычеству ненавистных ферингов. И случится это в тот самый год, когда исполнится сто лет хозяйничанья англичан в Индии — в 1857 году. Об этом поведали индусские брахманы и мусульманские муллы, услышавшие предсказание своих богов.
Перед дворцом показались странствующие монахи-факиры. Нана подал знак пропустить. Долго беседовал с ними. О чем — никто не знал. Как не знали и о том, что каждый из монахов, уходя, уносил под лохмотьями секретные письма к тем, кто ждал случая, чтобы подняться на борьбу.
Нана давно уже вел тонкую и хитрую игру. Англичане ни о чем не догадывались и считали его вполне лояльным индусом. Он часто посещал дома британских чиновников, был всегда вежлив и учтив. И когда Уилеру, командиру Канпурского гарнизона, стали доказывать, что Нана Сахиб из Битхура тайный враг англичан, старый генерал лишь рассмеялся в ответ.
Не верил Уилер, как и многие другие, и в то, что неспроста из полка в полк сипаи — солдаты-индийцы, находившиеся на службе у англичан, передают цветок красного лотоса. Этот нежный и благородный цветок, появившийся, согласно легенде, из пупка бога Вишну, в Индии считается царем цветов, олицетворяет красоту, чистоту и гуманность. Во имя этого и готовились к жестокой борьбе индийские патриоты.
Генерал Уилер телеграфировал начальству, что в Канпуре все спокойно. А между тем в расквартированных здесь сипайских полках деятельно готовились к выступлению.
Командир гарнизона не знал многого. Он никогда не поверил бы, что дом известной танцовщицы Ази-зан — здесь, случалось, бывал и сам генерал — стал местом, где заговорщики обсуждали свои планы. Так же, как ему трудно было бы представить, что торговец лошадьми Мудат Али, этот спокойный и вполне благонамеренный мусульманин, приходил в дом Азизан совсем не для развлечения. Он приносил письма Нана Сахиба к руководителям заговора в Канпурском гарнизоне.
В начале 1857 года разнесся слух о том, что битхур-ский владетель решил отправиться в путешествие по святым местам.
И действительно, в один из мартовских дней красавец слон в роскошном облачении, с хаудой на спине— кабинкой, где располагались ездоки, покорно стоял у дворца, ожидая хозяина. Погонщик опустил анкуш— железный крюк, которым погоняют слонов, и непризнанный пешва в сопровождении свиты двинулся в дальний путь.
Всюду, где побывал гость из Битхура, он вел секретные переговоры с единомышленниками, вырабатывал план действий, выяснял настроения местных феодалов, их готовность примкнуть 'К борьбе. Во время этой поездки Нана окончательно убедился, что пришло время действовать.
Старинный меч маратхских пешв дождался своего часа.
Глубокой ночью 4 июня над пыльными, узкими улочками Канпура прогремели три пушечных выстрела. Это был сигнал к мятежу индийских солдат. В городе защелкали выстрелы, запылали дома. Кавалеристы восставшего полка сипаев захватили арсенал, банк, тюрьмы. Нана Сахиб, прибывший накануне в город, был провозглашен правителем. А генерал Уилер жестоко поплатился за свою наивность.
В эту ночь Нана Сахиб окончательно выбрал свой путь — борьбу за свободу родины. Это был путь изнурительных сражений и недолгих побед, путь, который стал для него дорогой к бессмертию.
Два года бились с англичанами индийские повстанцы — крестьяне, ремесленники, сипаи. Пожар освободительной войны полыхал на огромных территориях— от границ Непала на севере до Центральной Индии. Пламя народного гнева бушевало в долине Ганга, перекинулось южнее его притока Джамны и Бундельк-ханд. Борьба сплотила людей различных религиозных убеждений, объединила представителей разных каст, разрушила языковые барьеры. Народ почувствовал свою силу.
В войне за независимость принимали участие и феодальные правители. Одних привели в ряды повстанцев патриотические настроения, других — надежда на восстановление своей былой власти, отнятой англичанами. Но вскоре многие из них, напуганные размахом национально-освободительного движения, отшатнулись, изменили ему. Еще большее число индийских князей осталось в стороне.
У восставших не было единого центра, как и не было общего плана действий. Разрозненность и изолированность выступлений пагубно сказались на всем ходе борьбы. А медлительность вождей, их неспособность объединить массы обрекли восстание на поражение. Каждый действовал по своему разумению. И каждый погибал в одиночку: англичане один за другим уничтожали центры восстания. Пали Бенарес, Аллахабад, Лакхнау, Дели.
Но это произошло позже, после многих изнурительных месяцев борьбы, после упорного сопротивления народа заморским конкистадорам, хорошо вооруженным, лучше организованным, более опытным.
А пока трудно было предвидеть трагический исход, да и не очень, видимо, задумывались над этим руководители восстания. Не хотел думать об этом и Нана Сахиб.
В честь победы над Канпурским гарнизоном и воцарения на троне пешвы он затеял пышный праздник. Парад войск, салют из пушек в честь пешвы и его соратников. Тут же солдатам раздали сто тысяч рупий. После чего из Канпура отправились в Битхур и здесь веселье продолжалось.
Никогда больше звезда удачи Нана Сахиба не поднималась так высоко, как в эти дни. Упоенный победой, достигший, казалось, всего, чего хотел, Нана беспечно развлекался у себя во дворце. Когда же, спохватившись, он вернулся в Канпур, было уже поздно. Английские полки подходили к городу. Нана повел войска в бой. Жестокая схватка не принесла полной победы ни одной стороне. Надвигавшаяся ночь заставила сделать передышку. Этим и воспользовались англичане. Под покровом темноты они бросились в атаку на изнуренных битвой воинов Нана Сахиба. Утром Канпур оказался во власти пьяных мародеров.
Незадолго до поражения, видимо сознавая неизбежность его, Нана прискакал в Битхур. Вместе с семьей он успел переправиться через реку и скрылся в лесах.
Каратели вступили в Битхур. Дворец пешвы был разграблен и разрушен. Редчайшие ценности оказались в руках победителей. Но самая большая неожиданная добыча досталась им на дне колодца, случайно обнаруженного в развалинах дворца. Здесь был тайник Нана Сахиба.
Десять дней, сменяясь каждый час, сто солдат извлекали из него поистине сказочные богатства. Из темного жерла колодца появлялись на свет слитки золота, ожерелья и украшения, золотая посуда, три миллиона рупий и, наконец,’ огромная серебряная хауда, еще недавно украшавшая слона пешвы. Попало в руки неприятеля и оружие из знаменитой коллекции.
Нана Сахиб потерпел поражение, лишился средств, но он не был сломлен.
Вскоре ему удалось вновь собрать вокруг себя отряд и начать партизанские действия.
Так же в одиночку яростно бились его друзья.
Во главе конного отряда повстанцев героически сражалась Лакшми Бай. Став к тому времени правительницей княжества Джханси, она мужественно защищала свою столицу — Гвалиур. О ее отваге и подвигах певцы слагали песни, которые живут в народе и по сей день. Ее называют индийской Жанной д’Арк. И даже враги, отдавая должное ее храбрости, говорили, что «она была самой смелой среди повстанцев». Ей посвящена не одна книга, в том числе и роман писателя В. Вармы «Рани Джханси», изданный на русском языке.
Среди непокоренных был и Тантия Топи, прозванный за свое бесстрашие «маратхским тигром». Дж. Неру считал его «самым блестящим из всех» партизанских лидеров. Его отряд, состоявший из сипаев и крестьян, был грозой англичан. Неожиданно обрушивался он на врага и так же внезапно исчезал, уходя от преследования при самых, казалось бы, сложных обстоятельствах.
Но что могли сделать эти и другие разрозненные горстки повстанцев против пятнадцатитысячной армии англичан во главе с лучшим генералом Британской империи, опытным и искусным военачальником Колином Кемпбеллом?
В неравных боях один за другим погибали сподвижники Нана Сахиба.
В сражении, с мечом в руках, пала Лакшми Бай. Тело ее было предано огню, а пепел, по обычаю, рассеян над Гангом.
Схватили и Тантия Топи. Обманом его заманили в ловушку, заковали в кандалы. Перед казнью, подняв руки, он воскликнул: «Моя единственная надежда, что жерло пушки или петля виселицы избавит меня от этих цепей».
Немногие избежали их участи. Продвижение английских войск было повсеместно отмечено виселицами и грохотом пушек. Из них расстреливали, привязав к жерлу, пленных повстанцев. Бесчеловечность карате-лей запечатлел на своей знаменитой картине «Расстрел сипаев» русский художник В. Верещагин. Лишь некоторые из вождей мятежников сумели скрыться. Одни бежали в Непал, другим удалось уйти в Иран и Афганистан.
Где скрывался в это время Нана Сахиб? Точно неизвестно. Его видели в лесном форте, на переправе, в далеком селении. Не раз преследователям казалось, что он уже в их руках. И всякий раз пешве удавалось скрыться.
Он метался из стороны в сторону, пытался сопротивляться. В гневных словах, адресованных колонизаторам, Нана Сахиб клеймил их, заявлял, что будет сражаться до конца. «Мы еще встретимся», — угрожал он. И обещал, что будет «действовать только мечом».
Увы, это были лишь слова. Реальной угрозы мятежный пешва уже не представлял.
Понимал это и он сам. Сознавал, что дальнейшая борьба бессмысленна. Надо было выбирать — либо смерть в бою, либо — бегство. Нана Сахиб решил скрыться, навсегда покинуть Индию.
В середине апреля 1859 года границу Непала пересекла группа всадников. Во главе отряда из пятисот конников по горной тропе ехал седобородый старик. Видом своим он походил на пророка. Трудно было узнать в этом путнике сорокадвухлетнего Нана Сахиба. Белая от инея борода, погасший взгляд, запавшие щеки изменили облик некогда красивого и мужественного лица. Вместе с женой и верными сподвижниками Нана Сахиб уходил в изгнание. Он решился искать убежище в горах соседнего Непала, несмотря на то, что вероломный владетель его Джанг Бахадур отказал ему в убежище и, мало того, разрешил англичанам преследовать беглецов на своей земле.
И все же Нана выбрал этот путь. Впрочем, достоверных данных на сей счет нет. Судьба Нана Сахиба— это одна из неразгаданных тайн истории.
Что стало с мятежным пешвой? Где нашел свою смерть Нана Сахиб? По этому поводу существует немало догадок и предположений.
Многие историки пытались ответить на этот вопрос, упорно искали следы таинственного исчезновения Нана. А тем временем поэты предлагали свои версии. Один из них — французский драматург и писатель Жан Ришпен в конце прошлого столетия создал на эту тему пьесу «Нана Сахиб». Автор привел вождя индийских повстанцев и его спутницу под своды горной пещеры, напоминавшей пещеру Али Бабы. Здесь, среди сокровищ и драгоценностей, возвышается над очагом статуя бога Шивы. Внезапно в очаге вспыхивает огонь, он разгорается все сильнее. Спасения нет — дверь, через которую они проникли в пещеру, захлопнулась. Девушка всходит на костер, зовет возлюбленного:
Иди же! Иди! Наши поцелуи станут нашим саваном,
Наши сердца, умирая, сольются в одно.
Да, поднимайся, о, поднимайся выше, обжигающее
безумное пламя!
Вместе с тобой взлетает и разгорается наша любовь.
В таких, довольно примитивных сентиментальных красках изобразил смерть Нана Сахиба Жан Ришпен. И тем не менее спектакль, поставленный по этой пьесе на сцене парижского театра Порт-Сен-Мартен, пользовался успехом. Но не роскошные декорации и не звонкие и раскатистые стихи принесли ему популярность. А игра несравненной Сары Бернар, исполнявшей заглавную роль.
Так, по-своему, дал ответ на занимавшую всех загадку французский драматург.
Были и другие версии.
Нана Сахиб жив. Ему удалось спастись. Он обитает под видом святого отшельника в горах Непала. Так говорила одна легенда. Согласно другой, Нана Сахиб спасся, он бежал и нашел пристанище в далекой России. Разнесся даже слух, что генерал Скобелев, в то время отличившийся в Средней Азии, это и есть Нана.
Народ не хотел верить в гибель вождя. Народ верил— Нана Сахиб жив…
Еще многие годы имя Нана Сахиба для индийцев оставалось символом борьбы за независимость и свободу.
С благодарностью и уважением вспоминают о нем и в сегодняшней Индии, сбросившей иго колониального рабства. И в наши дни его подвиг огнем самопожертвования озаряет Индии путь в веках. Так сказано на памятнике Нана Сахибу, установленному в столетнюю годовщину восстания, в 1957 году, в городе Бит-хуре.
Прошло немало лет. Однажды в печати промелькнуло сообщение о том, что в Индии, в лесах Бундельк-ханда, пойман, наконец, еще один из руководителей индийских бунтовщиков. «Неужели это Нана Сахиб?»— подумал Жюль Верн. Невольно в памяти вновь возникли картины расправ и бесчинств, творимых над индийскими повстанцами англичанами. Они мало чем отличались от их «братьев по классу», версальских палачей — душителей Парижской коммуны. Писатель был свидетелем кровавой оргии, которую учинили молодчики Тьера в поверженном Париже. Вода в Сене стала пурпурной от крови коммунаров. Над примолкшим городом висел черный шлейф дыма. Пахло гарью. Словно серый саван для тридцати пяти тысяч человек, погибших во время кровавого разгула версальских солдат. Такова была официальная цифра. На самом деле их было более ста тысяч. Не вернулись с баррикад и многие друзья Жюля Верна. Зверски убили ученого Флуранса. В дни Коммуны он стал одним из ее генералов. Давний друг публицист Паскаль Груссе, редактор газеты «Марсельеза» и министр иностранных дел Коммуны, приговорен к смерти. Та же участь уготована и писательнице Луизе Мишель — «Красной деве Коммуны», как ее называли. Пожизненная каторга ожидала знаменитого географа Элизе Реклю.
После всего, что увидел Жюль Верн, трудно было вновь браться за перо. О чем писать, когда перед глазами все еще стояли страшные картины последних дней Коммуны. Когда мысли снова и снова возвращались к воспоминаниям о друзьях, о тех, кто погиб под пулями версальцев. Надо было куда-то уехать, побыть наедине с самим собой, обдумать еще раз происшедшее. И Жюль Верн едет в родной Амьен. В этом провинциальном городишке он останется до конца своих дней.
Он вновь начинает писать. Но как резко меняется тематика его романов. Как не похожи теперешние герои на тех, кто населял его книги прежде.
Отныне они все чаще становятся участниками революционной схватки. С оружием в руках сражаются за свободу и независимость. Тема борьбы человека с природой вытесняется темой политической, социальной борьбы.
На смену героям-ученым приходят герои-бунтари, герои-борцы. Жюль Верн пишет о тайпинском восстании и о венгерских революционерах, о сражении под Вальми — первой победе республиканской армии Франции в 1792 году, о борьбе негров Америки и рабстве в африканских колониях, о греках, восставших против турецкого владычества, и о русских ссыльных, бежавших с каторги, чтобы продолжать бороться…
Теперь его герои — это венгр Шандор Матиас, болгарин Сергей Ладко, мятежник Жан Безымянный— борец за независимость Канады, это — Анри д’Аль-бре, француз, сражающийся на стороне свободолюбивых греков, русский народоволец Владимир Янов. Почти все они гибнут, как погибли тысячи безымянных героев Коммуны. Но значит ли это, что борьба бесполезна? Что незачем браться за оружие и все великие попытки освободить человечество — напрасны? Жюль Верн отвечает прямо: несмотря на то, что «восстания были неудачны, они все же пустили здоровые ростки, и эти ростки должны были принести плоды. Повстанцы недаром проливали кровь, домогаясь своих прав».
В кабинете на втором этаже круглой башни амьенского дома, так же как и в каюте «Сен-Мишеля», все очень просто: кровать, глобус, единственное украшение— бюсты Мольера и Шекспира. В пять часов утра он уже за конторкой — рабочим столом. Распорядок дня не изменился — тот же, что и всегда.
В романе «Двадцать тысяч лье под водой» не было разгадки тайны капитана Немо. Впрочем, могло случиться и так, что профессор Аронакс, столь упорно стремившийся разгадать тайну капитана Немо, а вместе с ним и читатели вообще никогда не узнали бы, кто скрывается под этим именем, что это за человек, откуда родом, какова его история. В первом варианте рукописи капитан Немо погибал. Потом, однако, писатель решил сохранить ему жизнь. Образ этот мог понадобиться в будущем. Что касается читателей, как и профессор Аронакс, заинтригованных загадкой, то их явно не устраивали скудные сведения о капитане «Наутилуса». Письма, которые получал автор, содержали просьбу рассказать подробнее о командире подводного корабля, сообщить более определенные сведения о нем.
И Жюль Верн раскроет тайну капитана Немо на страницах своей новой книги — «Таинственный остров». В ней он расскажет о жизни и труде горстки колонистов, заброшенных случайной судьбой на необитаемый остров в южной части Тихого океана.
Один на один с суровой природой оказываются люди разных национальностей, профессий и социального положения. Благодаря их сплоченности, воодушевлению и воле, вере в безграничные возможности человека, они создают коммуну — прообраз идеального общества будущего. Но не только в борьбе с природой проходит их жизнь. Им приходится отстаивать свою колонию с оружием в руках — воевать с пиратами, пытающимися ее захватить. Горстка смельчаков отважно вступает в бой с многочисленным противником.
Исход поединка, казалось, предрешен. И только вмешательство загадочного покровителя острова спасает колонистов.
Кто помогает обитателям таинственного острова? Кто их невидимый покровитель и защитник?
Читатели узнают об этом лишь на последних страницах романа.
В подземном гроте, затопленном водой, колонисты видят непонятный предмет веретенообразной формы. Он напоминает собой огромное морское животное из породы китообразных. Проникнув внутрь странного плавучего сооружения, они встречаются с его хозяином. Им оказывается не кто иной, как капитан Немо, а непонятный предмет — это «Наутилус».
Столь позднее раскрытие тайны острова писатель объяснял стремлением «всячески повысить интерес к таинственному пребыванию капитана Немо на острове, чтобы, так сказать, подготовить необходимое «крещендо».
Как и в романе «Двадцать тысяч лье под водой», Немо живет в подводном одиночестве. Однако он давно отказался от своих скитаний. В пещере таинственного острова он нашел себе вечное пристанище. Его мятежный дух все так же неукротим, его ненависть к угнетателям все та же. Его взор по-прежнему горд — он свободен. И все же он уже не тот — постаревший и больной, уставший от подводных странствований.
Седая борода, грива белых, откинутых назад густых волос придают его облику вид библейского пророка. Одинокий, ибо все те, кто много лет назад вместе с ним обрекли себя на изгнание под водой, уже умерли. Предчувствует свой скорый конец и хозяин «Наутилуса». И, хотя ему все труднее говорить, он спешит раскрыть колонистам тайну капитана Немо.
… Его настоящее имя — принц Даккар. Он родился в Индии и был сыном раджи, владевшим княжеством в Бунделькханде.
С юных лет его отличали живость ума, жажда знаний и благородство души. Наделенный многими дарованиями, он овладел различными науками и достиг больших познаний как в естествоведении и математике, так и в литературе. Любил живопись — чудеса искусства вызывали в нем благородное волнение.
Образование он получил в Европе, куда его отправили еще мальчиком, воспитан же был в духе ненависти к европейцам, поработившим его отчизну. Он проклинал англичан, заковавших в цепи народ его поэтической родины. Борьба за ее независимость стала целью и смыслом его жизни.
«Этот художник, этот ученый, этот одаренный человек оставался душой индусом, индусом, полным жажды мести, индусом, лелеявшим надежду, что настанет день, когда его соотечественники потребуют прав для своей страны, изгонят из нее чужеземцев и возвратят ей независимость… Он выжидал случая. И случай представился».
Когда вспыхнуло крупное восстание сипаев, пишет Жюль Верн, душой его стал принц Даккар. Он поднял огромные массы, отдал правому делу все свои дарования и свое богатство. Бесстрашно шел он в бой в первых рядах, рисковал своей жизнью так же, как самый простой из героев, поднявшихся ради освобождения отчизны. «Имя принца Даккара стало в те дни знаменитым. Герой, носивший это имя, не таился и вел борьбу открыто. Голова его была оценена и, хотя не нашлось ни одного предателя, готового выдать Даккара, за него поплатились жизнью отец, мать, жена и дети — их убили прежде, чем он узнал, какая опасность грозит им из-за него…»
Но и в этот раз право было повержено во прах перед силой. Тщетно искал Даккар себе смерти, когда последние воины, отстаивавшие независимость Индии, пали, сраженные английскими пулями. Одинокий, исполненный беспредельного отвращения к самому имени «человек», питая ужас и ненависть к цивилизованному миру, стремясь навсегда бежать от него, он обратил в деньги остатки своего состояния, собрал вокруг себя самых преданных ему соратников и в один прекрасный день куда-то исчез вместе с ними.
Куда же отправился принц Даккар? Где искал он той независимости, в которой ему отказала земля, населенная людьми? И Жюль Верн отвечает — под водой, в глубинах морей — там, где никто не мог преследовать его.
На пустынном острове воин, ставший ученым, заложил корабельную верфь. Здесь была построена по его чертежам подводная лодка. Он дал своему судну название «Наутилус», поднял на нем черный флаг (в Индии черный цвет — символ восстания), назвал себя капитаном Немо и скрылся под водой, став грозным мстителем за всех угнетенных людей земли.
Но у этого человека была потребность творить добро. Это он спас одного из колонистов — инженера Сайруса Смита, подбросил ящик с так необходимыми им вещами, сбросил лестницу во время нашествия обезьян, спас юношу от смерти, принеся для него необходимое лекарство, и, наконец, это он взорвал разбойничий бриг при помощи подводной мины и перебил бандитов изобретенными им электрическими пулями.
Последнее его благодеяние — ларец с бриллиантами, которые он вместе с другими драгоценностями завещает колонистам. Он верит, что в их руках деньги не станут орудием зла.
Принц Даккар умирает одиноким, вдали от всего, что он любил, что было ему дорого, за что он боролся. Последним словом, которое прошептали его холодеющие губы, было слово — Родина.
Разве повесть жизни, рассказанная умирающим капитаном Немо, не напоминает историю Нана Сахиба? И возникает вопрос: не стал ли, в известной мере, герой индийского народа прототипом знаменитого литературного образа? Не подсказала ли таинственная судьба Нана Сахиба — бесследное его исчезновение — загадку капитана Немо?
Несколько лет спустя Жюль Верн напишет роман «Паровой дом», где в главе «Восстание сипаев» продемонстрирует свою великолепную осведомленность о минувших событиях в Индии, о ее истории и географии. И не случайно главным героем романа писатель сделает Нана Сахиба.
Слухи о его гибели в горах Непала оказываются ложными. После восьми лет изгнания Нана тайно возвращается на родину. Он мечтает вновь поднять знамя борьбы, освободить землю отцов от ига поработителей. В горах Бунделькханда пытается создать очаг восстания. У него все та же цель — мстить ненавистным фе-рингам. Его месть жестока. Но разве это не жестокость, когда солдаты полковника Мунро — главного врага Нана в романе — привязывали к жерлам своих пушек пленных сипаев, когда английские войска безжалостно истребляли жителей Дели и других городо? когда от их рук погибло «сто двадцать тысяч офицеров и солдат и двести тысяч индусов только за то, что они принимали участие в восстании во имя национальной независимости»? Нана Сахибу не удается достичь своей цели, он попадает в плен и погибает. Видимо, и много лет спустя трагическая судьба Нана Сахиба не переставала волновать воображение Жюля Верна.
… Жюль Верн откладывает перо. Взгляд его устремляется в окно на зеркальную поверхность Соммы. Неспешно несет она свои воды. Так же спокойно течет его жизнь. Вдали от столичного шума, вдали от докучавшей ему славы. Впрочем, и сюда, в Амьен, доносятся ее отзвуки. Только что, например, он узнал, что удостоен Большой премии Французской академии за книгу «Двадцать тысяч лье под водой».
Писатель встает, подходит к большому глобусу, стоящему в углу комнаты. Его поверхность, словно паутиной, опутана карандашными линиями. Это маршруты странствий его, жюль-верновских, героев. На выпуклый шар ложится новая свежая линия — путешествие героев «Таинственного острова».
И так — до конца жизни.
Вот уже более полувека на лондонский почтамт поступают письма, которые никогда не доходят до адресата. И хотя на конвертах четко обозначен адрес: Бейкер-стрит, 2216, а содержание писем говорит о том, что их авторы обращаются, как им кажется, к вполне реальному лицу, вручить корреспонденцию тем не менее не удается. Человек, которому адресованы многочисленные эти послания с просьбой помочь в беде, распутать сложное уголовное дело, найти виновника, — никогда не существовал. Но таковы традиции старой Англии— письма регулярно доставляются исполнительными лондонскими почтальонами по указанному адресу на имя… Шерлока Холмса.
Говорят, то, что может придумать жизнь, не в состоянии вообразить ни одна даже самая пылкая фантазия. Однако иная выдумка оказывается долговечнее правды. Таков Шерлок Холмс — сыщик, созданный в конце прошлого века воображением писателя Конан Дойла.
Следует, впрочем, заметить, что ни одно письмо, адресованное литературному герою на Бейкер-стрит, где по воле писателя он якобы жил, не остается без внимания: английская вежливость требует соблюдения правила— «всякое письмо заслуживает ответа». Обязанность отвечать на почту «великого сыщика» взяла на себя страховая компания, разместившаяся в доме на Бейкер-стрит. Ни швейцар, принимающий почту, ни курьер, доставляющий ее в отдел писем компании, нисколько не бывают удивлены столь необычной корреспонденцией. Возможно, они, как и авторы писем, в глубине души даже верят, что знаменитый Шерлок Холмс жил в этом доме и отсюда отправлялся на поиски преступников. Скажете нет? А почта? Столько лет люди, много людей, верят в реального сыщика! Может быть, он и сейчас вынужден скрываться от какого-нибудь коварного и страшного преследователя? И ответы отдела писем страховой компании: «При всем уважении к вам мы более не в состоянии передать г-ну Холмсу ваше письмо», или «Полагаем, что вам следует узнать: г-на Холмса уже нет среди нас», — это всего лишь уловка, очередной трюк изобретательного детектива. Словом, как пишет английский журнал «Зис уорлд», «убедить поклонников Шерлока Холмса в том, что их героя никогда не существовало, невозможно», для них он самый что ни на есть реальный персонаж.
Попробуйте доказать им, что Шерлок Холмс— вымышленный образ. В ответ поклонники Холмса приведут столько аргументов, что невольно встанешь в тупик. И действительно, возможно ли, чтобы о литературном герое появились, скажем, такие исследования, как «Частная жизнь Шерлока Холмса», «Шерлок Холмс и музыка» или «Шерлок Холмс и химия»? Разве есть музеи, посвященные книжным героям? А между тем в одном только Лондоне существует несколько таких мемориальных комнат-музеев, где вам вполне серьезно будут доказывать, что здесь обитал прославленный сыщик.
Приходилось ли кому-нибудь слышать о том, что в честь литературного персонажа создавались журналы и даже целые организации его имени? Однако в Лондоне есть «Общество Шерлока Холмса», выходит журнал «Бейкер-стрит джорнел», в Америке — общество «Добровольцы Бейкер-стрит», «Клуб Пестрой ленты» и еще множество других союзов и клубов, носящих имя великого сыщика или названия его рассказов.
Нашлись современные «холмсоведы», которые утверждают, будто автором всех приключений Шерлока Холмса был не Конан Дойл, а не кто иной, как сам доктор Уотсон. Две же новеллы якобы принадлежат самому Холмсу, так же как и многочисленные труды по криминалистике, музыковедению и пчеловодству. Дотошные «холмсоведы» сделали не одно подобное сенсационное открытие, раскопали множество «фактов» биографии сыщика. О том, например, что он был знаком с известным писателем Льюисом Кэрроллом, автором знаменитой сказки «Алиса в Стране Чудес», что он встречался со многими другими выдающимися людьми своего времени и что умер сравнительно недавно, прожив более ста лет. Известна будто бы даже точная дата, когда это случилось, — 6 января 1957 года.
А вот еще один пример. Газеты швейцарского города Лозанна сообщили, что 29 апреля 1968 года в местном университете состоится семинар на тему: «Вклад знаменитого сыщика Шерлока Холмса в развитие криминалистики». Из тех же газет можно было узнать, что в семинаре примет участие и сам знаменитый детектив.
Впрочем, то, что это всего лишь шутка, не отрицали и самые пылкие поклонники Холмса. Тем не менее знакомую фигуру — высокого человека в крылатке и клетчатой каскетке с двумя козырьками — сзади и спереди— можно было часто видеть в те дни на дорогах Швейцарии. А если бы мы проследовали за ним в горы, то стали бы свидетелями отчаянной схватки над пропастью, борьбы не на жизнь, а на смерть двух заклятых врагов — Холмса и профессора Мориарти. Сцена, описанная в рассказе «Последнее дело Холмса», была воспроизведена с точностью до мельчайших деталей, даже человеческая фигура (кукла) была сброшена в пропасть Рейхенбах…
В этой веселой костюмированной игре, организованной Лондонским обществом Шерлока Холмса и приуроченной к открытию очередного туристского сезона в Швейцарии, приняло участие около ста членов общества, наряженных в костюмы героев рассказов Конан Дойла. Роль самого Холмса, как сообщили газеты, была доверена председателю общества английскому дипломату сэру Полю Гор-Буту. Его жена выступила в образе Ирен Адлер, единственной, как известно, женщины, которая сумела смутить душевный покой детектива. В его свите были и благородный доктор Уотсон, и коварный Мориарти, и многие другие. В эти же дни состоялась встреча Холмса с сыном писателя Конан Дойла, тоже писателем, Адрианом Конан Дойлом, который живет в замке Люсено, где им организован музей в честь великого сыщика. Лондонский туман не проникает здесь в ваши легкие, но таинственная тишина, царящая вокруг, старые камни Люсе-но, его башни и лестницы пробуждают воображение и оживляют тени героев всевозможных приключений. Здесь, в горах, Шерлок Холмс бывал «при жизни». И теперь в замке ему отведена отдельная комната. В ней тщательно воспроизведены все «опознавательные знаки» знаменитой комнаты на Бейкер-стрит, где жил детектив. Она настолько точно воспроизводит обстановку и детали жилья Холмса, что если бы знаменитый сыщик мог бы, скажем, внезапно оказаться в этом своем кабинете, то вполне мог бы подумать, что очнулся, немного задремав над газетой. Продолжив осмотр комнаты со свойственной ему тщательностью и проницательностью, он нашел бы некоторые детали, которые отсутствовали в его кабинете. Например, стенд с первыми рукописями Конан Дойла. Из них он узнал бы, что первоначально автор дал ему совсем иное имя. В большом количестве тут представлены и письма на его имя, репродукции мемориальных досок, установленных в его честь в разных местах.
Попробуем пройтись по местам литературного героя Шерлока Холмса. Для этого перенесемся в Лондон и совершим по нему небольшое путешествие. Начнем, пожалуй, с самого знаменитого — квартиры сыщика на Бейкер-стрит.
Полицейский квартала Бейкерлоо нисколько не удивится вашим словам: «Где находится дом Шерлока Холмса?» Он привык к подобным вопросам— множество людей отправляется на поиски знаменитого детектива. Но когда вы окажетесь на Бейкер-стрит, в двух шагах от музея восковых фигур мадам Тюссо, ваше положение несколько осложнится. Кирпичные дома как один похожи друг на друга. На помощь их жильцов не очень рассчитывайте. Все они решительно станут уверять, что именно в их доме Шерлок Холмс открыл свою контору. Доказательства? Всякий раз, поясняет вам один, когда делают очередную экранизацию приключений сыщика, съемки происходят «у нашего дома». «Чепуха, — возразит владелец другого здания. — Вы читали рассказ «Пустой дом»? Тогда вспомните. Холмс и Уотсон оказываются в этих местах, и сыщик спрашивает своего спутника: «Знаете ли вы, где мы находимся?» — «Разумеется, на Бейкер-стрит», — отвечает Уотсон. «Совершенно верно. Мы находимся у Кэмден Хауз. То есть как раз напротив нашего дома». «Как раз напротив» это и есть, мол, дом, где жил Шерлок Холмс. Если же обратиться к швейцару дома № 2216, то он вполне авторитетно заявит, что именно в этом доме протекала деятельность детектива. А вот и доказательство: в 1954 году здесь была восстановлена квартира двух приятелей и на стене дома укреплена мемориальная доска, которая подтверждает, что здесь с 1881 по 1903 год жил и работал знаменитый частный сыщик Шерлок Холмс.
Семнадцать ступенек (еще одно подтверждение того, что Шерлок Холмс жил здесь: однажды он поставил в тупик Уотсона, задав ему вопрос о количестве ступенек в их доме; по его подсчетам их было семнадцать) пройдены, и вы в кабинете господина Холмса и его друга доктора Уотсона. Представим себе, что на дворе зима, за окнами густой лондонский туман, едва проницаемый светом газовых фонарей. Доносится гул Сити, цокот лошади проезжающего мимо кабриолета, крики разносчика, звуки шарманки — шум, характерный для английской столицы конца прошлого столетия (сегодня этот шум воспроизводится с помощью магнитофона). Пять часов дня — время обычного чаепития — традиции столь же древней, как и сама Англия. Видимо, этим как раз и были заняты хозяева накануне нашего прихода. Об этом говорят чашки с недопитым чаем на столе, сахарница, молочник. Тут же на столе — отмычки, две револьверные пули. Словом, тот беспорядок, который всегда вызывал неудовольствие у доктора Уотсона. По всему, однако, видно, что Шерлок Холмс и его друг вынуждены были в спешке покинуть свою квартиру. Причем настолько быстро, что аккуратист Уотсон даже забыл положить свой стетоскоп в самшитовый футляр, тот самый, из-за которого шляпа доктора всегда торчала горбом (в те времена врачи носили свои стетоскопы под головным убором). Воспользуемся отсутствием хозяев и продолжим осмотр.
Тысяча и один предмет загромождает комнату. Всюду — в каждом углу и уголке можно обнаружить вещи, которые напомнят внимательным читателям о приключениях, пережитых знаменитым детективом.
На великолепном викторианском камине, среди трубок, кисетов с табаком, перочинных ножичков, луп и наручников можно увидеть небольшую безобидную на вид коробочку из слоновой кости. Однако именно она чуть было не убила Шерлока Холмса, о чем рассказано в «Умирающем детективе». В коробочке находилась иголка с ядом, которая выскакивала оттуда, стоило лишь приоткрыть крышку. Нельзя не обратить внимания и на персидскую туфлю, в которой великий сыщик хранил табак. А если заглянете в ведро с углем, то там, как вы и ожидали, обнаружите сигары. Прямо на полу разложена карта района Дортмунда — с ее помощью Холмс распутывал дело баскервильской собаки. А вот и пистолет, найденный на краю пропасти Рейхен-бах, потерянный во время схватки с хитрым профессором Мориарти. Рядом любимица Холмса «Страдивари» — скрипка, на которой он так любил играть. Возле окна бюст Шерлока Холмса. Это копия того самого бюста, что описан в рассказе «Пустой дом». Оригинал, как вы помните, был разбит пулей полковника Морана. Хитроумный сыщик, как всегда, предугадал ход событий. Свой восковой бюст он поставил таким образом, что тень его была видна сквозь окно с улицы. Полагая, что это силуэт живого Холмса, Моран, спрятавшийся в пустом доме напротив, выстрелил и попал… в восковой бюст. Холмс и на этот раз счастливо избежал смерти.
Покинем уютный кабинет на Бейкер-стрит и отправимся дальше по следам Шерлока Холмса. От Бейкер-стрит до Трафальгарской площади не так уж далеко. Цель нашего путешествия — соседняя с площадью узкая тихая улочка, в конце которой стоит четырехэтажное здание. Еще издали замечаешь вывеску со знакомым изображением сыщика. Сегодня здесь расположен бар Шерлока Холмса. Описание этого места не раз встречается в рассказах о нем. В гостинице, когда-то находившейся в этом доме, Холмс часто останавливался со своим другом. Здесь висят портреты всех киноактеров, которые начиная с 1908 года играли роль сыщика в многочисленных фильмах о его приключениях (более ста двадцати). Представлена внушительная коллекция револьверов Холмса и один, огромный, доктора Уотсона. Зловещие апельсиновые зернышки вызывают в памяти страшные события, описанные в рассказе «Пять апельсиновых зернышек». Пара наручников, принадлежавших инспектору Лестрейду, образцы сигарного пепла, о котором Холмс написал целое исследование. Маска-морда собаки Баскервилей со светящимися зеленоватыми глазами. На втором этаже бара, за стеклянной перегородкой, в точности воссоздана обстановка комнаты на Бейкер-стрит. Тусклый свет керосиновой лампы. Плетеное кресло словно дожидается своего хозяина: домашние туфли, халат, трубки— словом, все «доспехи», без которых невозможно представить нашего героя. И когда смотришь на серую в клетку крылатку и каскетку, висящие за дверью, на забытый стетоскоп Уотсона, на все эти вещественные «доказательства» и «улики», кажется, что дверь вот-вот откроется и на пороге возникнут друзья, уставшие после изнурительных поисков убийцы, и миссис Хадсон накроет на стол.
И действительно, дверь открывается и в бар входят детективы, любители пропустить стаканчик-другой после дежурства, которое они несут в расположенном неподалеку старом здании Скотланд-Ярда.
Говорят, что поступающие на службу полисмены считают своим долгом прийти сюда на поклон к Шерлоку Холмсу, великому литературному шефу их профессии.
Поистине удивительна судьба у некоторых литературных героев. Читатели свято верят в их реальное существование. К этим персонажам, как мы убедились, относится и бессмертный Шерлок Холмс. А это значит, что Артур Конан Дойл, создатель образа знаменитого сыщика, обладал редким даром творить живые существа, которые со временем перестают быть книжными персонажами, а становятся людьми, как говорил французский писатель Эдмон Гонкур, некогда действительно жившими на земле, отчего многим хочется поискать зримые следы их пребывания в этом мире.
Продолжим и мы поиски этих «зримых следов» пребывания Шерлока Холмса «в этом мире». И зададимся вопросом: кто был он? Существовал ли, как и его друг доктор Уотсон, в действительности?
Для этого надо обратиться к тому времени, когда молодой Конан Дойл, в будущем создатель столь популярного персонажа, жил в Эдинбурге, был студентом и думать не думал о том, что когда-то станет известным писателем, автором чуть ли не семидесяти томов романов, повестей и рассказов.
Среди выпускников медицинского факультета Эдинбургского университета 1881 года значилось и имя Артура Конан Дойла. Получив диплом врача, Артур, которому тогда было едва за двадцать, решил продолжать совершенствоваться на поприще медицины. Первым условием для этого была практика. И вот вскоре на одной из дверей в пригороде Портсмута появилась до блеска начищенная медная табличка: «Конан Дойл, врач и хирург». Молодой доктор стал ждать пациентов. Однако время шло, а посетителей можно было пересчитать буквально по пальцам. Напрасно начинающий медик с укором и мольбой поглядывал на фотографию своего учителя доктора Джозефа Белла, стоявшую у него на камине. Профессор Королевского госпиталя в Эдинбурге, пользовавшийся у студентов огромной популярностью, не в силах был ему помочь. И все же старый учитель пришел на помощь своему питомцу. Правда, помог он ему не в обеспечении клиентурой, а несколько в другом.
Все чаще в дни, когда на лестнице не раздавался стук башмаков поднимающегося пациента и стетоскоп одиноко лежал в сторонке на столе, Конан Дойла можно было застать с пером в руке. Предположение, что доктор выписывает рецепт, оказалось бы ошибочным. Конан Дойл пробовал силу своего пера в ином — в литературе.
Еще в университете он увлекся рассказами американского писателя Эдгара По, родоначальника детективного жанра. Герой Э. По сыщик Дюпен с его методом дедуктивного мышления и логическим анализом напоминал чем-то Джозефа Белла, его метод изучения личности пациента. В этом смысле профессор был феноменальной личностью, во многом превосходя героя Э. По. Он часто поражал студентов, в том числе и своего любимого ученика Конан Дойла, необыкновенной проницательностью, умением исключительно по внешнему виду человека не только поставить диагноз, но и прочитать по выражению лица, глаз, по одежде и обуви его биографию, рассказать о нем то, чего, казалось бы, никак нельзя было узнать при первом взгляде. Что касается взгляда Белла, то он, словно рентгеновские лучи, проникал внутрь пациента. Профессор с непроницаемым лицом ставил диагноз еще до того, как больной успевал раскрыть рот. Это производило ошеломляющее впечатление, вспоминал позже Конан Дойл. Казалось чем-то сверхъестественным. А между тем, уверял Белл, все дело было лишь в наблюдательности, в умении анализировать и делать логические выводы. «Пускайте в ход силу дедукции», — часто повторял он. И демонстрировал свой метод «расшифровки» на примере. Однажды его пациентом оказался отставной военный. Внешне ничто не говорило об этом. Напротив, больной выглядел вполне обычно, никаких особых бросающихся в глаза признаков, которые помогли бы сказать о нем что-либо определенное. «Но это совсем не так, — восклицал Д. Белл. — Всмотритесь внимательнее. Разве вы не видите, что это сержант шотландского полка, недавно, впрочем, демобилизовавшийся? До этого он служил на Барбадосе…» И, как бы отвечая на недоуменные взгляды учеников, пояснял: «Войдя в кабинет и весьма любезно поздоровавшись, этот человек тем не менее не снял шляпу. Это говорит об армейской привычке. Далее, у него явное шотландское произношение и манера держаться низшего чина. К тому же он страдает элефантизмом — болезнью, распространенной в Вест-Индии…»
Это было поразительно, вспоминал писатель, и, как ни странно, Д. Белл редко ошибался.
Свой дедуктивный метод Белл старался привить и ученикам. Для многих из них сравнительно молодой еще тогда профессор был кумиром и беспрекословным авторитетом. Эту его репутацию укрепляли и другие качества характера Белла, а также его скромный образ жизни и поступки. Было известно, что Белл был потомком пяти поколений шотландских хирургов. Начинал он простым санитаром, в двадцать один год, едва окончив университет, имел медицинскую степень, а в двадцать шесть читал уже лекции, не забывая, однако, и о практике. Как врач, он отличался глубокими знаниями и смелостью. Не раздумывая, он высосал однажды пленки из горла у ребенка, больного дифтеритом. Болезни ему избежать удалось, но голос после этого был поврежден на всю жизнь.
Самое же, пожалуй, удивительное состояло в том, что молва о способностях Джозефа Белла разгадывать тайны человеческих заболеваний приводила к нему пациентов совсем по другим поводам. К нему стали обращаться при сложной ситуации, искали его совета, просили помочь распутать жизненный клубок, проникнуть в ту или иную загадку. Нередко к его помощи прибегала и местная полиция, где Д. Белл значился как сыщик-консультант. Это давало возможность проверить его метод в другой области — в криминалистике. Однако, несмотря на то, что Белл почти двадцать лет сотрудничал с полицией и помогал в расследованиях своему приятелю профессору судебной медицины и полицейскому врачу Генри Литтлджону, он оставался всего-навсего лишь бескорыстным сыщиком-любителем. Что касается его метода, то и в уголовном деле он принес блестящие результаты: на счету Белла было не одно раскрытое преступление, а память хранила множество случаев из уголовной хроники.
Неудивительно, что молодой ассистент Конан Дойл запомнил своего любимого учителя на всю жизнь, стал поклонником и последователем его метода.
В дни вынужденного бездействия, когда не было пациентов, Конан Дойл трудился над листом бумаги. Начал он с коротких записей — поиска имен и отрывочных набросков. «Ормонд Сэкер из Судана». После недолгого раздумья Конан Дойл зачеркивает последнее слово и пишет: «Из Афганистана. Живет на Бейкер-стрит, 2216». Нет, имя не подходит. «Шеринфорд Холмс…» — пожалуй, лучше, так зовут известного игрока в крокет. «Законы логического доказательства. Замкнутый молодой человек с мечтательными глазами— философ — собиратель редких скрипок», «химическая лаборатория», «я — детектив-консультант». Это должен быть сыщик иного, можно сказать высшего, типа, более умный и талантливый, чем Дюпен, обладающий острой наблюдательностью, умеющий видеть и при помощи анализа и дедукции делать единственно верный вывод. О преступлениях, раскрытых этим вымышленным сыщиком, он и будет рассказывать. Вернее, не о раскрытых преступлениях — не это будет главным в его повествовании, а о приключениях человеческой мысли, которая раскрывает преступления. Задача Конан Дойла облегчалась тем, что в его памяти сохранялась почти готовая живая модель его будущего героя.
С фотографии на камине смотрели проницательные глаза худощавого, казавшегося немного угрюмым человека с ястребиным профилем и угловатыми, острыми плечами. Незаурядная внешность Джозефа Белла, его стремительная походка и высокий, пронзительный голос напомнили Конан Дойлу о сыщике Дюпене. Оба пользовались одним и тем же методом дедукции при раскрытии преступлений. Но в образе Дюпена, как казалось Конан Дойлу, далеко не исчерпаны все возможности. Более того, в одном из своих будущих рассказов он скажет о Дюпене, что это сыщик, наделенный аналитическим талантом, но отнюдь не такой гений, каким воображал его творец, Эдгар По. Это только набросок образа, а сами рассказы, где действует этот герой, — лишь предвестники целого жанра в художественной литературе, которая получит название детективной.
Конан Дойл не отрицал, что старый учитель Джозеф Белл послужил прототипом его героя. Напротив, считал, что ему здорово повезло, ибо в жизни нашелся прообраз его будущего героя. Правда, вскоре после смерти писателя сын Адриан решил опровергнуть слова отца. Он полагал, что наличие прототипа умаляет заслугу автора в создании знаменитого литературного персонажа. Тогда дочь Д. Белла представила письма писателя ее отцу. В них черным по белому говорилось о том, что Холмс во многом списан с профессора Белла.
После этого Адриану Конан Дойлу ничего не оставалось, как признать на страницах эдинбургской газеты «Ивнинг ньюс», что «Шерлок Холмс только литературный слепок доктора Белла».
Даже внешне Конан Дойл сделал своего героя похожим на бывшего учителя. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на фотографию эдинбургского профессора: очень худой, острый, пронизывающий взгляд серых глаз, тонкий орлиный нос, энергичное выражение лица.
Однако, чтобы создать образ сыщика, мало было описать его внешность. Требовалось показать его в действии, продемонстрировать силу метода, которым он пользовался при раскрытии преступлений. А для этого нужны были не только познания в технике полицейского розыска, но и знакомство с материалом, то есть с фактами уголовной хроники, которые питали бы фантазию автора. И в этом Джозеф Белл оказал писателю немалую услугу. Еще во время учебы в Эдинбурге Конан Дойл не раз слышал рассказы Д. Белла о тех преступлениях, в раскрытии которых ему доводилось участвовать. Одна из таких историй, вспомнившаяся ему, собственно, и навела на мысль о создании образа сыщика, наделенного необычным талантом анализа и дедукции. Но и после того, как Конан Дойл стал уже писателем, он нередко обращался к Д. Беллу с просьбой «подбросить» материал для рассказов, прислать что-нибудь «шерлок-холмсовское». И Джозеф Белл никогда не отказывал в помощи своему ученику. Он подробно излагал обстоятельства какого-либо дела, давал ценные советы, иногда подсказывал сюжет.
В Эдинбурге были уверены, что Джозеф Белл— прообраз ставшего очень скоро знаменитым сыщика — творения Конан Дойла. Сходство это уловил и Р.Л. Стивенсон. С далекого острова Самоа, где он тогда жил, автор «Острова сокровищ», сам уроженец Эдинбурга, спрашивал в письме у Конан Дойла: «Уж не старый ли это мой приятель Джо Белл?» На что получил утвердительный ответ.
Скромный, застенчивый профессор в душе гордился тем, что послужил моделью для литературного героя. Радовало и то, что благодаря Шерлоку Холмсу его метод получил такую широкую популярность.
Джозеф Белл не отрицал сходства между собой и Шерлоком Холмсом и даже высказывался на этот счет в печати, признавая в книжном герое своего последователя. Но тот же Джозеф Белл указывал еще на одного прототипа знаменитого сыщика.
Кого же имел в виду Д. Белл? С присущей ему наблюдательностью он усматривал глубокое родство между литературным персонажем и самим автором. «Вы и есть настоящий Шерлок Холмс!»— писал он своему ученику. И это была истинная правда. Чем же походил на своего героя его создатель? Отнюдь не внешним видом. Напротив, в этом, можно сказать, он был полной противоположностью. Высокого роста, плечистый, с широким лицом и добрыми усами — лицо, скорее, добродушного папаши, чем человека с острым умом и необыкновенной наблюдательностью. А между тем именно эти качества прежде всего роднили Конан Дойла со своим созданием— Шерлоком Холмсом.
«Его мозг, — пишет о писателе его сын Адриан, — был огромным складом знаний и фактов». Он, как никто, владел методом дедукции и обладал способностью увязывать причину со следствием, точно ставил диагноз болезни по симптомам, умел видеть то, что ускользало от зрения других, — словом, это был прирожденный детектив. Не отрицал этого и сам писатель. Он часто говорил о том, что внутри него живет «умный, зоркий детектив».
Чем больше Конан Дойл писал о Шерлоке Холмсе, тем больше развивались и его собственные способности дедукции и тем сильнее становилось его косвенное и прямое влияние на криминалистику. К этому выводу приходят Майкл и Молли Хардвик — авторы недавно изданной в Лондоне книги о Конан Дойле (некоторые факты из нее использованы в этом очерке). Они считают, что образ знаменитого сыщика вобрал в себя многие черты характера самого автора. «Перелистывая страницы рассказов о Шерлоке Холмсе, — пишут они, — и просматривая всю жизнь Конан Дойла, мы все больше убеждались в глубоком сходстве между автором и его героем». Сходство это можно обнаружить не в привычке, скажем, работать в одиночестве, закутавшись в старый халат, не в курении трубки, наконец, даже не в том, что оба проводили химические опыты, держали в беспорядке бумаги и у обоих на столе лежали лупа и револьвер. Самое главное состояло в том, что оба они, и Конан Дойл и Шерлок Холмс, были выдающимися криминалистами, оба, как и Джозеф Белл, блестяще пользовались методом дедукции, умели логически мыслить и обладали острой наблюдательностью. Писатель сам признавался, что не однажды ему удавалось методом Холмса решить проблемы, которые ставили в тупик полицию. Это случалось всякий раз, когда профессиональные сыщики оказывались не в силах распутать какое-либо сложное дело и вынуждены были прибегать к его помощи, как обращались за помощью к Джозефу Беллу и Шерлоку Холмсу. И тогда всемирно известному писателю приходилось откладывать перо литератора и брать в руки лупу сыщика. Метод его героя действовал безотказно — Конан Дойлу удалось раскрыть не одно запутанное преступление. Его репутация в этом смысле приобрела такую известность, что к нему стала обращаться с просьбами полиция других стран. Египетские, американские и французские детективы изучали его метод, систему поисков мельчайших улик. Известный криминалист Э. Локар считал Конан Дойла «поразительным ученым-иссле-дователем».
Походил Конан Дойл на своего героя и еще в одном. Подобно отшельнику с Бейкер-стрит, Конан Дойл — сыщик-любитель действовал, как правило, бескорыстно, лишь из благородных побуждений. «Великий детектив» руководствовался, как правило, одним желанием — помочь в беде, восстановить справедливость. Он никогда не употреблял свои способности в защиту неправого дела. А со злом он вступал обычно в опасную и часто неравную борьбу даже тогда, когда шанс добиться успеха равнялся нулю. И нередко благодаря настойчивости и неутомимости оказывался победителем.
Трудный, 1906 год подходил к концу. Конан Дойл, недавно похоронивший жену, вот уже несколько месяцев не притрагивался к перу. Раньше он мог работать в любое время дня и где придется. Некоторые рассказы о приключениях Шерлока Холмса были, например, записаны во время дождя в павильоне около крокетной площадки. Теперь у него есть свой роскошный кабинет, все располагает к творчеству — тишина, уютный стол, стопа бумаги… Но отсутствовало главное — вдохновение. Напрасно его бессменный секретарь майор Вуд, сорок лет проведший рядом с ним и послуживший прототипом доктора Уотсона (в его обязанности входило просматривать корреспонденцию), с тревогой поглядывал на писателя. Молчаливый, угрюмый, Конан Дойл шагал по комнатам и дымил трубкой.
По сложившейся привычке майор Вуд сортировал письма: наиболее важные, те, что могли заинтересовать писателя, откладывал в сторону. В тот день почта не принесла ничего особенно ценного. Лишь на одно письмо обратил внимание майор Вуд. В конверт был вложен газетный отчет о деле некоего Джорджа Эдалд-жи и его письмо.
Прочитав письмо с мольбой о помощи, Конан Дойл, подобно его герою, «вынул трубку изо рта и выпрямился в кресле, встрепенувшись, точно борзая при звуках охотничьего рога». С этого момента целых восемь месяцев писатель занимался исключительно делом Эдалджи. В чем же оно состояло? И с кем пришлось бороться писателю, защищая невиновного и отстаивая справедливость?
Когда Конан Дойл брался распутывать какое-либо дело, он обычно, как и его герой, на два-три Дня исчезал в своем кабинете: только в обстановке полного одиночества он способен был размышлять, взвешивать, сопоставлять, анализировать. Одним словом, искать ключ к той или иной загадке. И на этот раз, познакомившись с «делом близорукого индуса», как его иногда называют, писатель скрылся в кабинете, отбросив все другие мысли и заботы.
Молодой юрист из Бирмингема Джордж Эдалджи (отец его был индусом, то есть «цветным») обвинялся в том, что он регулярно с помощью бритвы убивал по ночам на полях скот. Улик оказалось достаточно, и Эдалджи был арестован, судим и приговорен к семи годам каторжных работ.
Напрасно друзья требовали пересмотра дела. Ничто не помогало — ни выступление газеты, ни петиция, подписанная десятью тысячами людей.
Правосудие оставалось глухим. И, не вникая в суть дела, довольствовалось версией полиции. Расследование, произведенное ею, показало следующее.
С некоторых пор в шахтерском поселке близ Бирмингема повторялись странные случаи убийства животных. Анонимные письма, поступавшие в полицию, прямо указывали на преступника — Джорджа Эдалджи. Дождавшись очередного убийства, полиция, не раздумывая долго, арестовала виновника. При обыске у него нашли футляр с бритвами, сапоги и брюки, выпачканные свежей грязью, и старую куртку. На ней обнаружили несколько конских волосков (несомненно, от убитого накануне пони) и два пятнышка крови животного.
Во время допроса Эдалджи заявил, что вечером в день преступления навещал знакомых, живущих неподалеку от района, где было совершено убийство.
Все, казалось, было против Эдалджи. И когда несчастного юношу везли в суд, толпа чуть было не растерзала его, напав на полицейскую карету.
Почти год Конан Дойл занимался расследованием, которое вел, кстати сказать, на свои собственные деньги. И когда ему стало ясно, что судим и приговорен был невинный человек, когда в его руках оказалось достаточно материала, опровергающего заключение полиции и решение суда, тогда он выступил в печати.
В начале января 1907 года в газете «Дейли телеграф» появилась первая статья Конан Дойла. Она вызвала сенсацию. Писатель клеймил позором действия местной полиции, обвинял ее начальника в расизме, обмане и бездарности. Мало того, опровергая пункт за пунктом доводы обвинения, он обрушивался в своих статьях на министерство внутренних дел, доказывал на примере с делом Эдалджи необходимость ввести в Англии кассационный суд.
«Кто же истинный преступник? Назовите его, если вы знаете», — иронически спрашивали писателя те, кто был уверен в правильности своих действий. И Конан Дойл с блеском, присущим его литературному герою, ответил на этот вопрос. Впрочем, помог ему в этом сам убийца. Он начал угрожать писателю. А тому только того и надо было. Запугать анонимными письмами было его нелегко, но то, что эти письма наведут рано или поздно на след, в этом он был убежден. Оставалось ждать. Наконец, пришло еще од: ю письмо. Оно-то и дало ключ к разгадке.
В этом письме убийца неосторожно упомянул имя директора одной местной школы. Не долго думая, Конан Дойл сел в кэб и отправился к нему с визитом. И здесь он выяснил, что у школьного директора тоже есть одно старое анонимное письмо, содержащее угрозы по его адресу. Оно-то, это письмо, и стало последним звеном в цепи улик, собранных Конан Дойлом. Оставалось выяснить, кто из учеников школы ненавидел директора, был известен своей подлостью и после школы служил на флоте (намеки на это содержались в анонимных письмах).
Сделать это было не так уж трудно. Выяснилось, что некий Питер Хадсон еще в школе был известен умением подделывать письма. Он же отличался тем, что вспарывал ножом диваны. После того как его исключили из школы, работал в мясной лавке, а потом плавал на судах, перевозивших скот.
Дальнейший ход рассуждений Конан Дойла достоин лучших логических заключений Шерлока Холмса. Писатель обратил внимание на то, что все раны, нанесенные животным, обладали одной особенностью: это были поверхностные разрезы; они рассекали шкуру и мышцы, но не проникали во внутренние органы, что неизбежно при заостренном кончике ножа. Лезвие же ланцета имеет круглый выступ, оно очень острое и им можно делать лишь поверхностный надрез. «И я утверждаю, — заявлял Конан Дойл, — что большой ланцет для разделки туши, добытый Питером Хадсоном на корабле, перевозящем скот, — единственное оружие, которым могли быть совершены все эти преступления». Писатель мог с такой уверенностью говорить об этом, так как большой ланцет попал в его руки и был потом предъявлен в качестве улики.
А как же с доказательствами полиции? Откуда взялись ее улики, все эти конские волосы, бритвы, пятна крови на куртке и т. д.?
Ответ был прост. На бритвах не оказалось никаких следов крови, пятна на куртке были от недожаренного бифштекса. Что же касается конских волос, то они появились на куртке после того, как полицейский завернул в нее шкуру убитого пони.
Логика рассуждений и система доказательств Конан Дойла, блестящий анализ событий, точность его дедукции помогли ему одержать победу. Министерство вынуждено было признать, что совершена ошибка. И три года спустя после ареста и заключения невиновный был освобожден.
«Дело близорукого индуса» было прекращено (он был действительно очень близорук, и это обстоятельство тоже стало аргументом в руках писателя), его реабилитировали, правда втихомолку, и даже восстановили в звании юриста.
Летом 1968 года на знаменитом лондонском аукционе Сотби было объявлено о продаже пяти писем Конан Дойла, посвященных так называемому делу Слэйтера. В связи с этим история полувековой давности вновь всплыла на страницах газет — на них замелькали старые, потускневшие фотографии. И снова воздавалось должное Конан Дойлу — «рыцарю проигранных процессов» и «воскресителю разбитых надежд», как назвал в свое время писателя знаменитый криминалист Уильям Рафед.
Снова приводились слова благодарности невинно осужденного за то, что Конан Дойл разбил его оковы и выступил поборником истины и справедливости.
В этот раз, однако, для того, чтобы справедливость восторжествовала, Конан Дойлу потребовалось почти два десятка лет. Двадцать лет он вел борьбу с ложью за то, чтобы правда победила! И добился своего.
Оскар Слэйтер, осужденный по делу, как назвал бы его доктор Уотсон, «о бриллиантовом полумесяце» и обвиненный в убийстве, был реабилитирован и освобожден из тюрьмы после 19 лет заключения.
Это было, пожалуй, одно из самых трудных дел, которым пришлось заниматься Конан Дойлу. Причем трудность его состояла не столько в доказательстве невиновности осужденного, сколько в том, чтобы заставить блюстителей закона пересмотреть дело. На все требования о пересмотре неизменно следовал ничем не мотивированный отказ.
А между тем стоило лишь вникнуть в аргументы, выдвигаемые Конан Дойлом, чтобы тотчас же убедиться в том, что верховный суд на своем заседании в Эдинбурге в мае 1909 года допустил непростительную ошибку, осудив невиновного.
Писателю это стало ясно сразу же, как только он познакомился с делом.
Рассказ о нем доктор Уотсон начал бы приблизительно так: «Преступление, впоследствии названное делом о бриллиантовом полумесяце, было совершено в Глазго. Богатую вдову мисс Марион Гилкрайст нашли мертвой в своей квартире. Убийство было совершено вечером, в то время, как служанка выходила купить газету. Когда спустя 15 минут она вернулась, то у дверей спальни хозяйки встретила незнакомца, который с улыбкой произнес: «Добрый вечер» — и спокойно удалился…»
Полиция установила, что убийство совершено было с целью ограбления, хотя все драгоценности остались нетронутыми. Убийца захватил с собой одну только бриллиантовую брошь в форме полумесяца. На то, что была вскрыта и шкатулка с документами, не обратили должного внимания.
Сыщики бросились на поиски «улыбающегося убийцы». И вскоре был задержан некий Оскар Слэйтер. Служанка опознала в нем таинственного незнакомца. Одной из улик против него послужило то, что он заложил какую-то брошь и спешно уехал. То, что его брошь ничуть не походила на брошь убитой, а также и то, что он отдал ее в заклад накануне убийства, отнюдь не смутило полицейского инспектора, ведущего расследование, умственные и профессиональные данные которого, видимо, были на том же уровне, что и у антагониста Шерлока Холмса, бездарного полицейского инспектора Лестрейда.
Словом, стоило, как говорится, копнуть это дело поглубже, как версия, представленная полицией, с треском рушилась.
Тем не менее факты были подтасованы, свидетели запуганы, и суд больше походил на комедию, закончившуюся, правда, трагически: Слэйтера приговорили к смертной казне. Впрочем, позже ее заменили пожизненным заточением.
«Это страшная история, — писал Конан Дойл, — и, когда я прочел ее и понял всю ее чудовищность, я решил сделать для этого человека все, что в моих силах».
В ход пришлось пустить все средства, чтобы привлечь внимание общественности к позорному делу.
И вот в августе 1912 года появилась небольшая книжка Конан Дойла «Дело Оскара Слэйтера». В ней писатель приводил свои доказательства невиновнос-ти осужденного. Железная логика и точный анализ Конан Дойла с блеском опровергали доводы обвинения.
«Почему из всех драгоценностей была взята одна лишь брошь?» — задал бы вопрос доктор Уотсон. «Потому, — ответил бы ему Конан Дойл, — что преступника интересовали не бриллианты, а иные ценности. Их он и искал в шкатулке с бумагами. Брошь же была взята для того, чтобы сбить с толку полицию». Но какой документ пытался найти преступник?
На этот вопрос последовал ответ: завещание. Ведь мисс Гилкрайст была далеко не молода. Если так, то убийцу надо искать среди родственников жертвы.
Кстати, в этом случае становилось понятным и то, как преступник попал в дом, не имея ключа и не взломав двери. Старая мисс, у которой была привычка смотреть в глазок на посетителей, не задумываясь пустила гостя. Был знаком он и служанке. Позже выяснилось, что она назвала его имя, но полиция предпочла замолчать это важное показание. Больше того, много лет спустя служанка призналась репортерам, что ее принудили дать ложные показания и даже специально репетировали, как вести себя на суде.
Вывод Конан Дойла о том, что преступник был родственником убитой, подтвердился спустя несколько лет. Незадолго до смерти Конан Дойла в 1930 году, настоящий убийца открылся сыну писателя.
Знаменитому автору приключений Шерлока Холмса, так же как и Джозефу Беллу, приходилось участвовать как детективу-любителю в расследовании и многих других дел. Писатель охотно направлял свою энергию, ум и талант криминалиста на их раскрытие. Выступал в защиту ирландского патриота, обвиняемого в государственной измене, по просьбе Скотланд-Ярда разгадывал тайну исчезновения среди бела дня брик-стонского экспресса, взволновавшего многие умы. Принимал участие в поисках так называемого клада лорда Морреская, оцениваемого в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. С увлечением следил за поисками другого сокровища — знаменитого «Павлиньего трона». Впрочем, не только следил, но и давал советы, высказывал предположения, направлял поиски.
…Демократичность героя Конан Дойла во многом способствовала его популярности. Вынужденные жить в несправедливом мире насилия и зла, люди хотели верить, что благородный герой, всегда готовый прийти на помощь простым труженикам, живет где-то рядом, на Бейкер-стрит… И Шерлок Холмс стал для многих читателей живым, вполне реальным человеком, под стать создавшему его писателю, как и его герой, неутомимо боровшемуся за торжество правды. Отчего и стали его называть «адвокатом справедливости».
1
Текст записки В. В. Григорьева и письма Г. П. Данилевского привожу по оригиналам, принадлежащим Е. В. Пузицкому, любезно предоставившему мне возможность воспользоваться этими материалами.
2
Нельзя не вспомнить, что Екатерина вообще любила отсутствовать во время всех «непредвиденных» ею катастроф. Она отсутствовала во время переворота, свергнувшего Петра III и потом лишившего его жизни, она прямо нарочно уехала из Петербурга на день казни Мировича (это известно из официальных бумаг), она отсутствовала, когда назначено было привезти княжну Тараканову в Петропавловскую крепость.
3
Жидкость, уничтожающая зловоние и обладающая дезинфицирующими свойствами. Изобретена в 40-х годах XIX века Н. И. Ждановым. (Примеч. ред.)