Книга: Дело Тулаева
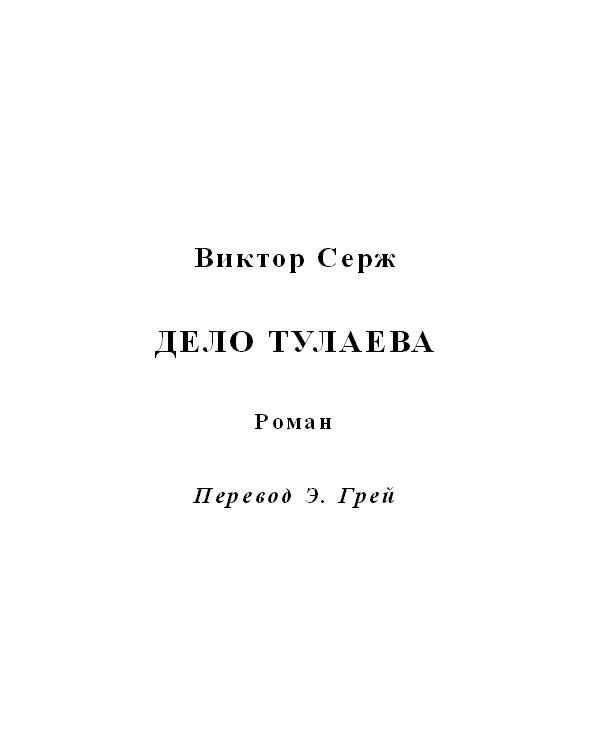
Уже несколько недель Костя обдумывал покупку новых ботинок, – как вдруг внезапная фантазия, удивившая его самого, спутала все его расчёты. Отказавшись от сигарет, от кино, обедая через день, он мог в шесть недель – скопить сто сорок рублей на довольно приличные ботинки, которые любезная продавщица комиссионного магазина обещала отложить для него «по знакомству». А пока что он весело разгуливал на картонных подмётках, которые приходилось обновлять каждый вечер. По счастью, погода всё ещё стояла сухая. Накопив уже семьдесят рублей, Костя отправился однажды поглядеть, удовольствия ради, на свои будущие ботинки, припрятанные на тёмной полке за старым медным самоваром, кучей футляров из-под биноклей, китайским чайником, коробкой, оклеенной ракушками, на которой небесной синевой выделялся Неаполитанский залив... На той же полке, на самом видном месте, стояли роскошные сапоги из мягкой кожи: четыреста рублей, подумать только! Люди в поношенных пальто облизывались, глядя на них. .
– Всё в порядке, – сказала Косте продавщица, – ваши ботиночки здесь, не волнуйтесь...
Она улыбнулась ему: это была брюнетка с глубоко посаженными глазами, с неровными, но красивыми зубами, с губами... Как описать эти губы? «У вас волшебные губы», – подумал Костя, глядя на неё в упор без всякой робости, – но он никогда не посмел бы сказать ей этого вслух.
На мгновение взгляд его задержался на этих глубоко посаженных глазах неопределённого, сине-зелёного цвета – цвета китайских безделушек, выставленных в витрине, – потом стал блуждать по драгоценностям, разрезательным ножам, часам, табакеркам, другому старью, пока не остановился случайно на маленьком женском портрете в рамке из чёрного дерева, – таком маленьком, что он поместился бы на ладони.
– А это сколько? – спросил Костя удивлённым голосом.
– Семьдесят рублей, дорого, знаете, – ответили волшебные губы.
Отделившись от куска красно-золотого бархата, косо брошенного на прилавок, её руки – тоже волшебные – вынули миниатюру. Костя взял её; и его потрясло, что в своих толстых, не слишком чистых пальцах он держит эту живую картинку, более чем живую – удивительную; крошечное чёрное окошечко обрамляло белокурую, увенчанную диадемой головку, это прекрасное овальное лицо с полными жизни глазами, в которых таилась и нежность, и сила, и бездонная тайна.
– Покупаю, – к собственному удивлению, глухо сказал Костя.
Продавщица не посмела возразить: тихий Костин голос шел из самой глубины его существа. Украдкой глянув направо и налево, она шепнула:
– Шш... Выписываю счёт на пятьдесят рублей, только не показывайте вещь в кассе.
Костя поблагодарил, почти её не видя.
«Пятьдесят рублей или семьдесят – наплевать! Знаешь ли ты, девочка, что этому цены нет?» В нём разгоралось высокое пламя. По дороге домой он всё время чувствовал, как мягко давит ему грудь спрятанный во внутреннем кармане пиджака квадратик из чёрного дерева, как лучится он всё растущей радостью. Костя прибавил шагу, взбежал, наконец, по тёмной лестнице, прошёл коридором коммунальной квартиры, где в тот день стоял запах нафталина и кислых щей, отворил дверь своей комнаты, зажёг свет, взглянул с восторгом на свою складную кровать, на кипу старых иллюстрированных журналов на столе, на покривившееся окно, где в нескольких местах вместо стёкол торчали куски картона... Он услышал свой собственный шёпот: «Какое счастье!» – и ему стало неловко. На столе, из чёрной рамочки, прислонённой к стене, белокурая головка смотрела теперь только на него – и он ничего, кроме неё, не видел. Непередаваемое сияние наполняло комнату. Костя бесцельно прошёлся от окна к двери, и комната вдруг показалась ему тесной. За перегородкой послышался слабый кашель Ромашкина.
«Ох уж этот мне Ромашкин!» – подумал Костя, повеселев при одной мысли о желчном человечке, вечно сидевшем взаперти в своей комнате, аккуратном, чистеньком, типичном мещанине, жившем среди горшков герани, книг, переплетённых в серый картон, и портретов великих людей: Генрика Ибсена, который сказал, что величайшее могущество человека в величайшем одиночестве; Мечникова, который благодаря гигиене продлил срок человеческой жизни; Чарлза Дарвина, доказавшего, что животные одного и того же вида не поедают друг друга, и Кнута Гамсуна – потому что он кричал о своём голоде и любил лес...
Ромашкин донашивал пиджаки довоенного времени, предреволюционной эпохи – которая была до гражданской войны, – эпохи, когда земля кишела безобидными и пугливыми Ромашкиными. Костя повернулся с лёгкой улыбкой к своему полукамину: перегородка, отделявшая его комнату от комнаты Ромашкина, второго замначальника отдела, разрезала пополам прекрасный мраморный камин бывшего салона.
– Эх ты, Ромашкин! У тебя до конца дней будет только полкомнаты, полкамина, половина человеческой жизни – и даже не половина вот такого взгляда... (Взгляда миниатюры, её волнующего голубого сияния...)
– Твоя полужизнь проходит в тени, бедный ты мой Ромашкин...
В два прыжка Костя очутился в коридоре, перед дверью соседа; постучал три раза условным стуком. С другого конца квартиры доносился запах жареного, звуки голосов и шумных споров. Какая-то сердитая женщина – наверное, костлявая, резкая и несчастная – твердила, гремя посудой: «А он мне говорит: ну, ладно, гражданка, вот увидите, я доложу дирекции, а я ему: ну что ж, я, гражданин...» Из отворенной и тут же с грохотом захлопнутой двери вырвался короткий плач ребёнка. Ромашкин сам открыл Косте дверь.
– Здравствуй, Костя.
В распоряжении Ромашкина тоже было три метра в длину на два и три четверти в ширину. На полукамине красовались бумажные, без единой пылинки, цветы. На столе, аккуратно покрытом белой бумагой, стоял стакан холодного чая.
– Я вам не помешал? Вы, может, читали?
На аккуратной двойной полке, висевшей над постелью, стояло тридцать книг.
– Нет, Костя, я не читал. Я думал.
Один, в застёгнутом пиджаке, сидя перед своим стаканом чая, перед выцветшей перегородкой, на которой выделялись четыре портрета великих людей, Ромашкин о чём-то думал...
«Интересно, куда он девает руки в такие минуты?» – спросил себя Костя. Ромашкин никогда не облокачивался; в разговоре он обычно клал руки на колени; ходил, сцепив пальцы; порой, робко расправив плечи, скрещивал руки на груди, – и что-то было в этих плечах, напоминавшее жалкое вьючное животное.
– О чём же вы думали, Ромашкин?
– О несправедливости.
Большая тема! Будет тебе, браток, о чём подумать. Как странно: в этой комнате холоднее, чем в соседней.
– Я пришёл одолжить у вас книгу, – сказал Костя.
У Ромашкина были щёткой зачесанные волосы, жёлтое старообразное лицо, поджатые губы, настойчивый, но пугливый взгляд; цвета глаз его нельзя было разобрать, да и вообще у него не было никакой окраски, он казался серым, этот Ромашкин. Он поглядел вверх на полку и подумал минутку, прежде чем снял старую брошюрованную книгу.
– Прочтите вот это, Костя, – история смелых людей.
Это был девятый выпуск журнала «Каторга и ссылка. Орган Союза бывших каторжан и пожизненно ссыльных». Спасибо, до свиданья. До свиданья, друг. Что ж он теперь, бедняга, опять примется думать?
Их столы стояли по обе стороны перегородки, разделявшей их комнаты. Костя сел за свой стол, полистал книгу, попробовал читать. Время от времени он поднимал взгляд на миниатюру и со сладостной уверенностью встречал таинственный призыв зеленовато-голубых глаз. Так лучится бледное весеннее небо над льдинами, когда в начале оттепели оттаивают реки и оживает земля. За стеной, в своей уютной пустыне, в полном одиночестве, Ромашкин снова сел за стол и, охватив руками голову, погрузился, казалось, в размышления. А может быть, он и в самом деле думал.
Ромашкин уже давно жил с глазу на глаз с мучительной мыслью. Исполняя обязанности помощника начальника отдела зарплаты в Тресте готового платья, он знал, что никогда не будет ни утверждён в этой должности (так как не состоял в партии), ни уволен (разве в случае ареста или смерти): из ста семнадцати служащих центрального управления, сидевших с девяти до шести в сорока бюро, помещавшихся над Спиртным трестом, над Профсоюзом карельской меховой промышленности, рядом с представительством «Узбекхлопка», он один досконально знал все семнадцать категорий зарплаты, семь способов оплаты сдельной работы, всевозможные комбинации основного жалованья с производственными премиями и владел искусством пересмотра шкалы зарплаты и номинальных прибавок, никак не отзывавшихся на общем бюджете... Ему говорили: «Ромашкин, директор просит вас подготовить проведение в жизнь нового циркуляра Госплана, согласно циркуляру ЦК от 6 января и решению, принятому на совещании текстильных трестов... знаете?» Он знал. Его начальник, бывший шапочник, с прошлой весны член партии, ровно ничего не знал и даже не умел считать, но ходили слухи, что он связан с секретным отделом (для наблюдения за техническим персоналом и рабочими). Этот начальник говорил ему властным тоном: «Поняли, Ромашкин? Заготовить на завтра, к пяти часам. Я буду на заседании дирекции». Бюро помещались в Варнавском переулке, на третьем этаже дома из красного кирпича, с широкими, низкими окнами; хилые деревья, полузадушенные строительным мусором – остатками какого-то разрушенного здания, – своей трогательной листвой тянулись в окно.
Ромашкин принимался высчитывать, – и оказывалось, что увеличение основной зарплаты на 5 процентов, обнародованное ЦК, одновременно с пересмотром шкалы работников 11-й категории, переведённых в 10-ю, и других, переведённых из 10-й в 9-ю, для улучшения положения самых низких категорий, – что было справедливо и соответствовало директиве ВЦСПС, – оказывалось, что всё это при самом благоприятном толковании приводило к понижению общего бюджета зарплаты на 0,5 процента... А рабочие обеих категорий зарабатывали от 110 до 120 рублей; и в конце месяца предстояло повышение квартирной платы...
Ромашкин меланхолическим тоном приказывал перепечатать свои заключения на машинке. Каждый месяц ему, под различными предлогами, приходилось проделывать такого рода операции, подытоживать объяснительные таблицы для бухгалтерии, – после чего, выждав, чтобы на часах было без четверти пять, он принимался медленно мыть руки, тихонько напевая про себя «тра-та-тата» или «ммммм... гмммм», – и это было похоже на жужжание печальной пчелы.
Наспех обедая в столовке предприятия, он читал при этом передовую статью газеты, которая всё тем же казённым тоном повторяла, что мы идём вперёд, удивительно прогрессируем, замечательно развиваемся, победоносно шествуем, несмотря на все препятствия, во имя величия Республики и ради благоденствия трудящихся, о чём свидетельствуют двести десять заводов, открытых за один только год, блестящий успех хлебозаготовок и...
«Но ведь я, – сказал себе однажды Ромашкин, проглатывая последнюю ложку холодной манной каши, – ведь я просто-напросто эксплуатирую нищету!»
Цифры это ясно показывали. Ромашкин потерял душевный покой. Беда наша в том, что мы способны мыслить или, вернее, что есть в нас какое-то существо, незаметно для нас думающее, – и вдруг в безмятежном мозгу возникает короткая, остроироническая, невыносимая фраза – и после этого нельзя уже жить по-прежнему. Это двойное открытие – собственных мыслей и газетной лжи – привело Ромашкина в ужас. Он проводил вечера у себя в комнате, проверяя свои сложные расчёты, сравнивая миллиарды товарорублей с миллиардами рублей номинальных, тонны зерна с человеческими массами. Он листал библиотечные словари, читал статьи о навязчивой идее, мании, безумии, душевном расстройстве, паранойе, шизофрении, пришёл к заключению, что он не параноик, не шизофреник, не невропат, а только – в худшем случае – страдает лёгкой формой истерии и маниакальной депрессии. Это выражалось в неотвязной мысли о цифрах, в склонности везде обнаруживать ложь и в идее, почти навязчивой, которую он боялся назвать её именем: она была священна, эта идея, она пересиливала душевное расстройство, уничтожала ложь, и необходимо было ощущать её присутствие в себе, чтобы не оказаться несчастным мелким жуликом, недочеловеком, которому платили за то, что он урезывал чужой хлеб, – или же мокрицей, ютившейся в кирпичном здании треста... Справедливость была в Евангелии, но Евангелие считалось феодальным и дофеодальным предрассудком; справедливость, наверно, была у Маркса, хотя Ромашкину и не удалось её там обнаружить; она была в Революции, сторожила ленинский Мавзолей, освещала набальзамированный лоб бледно-розового Ленина под хрустальной крышкой, которого охраняли неподвижные часовые; и в сущности, они стояли на страже вечной справедливости.
Врач невропсихиатрического диспансера в Хамовниках, к которому Ромашкин пришёл на консультацию, сказал ему:
– Ваши рефлексы в полном порядке, гражданин, можете не беспокоиться. А как насчёт половой жизни?
– Редко бывает... случайно, – ответил тот, покраснев.
– Рекомендую совокупление по крайней мере два раза в месяц, – сухо сказал врач. – Что же касается идеи справедливости, то не волнуйтесь, это – положительная социальная идея, результат сублимации исконного эгоизма и подавления индивидуалистического инстинкта; этой идее суждено сыграть немаловажную роль в период перехода к социализму... Маша, впустите следующего. Ваш номер, гражданин?
Следующий уже входил, зажимая номерок в пальцах, в бумажных пальцах, которые трепал внутренний ветер. Животная улыбка уродовала его лицо. Человек в белом халате, доктор, исчез за ширмой. А у него какое было лицо? Ромашкин этого уже не помнил. Довольный консультацией, он шутил про себя: «Это ты болен, гражданин доктор... Исконная сублимация, скажите на милость! Ничего-то ты не понимаешь в справедливости, гражданин».
После этого кризиса он чувствовал себя сильнее: сознательнее. Памятуя о необходимости половой гигиены, он оказался однажды в смутный и тёмный час на скамейке Тверского бульвара, где бродят накрашенные и пьяные девицы, вялыми голосами просящие у прохожих папироску. Ромашкин не курил.
– К моему величайшему сожалению, мамзель, – сказал он, воображая, что говорит игривым тоном.
Она вытащила из кармана папиросу и закурила её очень медленно, так чтобы видно было, что у неё налакированные ногти и недурной профиль, – а потом села рядом, прильнув к нему.
– Скучаешь?
Он кивнул в знак согласия.
– Пойдём на ту скамейку, что напротив, подальше от фонаря, – покажу тебе, что я умею делать. За три рубля, ладно?
Мысль о нищете и несправедливости удручала Ромашкина, хотя что было общего между его идеями и этой девушкой или им самим и половой гигиеной? Он молчал, смутно догадываясь, что существует всё же между всем этим какая-то связь – тончайшая, как те серебряные лучи, что ясными ночами тянутся от звезды к звезде.
– За пять рублей поведу тебя к себе, – сказала она, – только заплати вперёд, миленький, такое уж правило.
Он был доволен, что и в таких делах существуют правила. Девушка повела его к своей лачуге, которую, при свете луны, давило квадратное восьмиэтажное административное здание. На осторожный стук в окно вышла, придерживая платок на впалой груди, какая-то нищенка.
– У нас тепло, – сказала она, – как-никак топится. А вы не торопитесь, Катюшенька, мне и тут хорошо: подожду вас, покурю малость. Девчонку-то не разбудите.
Чтобы не разбудить ребёнка, они легли прямо на пол, при свече, стащив перину с постели, где спал, полуоткрыв рот, темноволосый ребёнок.
– Ты уж постарайся не кричать, миленький, – сказала девушка, обнажая бескровное, чуть тёплое тело.
Вокруг них – от потолка до загромождённых углов комнаты – повсюду была грязь. Ромашкин ощущал во всём этом несправедливость, как холод, пронизывающий вас до костей. Несправедливость была и в нём самом, животная несправедливость. Несправедливостью было пропитано бездонное молчание, и он с яростью погружался в него. И в эту минуту зародилась в нём новая мысль, ещё хилая, смутная, не уверенная в себе, как вырывается из вулканической почвы крошечный язычок пламени, и это всё же знак того, что земля вскоре задрожит, разверзнется, взорвётся под страшным напором лавы.
Потом они вернулись на бульвар. Девушка, очень довольная,
болтала:
– Мне бы сегодня ещё одного найти! Да не так-то просто. Вчера до зари здесь была, а нашла только пьяницу одного, так у него и до трешницы недостало, подумай только. Холера! Уж очень все голодные, мужчины о любви больше не думают.
Ромашкин вежливо согласился, мысленно следя за движением маленького пламени, зародившегося в нём.
– Это верно, питание влияет на половую потребность.
Чувствуя к нему доверие, девушка начала рассказывать о том, что происходит в деревне.
– Я из деревни,приехала. Ах, холера!
Это, по-видимому, было её излюбленным словечком. Она мягко выговаривала «холера» и то пускала папиросный дым прямо перед собой, то мелко сплёвывала в сторону.
– Нет больше лошадей. Холера! Что ж теперь будет? Сначала забрали самых лучших для колхоза, потом тех, что оставались у мужиков, а кто сопротивлялся, тому райкооператив корму не давал. Да и то сказать, какой там корм? Армия забрала последние запасы. Старики, те, что помнили голодные годы, кормили лошадей соломой с крыш, промокшей от снега, солнцем высушенной – подохнешь от такого корма. Бедная животина! Холера! Жалость брала глядеть на них: глаза умоляющие, языки повысунули, ребра сквозь кожу проступают, ей-богу! – раны у них были, все суставы распухли, под брюхом, на хребте полню маленьких нарывов, а в них черви кишат, в гною, в крови, в ранках. Живьем гнили бедные лошади! На ночь приходилось на них подпруги надевать, прикреплять к стене для поддержки, не то утром не встали бы: сил больше не было... Их пускали бродить по дворам, там они лизали заборы, землю грызли, искали травки... А нашим, сам понимаешь, лошадь дороже ребёнка. Ребят и так слишком много, не прокормишь, да и не вовремя они родятся, ребята. Вот мне, как ты думаешь, очень надо было родиться? А лошадей в поле никогда не хватает; есть лошадёнка, и дети выживут, а без лошади ты больше не человек, верно? Нет у тебя больше дома, – один голод остался, одна смерть. Ну вот, дохли лошади, ничего не поделаешь. Собрались наши старики. Я сидела в углу, у печки, на столе лампочка стояла, всё время надо было нагар снимать – коптила она, лампа-то. Что же делать, как животину спасти? У стариков и голосов больше не было – горе их доконало. Наконец мой отец сказал – а он страшный был на вид, аж губы почернели: «Нечего больше делать. Прикончить их надо, коней-то, чтоб больше не мучились. Шкуры нам пригодятся. А сами подохнем ли, нет ли, на то Божья воля...» Больше никто ничего не сказал, и так стало тихо, что я слышала, как тараканы возятся в печи под горячими кирпичами. Мой старик тяжело поднялся. «Пойду», – говорит. И взял топор из-под скамьи. Мать к нему как бросится: «Никон Никоныч, пожалей...» А на старика жалко было глядеть, на несчастное лицо его – убийца. «Молчи, – говорит, – жена». А потом мне: «Идём, дочка, посветишь мне». Я понесла лампу. Конюшня была рядом с домом: когда ночью лошадь шевелилась, нам было слышно, и это нас вроде согревало. Как вошли мы с лампой, она на нас поглядела, точно больной человек, грустно так, слезящимися глазами, голову едва повернула, потому сил у неё уж вовсе не оставалось. Отец спрятал топор, не то она бы сразу поняла; уж это наверно. Он подошёл к ней, потрепал её по морде. «Ты, – говорит, – моя Чернуха, добрый конь; не по моей вине настрадалась. Прости меня, Боже...» – и кончить не успел, как у Чернухи голова была уже надвое расколота. «Сполосни топор», – сказал мне отец... Вот так и стали мы бедняками. Наплакалась я в ту ночь на дворе, меня бы побили, если бы я в избе плакала. Кажись, все наши деревенские прятались тогда, чтобы поплакать...
Ромашкин дал девушке лишний полтинник. Она хотела было поцеловать его в губы – «увидишь, миленький, как я целую», – но он сдержанно отказался – «нет, спасибо» – и пошёл, сутулясь, под чёрными деревьями.
Все его вечера были похожи один на другой, все были одинаково пусты. После работы он бродил немного в толпе таких же праздношатающихся, шёл из одного кооператива в другой. В магазинах полки были полны коробок, но на каждую, во избежание недоразумений, продавцы клали записку: «Бутафория». А графики показывали растущую с каждой неделей кривую товарооборота. Ромашкин купил солёных грибов и занял место в новой очереди за колбасой. С довольно ярко освещённой улицы он свернул на другую, углубился в неё. Невидимые световые рекламы бросали в глубь улицы как бы отсветы костра. Вдруг темнота наполнилась гулом возбуждённых голосов. Ромашкин остановился. Грубый мужской голос потух, и возник быстрый и яростный голос женщины, проклинавшей предателей, саботажников, хищных зверей в человеческом облике, заграничных агентов, паразитов. Громкоговоритель, забытый в пустом бюро, изливал проклятия в темноту. Ужасен был этот безликий гневный голос, звучавший в застывшем красном отсвете – в одиночестве, в темноте какого-то бюро. Страшный холод охватил Ромашкина. Женский голос вопил: «От имени четырёх тысяч фабричных работниц...» В мозгу Ромашкина пассивно отозвалось эхо: «От имени четырёх тысяч фабричных работниц...» Четыре тысячи женщин всех возрастов – среди них были и жалкие, рано состарившиеся – а почему? – и красивые, недоступные, о которых не смеешь и мечтать, – представились ему на кратчайшее мгновенье – и все они кричали: «Требуем смертной казни для этих бешеных собак! Не жалеть их!» («Как это возможно, женщины, – строго ответил им Ромашкин. – Не жалеть? Всем нужна жалость – и вам и мне...») «Расстрелять их!» Митинги на заводах не прекращались во время процесса инженеров, или экономистов, или продовольственных руководителей, или старых большевиков – кого они на этот раз судили? Пройдя шагов двадцать, Ромашкин опять остановился, на этот раз перед освещённым окном. Сквозь занавески он разглядел накрытый стол, чай, тарелки и руки – одни только руки на клетчатой клеёнке: грубая рука держала вилку, серая рука дремала, детская рука... Громкоговоритель изливал на эти руки митинговые вопли: «Расстрелять их, расстрелять, расстрелять!» Кого? Не всё ли равно. Почему?
Потому что страх и страдания повсюду перемешались с необъяснимым торжеством, которое неустанно провозглашали газеты. «Добрый вечер, товарищ Ромашкин. Знаете, Марфе и её мужу отказали в паспорте, потому что они лишены гражданских прав: они прежде были ремесленниками, работали на себя... Знаете, старик Букин арестован: говорят, что он прятал доллары, которые получал от брата, рижского зубного врача... А инженер лишился места, его заподозрили во вредительстве. Знаете, говорят, что предстоит новая чистка служащих. Берегитесь, я слышал в домкоме, что ваш отец был офицером...» – «Ничего подобного, – задохнувшись от волнения, сказал Ромашкин, – он был всего-навсего унтером в империалистическую войну... бухгалтером». (Но у Ромашкина совесть была не совсем чиста: этот благонамеренный бухгалтер был членом Союза русского народа.) «Постарайтесь запастись свидетельствами, говорят, что комиссии будут строгие... Говорят, что в Смоленской области волнения: нет хлеба...» – «Знаю, знаю... Заходите, Пётр Петрович, сыграем в шашки...»
Сосед входил в комнату Ромашкина и принимался вполголоса излагать свои собственные беды: «Жену, пожалуй, больше не пропишут в Москве, так как она первым браком была за купцом. Три дня дают на отъезд, товарищ Ромашкин, а уехать надо минимум за сто километров от Москвы – и кто знает, пропишут ли там?» И в таком случае их дочь, само собой, не сможет поступить в Лесной институт... Топор, золотившийся в отблеске лампы, обрушивался на лошадиную голову с человечьими глазами, в багровом мраке неистовые голоса требовали, чтобы кого-то расстреляли, толпы наводняли вокзалы и почти безнадёжно ждали поезда, а поезда (на карте) спешили за последним хлебом, последним запасом мяса, самыми хитрыми спекуляциями; девушка с Тверского бульвара валилась, распахнув одежду, на своё нищенское ложе рядом со спящим ребёнком, розовым, как поросёнок, невинным, как отмеченные Иродом младенцы, – а ведь она дорого стоила, эта девка: пять рублей, цена рабочего дня, – и надо будет в самом деле раздобыть свидетельства, чтобы благополучно пройти чистку, – и входит ли в силу новая шкала квартирной платы?
Если за всем этим не скрывалась чья-то огромная ошибка, чья-то безмерная вина, чья-то тайная гнусность, тогда, значит, какое-то безумие охватило всех. Сыграв партию в шашки, Пётр Петрович ушёл, всё пережевывая свою беду: «Самое главное – вопрос паспорта...» Ромашкин открыл свою постель, разделся, выполоскал рот, лёг. На ночном столике горела электрическая лампа; белела скатерть; молчали портреты... Десять часов. Перед сном он обычно внимательно прочитывал утреннюю газету. Как это бывало раза два-три в неделю, треть первой страницы занимал портрет Хозяина; вокруг него – речь на семи столбцах. «Наши экономические достижения»... Удивительные достижения! Мы избранный народ, мы счастливее всех, нам завидует Запад, обречённый на кризисы, на безработицу, на классовую борьбу, на войны. Наше благосостояние увеличивается с каждым днём, за истекший год, благодаря социалистическому соревнованию ударных бригад, зарплата увеличилась на 12 процентов, пора уже её стабилизировать, так как производительность выросла всего на 11 процентов. Горе скептикам, горе маловерным, горе тем, кто тайно питает в сердце ядовитую змею оппозиции! Всё это было выражено в неуклюжих перенумерованных параграфах: 1, 2, 3, 4, 5. Перенумерованы были и пять (выполненных) условий построения социализма, и шесть заповедей труда, и четыре доказательства исторической достоверности... Поражённый Ромашкин впился острым взглядом в эти 12 процентов прибавки. Номинальному увеличению зарплаты соответствовало по крайней мере в три раза большее уменьшение реального заработка, – из-за обесценения бумажных денег и общего вздорожания. Хозяин упомянул и об этом в своей речи, саркастически намекнув на нечестных специалистов Народного комиссариата финансов, которым не избежать заслуженного наказания. «Взрыв аплодисментов. Присутствующие, стоя, долго аплодируют оратору. Раздаются крики: «Да здравствует наш непоколебимый Вождь! Да здравствует наш гениальный Вождь! Да здравствует Политбюро! Да здравствует партия!» Новая овация. Несколько голосов кричат: «Да здравствует госбезопасность!» Гром аплодисментов».
Ромашкин подумал с бесконечной грустью: как он врёт! – и сам испугался своей смелости. К счастью, никто не мог подслушать его мыслей: комната была пуста. Кто-то вышел из уборной и пошёл по коридору, волоча ноги в туфлях; наверно, старик Шлем, страдавший расстройством кишечника; тихонько жужжала швейная машина; чета, жившая по другую сторону коридора, ссорилась перед сном, обмениваясь короткими, свистящими, как удары тонкого хлыста, фразами, – и можно было угадать, что муж щипал жену, медленно наматывал её волосы на руку, бросал её на колени и тыльной стороной руки бил по губам: об этом знал весь коридор, на них доносили, но они всё отрицали: им оставалось одно – мучить друг друга, стараясь заглушить шум, а потом совокупляться, неслышно, как осторожные животные, прилаживаясь друг к другу. И те, что подслушивали у дверей, почти ничего не могли разобрать, но обо всём догадывались.
Двадцать два человека жило в шести комнатах и в тёмном чулане в глубине квартиры; в ночной тишине каждого можно было узнать по малейшему звуку.
Ромашкин потушил лампу. Сквозь занавеску слабый свет уличного фонаря нарисовал на потолке знакомые узоры. Они монотонно изменялись со дня на день. В полутьме массивный профиль Хозяина покрыл профиль человека, который в соседней комнате бесшумно хлестал по щекам свою упавшую на колени жену. Удастся ли этой жертве убежать когда-нибудь от мучителя? Удастся ли нам спастись от лжи? Ответственность лежит на том, кто лжёт в лицо всего народа – как будто бьёт его по лицу. Страшная мысль, которая до этой минуты зрела в тёмной глубине сознания Ромашкина, самой себя страшась, притворяясь в собственном небытии, изощряясь в самоискажении перед внутренним зеркалом, сорвала с себя личину. Так в блеске молнии открывается ночной пейзаж, – искривлённые деревья, повисшие над пропастью. Для Ромашкина это была минута почти прямого откровения. Он увидел виновного. Прозрачное пламя охватило его душу. Ему не пришло в голову, что это знание могло оказаться бесполезным. Отныне оно овладеет им, будет руководить его мозгом, глазами, шагами, руками. Он заснул с открытыми глазами, испытывая и восторг и страх.
Иногда по утрам, до служебных часов, иногда же в конце дня, после работы, Ромашкин ходил на Центральный рынок. Там от зари до ночи стояла толпа в несколько тысяч человек; она казалась неподвижной, так терпеливо и осторожно передвигались там с места на место люди. Отдельные краски, лица и предметы сливались в сером однообразии затоптанной, грязной, никогда не просыхающей земли. Всё там было отмечено тяжёлой печатью нужды: она проглядывала и в недоверчивых взглядах баб с закутанными в шерстяные или ситцевые платки головами, и в землистых лицах солдат, которые, верно, уже не были солдатами, хоть и носили ещё неопределённого вида потрёпанные шинели, и в изношенных драповых пальто, и в руках, протягивавших вам неожиданный товар: рукавицу самоеда из оленьей кожи, отороченную красной и зелёной бахромой, подбитую мехом. «Мягкая, как пёрышко, пощупайте, пожалуйста, гражданка» – одинокая рукавица, единственный в тот день товар маленькой калмычки-воровки. Продавцов трудно было отличить от покупателей, и те и другие топтались на месте или медленно обходили друг друга. «Часы, часы хорошие, часы марки «Сима», хотите?» Часы шли не больше семи минут – «послушайте только, гражданин, как тикают!» – и продавец успевал схватить свои пятьдесят рублей и вовремя удрать. «Фуфайка, изношенная у ворота, заплатанная у пояса, за десять рублей продаю, всё равно что даром отдаю. Неправда, гражданин, вовсе она не пропитана тифозным потом, то сундуком от неё пахнет...» «Чай, настоящий караванный чай, чач-чай», – косоглазый китаец без конца напевно повторяет это слово, глядя на вас в упор, – и проходит мимо, а если вы ему значительно подмигнёте, он наполовину вытащит из рукава крошечный пакетик прежнего кузнецовского чая, раскрашенными картинками на обертке. «Настоящий. Из кооператива Гепеу». Что он, ухмыляется, что ли, или это его рот, усаженный зеленоватыми зубами, так устроен, что кажется, будто он ухмыляется? И почему он упоминает о Гепеу? Он, может, и сам из Гепеу? Странно, что его ещё не арестовали, что он приходит сюда каждый день – но ведь и все эти спекулянты и спекулянтки (их тысячи три, от десяти до восьмидесяти лет) торчат здесь каждый божий день, верно, потому, что нельзя же их всех арестовать, и потому ещё, что, сколько облав ни устраивала бы милиция, – имя этим людям легион. Среди них бродят, заломив сплющенные фуражки на затылки, парни из розыска, ищут свою добычу: убийц, беглых, жуликов, опустившихся контрреволюционеров. Неуловимая жульническая организация властвует над этой кишащей толпой.
(«Эй, следите за карманами, а когда уйдёте отсюда, отряхнитесь хорошенько, верно, вшей набрали уйму, – берегитесь, это вши тифозные, их сюда навезли из деревень, из тюрем, из поездов, из азиатских лачуг; и, знаете, их и с земли можно набрать, – немало тут завшивленных, которые их на ходу роняют – паршивая бестия тоже ищет корма, вползёт вам на ноги, полезет выше, в тепло; тоже хитрая тварь! Нет, вы вправду верите, что настанет такой день, когда не будет больше вшей? Когда наступит, значит, настоящий социализм и каждому дадут и сахара, и масла? А может быть, для общего счастья и вши тогда будут сладкие, надушенные, ласковые?») Ромашкин рассеянно слушал высокого бородача, заросшего до самых глаз, который, посмеиваясь, говорил о вшах.
Ромашкин пошёл по молочному ряду – где, разумеется, не было никакого указания ни на ряд, ни на молоко, а стояли в два ряда бабы: одни из них держали в руках завёрнутый в кисею кусок масла, а другие, те, что не заплатили надзирателю за место, прятали масло под одеждой, между грудью и животом. Время от времени некоторых всё же хватали. («И не стыдно тебе, спекулянтка?») Дальше, на перекрёстке, продавали тайно зарезанную скотину, привозное мясо, запрятанное на дне мешка, под вещами, овощами, семенами; его украдкой показывали покупателю:
«Вот хорошая, свежая говядина, не хотите?» (Из-под полы женщина вытаскивала кусок воловьей ноги, завёрнутой в запачканную кровью газету.) «Сколько? А вы потрогайте». Какой-то зловещего вида тип с эпилептически подёргивающимся лицом молча держал в крючковатых пальцах кусок странного, чёрного мяса. Что ж, даже это съедобно, и недорого, только надо его как следует сварить, – а варить надо, разумеется, в жестяном тазу, на костре, на каком-нибудь пустыре. Вам нравятся рассказы об искромсанных на куски женщинах, гражданин? Я знаю презанимательные... Мимо прошёл мальчишка с чайником и стаканом в руке: продавал за десять копеек стакан кипячёной воды. Дальше начинался легальный рынок, лотки были расположены прямо на земле, невероятные лотки, где с синими стёклами очков соседствовали керосиновые лампы, треснувшие чайники, фотографии былых времён, книги, куклы, железный лом, гири, гвозди (большие продавались поштучно, маленькие – дюжинами, причём надо было каждый гвоздь рассмотреть в отдельности – не всучили бы вам тупых), посуда, старинные безделушки, раковины, плевательницы, леденцы, бальные туфли с облупившейся позолотой, цилиндр циркового наездника или старорежимного денди, – все вещи, не поддававшиеся классификации, но всё же годные для продажи, раз их продавали, раз жили этой торговлей: крошечные обломки бесчисленных кораблекрушений, размётанные волнами многих потопов.
Близ армянского театра Ромашкин наконец кем-то и чем-то заинтересовался. Армянский театр состоял из тесно составленных ящиков, покрытых чёрным холстом, в которых проделана была дюжина овальных отверстий; зритель всовывал в дыру голову, тело его оставалось снаружи, а голова была в стране чудес. «Ещё три свободных места, товарищи, полтинничек всего, сейчас начнётся представление – тайны Самарканда в десяти картинах, с участием тридцати персонажей в красках». Набрав ещё трёх зрителей, армянин исчезал за холстами и принимался дёргать верёвки своих марионеток и говорить за них на тридцать разных голосов: тут были и гурии с удлинёнными глазами, и злые старухи, и служанки, и дети, и толстые турецкие купцы, и цыганка-гадалка, и худой, чёрный бородатый дьявол с рогами и огненно-красным зловещим языком, и красивый влюблённый певец, и смелый красноармеец... Недалеко от армянина татарин, сидя на корточках, сторожил своё добро: куски войлока, ковры, седло, кинжалы, жёлтую перину в подозрительных пятнах и очень старое охотничье ружьё. «Хорошее ружьё, – сдержанно сказал он Ромашкину, наклонившемуся над оружием. – Триста рублей». Так они познакомились. Ружьё никуда больше не годилось – разве чтобы заманивать опасных покупателей. «У меня дома есть другое, новенькое, – сказал наконец татарин, когда они встретились в четвёртый раз и вместе напились чаю. – Пойдём ко мне, покажу».
Он жил в глубине двора, усаженного белыми берёзами, в квартале чистеньких и тихих переулков, что за улицей Кропоткина, – а идти туда надо Мёртвым переулком. В своём логовище, тёмном от свешивающихся с потолка кусков кожи и войлока, Ахим показал Ромашкину великолепный винчестер с синеватым двойным стволом: «Тысяча двести, приятель». Это равнялось шестимесячному жалованью Ромашкина, и оружие было недостаточно мощное, давало всего два выстрела, к тому же громоздкое, чтобы спрятать его под городской одеждой, нужно было спилить ствол и две трети приклада. Ромашкин колебался, мысленно взвешивая за и против. Если влезть в долги, продать всё, что можно, даже кое-что украсть на работе, и то не наберёшь даже шести сотен... От глухих взрывов тихо задрожала стена, зазвенели стёкла.
– Что это?
– Ничего, брат, это взрывают динамитом храм Христа Спасителя.
Больше они об этом не говорили.
– Нет, – огорченно сказал Ромашкин, – право, не могу: слишком дорого – и к тому же...
Он выдал себя за охотника, члена официального Охотничьего союза, сказал, что у него есть разрешение... У Ахима изменился взгляд, у Ахима изменился голос, он пошёл за заваркой чая, стоявшей на поющем чайнике, налил чай в стаканы, сел на табуретку против Ромашкина, с наслаждением выпил янтарный напиток; по-видимому, он собирался сказать что-то очень важное, может быть, свою крайнюю цену? Девятьсот рублей? Ромашкин и такой бы суммы не набрал, А жаль! После небольшого молчания Ахим сказал ласковым голосом, слившимся с гулом дальнего взрыва:
– Если тебе нужно, чтобы убить кого, – у меня есть и получше...
– Получше? – переспросил Ромашкин, и у него пресеклось дыхание.
На столе, между их стаканами, появился кольт с чёрным барабаном и дулом (запрещённое оружие, одно обладание которым считалось преступлением), прекрасный складненький кольт, манивший к себе руку, возбуждавший волю.
– Четыреста, брат.
– Триста, – машинально сказал Ромашкин: он был уже во власти волшебного оружия.
– Триста, берите, – сказал Ахим, – потому что моё сердце вам верит.
Только выйдя на улицу, Ромашкин заметил, как пустынна была эта местность, – не жилая, а проходная: там люди исчезали, как на переполненной вокзальной платформе во время отступления армии. На белом фоне берёзок Ахим кротко ему улыбался. Ромашкин пошёл тихими переулками, унося на груди, во внутреннем кармане пиджака, тяжёлый кольт. Откуда взялось это оружие, от какого осталось грабежа, от какого убийства в далёкой степи? Теперь оно покоилось на чистом сердце человека, думавшего об одной лишь справедливости.
Он остановился на минуту у входа на большой строительный участок. Широко раскинувшийся пейзаж был чуть окрашен влажной лунной синевой. Где-то под строительными лесами, в вырезе разрушенного здания, как сквозь зубцы развалившейся крепости, блестели воды Москвы-реки, Направо, в глубине, выделялись в профиль леса строившегося высотного здания. Налево вставало городище Кремля с плоским тяжёлым фасадом Большого дворца, высокой колокольней Ивана Великого, остроконечными башнями крепостной стены и куполами соборов, которые высились друг над другом под звёздным небом. Здесь царили прожекторы, люди перебегали через ярко освещённый участок, милиционер прогонял любопытных. Весь передний план занимала раненая громада храма Христа Спасителя; потеряв, как древнюю мечту, свой огромный позолоченный купол, она оседала на развалинах, пересечённая сверху донизу чёрной зигзагообразной трещиной в тридцать метров длины, похожей на мёртвую молнию в каменной кладке.
«Ну вот», – сказал кто-то. Женский голос пробормотал: «Боже мой». Гром полз под землёй, сотрясая землю, – и весь залитый лунным светом пейзаж странно покачнулся, блеснул изгиб реки, содрогнулись людские спины. Дым медленно сгустился над участком, гром оглушительно загрохотал над поверхностью земли, потом заглох – и стало так тихо, как будто пришёл конец света; глубокий вздох вырвался из потрясённой взрывом каменной громады, и она стала оседать со страдальчески мрачным видом; ломались её кости, трещал её остов. «Кончено!» – крикнул маленький, с голой головой инженер покрытым пылью рабочим, вместе с ним возникшим из облаков. Ромашкин подумал – так как читал об этом в газетных статьях, – что жизнь возрождается из развалин, что необходимо постоянно разрушать, для того чтобы строить, убивать старые камни, чтобы возводить новые здания, более светлые, более достойные человека, что на этом самом месте вырастет когда-нибудь прекраснейший Дворец Советов – и что там, может быть, не будет больше царить несправедливость. Но лёгкая боль,, в которой он сам себе не признавался, примешивалась к этим высоким идеям, пока он шёл к остановке трамвая А.
Дома он положил кольт на стол. Оружие заполнило всю комнату своим иссиня-чёрным блеском. Одиннадцать часов. Прежде чем лечь спать, Ромашкин облокотился на стол и задумался. За перегородкой шевельнулся Костя: он читал, время от времени поглядывая на сияющую миниатюру. Каждый из них ощущал близость другого. Костя тихонько, кончиками пальцев, пробарабанил по перегородке. Ромашкин ответил тем же: да, приходите. Спрятать кольт, пока тот не вошёл? Ромашкин колебался одну лишь сотую секунды. Войдя в комнату, Костя прежде всего увидел сине-чёрную волшебную сталь ка белой бумажной скатерти. Костя схватил кольт, весело подкинул его на ладони:
– Замечательно!
Он никогда ещё не держал оружия в руках и теперь испытывал детское удовольствие. Он был порядочного роста, на его высокий лоб падали растрёпанные пряди, зрачки у него были цвета морской воды.
– Как вы его здорово держите! – восхитился Ромашкин. И точно, с кольтом в руке Костя казался выше ростом, у него появилась гордая осанка молодого воина.
– Я его купил, – объяснил Ромашкин, – потому что люблю оружие. Когда-то я ходил на охоту, но охотничье ружьё мне не по карману. Винчестер на два выстрела – тысяча двести, подумать только!
Костя рассеянно выслушал это смущённое объяснение. Его забавляло, что робкий его сосед обзавёлся револьвером, и он этого не скрывал: его лицо осветилось лёгкой улыбкой...
– Да вы им, верно, никогда не воспользуетесь, Ромашкин, – сказал он.
Ромашкин осторожно ответил:
– Не знаю... Конечно, он мне не нужен. На что он мне? Ведь никто мне зла не желает... Но оружие – красивая вещь. Невольно думаешь..,
– Об убийстве?
– Нет, о справедливости.
Костя чуть не фыркнул. Сам-то ты смехотворный герой! Жалкий тип! Но и порядочный, это верно. Маленький этот человек смотрел на него со значительным видом. Костя побоялся огорчить его шуткой. Как обычно, они ещё немного поболтали.
– Вы читали 12-й выпуск «Каторги и ссылки?» – спросил Ромашкин, прежде чем они расстались.
– Нет. Интересно?
– Да, очень. Там есть история покушения на адмирала Дубасова в 1906 году...
Костя унёс с собой двенадцатый выпуск.
Сам Ромашкин не хотел больше перечитывать рассказы об этих блестящих революционных подвигах. Они лишили бы его решимости. Эти покушения былых времён требовали тщательной подготовки, дисциплинированных организаций, денег, многомесячной работы, наблюдения, ожидания, союза нескольких отважных людей – и к тому же они часто заканчивались неудачей. Если бы Ромашкин серьёзно обдумал свой замысел, он показался бы ему совершенно химерическим. Но он о нём не думал: мысль его то возникала, то растворялась в нём, как сон; он не управлял ею. Но и такой она помогала ему жить; он не знал, что можно думать иначе, твёрже, яснее, ни что эта странная работа совершается в нас почти помимо нашей воли и часто приносит нам горькую радость, за которой нет ничего.
Когда выпадала свободная минута – утром ли, днём ли или вечером, – Ромашкин исследовал различные участки городского центра – например, Старую площадь, где возвышается здание из крупного серого камня, похожее на банк. На входной двери дощечка из чёрного стекла с надписью золотыми буквами: Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков), Центральный Комитет. Силуэт часового в коридоре. Лифты. На противоположной стороне узкой площади белеет старая зубчатая стена Китай-города. Подъезжали машины. На углу улицы стоял всегда, покуривая, какой-то субъект... Нет, не здесь. Здесь это было невозможно! Почему, Ромашкин не смог бы объяснить. Из-за белой зубчатой стены, сурового серого камня, пустоты? Твёрдая земля глушила его шаги. Ромашкин ощущал себя невесомым, бесплотным. Зато близ Кремля дыхание ветра, скользившего над садами, выносило его, ничтожного, на мостовую Красной площади; никому не известный, он задерживался на минуту с толпой провинциалов перед Мавзолеем Ленина, потом под кручёными выцветшими куполами храма Василия Блаженного. Он чувствовал себя хорошо, только поднявшись по трём каменным ступенькам на Лобное место, окружённое каменным парапетом; оно было здесь с незапамятных времён. Сколько людей тут настрадалось? Кроме него, никто из проходивших по площади не хранил в душе памяти о замученных; он же, как и они, лёг бы, не прекословя, на колесо – и ему переломали бы кости, – дикая боль, от одной мысли о которой содрогания волной пробегали по коже, – но что же делать, когда попадёшь сюда?
С этого дня, выходя на прогулку, он всякий раз брал с собой кольт.
Ромашкину нравились общественные сады, окружающие кремлёвские стены. Он бродил там чуть не каждый день. Именно там и произошло событие, сразившее его ударом прямо в грудь. Однажды он прогуливался в саду между часом с четвертью и двумя часами без дясяти минут и в одиночестве заглатывал бутерброд, вместо того чтобы болтать с сослуживцами в столовке Треста. Обычно главная аллея была почти пуста; трамваи, огибая решётку и лязгая железом, оглушительно звонили. На повороте аллеи, отделившись от рыжей листвы, окаймляющей высокую кремлёвскую стену, показался военный. Он шёл быстрыми шагами навстречу Ромашкину. Двое штатских шли за ним, куря папиросы. Он был среднего роста, упитанный, околыш его фуражки был опущен на глаза; военная форма без знаков отличия, суровое лицо, густые усы – этот непостижимо живой человек сошёл с портретов, напечатанных в газетах, вывешенных на четырёхэтажных фасадах и на стенах кабинетов, ежедневно запечатлевавшихся в мозгах. Не могло быть сомнения: это был Он. Властная походка, выражавшая непреклонность; правая рука в кармане, левой он помахивал... И для довершения сходства Хозяин, не останавливаясь, вынул из кармана короткую трубку и стиснул её в зубах. Он был теперь всего в десяти метрах от Ромашкина. Рука Ромашкина быстро устремилась во внутренний карман – за дулом револьвера. В эту минуту Хозяин вынул на ходу свой кисет и, не доходя двух метров до Ромашкина, с вызывающим видом остановился. Его кошачьи глаза метнули, как молнию, жестокий взгляд в сторону Ромашкина. Его насмешливые губы с уничтожающим презрением пробормотали что-то вроде: «Жалкий, жалкий Ромашкин!» Он пошёл дальше. Совершенно растерянный Ромашкин задел ногой камешек, пошатнулся, чуть не упал. Откуда-то взявшиеся два человека его поддержали.
– Вам дурно, гражданин?
Это были, вероятно, агенты тайной охраны.
– Оставьте меня в покое! – закричал Ромашкин вне себя – на самом же деле он едва выговорил отчаянным шёпотом эти или другие слова. Охранники, схватившие его под локти, отпустили его.
– Не пей, дурак, если не умеешь, – проворчал один из них.
– Тоже, вегетарианец!..
Ромашкин упал на скамью рядом с какой-то молодой парой. Громовой голос – его собственный – звенел в его мозгу: «Я трус, трус, трус, трус!..» Не обращая на него внимания, молодая чета продолжала ссориться.
– Если ты с ней ещё раз увидишься, – говорила молодая девушка, – то я... (дальше нельзя было разобрать)... Я больше не могу, я слишком страдаю... я... (опять неразборчивые слова). Умоляю тебя...
Малокровная девушка, вернее, девочка, с тусклыми светлыми волосами, с лицом, усеянным розовыми прыщиками... Парень ответил:
– Надоела ты мне, Марья! Хватит... Надоела! – Он смотрел вдаль.
Всё это подчинялось строгому закону логики. Ромашкин вскочил как на пружинах, безжалостно поглядел молодой паре в лицо и сказал:
– Все мы трусы, слышите?
Это было так очевидно, что его вызванное отчаянием возбуждение прошло, и он смог подняться, пойти обычным шагом, прийти в бюро, не опоздав ни на минуту, взяться вновь за свои вычисления, выпить в четыре часа стакан чая, ответить на вопросы, закончить рабочий день, вернуться домой... А куда теперь девать кольт? Невозможно было вынести присутствие этого ненужного оружия в комнате.
Оно лежало на столе, от сине-чёрной стали исходил оскорбительный холод, когда в комнату вошёл Костя и улыбнулся кольту. Ромашкин ясно увидел эту улыбку.
– Он тебе нравится, Костя? – спросил он.
За окном был мирный вечер. Костя держал оружие в руках, теперь уже явно ему улыбаясь, – и он вновь стал похож на безбородого юного воина.
– Красивая вещь, – сказал он.
– Мне этого кольта не надо, сказал Ромашкин, раздираемый сожалением. – Можешь взять его себе.
– Но он дорого стоит, – возразил молодой человек.
– Ничего не стоит. Ты ведь знаешь, что продать его нельзя. Бери, Костя!
Ромашкин не смел настаивать, – так ему вдруг не захотелось расставаться с оружием.
– Правда? – переспросил Костя. И Ромашкин ответил:
– Чистая правда, бери.
Костя унёс кольт к себе, положил его на стол, под миниатюру, улыбнулся ещё раз верным глазам портрета, потом оружию, такому чистому, смертельно чистому и гордому, и на радостях проделал несколько гимнастических упражнений. Ромашкин с завистью услышал, как похрустывают его суставы.
Почти каждый вечер, перед сном, они несколько минут беседовали: один из них с тяжеловатым лукавством без конца возвращался всё к тем же мыслям, подобно рабочей скотине, медленно идущей по борозде, потом прокладывающей другую, ещё и ещё; а другой, насмешливый, но против воли увлечённый спором, порой выскакивал из невидимого круга, начертанного вокруг него, потом, сам того не замечая, возвращался в круг.
– Как, по-твоему, Ромашкин, – спросил он наконец, – кто же виноват? Виноват во всём?
– Конечно, самый могущественный. Если бы Бог существовал, то Бог, – тихо ответил тот. – И это было бы очень удобно, – прибавил он с кривой усмешкой.
Косте показалось, что он вдруг понял слишком многое, – и у него закружилась голова.
– Ты сам не знаешь, что говоришь, Ромашкин, – тем лучше для тебя. Спокойной ночи, брат.
С девяти утра до шести вечера Костя работал в конторе одного из строительных участков метро. Размеренный скрип экскаватора отдавался в дощатых стенах барака. Грузовики увозили поднятую из глубин землю. Верхние слои земли состояли, казалось, из человеческих отбросов – как перегной состоит из растительных: от них пахло трупом, разлагающимся городом, нечистотами, медленно прокисающими то под снегом, то под горячим асфальтом. Отрывистые взрывы моторов, напоенных отвратительным бензином, отдавались на всём участке таким страшным грохотом, что заглушали ругательства шофёров. Забор отделял участок № 22 от вибрирующей улицы с её автомобильными гудками, двумя уносившимися в противоположные направления потоками, истерически звонившими трамваями, новёхонькими тюремными машинами, покачивающимися извозчичьими пролётками, муравьями-пешеходами. В бараке, всю середину которого занимала печь, помещались контроль, бухгалтерия, техническое бюро, столы партии и комсомола с их картотекой, угол секретаря профсоюзной ячейки, бюро начальника участка – но начальника там никогда не было, он бегал по Москве в поисках строительных материалов, а за ним бежали контрольные комиссии, так что место его было свободно. Его по праву занял партийный секретарь: с утра до вечера он выслушивал жалобы рабочих и работниц, покрытых грязью, спускавшихся в недра земли, поднимавшихся на поверхность и вновь спускавшихся: у одной не было лампы, у другого износились сапоги, у третьего не было перчаток, четвёртый был ранен, пятый уволен за то, что пришёл на работу с опозданием и в пьяном виде, – и он неистовствовал, потому что, несмотря на увольнение, его не отпускали с участка.
– Я желаю, чтобы закон уважали, товарищ парторг: я опоздал, пришёл вдрызг пьяный, наскандалил, значит, меня по закону надо гнать вон!
Побагровев, парторг разражался криком:
– Ты, сукин сын, интересуешься законом, потому что удрать хочешь, верно? Надеешься в другом месте спецодежду подцепить? Ах ты...
– Закон, товарищ, – это закон.
Костя проверял отметки, стоявшие против имён рабочих, спускался в галерею с поручениями, помогал руководителю комсомола в различных его делах – воспитания, дисциплины, тайного надзора. Он остановил на ходу коротконогую энергичную девчонку лет восемнадцати, брюнетку с острыми глазами и накрашенными губами.
– Что ж твоя подружка Марья уж два дня как не приходит? Придётся мне вынести этот вопрос на комсомольское бюро.
Коротконогая резко остановилась, мужским движением подтянув юбку. Шахтерская лампа висела на её кожаном фартуке. Волосы её были спрятаны под тёплым платочком, и казалось, что на ней надета каска. Она заговорила страстно, неторопливым, низким голосом:
– Ну, Марьи больше не увидите! Померла она. Бросилась вчера в Москву-реку. Теперь в мертвецкой спит. Можешь пойти, поглядеть на неё, если есть охота. В этом и ты виноват, и бюро, я это прямо вам говорю, не боюсь я вас.
Остриё лопаты злобно блеснуло на её плече. Она втиснулась в пасть подъёмной машины. Костя повис на телефоне – звонить в район, в милицию, секретарю комсомола (по личному телефону), секретарше газеты, другим... Отовсюду шла к нему ледяная весть, ставшая банально-непоправимой. В мертвецкой, на мраморном столе, в мрачном сером холоде лежал раздавленный трамваем безымянный ребёнок. Он спал, запрокинув голову, кожа его была как воск, из открытых рук, казалось, только что выпали шарики. Ещё лежал там старый азиат в длинном пальто, с крючковатым носом, с голубыми веками, с перерезанным чёрным горлом. Для фотографии ему грубо размалевали лицо. Получился загримированный мертвец, с зеленоватой кожей, с накрашенными скулами. И была там Марья, в белой блузке в голубой горошек, – её тонкая, страшно посиневшая шея, вздёрнутый носик, рыжие кудри, прилипшие к голове, но взгляда у неё не было вовсе, не было больше глаз – только жалкие складки помятой кожи, запавшей почему-то в орбиты. «Зачем же ты это сделала, бедная ты Маруся?» – бессмысленно спрашивал Костя, и руки его в отчаянии мяли фуражку. Вот она – смерть, конец целого мира. Но разве рыжая девчонка – весь мир? Заведующий мертвецкой, унылый еврей в грязном белом халате, подошёл к нему:
– Вы её знали, товарищ? Так не задерживайтесь. Ни к чему. Идите заполнять анкету.
Его натопленный уютный кабинет был полон бумаг. Утопленники, жертвы уличного движения, преступления, самоубийства, сомнительные случаи..
– В какую рубрику, по вашему мнению, записать покойную, гражданин?
Костя пожал плечами. Спросил с ненавистью:
– А рубрика коллективных преступлений есть?
– Нет, – ответил еврей, – но я вам скажу, что покойную уже осматривал врач судебной медицины и не нашёл ни кровоподтеков, ни следов удушения.
– Самоубийство, – яростно кинул Костя.
Он бросился правым плечом вперёд в уличный туман. Если бы он мог подраться с кем-нибудь, набить кому-нибудь морду, сам получить здоровый удар прямо в зубы – за тебя, бедная Маруся, бедная подружка, – ему стало бы легче. Дурочка ты, разве можно позволить, чтобы до этого доводили? Ведь известно, что люди сволочи. А на стенгазету наплевать, это я тебе говорю.. Она на подтирку годится. Ах, какая же ты глупая была девчонка! Ах, Господи, ах, беда!
Дело это было проще простого. У поражённого секретаря комсомола хранилось в бумажнике короткое заявление, набросанное на странице школьной тетради, важно подписанное «Мария» (за этим следовала фамилия): «Я пролетарка, не хочу жить с таким грязным позором. В моей смерти никого не винить. Прощайте».
Вот и всё. Согласно инструкции ЦК комсомола, райкомы вели кампанию «за духовное здоровье, против деморализации». А как её вести, эту кампанию? Пять парней, входивших в бюро, долго над этим раздумывали, пока один из них не предложил: «Исключить венерических больных». Это показалось блестящей идеей. «Кого же исключить?»
Из пятерых двое сами были больны, но ловчили – ходили лечиться в отдалённые диспансеры. «А рыжую Марью?» – «Отчего ж!» Странная была девчонка: на собраниях никогда не выступала, чистенькая, робкая, но пристававших к ней отталкивала, а на щипки отвечала тумаками. И где это она подхватила болезнь? Уж наверно не в организации. Значит, среди разлагающихся мелкобуржуазных элементов? «У неё нет классового инстинкта, – строго сказала секретарь. – Предлагаю опубликовать приказ об её исключении в стенгазете. Необходим пример». На стенгазете, среди других карикатур, акварелью была изображена Марья, которую можно было узнать только по праздничной блузке да по рыжим волосам: комическая фигура с фальшивыми бриллиантами в ушах вылетала из двери, а за ней тянулась длинная тень огромной метлы. Эта напечатанная на машинке газета висела ещё в передней барака. Костя спокойно отделил её от стены, разорвал на четыре части, спрятал их в своём ящике: на суде они могли послужить доказательством...
Осенние дожди унесли этот незначительный эпизод: самоубийство Марьи. Дело было передано для следствия в райком, подпало под указания о новой срочной, безотлагательной кампании против правой оппозиции, за которой последовали непостижимые исключения, потом началась другая кампания (которая развёртывалась медленнее, но оказалась опаснее предыдущей), направленная против взяточничества в партии и в комсомоле. Этот вихрь сбросил секретаря комсомола строительного участка в пропасть позора: последовали исключение, насмешки, стенная газета (причём опять появилось помело, прогонявшее парня, у которого волосы стояли дыбом, а его набитый бумагами портфель летел в навозную кучу), в конце снятие с работы за то, что он сам себе выписал двухмесячную путевку в дом отдыха для молодых ударников – в сверкающий белизной дом в Алупке, весь в ярких цветах, стоявший под обваливающимися скалами.
Костю обвинили в том, что он «демонстративно разорвал номер стенгазеты (грубое нарушение дисциплины) и попытался использовать самоубийство исключённой работницы в целях интриги и дискредитирования комсомольского бюро». ,Ему вынесли «строгий выговор». Но какое ему, в сущности, было до этого дело?
Каждый вечер, уходя с участка, он вновь находил город, и скрытый гнев людей, и дырявые подмётки, и кислый суп, и ледяной ветер – и он искал утешения во взгляде миниатюры.
Он стучался к Ромашкину, который за короткое время сильно постарел и читал теперь странные книги религиозного характера. Костя предупреждал его:
– Берегитесь, Ромашкин, скатитесь в мистику...
– Это невозможно, – отвечал маленький съёжившийся человек, – я такой убежденный материалист, что...
– Что?
– Ничего. Я думаю, что то же самое чувство тревоги может возникнуть в противоположных формах...
– Может быть, – сказал поражённый этой мыслью Костя, – может быть, мистики и революционеры – братья. Но одни из них должны обязательно уничтожить других...
– Да, – сказал Ромашкин.
Он раскрыл книгу: это было «Уединённое» Василия Розанова.
– Вот прочтите: какая в этом правда!
Он подчеркнул строки пожелтевшим ногтем: «И вот везут, везут, долго везут: «Ну, прощай, Василий Васильевич, плохо, брат, в земле; и плохо ты, брат, жил: легче бы лежать в земле, если бы ты получше жил... С неправдой-то... Боже мой: как с неправдой умереть. А я с неправдой».[1]
– Надо не умирать в неправде, – сказал Костя, – а жить в борьбе.
Он сам удивился чёткости своей мысли. Ромашкин наблюдал за ним с напряжённым вниманием. Разговор перешёл на выдачу паспортов, на усиление трудовой дисциплины, на правила, обнародованные Вождём, на самого Вождя.
– Одиннадцать часов, – сказал Костя. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи. А что ты сделал с револьвером?
– Ничего.
Как-то февральским вечером, в десятом часу, снег перестал идти над Москвой, и мягкий мороз всё окутал сверкающими хрусталиками. В хрусталь волшебно оделись и мёртвые ветви деревьев, и садовые кусты. Хрустальный цвет, таивший в себе огоньки, возник на камнях, покрыл фасады домов, окутал памятники. Люди шли звёздным городом по звёздной пыли; мириады хрусталиков плавали в ореоле фонарей. Позднее настала неслыханно чистая ночь. Малейший свет длинной шпагой устремлялся в небо. Это был праздник мороза. Казалось, сверкало самое молчание. Выйдя на улицу, Костя только через несколько минут заметил это очарование: он шёл с комсомольского собрания, посвящённого – в который раз! – вопросу ослабления трудовой дисциплины. Был конец месяца; Костя голодал, как и многие его товарищи. На собрании он молчал, знал, что объяснение было бы неприемлемо: «Хочешь дисциплины, давай еды! Даешь суп! Хороший суп прогонит алкоголь». Так для чего же говорить? Ночное волшебство овладело им, окрылило его походку, прояснило мысли, заставило забыть о голоде и даже о шести рабочих, расстрелянных накануне; этот расстрел почему-то особенно его взволновал. «Продовольственные вредители», – кратко говорилось в официальном сообщении. Ну, конечно, они воровали, как и все, – но как же им было не воровать? А я сам? Разве я мог бы никогда не воровать? Световые колонны расширялись над фонарями, всё выше поднимаясь в ночь, усеянную крошечными морозными хрусталиками.
Костя шёл по узкой улице, с одной стороны окаймлённой старинными особняками, с другой – шестиэтажными домами. Изредка в окнах мелькал скупой свет. У всякого своя жизнь – как это странно! Под ногами молодого путника снег похрустывал, как мятый шёлк. В нескольких шагах перед ним, неслышно скользнув по снегу, остановилась мощная чёрная машина. Из неё вышел толстый человек в коротком полушубке, в барашковой шапке, с портфелем под мышкой. Поравнявшись с ним, Костя увидел его круглое лицо с широким носом и висячими густыми усами. Это лицо показалось ему смутно знакомым. Человек этот сказал что-то своему шофёру, тот почтительно ответил:
– Слушаюсь, товарищ Тулаев.
Тулаев? Член ЦК? Тот, что организовал массовые ссылки в Воронежской области? Чистку университетов? Костя с любопытством обернулся, чтобы лучше его разглядеть. Автомобиль скрылся в глубине улицы. Быстрыми, тяжёлыми шагами Тулаев догнал и перегнал Костю, остановился, поглядел вверх на освещённое окно.
Тонкие хрусталики изморози падали на его поднятое лицо, пудрили брови и усы. Костя оказался позади него, рука Кости независимо от него вспомнила о револьвере, быстро его вытащила и...
Выстрел был оглушителен и сух. Он оглушил Костину душу, как гром, внезапно прогрохотавший в полной тишине. Он странно прозвучал среди северной ночи. Костя увидел, как он взорвался в его душе, разбух облаком, превратился в огромный чёрный цветок, окаймлённый пламенем, как потом исчез. Где-то невдалеке пронзительный свисток хлестнул ночь. Ему ответил другой, подальше. Невидимая паника наполнила ночь. Обезумевшие свистки перекрещивались, спешили, ища и толкая друг друга, рассекая воздушные световые столбы. Костя бежал по снегу тихими переулками, прижимая локти к телу, как он бегал обычно на комсомольском стадионе. Повернув за угол, потом за другой, он сказал себе, что теперь надо идти не торопясь. Сердце его страшно билось. «Что я сделал? Почему? Это нелепо... Я выстрелил, не подумав... не подумав, как человек действия». Отдельные клочки разорванных мыслей, как порывы снежной бури, толкались в его мозгу. «Тулаев заслужил расстрела... Но мне ли судить? Уверен ли я в этом? Уверен ли я в справедливости? Может быть, я сошёл с ума?» Откуда-то появились совершенно фантастического вида сани, и проезжавший извозчик повернулся к Косте своими хитрыми кошачьими глазами и заснеженной бородой:
– Что там такое случилось, паренек?
– Не знаю. Небось пьяницы опять подрались, чёрт бы их побрал!
Сани медленно сделали поворот посреди переулка: подальше от неприятностей! Обмен незначительными словами отрезвил Костю, вернул ему удивительное спокойствие. Пересекая ярко освещённую площадь, он прошёл мимо милиционера, стоявшего на своём наблюдательном посту. Может быть, всё это ему приснилось? Но ствол револьвера в его кармане ещё хранил потрясающую теплоту. В груди Кости росла необъяснимая радость – чистая радость, ослепительная, холодная, нечеловеческая, как звёздное небо зимой.
Из-под двери Ромашкина просачивался свет. Костя вошёл. Из-за холода Ромашкин читал в постели. Узор из серых папоротников расцвел на его окне.
– Что это вы читаете, Ромашкин, в такой холод? Если бы вы знали, как хорошо на дворе!
– Мне хотелось прочесть что-нибудь о счастье жить, – сказал Ромашкин, – только нет книг на такую тему. Почему никто об этом не пишет? Или писатели знают об этом не больше, чем я? Разве им не хочется, как мне, узнать, что это такое?
Он забавлял Костю. Что за чудак!
– Вот всё, что мне удалось найти у одного букиниста: это старинная, прекрасная книга. Павел и Виргиния... Это происходит на острове, полном птиц и счастливых растений... Они молоды, чисты, любят друг друга... Прямо невероятно! (Он заметил восторженный взгляд Кости.) Но что с вами случилось, Костя?
– Я влюблён, друг Ромашкин, это ужасно.
В газетах появилось краткое сообщение о «преждевременной кончине тов. Тулаева». В первые же три дня секретное предварительное следствие привело к шестидесяти семи арестам. Подозрения пали сперва на секретаршу Тулаева, которая была также любовницей какого-то беспартийного студента. Затем они сгустились вокруг шофёра Тулаева, довёзшего его до самых дверей дома. Это был агент, госбезопасности, на хорошем счету, непьющий, без подозрительных знакомств, бывший солдат войск особого назначения, член бюро гаража. Почему он отъехал, не дожидаясь, пока Тулаев войдёт в дом? Почему Тулаев, вместо того чтобы войти, сначала прошёлся по тротуару? Почему? Тайна преступления крылась, по-видимойу, в этих загадках. Никто не знал, что Тулаев надеялся задержаться на минутку у жены одного приятеля, бывшего в отъезде, что там его ждала бутылка водки, пухлые руки, молочно-белое, тёплое под халатом тело... Но смертельная пуля вылетела не из пистолета шофёра: орудия преступления не удалось найти. После шестидесяти часов непрерывного долроса – причём обессиленные инквизиторы сменялись каждые четыре часа – шофёр оказался на пороге сумасшествия, и если его показания оставались неизменными, то лишь потому, что он постепенно терял дар слова, не владел больше ни разумом, ни даже теми мускулами лица, которые посредством нервов управляют словом и. выражением. На тридцать пятый час допроса он превратился в бутафорную куклу, состоявшую из измученного тела и помятой одежды... Его поддерживали крепким кофе и коньяком, давали ему папирос без счёта. Сделали ему укол. Его пальцы роняли папиросы, губы не раскрывались, когда к ним вплотную подносили стакан; ежечасно два агента особого отдела тащили его к умывальнику, совали его голову под кран, лили на неё ледяную воду. Но он не шевелился в их руках даже под ледяной струей, и агентам казалось, что он пользовался этой короткой передышкой, чтоб хоть минутку поспать. Возня с этим полуживым существом в несколько часов их совершенно деморализовала: приходилось их сменять.
Шофёра усадили, придерживая, чтобы он не свалился со стула. Следователь внезапно закричал громовым голосом, изо всех сил стуча рукоятью револьвера по столу:
– Откройте глаза, обвиняемый! Ведь я запретил вам спать! Отвечайте! Что вы сделали, после того как выстрелили?
На этот вопрос, заданный ему в трёхсотый раз, человек, потерявший рассудок и волю к сопротивлению, доведённый до последней крайности – с налитыми кровью глазами, со страшно измятым, вялым лицом, – начал было отвечать:
– Я...
И обрушился на стол, производя горлом звук «хррр», похожий на храп. Изо рта его текли пенистые слюни. Его вновь усадили, влили ему сквозь стиснутые зубы глоток армянского коньяка.
– Я... не... стрелял...
– Мерзавец!
Вне себя, следователь с размаху влепил ему пощечину, – и ему показалось, следователю, что он ударил покачивающуюся бутафорную куклу. Тогда он сам одним глотком выпил полстакана чая: на самом деле это был не чай, а горячий коньяк. И вдруг он весь похолодел от внезапного испуга: за его спиной ползли тихие звуки голосов. Одна лишь портьера отделяла эту комнату от соседней, тёмной, и оттуда, на расстоянии двух метров, прекрасно было видно, что происходило в освещённом бюро. Туда только что бесшумно вошло несколько человек, из которых одни почтительно следовали за другими. Хозяину надоело справляться по телефону: «Ну, что же, заговор?» – и слышать в ответ подавленный голос народного комиссара: «Следствие продвигается, но не дало ещё положительных результатов» – дурацкая формула! Хозяин пришёл сам. В сапогах, в неказистой короткой куртке, с обнажённой головой, со своим низким лбом, густыми усами, сдержанным выражением лица, он из глубины невидимой тёмной комнатки жадно глядел в глаза шофёра, которые его не видели, который вообще ничего не видел. Хозяин всё слышал. За ним, вытянувшись, как часовой, стоял переутомлённый народный комиссар – а за ними, ближе к двери, в полнейшей темноте, – другие онемевшие и окаменевшие люди с нашивками.
– Велите немедленно прекратить эту ненужную пытку. Вы же видите, что этот человек ничего не знает.
Военные формы расступились перед ним. Стиснув челюсти, нахмурясь, он один направился к лифту. За ним шёл агент личной охраны, вернейший человек, к которому Хозяин был расположен.
– Не провожайте меня, – резко сказал он наркому, – займитесь заговором.
Лихорадочный страх охватил всё здание; на этом этаже он сгустился вокруг двадцати столов, за которыми без перерыва велись допросы. В кабинете, который народный комиссар сам себе отвёл на этом этаже – чтобы быть «на месте», – он бессмысленно перелистал сначала одно нелепое «дело», потом другое, ещё более нелепое. Полная пустота! Он почувствовал дурноту, его чуть не стошнило, как шофёра, которого уносили наконец на носилках с накипавшей вокруг рта пеной в желанный сон. Нарком стал бродить по различным кабинетам. В 226-м номере жена шофёра, плача, рассказывала, что она ходила к гадалкам, что она тайно посещала церковные службы, что она была ревнивая, что... В 268-м милиционер, дежуривший у того дома в момент покушения, вновь рассказывал, что он вошёл во двор погреться у костра потому, что товарищ Тулаев никогда не возвращался раньше полуночи, что, услышав выстрел, он поспешно выбежал на улицу, но в первую минуту никого не увидел, так как товарищ Тулаев упал у самой стены, что он заметил только удивительный свет...
Нарком вошёл в комнату. Стоя навытяжку, милиционер давал показания спокойно, но с волнением в голосе. Нарком спросил:
– О каком свете вы говорите?
– Это был удивительный свет... сверхъестественный... не могу вам описать... Столбы света до самого неба... сверкающие... ослепительные...
– Вы верующий?
– Никак нет, товарищ начальник, уже четыре года состою в Союзе безбожников... взносы все уплачены...
Пожав плечами, нарком повернулся на каблуке. В номере 270 голос толстой бабы, скороговоркой, со вздохами и причитаниями – «Господи Иисусе!» – твердил, что об этом говорит весь Смоленский рынок, что бедного товарища Тулаева, которого так любил наш великий товарищ Вождь, нашли на пороге Кремля с перерезанным горлом и что сердце ему пронзили трёхгранным лезвием кинжала, как когда-то бедному маленькому царевичу Димитрию, и что и глаза ему выкололи изверги, аж она плакала с Марфой, той, что торгует зерном, и с Фросей, что перепродает сигареты, и с Нюшей, что...
Молодой офицер в пенсне, затянутый в свою форму и носивший на левой стороне груди значок с профилем Вождя, терпеливо, быстрым почерком записывал эту нескончаемую болтовню на больших листах бумаги. Он так был погружён в работу, что даже не поднял глаз на народного комиссара, который постоял в дверях и ушёл, не издав ни звука.
На своём столе нарком нашёл большой красный конверт: ЦК, Генеральный секретариат, срочно, совершенно секретно... Всего три строчки: приказ «следить с величайшим вниманием за делом Титова и нам лично о нём доложить». Очень показательно. Плохой признак! Значит, новый заместитель народного комиссара шпионил и даже не задавал себе труда этого скрыть: только он мог по секрету от своего начальства сообщить Генеральному секретариату о деле, при одном упоминании о котором хотелось презрительно плюнуть. Дело Титова: анонимный донос, написанный круглым ученическим почерком, полученный этим же утром... «Матвей Титов сказал, что это Гепеу велело убить тов. Тулаева, потому что между ними были какие-то грязные счёты, он так и сказал: «Уж вы мне поверьте, я вам говорю, что это дело рук Гепеу», – а сказал он это в присутствии своей кухарки Сидоровны и кучера Палкина, да ещё торговца одеждой, того, что живёт на углу Тряпичного переулка Глебовской улицы, в глубине двора, на первом этаже направо. Матвей Титов, враг советской власти и нашего любимого товарища Вождя, а ещё он эксплуататор народа, прислуга его спит в нетопленом коридоре, а ещё он обрюхатил бедную дочь колхозника и отказался платить ей алименты на ребёнка, который родится в горе и нужде...»
За этим следовало ещё строк двадцать. И заместитель народного комиссара Гордеев велел переснять и переписать этот документ для срочной передачи его Политбюро!
В эту минуту вошёл как раз сам Гордеев – толстый блондин с напомаженной головой, – с круглым лицом, маленькими пушистыми усиками, крупными роговыми очками, чем-то похожий на поросёнка: в нём была подобострастная дерзость перекормленного домашнего животного.
– Не понимаю вас, товарищ Гордеев, – небрежно сказал нарком, – вы передали эту дурацкую историю в Политбюро? Для чего?
Слегка обиженным тоном Гордеев воскликнул:
– Позвольте, Максим Андреевич, циркуляр ЦК предписывает сообщать Политбюро все жалобы, доносы и даже намёки, направленные непосредственно против нас. Циркуляр от 16 марта.,. И дело Титова вовсе не такое дурацкое, – оно указывает на настроения в массах, о которых мы должны быть поставлены в известность... Я велел арестовать Титова и ряд лиц из его окружения...
– Вы, может быть, уже сами его допрашивали?
Гордеев как будто не заметил насмешливой интонации и предпочел ответить с непонимающим видом:
– Нет, сам не допрашивал. Мой секретарь присутствовал при допросах. Ведь очень интересно докопаться до происхождения легенд, которые о нас распространяют, вы не находите?
– И вы докопались?
– Нет ещё.
На шестнадцатый день следствия народный комиссар Ершов, спешно, по телефону вызванный в Генеральный секретариат, прождал там тридцать пять минут в передней. Весь персонал секретариата знал, что он ведёт счёт минутам. Наконец высокие двери отворились перед ним, и он увидел Вождя, сидевшего за рабочим столом, перед телефонными аппаратами: одинокого, седеющего, с опущенной тяжёлой и – против света – тёмной головой. Комната была большая, с высоким потолком, удобная, но почти пустая... Вождь не поднял головы, не протянул руки Ершову, не пригласил его сесть. Блюдя своё достоинство, нарком подошёл к самому столу, раскрыл свой портфель...
– Ну, что же, заговор? – спросил Вождь, и его сосредоточенное лицо с неподвижными чертами выражало холодный гнев.
– Я склонен думать, что убийство товарища Тулаева дело рук человека, действовавшего в одиночку.
– Молодец он, ваш одиночка!.. Замечательно организовал дело!
Сарказм Хозяина ударил Ершова в затылок, в то самое место, куда попадают пули палачей. Неужели Гордеев до того был гнусен, что вёл тайком параллельное следствие и скрыл от народного комиссара его результаты? По правде говоря, это было бы трудно. Во всяком случае, Ершову нечего было ответить: последовавшее молчание слегка смутило Вождя.
– Согласимся на время с вашим предположением об убийце-одиночке. Согласно решению Политбюро, следствие не будет закончено, пока виновные не понесут наказания...
– Я это именно и хотел вам предложить, – сказал нарком, признавая своё поражение.
– Предлагаете меры наказания?
– Вот они.
«Меры наказания» занимали несколько напечатанных на машинке страниц. Двадцать пять имён. Хозяин бросил на них взгляд и вспылил:
– Вы теряете голову, Ершов! Право, я вас не узнаю. Десять лет шофёру! Когда его прямой обязанностью было не покидать доверенного ему лица, а доставить его домой, где он был бы в сохранности!
О других предложениях он ничего не сказал, но это его возражение побудило народного комиссара в результате увеличить и остальные меры наказания. Милиционер, гревшийся у костра в момент покушения, получил вместо восьми десять лет заключения в Печорских лагерях. Секретарша-любовница Тулаева и её любовник были приговорены к ссылке, – молодая женщина в Вологду, что было довольно снисходительным наказанием, а студент в Тургай, в казахстанскую степь; оба на пять лет (вместо трёх).
Передавая Гордееву листки с пометками, нарком не без удовольствия сказал:
– Ваши предложения были найдены слишком снисходительными, товарищ Гордеев. Я их исправил.
– Благодарю вас, – ответил тот, любезно склонив напомаженную голову. – Со своей стороны я позволил себе проявить инициативу, которую вы, несомненно, одобрите. Я велел составить список людей, которые, судя по их прошлому, могут быть заподозрены в терроризме. Мы нашли уже тысячу семьсот имён. Эти люди всё ещё находятся на свободе.
– Вот как? Очень интересно...
(Это ты не сам выдумал, толстый шпион с напомаженной башкой. Это указание пришло, быть может, свыше, издалека...)
– Из этих тысячи семисот – тысяча двести состоят в партии; человек сто занимают ещё ответственные должности; многие не раз находились в непосредственной близости к Вождю; трое принадлежат к кадрам госбезопасности...
Каждая из этих коротких фраз, произнесённых уверенным и нейтральным тоном, попадала прямо в цель. Куда ты гнешь, куда целишь, карьерист? Ты в головку партии целишь! Народный комиссар вспомнил, что в 1916 году, в Ташкенте, во время волнений, он сам стрелял в конную полицию, что отсидел восемнадцать месяцев в крепости. Значит, и я оказался на подозрении? Может, я – один из трёх «бывших террористов», «членов партии» и сотрудников госбезопасности?
– Вы кого-нибудь известили об этих розысках?
– Никого, конечно, – сладким голосом ответила напомаженная голова, – никого, кроме Генерального секретаря, благодаря которому мне передали несколько документов из Центральной контрольной комиссии.
На этот раз народный комиссар ясно почувствовал, что попал в сети, которые неизвестно почему затягивались вокруг него. Завтра или на следующей неделе у него под различными предлогами отберут последних доверенных сотрудников, которых Гордеев заменит своими людьми. А потом... В этом самом кабинете годами сидел другой человек, фигура, голос, любимые словечки которого, его манера стискивать руки, высоко поднимать перо над бумагой и пробегать её, нахмурив брови, прежде чем подписать, хорошо были знакомы Ершову. Это был усердный, добросовестный человек, работавший по десяти и двенадцати часов в сутки, ловкий, неумолимый, послушный и преданный, как пёс, – и когда на него накинули сеть, он долго бился в её узких путах, отказываясь понять и примириться, всё яснее сознавая своё поражение, старея у всех на глазах, сутулясь, приобретя за несколько недель повадки мелкого чиновника, которого всю жизнь обижали; он позволял своим подчинённым командовать вместо себя, по ночам напивался с маленькой оперной актрисой и каждый день собирался пустить себе пулю в лоб – собирался до той самой ночи, когда пришли его арестовать... «Но, может быть, он и в самом деле был виноват, тогда как я...»
– Из этих тысячи семисот имён я велел сделать отбор, – сказал Гордеев. – В данный момент у нас список в сорок имён. Среди них много людей, занимающих важные посты. Хотите ознакомиться с этим списком?..
– Велите мне его немедленно принести, – властно сказал нарком и в то же время почувствовал неприятный холодок во всём теле.
В своём просторном кабинете, один на один с делами, подозрениями, страхом, властью, бессилием, он был уже не народным комиссаром, а только самим собой, Максимом Андреевичем Ершовым, крепким сорокалетним мужчиной, с преждевременными морщинами, опухшими веками, тонкими губами, болезненным взглядом... Его предшественниками были Генрих Григорьевич, который десять лет дышал воздухом этого бюро, пока его не расстреляли после процесса «двадцати одного», потом Пётр Эдуардович, бесследно исчезнувший, то есть запертый на втором этаже подземной тюрьмы и находившийся под особым наблюдением сотрудника, назначенного Политбюро. Чего они хотели от него добиться? Пётр Эдуардович уже пять месяцев боролся – если можно было это назвать борьбой: поседел в тридцать пять лет, твердил «нет, нет, нет, нет, это неправда» и мог надеяться лишь на смерть в молчании, – разве что каменный мешок лишил его рассудка и пробудил в нём другие надежды.
Ершова вызвали с Дальнего Востока (там он надеялся, что о нём забыли в Управлении кадров), чтобы предложить ему неслыханное повышение по службе: Народный комиссариат госбезопасности, присоединённый к НКВД, почти что с рангом маршала – шестого маршала или третьего? (Ведь из пятерых трое исчезли.)
«Товарищ Ершов, партия вам доверяет! Поздравляю вас!» – Все это твердили, все жали ему руку. В Бюро ЦК, помещавшемся на том же этаже, что и Генеральный секретариат, расцветали улыбки. Неожиданно быстрым шагом вошёл сам Хозяин, одним взглядом, в сотую долю секунды смерил его сверху донизу – и он был прост и сердечен, он тоже улыбался доброй улыбкой и казался таким естественным... Пожав Максиму Андреевичу руку, он дружески заглянул ему в глаза. «Тяжёлая нагрузка, товарищ Ершов, справьтесь с ней как следует!» Фотографы крупнейших газет озаряли все эти улыбки вспышками магния... Так Ершов оказался на вершине своего жизненного пути – и ему было страшно. Три тысячи дел величайшей важности, так как все они требовали высшей меры наказания, три тысячи гнёзд, в которых шипели змеи, обрушились на его повседневную жизнь. В течение некоторого времени он черпал бодрость в величии Хозяина. Сердечно называя его по имени-отчеству, Хозяин отечески советовал ему «щадить кадры, учитывать прошлое – но всё же быть бдительным и положить конец злоупотреблениям».
«Они расстреляли людей, которых я любил, которым верил, людей, ценных для партии, для государства! – с горечью восклицал Хозяин, – Ведь не может же Политбюро проверять все приговоры!» И он добавлял в заключение: «Это ваше дело. Я вам вполне доверяю». Непосредственное, простейшее, человечнейшее могущество исходило от него, из его ласково смеющихся рыжих глаз и густых усов, и нельзя было не любить его, не верить в него, и хотелось его восхвалять, как восхваляли его в газетах и официальных речах, но только искренне, от всего сердца. Когда Генсек набивал свою трубку, Максим Андреевич Ершов, народный комиссар госбезопасности, «меч диктатуры», «мудрое и бдительное око партии», «самый неумолимый и самый человечный из вернейших сотрудников величайшего Вождя всех времён» (как выразилась в то самое утро «Газета школы политической службы»), – Ершов чувствовал, что он любит этого человека и боится его, как боятся тайны. «Чтобы не было бюрократических проволочек, слышите? – прибавлял Хозяин, – ни бумажной волокиты! Нам нужны ясные дела, без проволочек, без лишней чепухи, но и без утечки фактов. Надо действовать! Иначе вы потонете в работе...»
– Гениальные указания, – сдержанно заметил один из членов особой комиссии, состоявшей из начальников отделов, когда Ершов слово в слово повторил перед ним директивы Хозяина.
Но дела кишели, множились, переливались через край и не только не желали пожертвовать ни малейшей заметкой, но, напротив, продолжали разбухать. Во время первого большого процесса предателей (процесса «мирового значения») обнаружились тысячи дел; во время второго – тысячи других, причём с первыми ещё не было покончено; потом, во время третьего, – новые тысячи, и, пока шло подготовительное следствие четвёртого, пятого и шестого процессов (так никогда и не состоявшихся, втихомолку заглушенных), накопились ещё тысячи новых дел. Их присылали из Уссури (дело японских шпионов), из Якутии (саботаж, измена, шпионаж в золотых рудниках), из Бурят-Монголии (дело буддийских монастырей), из Владивостока (дело командования подводным флотом), со строительных участков Комсомольска (террористическая пропаганда, деморализация, злоупотребление властью, троцкизм-бухаризм), из Синьцзяна (контрабанда, сношения с японскими и британскими агентами, мусульманские интриги), из всех республик Туркестана (сепаратизм, пантюркизм, бандитизм, британская контрразведка, махмудизм – а кто, собственно, был этот Махмуд? – в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Казахстане, Старой Бухаре, Сырдарье), какое-то самаркандское убийство было связано со скандалом в Алма-Ате, а этот скандал – с делом шпионажа в испоганском консульстве, осложнённом похищением иранского подданного.
Потухшие было дела вновь разгорались в арктических концлагерях, новые дела вспыхивали в тюрьмах – и были зашифрованные записки, помеченные Парижем, Осло, Вашингтоном, Панамой, Ханькоу: Кантон в огне, Герника в развалинах, Барселона под бомбёжкой, Мадрид, упорно продолжающий жить под различными формами террора, и так далее – справьтесь с картой обоих полушарий, – и всё это подлежало следствию. Из Калуги приходили вести о подозрительной эпизоотии, из Тамбова – об аграрных волнениях, в Ленинграде открывалось сразу двадцать дел: дело Морского клуба, завода «Красный треугольник», Академии наук, бывших каторжников-революционеров, комсомольцев-ленинцев, Геологического комитета, франкмасонов, моряков-педерастов...
И выстрелы непрестанно пронизывали это нагромождение имён, бумаг, шифра, таинственных, никогда до конца не разгаданных жизней, дополнительного следствия, доносов, догадок, безумных идей. Сотни людей в военных формах, подчинённые строгому иерархическому порядку, днями и ночами перебирали эти материалы, материалы же перебирали их самих, и они внезапно тонули , в этих бумагах, передавая другим нескончаемую работу... На самой вершине этой пирамиды стоял Максим Андреевич Ершов. Но что он тут мог поделать?
С собрания Политбюро, на котором он присутствовал, он вынес устную директиву, неоднократно повторенную Хозяином: «Вы должны исправить ошибки вашего предшественника!» Предшественников никогда не называли по именам, – Ершов был благодарен Хозяину, сам не зная почему, за то, что тот не сказал «предателя».
Из всех отделов ЦК поступали жалобы на дезорганизацию кадров: чистками и репрессиями их за два года так омолодили, что они почти растаяли. Из-за этого затевались новые дела о саботаже – явный результат неразберихи, некомпетентности, неуверенности и трусости персонала промышленности. Какой-то член Оргбюро настаивал – причём Вождь его не опровергал – на срочной необходимости вернуть индустрии тех, что были осуждены несправедливо, по ложным доносам, в результате массовой кампании, и даже тех, по отношению к которым можно было проявить снисходительность. «Ведь мы, – воскликнул он, – мы – страна, где перековывают людей. Мы преображаем даже наших злейших врагов!» Эта митинговая фраза упала в пустоту.
Назойливая контрреволюционная острота завертелась в мозгу народного комиссара в ту самую минуту, когда благосклонный, но и странно настойчивый взгляд Хозяина остановился на нём: «Перековка людей заключается в том, что путём убеждения их превращают в трупы...»
Ершов запряг в работу весь свой персонал; в какие-нибудь десять дней были тщательно пересмотрены десять тысяч дел, выбранных преимущественно среди дел директоров промышленности (коммунистов), инженеров (беспартийных), офицеров (коммунистов и беспартийных), что дало возможность освободить 6727 человек, из которых 47,5 процента были реабилитированы. Чтобы ещё беспощаднее обличить предшественника Ершова (в это же время достреливали его начальников отделов), газеты объявили, что среди осуждённых за время последних чисток оказалось больше 50 процентов ни в чём не повинных. Говорили, что это сообщение произвело хорошее впечатление, однако статистиков ЦК, установивших эти цифры, и начальника отдела печати, разрешившего их опубликовать, немедленно уволили, так как какой-то эмигрантский журнал, выходивший в Париже, снабдил эти данные ехидными примечаниями.
Ершов и его сотрудники набросились на новые бумажные горы: они лишились сна. В это же самое время два события особенно их потрясли. Бывший коммунист, исключённый из партии по заведомо ложному доносу как троцкист и сын священника (тогда как из его документов видно было, что он сыграл выдающуюся роль во время антитроцкистских кампаний 1925-1927 годов и был к тому же сыном механика Брянского завода), был выпущен из концлагеря специального назначения в Кеми, у Белого моря, и, вернувшись в Смоленск, убил там наповал одного члена парткома. Какая-то докторша, выпущенная из исправительно-трудового лагеря на Урале, была арестована при попытке перейти эстонскую границу. Было зарегистрировано 750 новых доносов на освобождённых, причём по крайней мере 30 из этих мнимоневинных оказались виновными: так по крайней мере утверждали различные комитеты.
Стали поговаривать: «Ершов не справляется с этими делами: слишком либерален, неосторожен, недостаточно знаком с техникой репрессий».
Тут началось дело Тулаева. Согласно особой инструкции Политбюро, Гордеев продолжал следить за этим делом, и когда Ершов запросил его о казни шофёра, ответил неприятно-небрежным тоном:
– ...третьего дня, ночью, вместе с четырьмя саботажниками из Мехового треста и маленькой актрисой мюзик-холла, осуждённой за шпионаж...
Ершов незаметно дрогнул – он изо всех сил старался не выдавать своих чувств. Случай, совпадение или острый намёк? Маленькая актриса так ему понравилась на сцене – её миниатюрное стройное тело, легко взлетавшее стрелой, было ещё привлекательнее в жёлто-чёрном трико, чем без всякой одежды, – что он послал ей цветы. Гордеев пустил – или нет? – вторую шпильку:
– Вам был представлен доклад об этом...
(Он, значит, не читал всех докладов, которые клали ему на стол?)
– И это досадно, – небрежно продолжал Гордеев, – потому что как раз вчера личность шофёра представилась нам в новом свете...
Ершов, откровенно заинтересованный, поднял голову.
– Да. Представьте себе, что в 1924-1925 годах он в течение семи месяцев был шофёром Бухарина: в его деле в Московском комитете нашли четыре рекомендации Бухарина. Последняя датирована прошлым годом! Но это не всё: в 1921 году, когда он был комиссаром батальона на Волынском фронте, его обвинили в нарушении дисциплины, и выручило его заступничество Кирилла Рублёва...
Опять прямой удар в лоб. Из-за чьей неслыханной небрежности такие факты могли укрыться от внимания комиссий, проверяющих биографии агентов, приставленных к членам ЦК? Ответственность за работу отделов нёс народный комиссар. Что же делали эти подчинённые ему комиссии? Из кого они состояли? Бухарин, бывший идеолог партии, любимый ученик Ленина, который называл его «мой мальчик», был теперь олицетворением предательства, шпионажа, терроризма, развала Советского Союза. А Кирилл Кириллович Рублёв, старинный друг, неужели он был ещё жив после стольких высылок?
– Как же, – подтвердил Гордеев, – жив, работает в Академии наук, прячется там под тоннами архивов XVI века... Я велел установить за ним слежку...
Несколько дней спустя первый следователь 41-го бюро, добросовестный, на вид молчаливый военный, с высоким, изрезанным морщинами лбом (повышение по службе, которое Ершов только что утвердил, несмотря на скрытую враждебность секретаря партийной ячейки), – этот военный внезапно сошёл с ума. Он с яростью выгнал из своего бюро высокопоставленного партийца. Послышались его крики:
– Вон отсюда, шпион! Доносчик! Приказываю вам замолчать!
Он заперся в своём кабинете, откуда вскоре донеслись звуки выстрелов. Потом он показался на пороге, стоя на цыпочках, растрёпанный, с дымящимся револьвером в руке. Он кричал: «Я изменник! Я всё предал! Сукины дети!» – и все с ужасом увидели, что он изрешетил пулями портрет Вождя, продырявил его глаза, звездой прострелил его лоб.
– Карайте меня, – кричал он, – евнухи!
Шесть человек, с трудом его одолев, связали его ремнями, а он исходил смехом – неумолкаемым, скрипучим, судорожным, отрывистым смехом.
– Евнухи! Евнухи!
Ершов, охваченный глухим страхом, пошёл на него посмотреть. Он был привязан к стулу, а стул опрокинут на пол, так что сапоги безумного торчали вверх, а голова была на ковре.
Увидев народного комиссара, он пришёл в ярость:
– Предатель, предатель, предатель, предатель! Насквозь тебя вижу, лицемер! Тебя, небось, тоже оскопили?
– Заткнуть ему рот, товарищ начальник? – почтительно осведомился один из офицеров.
– Нет. Почему нет ещё машины «скорой помощи»? Клинику предупредили? О чём же вы думаете? Если через четверть часа не приедет «скорая помощь», я велю вас арестовать!
Маленькая секретарша, светлая блондинка с раздражающе вульгарными сережками в ушах, вошла из любопытства с кипой бумаг и, не узнав народного комиссара, глядела на них обоих, на Ершова и на сумасшедшего, с одинаковым ужасом. Ершов замер, выпрямив спину, чувствуя лёгкую головокружительную тошноту, какая бывала у него прежде, когда ему приходилось присутствовать при расстрелах, – и он вышел, не сказал ни слова, вошёл в лифт... Начальники отделов явно сторонились его. Только один из нях, ого старый друг, разделивший его внезапную служебную удачу, руководитель Иностранного отдела, подошёл к нему.
– Ну, Ричиотти, что нового?
Ричиотти носил эту итальянскую фамилию, потому что от детства, проведённого им на берегу залива, сошедшего с открытки, у него остались не нужная никому красота неаполитанского рыбака, золотой мазок в глазах, тёплый голос гитариста, фантазия и лояльность, до того непривычные, что они казались – если поразмыслить – притворными. О нём говорили, что он «создал себе оригинальный тип».
– Ежедневная порция неприятностей, милый Максимка.
Он фамильярно взял Ершова под руку и проводил его до кабинета, не переставая говорить о секретном отделе в Нанкине, где нас здорово провели японцы, о работе троцкистов в армии Мао Цзэ-дуна, о происках парижской военной белой организации, «все нити которой теперь у нас в руках», о барселонских делах, которые чернее чёрного: троцкисты, анархисты, социалисты, католики, каталонцы, баски, – управлять этими людьми невозможно; военное поражение неминуемо, нечего строить себе иллюзии; вокруг золотого запаса возникли осложнения, пять или шесть шпионских организаций действуют одновременно повсюду... – Десятиминутная прогулка по кабинету в беседе с ним стоила длинных докладов. Ершов удивлялся и завидовал немного этому гибкому уму, способному с удивительной лёгкостью сразу всё охватить.
Понизив голос, Ричиотти отвёл его к окну; в окне виднелась Москва – широкая, белая площадь, по которой во всех направлениях по грязным тропинкам, протоптанным в снегу, бежали муравьи-человечки; там теснились здания, и надо всем этим высились старинные, ярко-синие, усеянные крупными золотыми звёздами церковные купола. Ершов сказал бы себе, что это всё же красиво – если бы был в состоянии об этом думать.
– Послушай, Максимка, берегись...
– Чего?
– Я слышал, будто выбор агентов, посланных в Испанию, оказался неудачным... Понимаешь, метят как будто в меня. А на самом деле – в тебя.
– Хорошо, Саша. Да ты не беспокойся. Я пользуюсь его доверием.
Стрелки часов неумолимо двигались вперёд. Друзья расстались. Четыре минуты на просмотр «Правды»... Что это значит? На первой странице фотография, на которой Ершов должен был бы фигурировать среди членов правительства, на втором месте налево от Хозяина. Их снимали за два дня до того, в Кремле, во время приёма текстильщиц-ударниц... Он развернул газету: вместо одного клише там оказались два, и оба были обрезаны так ловко, что народный комиссар не фигурировал ни на том, ни на другом. Шок. К телефону. Редакция? Говорят от народного комиссара... Кто верстал фотографии? Кто? Почему? Вы говорите, что снимки были получены из Генсекретариата в самую последнюю минуту? Хорошо, отлично, я только это и хотел знать. На самом деле он узнал слишком много.
Гордеев любезно его известил, что из трёх его телохранителей двух пришлось заменить: один заболел, другого послали в Белоруссию для вручения знамени подразделению пограничных войск. Ершову хотелось сказать, что могли бы спросить его мнение, но он удержался.
Во дворе, перед машиной, три охранника с ружьями наперевес приветствовали его безукоризненным «Здравия желаю, тов. народный комиссар», вырвавшимся одновременно из их выпяченных грудей. Ершов тихо ответил на приветствие и движением руки указал на баранку тому единственному, которого он знал и которого, конечно, на днях снимут с этого поста, для того чтобы во время поездок нарком был окружён незнакомыми ему людьми, выполняющими, быть может, секретные задания и повинующимися не его, а чужой воле.
Машина вылетела из-под низких сводов, в которых отворились железные двери, охранявшиеся часовыми в касках, с ружьями наперевес, машина вырвалась на площадь в серый сумеречный час. Зажатая на секунду между автобусом и потоком пешеходов, она замедлила ход. Ершов увидел незнакомые лица маленьких людей – служащих, техников, носивших ещё студенческие фуражки, старого, грустного еврея, невзрачных женщин, рабочих с суровыми лицами. Эти люди и видели и не узнавали его, – замкнутые в себе, молчаливые, они растворялись в снежном окружении.-Как живут эти люди, чем они живут? Ни один из них, даже из тех, кто встречал моё имя в газете, не догадывается и не может догадаться, кто я на самом деле. А я, что я знаю о них? Только то, что этих неизвестных – миллионы, что их можно распределить по категориям в разных картотеках, в картонных папках, и всё же каждый из них по-своему непонятен, до какой-то степени необъясним,.. Вспыхнула площадь Большого театра, вверх по Тверской, по её крутым склонам, текла густая вечерняя толпа. Душный город, кишащий народом город, где яркое освещение вырывало из тёмноты пласты снега, частицы неисчислимой толпы, потоки асфальта и грязи. В модной правительственной машине четверо людей в военной форме хранили молчание. Когда, обогнув массивную триумфальную арку, похожую на двери огромной тюрьмы, машина полетела наконец к широкому Ленинградскому шоссе, Ершов с горечью вспомнил, что он любил, бывало, автомобиль, дорогу, быструю езду, любил внимательным взглядом следить за скоростью и за мотором. Теперь ему не разрешали самому водить машину, – да этому и помешало бы нервное напряжение и назойливые мысли о делах. Прекрасное шоссе, мы умеем строить дороги. Такую бы дорогу проложить параллельно Великому сибирскому пути: вот что нам нужно для безопасности Дальнего Востока! Это можно было бы сделать в несколько лет, с помощью пятисот тысяч рабочих, из них четыреста тысяч дешёвой рабочей силы набрать из заключённых. В этой мысли нет ничего утопического, надо будет и обдумать... Образ сумасшедшего, привязанного в разгромленном кабинете к опрокинутому стулу, проплыл вдруг перед ним по прекрасной чёрной дороге, окаймлённой чистой белизной. «Ещё бы, есть отчего сойти с ума!.,» Сумасшедший хихикал, сумасшедший твердил: «Это ты сумасшедший, а не я, это ты, это ты, вот увидишь...» Ершов закурил папиросу, чтобы увидеть, как пламя зажигалки пляшет в его кожаных перчатках. Начавшийся было кошмар рассеялся. Нервы никуда не годятся. Хоть бы один спокойный денек провести на чистом воздухе... Фонари на дороге попадались всё реже, сверкающая ночь лилась на дальние леса бледными потоками. Ершов бессознательно глядел на всё это с внутренней робкой радостью и в то же время мысленно перебирал указания, интриги, проекты, подробности разных дел. Машина углубилась во тьму между высокими соснами, покрытыми снегом, как округлой звериной шкурой. Мороз крепчал. Машина повернула, скользя по матовой снежной поверхности. Угловатая крыша большого дома в норвежском стиле врезалась в небо своей непроницаемой чернотой: дача НКВД номер 1.
Внутри дома над тщательно подобранными белыми и яркими предметами царила ватная тишина. Нигде не было видно телефона; ни газет, ни сообщений, ни портретов вождей (изгнание их было смелым поступком), ни оружия, ни блокнотов с административными заголовками: Ершов хотел, чтобы дома ничто не напоминало ему о работе. После предельного напряжения человеческое животное нуждается в полнейшем отдыхе; особенно же нужен отдых ответственному партийному работнику. Здесь была только его частная, интимная жизнь: «я да ты, Валя». Портрет Вали, Валентины, примерной ученицы, в овальной кремовой рамке, увенчанной лепным бантом. В большом зеркале отражались тёплые краски Средней Азии. В этом доме ничто не напоминало о зиме: даже волшебно заснеженные ветки в окне казались просто декорацией, белой магией. Ершов подошёл к патефону. Пластинка – гавайский блюз. «Ах нет! Не сегодня! Этот несчастный безумец кричал: «Предатели, все мы предатели!» Но разве он действительно кричал: все мы предатели? Может быть, я это от себя прибавил? Почему?» Ум профессионального следователя наткнулся на странное препятствие. Может быть, надо было бы из гуманных соображений уничтожать сумасшедших?
Валя вышла из ванной в халатике. «Здравствуй, милый». С тех пор как уход за телом и материальное благополучие преобразили эту провинциалочку с Енисея, всё её существо излучало жизненную радость. «Когда после переходных периодов, трудных, но и обогащающих, будет построено коммунистическое общество, все женщины будут жить такой же полной жизнью... Ты, Валя, – живая представительница этого будущего...» – «Благодаря тебе, Максим, благодаря твоей работе, твоей борьбе, благодаря таким людям, как ты». Им случалось обмениваться такими репликами, вероятно, чтобы оправдать в собственных глазах своё привилегированное положение. Привилегии придавался смысл миссии. В их союзе не было ничего сложного, он был ясен – союз двух здоровых тел, которых влекло друг к другу. Восемь лет тому назад, инспектируя северную область, где он командовал дивизией особых войск госбезопасности, Ершов остановился у какого-то начбата, в затерянном среди лесной глуши военном поселке. Когда молодая жена его подчинённого вошла в столовую, Ершова впервые в жизни поразила такая невинная и уверенная в себе чувственность. В её присутствии вспоминался невольно лес, холодные струи дикой речки, шкуры пугливых животных, вкус свежего молока. У неё были широко открытые ноздри, как будто она всё время что-то вдыхала, и широкие, как у кошки, глаза.
Он тут же почувствовал желание обладать ею, и не для краткой встречи, не на одну только ночь, но целиком, навеки – и гордиться этим. «Почему же ей принадлежать другому, когда я хочу, чтобы она была моею?» Этот другой, офицерик без всякого будущего, был до смешного почтителен к начальству и выражался комично, как лавочник. Ершов его возненавидел. Чтобы остаться наедине с понравившейся ему женщиной, он отправил мужа проверять сторожевые посты в лесу. С глазу на глаз с женщиной, прежде чем решиться заговорить, он молча выкурил папиросу. А потом: «Валентина Анисимовна, выслушайте меня внимательно. Я никогда не изменяю своему слову. Я твёрд и надежен, как добрая кавалерийская сабля... Я хочу, чтобы вы были моей женой». Он сидел в трёх метрах от неё, закинув одну ногу на другую, и смотрел на неё с повелительным видом, как будто она не могла ему не повиноваться – и это ей, по-видимому, понравилось. «Но я вас совсем не знаю», – сказала она отчаянно и тревожно, как будто оказалась уже в его объятиях. «Это неважно. Я вас всю узнал с первого же взгляда. Я надежен и твёрд и даю вам слово, что...» – «Я в этом не сомневаюсь, – пробормотала Валентина, не подозревая, что эти её слова были уже согласием, – но...» – «Никаких «но»: женщина имеет право выбирать...» Он чуть было не добавил: «Я – начдив, а ваш муж никогда ни до чего не дослужится». Вероятно, ей пришла в голову та же мысль, потому что оба поглядели друг на друга и смутились, почувствовав себя сообщниками. Ершов повернул портрет мужа лицом к стене, обнял молодую женщину и поцеловал её в глаза со странной нежностью. «Твои глаза, твои глаза, моё солнышко!» Она не сопротивлялась, только наивно подумала: «Что, если этот важный начальник (и красивый человек) захочет овладеть ею тут же, на маленьком неудобном диванчике, – слава Богу, слава Богу, на ней под платьем не было белья...» Но он её не тронул, только заключил отчётливым тоном докладчика: «Вы уедете со мною через два дня. Как только начбат Никудышин вернётся, мы с ним объяснимся, как подобает мужчинам. Вы разведётесь с ним сегодня же. Достаньте свидетельство о разводе к пяти часам».
Что начбат мог возразить начдиву? Женщина свободна, партийная этика предписывает уважение к свободе! Начбат Никудышин пил запоем целую неделю, потом пошёл искать иного забвения в городе, у проституток-китаянок. Узнав о его дурном поведении, Ершов проявил к нему снисходительность: он понимал горе своего подчинённого. Впрочем, он поручил секретарю партии прочесть Никудышину нотацию: коммунист не должен терять морального равновесия из-за того, что его покинула женщина, – верно?
В этих комнатах Валентине нравилось быть голой под лёгкой развевающейся одеждой. Присутствие её тела ощущалось постоянно, как близость её голоса, её глаз. Её широкие глаза казались золотистыми, как спадавшие ей на лоб кудри. У неё были полные губы, выступающие скулы, нежный цвет лица, гибкие и свежие мышцы сильного пловца. «Всегда кажется, что ты только что вышла, такая весёленькая, из холодной воды на солнце», – сказал ей как-то муж. Она ответила с лёгким горделивым смехом, глядя на себя в зеркало: «Я такая и есть – холодная и солнечная. Твоя золотая рыбка».
В этот вечер она протянула к нему свои прекрасные голые руки.
– Почему ты поздно, милый? Что случилось?
– Ничего, – сказал Ершов с деланной улыбкой.
И он ясно почувствовал в эту минуту, что напротив – и здесь, и везде, куда бы он ни пошёл, – было что-то огромное, непостижимое, бесконечно опасное и для него самого, и для этой женщины, быть может, слишком красивой, слишком избалованной, слишком... Равномерные шаги раздавались в соседнем коридоре: это агент охраны шёл проверять затвор чёрного хода.
– Ничего... Сменили двух людей моей охраны, и.мне это неприятно.
– Но здесь ты же хозяин, милый, – сказала Валентина. Она стояла перед ним выпрямившись, в распахнутом на груди пеньюаре и продолжала подпиливать лакированный ноготок. Ершов, сведя брови, бессмысленно глядел на её прекрасную, твёрдую грудь с коричневатым соском. Всё ещё хмурясь, он встретил уверенный взгляд её глаз – в них цвели, казалось, летние цветы. Она снова сказала:
– ...Разве ты не всё делаешь, что хочешь?
Вероятно, он действительно очень устал, если даже такие незначительные слова так странно в нём отозвались. Услышав эту банальную фразу, Ершов вдруг понял, что он ничему больше не хозяин, что от его воли ничего не зависело и что бороться с этим было бы бесполезно. «Только сумасшедшие делают что хотят», – подумал он и ответил вслух с недоброй улыбкой:
– Только сумасшедшие воображают, что они делают что хотят.
Молодая женщина угадала: «Что-то происходит», и это опасение показалось ей таким обоснованным, что она не посмела его ни о чём расспрашивать; ей хотелось броситься к нему, приласкаться, но она удержалась и сделала над собой усилие, чтобы казаться весёлой:
– Ну что ж, поцелуемся, Сима,
Он приподнял её за локти, как делал обычно, и, осторожно вдыхая аромат её кожи, поцеловал её – не в губы, а повыше губы и в уголок рта. («Никто так не целуется, – сказал он ей когда-то, когда ухаживал за ней, – только мы с тобой».)
– Прими ванну, – предложила она.
Если он не верил в душевную чистоту – вот устарелые слова! – то верил в благотворную чистоту вымытого и выполосканного тела; после тёплой ванны и ледяного душа, растеревшись одеколоном, он часто любовался своим телом в зеркале. «Чёрт побери, как красиво человеческое животное!» – восклицал он, бывало, в ванной. «Валя, я тоже красивый!» Она прибегала, и они целовались перед зеркалом, он – голый, крепко сложенный, она – полунагая, гибкая, в сборчатом ярко-полосатом халате... Воспоминания, ставшие смутными, не о недавнем – о далёком прошлом: в те времена он руководил особыми операциями на дальневосточной границе, сам преследовал шпионов в лесу, заведовал бесшумной охотой на человека, вступал в связь с двойными агентами – и порой вздрагивал в предчувствии меткой пули, которая может поразить человека сквозь листву, и никто никогда не узнает, откуда она взялась... Он любил жизнь, он не знал ещё, что его ждёт высокий удел... Тёплая вода струилась по его плечам. Зеркало отразило только его осунувшееся лицо, беспокойный взгляд под опухшими веками. «Я похож на человека, которого пришли арестовать – какая пакость!» Дверь в ванную оставалась открытой; в соседней комнате Валя проигрывала гавайскую пластинку: банджо, негритянский или полинезийский голос: «I am fond of you...»[2]
Ершова взорвало:
– Валя, сделай мне одолжение, разбей моментально эту паршивую пластинку на мелкие кусочки!
«Блюз» резко остановился; ледяная вода, упавшая на его затылок, была ему облегчением.
– Исполнено, Сима милый. И я рву на клочки жёлтую подушку!
– Спасибо, – сказал он, выпрямляясь, – ты для меня как ледяная вода.
Ледяная вода струится из-под снега. Где-то волки утоляют ею жажду.
Они велели принести в спальню шипучего и несколько бутербродов. Чувство тревоги рассеялось, не надо было только о нём думать, чтобы оно не вернулось. В их отношениях было мало нежности – зато была интимная близость двух понятливых, идеально чистых, бесконечно друг другу нравившихся тел.
– Хочешь, пойдём завтра покататься на лыжах? – предложила Валя, и глаза у неё были большие, и раздутые ноздри.
Он чуть не опрокинул низкий столик, стоявший перед ним, так быстро он ринулся к двери. Живо распахнул её: в коридоре послышался слабый женский крик:
– Как вы меня напугали, Максим Андреевич. Горничная подбирала полотенца, упавшие на ковёр.
– Что вы тут делали?
От гнева голос Ершова понизился до шёпота.
– Да я просто шла по коридору, Максим Андреевич, вы меня испугали.
Затворив дверь, он вернулся к Вале, с взъерошенными усами, с выражением грустной злобы на лице.
– Эта шлюха подслушивала у двери...
На этот раз Валя по-настоящему испугалась.
– Не может этого быть, милый, ты переутомился, ты говоришь глупости.
Он примостился на ковре у её ног. Она держала его голову в обеих руках, покачивала её на своих коленях:
– Хватит говорить глупости, милый. Пойдём спать.
Он подумал: «Спать... Ты думаешь, это так просто?» – поглаживал Валины ноги; его руки поднимались всё выше, к её тёплому животу.
– Поставь другую пластинку, Валя. Только не гавайскую, не негритянскую, не французскую... Что-нибудь наше...
– Хочешь «Партизан»?
Он расхаживал из угла в угол – и звенел мужской хор красных партизан, верхом пробиравшихся сквозь тайгу:
Разгромили атаманов,
Разогнали воевод
И на Тихом океане
Свой закончили поход...
Колонны людей в серых шинелях шли с пением по белым улицам азиатского городка. Наступал вечер. Ершов остановился, чтобы поглядеть на них. Голос молодого парня торжествующе запевал первую строчку каждой строфы, и её подхватывал дисциплинированный хор. Равномерный шум сапог по снегу глухо аккомпанировал пению. Сознательные голоса, слившиеся в одно, могучие, олицетворяющие силу земли, – это мы... Песня закончилась. Ершов подумал: «Приму немного люминала» – и в эту минуту в дверь постучались.
– Максим Андреевич, товарищ Гордеев просит вас к телефону.
И степенный голос Гордеева на другом конце провода сообщил ему, что только что открылись новые данные по делу покушения, поэтому я вынужден обеспокоить вас, извините меня, Максим Андреевич. Приходится принять важное решение... Существуют серьёзные подозрения относительно косвенной виновности К. К. Рублёва. Таким образом, это дело как бы окольным путём связано с двумя последними процессами... Но ввиду того, что К. К. Рублёв числится в особом списке бывших членов ЦК, я не хотел бы взять на себя ответственность...
«Ладно, ты хочешь, чтобы я взял её на себя, чтобы я приказал или запретил его арестовывать... подлая ты сволочь...»
Ершов сухо спросил:
– Биография?
– Справка у меня. В 1905 году студент варшавского медфакультета. В 1906-м – максималист, ранил двумя выстрелами полковника Голубева, бежал из крепости в 1907-м член партии с 1908 года. Тесно связан с Иннокентием (Дубровинским), с Рыковым, Преображенским, Бухариным (и в именах расстрелянных предателей – а прежде лидеров партии – был уже, казалось, приговор Рублёву). Политкомиссар при Н-ской армии, исполняет поручение в Забайкалье, особая миссия в Афганистане, председатель Треста химических удобрений, лектор Свердловского университета, член ЦК до... член Центральной контрольной комиссии до... Московская контрольная комиссия объявила ему выговор с предупреждением за фракционную деятельность... Предложено исключить его за правый оппортунизм... Заподозрен в прочтении преступного документа, составленного Рютиным... Заподозрен в присутствии на тайном собрании в Зелёном Бору... Подозревается в оказании помощи семье арестованного Эйсмонта... Подозревается в переводе с немецкого языка статьи Троцкого, найденной при обыске у его бывшего ученика Б. (Подозрения окружали этого человека со всех сторон – а он тем временем заведовал отделом всеобщей истории в одной библиотеке.)
Ершов слушал с возрастающим раздражением. «Всё это нам давно известно, подлая ты скотина. Подозрения, донесения, предположения – мы сыты этим по горло. Из всего этого ни одна нить не тянется к делу Тулаева. Ты только хочешь заманить меня в ловушку, хочешь, чтобы я приказал арестовать старого члена ЦК. Если его до сих пор щадили, значит, у Политбюро были на то свои основания».
Ершов сказал:
– Хорошо. Вам придётся подождать. Спокойной ночи.
Когда тов. Попов, член Центральной контрольной комиссии, лицо широкой публике неизвестное, но пользующееся большим моральным авторитетом, – особенно с тех пор как расстреляли за измену Родине двоих или троих ещё более уважаемых людей, – когда тов. Попов велел доложить о себе народному комиссару, тот принял его немедленно – и не без любопытства. Ершов видел его в первый раз. В самые суровые холода Попов напяливал на свою грязно-седую шевелюру старую рабочую фуражку, купленную за шесть рублей в одном московском магазине. Его выцветшей кожаной куртке было лет десять. У него было старообразное, в морщинах и нездоровых отёках лицо, бесцветная бородка и очки в металлической оправе. Таким он и вошёл – в фуражке на седых прядях, с разбухшим портфелем под мышкой, со странным мягким смешком в глазах.
– Ну как живёте, товарищ дорогой? – фамильярно спросил он, и Ершов на какую-то долю секунды поверил добродушию этого старого пройдохи.
– Очень рад с вами, наконец, познакомиться, товарищ Попов, – ответил народный комиссар.
Попов расстегнул пальто, тяжело упал в кресло, пробормотал:
– Устал, чёрт возьми! Тепло у вас тут, хорошо устроились в новом помещении (и он стал набивать трубку). Я, понимаете, знаю Чека с самого её основания, ещё при Феликсе Эдмундовиче Дзержинском – ну, нет, у нас такого комфорта не было, не такая была организация... Советская страна растёт у нас на глазах, товарищ Ершов. Вам повезло, вы молоды...
Ершов из вежливости не торопил его. Попов поднял землистого оттенка, вялую, с запущенными ногтями руку.
– Ну-с, так вот, товарищ дорогой. Партия о вас думает – она обо всех нас думает, партия-то. Вы много работаете, стараетесь, ЦК вас ценит. Ну, конечно, перегружены немного, вам пришлось ликвидировать прошлое (осторожный намёк на предшественников). Мы живём в период заговоров...
«Куда он гнул?»
– История движется этапами: то полемика, то заговоры... Ну, так вот! Вы, видно, устали. В том деле террористического покушения на товарища Тулаева вы оказались не совсем на высоте...
– Уж вы простите, что я так выражаюсь с обычной моей откровенностью, – это я вам лично говорю, с глазу на глаз, товарищ дорогой, мне и самому Владимир Ильич как-то сказал, ещё в 18-м году... Ну вот, именно потому, что вас ценят...
Но он и не подумал сообщить, что именно ему сказал Ленин двадцать лет тому назад. Такова была его обычная манера: притворное бормотание, усеянное словечком «ну вот», дребезжащий голос – стареем мы, я один из самых старых в партии и всегда на посту...
– Ну вот: вам необходимо отдохнуть месяц-другой, на воздухе, на кавказском солнце... Минеральную воду надо пить, товарищ, – а я вам здорово завидую, уж поверьте... Эх, эх... Мацеста, Кисловодск, Сочи, Цихисдзирги – не край, а мечта... Вы знаете стихи Гете: «Kennst du das Land wo die Zitronen bliihen?..» Вы с немецким языком незнакомы, товарищ Ершов?-
Народный комиссар различил наконец с внезапным испугом смысл этой болтовни:
– Простите, товарищ Попов, боюсь, что не совсем вас понял: это что, приказ?
– Нет, товарищ дорогой, просто совет, который мы вам даём. Вы переутомились – как и я сам, – это ведь заметно. И все мы принадлежим партии, отвечаем перед ней за наше здоровье. А партия о нас заботится. Старики о вас подумали, говорили о вас в Оргбюро (он упомянул Оргбюро, чтобы не назвать Политбюро). Одно только решено – вас на время вашего отсутствия заменит товарищ Гордеев. Нам известно, что у вас с ним хорошие отношения, так что вас заменит сотрудник, который всецело пользуется вашим доверием... да... два месяца, не больше... больше партия не может вам дать, товарищ дорогой...
С преувеличенной медлительностью Попов расправил колени, поднялся: кислая улыбка, нечистая кожа, благосклонно протянутая рука.
– Ах, чёрт, вы ещё не знаете, что такое ревматизм... Ну вот... Когда же вы едете?
– Завтра вечером в Сухуми. В отпуске с сегодняшнего же вечера.
Попов был, по-видимому, в восторге.
– Вот это хорошо. Быстрое решение, по-военному... это я люблю! Я и сам, несмотря на годы... Да, да... Отдыхайте как следует, товарищ Ершов. Кавказ – дивный край, жемчужина Союза... Kennst du das Land...
Ершов сильно тряхнул его вялую руку, проводил его до дверей, закрыл дверь и остановился совершенно растерянный посреди кабинета. Больше ничего ему здесь не принадлежало. Достаточно было нескольких минут лицемерного разговора, чтобы отнять у него бразды правления. Что всё это значило? Затрещал телефон. Гордеев спрашивал, в котором часу созвать начальников отделов на намеченное совещание.
– Зайдите ко мне за приказаниями, – сказал Ершов, с трудом справляясь с собой. – Нет, не заходите. Совещание сегодня не состоится...
Он выпил полный стакан ледяной воды.
Он скрыл от жены, что уезжает в этот неожиданный отпуск по приказанию свыше. В Сухуми, на берегу невообразимо синего моря, он в течение пяти-шести дней продолжал ещё получать совершенно секретные информации. Потом они перестали приходить – и он не посмел их затребовать, но стал засиживаться в баре клуба с молчаливыми генералами, вернувшимися из Монголии. У всех под влиянием водки оказалась та же душа – пылающая и тяжёлая. Узнав, что на соседнюю дачу приехал какой-то член Политбюро, Ершов пришёл в ужас: вдруг это важное лицо сделает вид, что ничего не знает о присутствии народного комиссара?
– Мы едем в горы, Валя.
Автомобиль вскарабкался вверх по петлистой дороге, под палящим солнцем, между сверкающими скалами, пропастями и огромной чашей моря из надтреснутой эмали. Ослепительно синий морской горизонт поднимался всё выше и выше. Валя жила теперь в постоянном страхе. Она догадывалась, что это – бегство, нелепое, невозможное бегство.
– Ты меня больше не любишь? – спросила она наконец Максима, когда они оказались вдвоём между небом, морем и скалами, в чистейшем воздухе, на высоте тысячи двухсот метров.
Он поцеловал кончики её пальцев, сам не зная, способен ли он ещё, с этим тошнотворным смятением в душе, испытывать к ней влечение.
– Мне слишком страшно, я не могу думать о любви... Мне страшно – как это глупо. Нет, у меня есть основания бояться, – я гибну, пришёл мой черёд...
Вид скал, по которым струилось солнце, отзывался в нём чудесным утомлением, – а море, море!
– Если мне суждено погибнуть, я хочу по крайней мере вволю насладиться этой женщиной и этой лазурью...
Это была мужественная мысль. Он жадно поцеловал Валю в губы. Безупречная чистота проникала в их души ярким светом восхищения. Они провели три недели в маленьком домике на горной вершине. Чета абхазцев, муж и жена, оба в белом, оба одинаково красивые, молча обслуживали их. Они засыпали на террасе, на открытом воздухе, закутавшись в шелка, под тёплыми одеялами, и после любовного сближения их сближало созерцание звёзд. «Смотри, милый, – сказала однажды Валя, – мы сейчас упадем в звёзды...» Всё это принесло немного подлинного успокоения Ершову, которого неустанно преследовали две мысли: одна разумная, обнадеживающая; другая – тайная, коварная, бредущая своей собственной тёмной дорогой и упорная, как червоточина. Первую легко было выразить так: «Почему бы им не отстранить меня от дел, пока не кончится эта неприятная история, в которую я дал себя впутать? Хозяин хорошо ко мне относится. В конце концов они могут просто-напросто отослать меня обратно в армию. Ведь я ни для кого не опасен, за мной нет никакого прошлого. Не попросить ли, чтобы меня отправили на Дальний Восток?» Другая же мысль лукаво шептала: «Ты слишком много знаешь – как им поверить, что ты никогда ничего не расскажешь? Ты должен исчезнуть, как исчезли твои предшественники... Ведь и они знали эти «дела», эти симптомы, тревогу, сомнения, надежду, отпуск, безумное бегство, покорное возвращение – и они были расстреляны». «Валя, – кричал внезапно Ершов, – идём на охоту!» Он увлекал её за собой – и они карабкались всё выше, на самые недоступные вершины, откуда вдруг открывалось море, окаймлявшее огромную карту; вдали мысы и скалы, тонувшие в ярком свете, выдвигались в открытый морской простор. Над золотистыми обломками камней, на остроконечной вершине скалы возник горный козёл: застыв на месте, уставив рога, он выделялся на фоне лазури. Ершов передал карабин Вале, и она голыми руками тихонько вскинула его на плечо, капелька пота блестела на её затылке. Море наполняло чашу земли, над вселенной стояла тишина, в небе вырисовывался изящный, живой силуэт золотистого животного... «Целься хорошенько, – шепнул Ершов на ухо жене, – а главное, милая, промахнись...» Ружейный ствол поднимался всё выше, Валин затылок запрокинулся, и, когда оружие было наведено на зенит, грянул выстрел. Валя смеялась, всё небо отражалось в её глазах. Козёл бесстрашно повернул точёную голову к этим далёким белым силуэтам, в течение секунды их разглядывал, потом согнул колени, грациозно прыгнул в направлении моря, исчез...
В этот самый вечер, по возвращении, Ершов получил телеграмму, срочно вызывавшую его в Москву.
Они уехали в специальном вагоне. На второй день поезд остановился на глухой станции среди заснеженных полей кукурузы. Мрачный, серый туман застилал горизонт. Валя курила, держа в руках книгу Зощенко, у неё был слегка надутый вид... «Что ты нашла интересного в этом грустном юморе, который клевещет на нашу действительность?» – сказал он ей. Она ответила враждебным тоном: «От тебя теперь только и слышишь официальные рассуждения...» Возвращение к обычной жизни заранее нервировало их. Ершов просматривал газеты. Дежурный офицер пришёл доложить ему, что его вызывают к телефону на станцию: прямой провод специального вагона был, оказывается, повреждён. Ершов помрачнел:
– По приезде вы объявите начальнику материальной части неделю ареста. В специальных вагонах телефон должен действовать безукоризненно. Поняли?
– Так точно, товарищ народный комиссар.
Ершов накинул шинель с знаками отличия высших чинов, спустился на дощатую платформу маленькой, совершенно пустынной станции, заметил, что к паровозу было прицеплено всего три вагона, и крупными шагами направился к единственно заметному вблизи белому домику. Дежурный офицер почтительно в трёх шагах следовал за ним. ГПУ. Железнодорожный контроль. Ершов вошёл. Несколько военных, вытянувшись, ,отдали ему честь.
– Вот сюда, товарищ начальник, – сказал дежурный офицер, почему-то покраснев.
В задней комнатке, жарко натопленной чугунной печкой, два офицера поднялись перед ним, повинуясь внутренней дисциплине: один – высокий и худой, другой маленький и толстый, оба гладко выбритые и в немалых чинах. Слегка удивлённый Ершов машинально ответил на их приветствие.
– Телефон? – коротко бросил он.
– Для вас получено сообщение, – уклончиво ответил высокий; у него было длинное сухое лицо и очень холодные серые глаза.
– Что за сообщение? Давайте сюда.
Высокий вынул из бумажника тонкий листок, на котором было всего несколько отпечатанных строк на машинке.
«Согласно постановления Особого совещания Народного комиссариата внутренних дел... от такого-то числа... по делу № 4628... подвергнуть предварительному аресту... Ершова, Максима Андреевича, сорока одного года...» Несмотря на судорогу, сжавшую горло, Ершов нашёл в себе достаточно силы, чтобы перечесть бумагу, слово за словом, внимательно разглядеть печать, подписи: Гордеев, другая скрепляющая подпись неразборчива, порядковые номера...
– Никто не имеет права, – бессмысленно сказал он через несколько секунд, – ведь я...
Маленький толстяк не дал ему договорить:
– Нет, больше нет, Максим Андреевич, по решению Оргбюро вы освобождены от вашей высокой должности...
Он говорил вкрадчиво и почтительно.
– Копия при мне. Передайте мне, пожалуйста, ваше оружие...
Ершов, положив на стол, покрытый чёрной клеёнкой, свой револьвер установленного образца, нащупал в заднем кармане брюк маленький запасной браунинг, который обычно носил при себе, и ему вдруг захотелось пустить себе пулю в сердце; он незаметно замедлил движение, думая, что сохраняет невозмутимое выражение лица. Золотистая серна на остроконечной скале, Валины зубы, её запрокинутый затылок, лазурь... Всё кончено. Прозрачные глаза худого дылды не отрывались от его глаз, маленький толстяк обеими руками мягко взял его за руку и принял револьвер. Послышался протяжный свисток паровоза. Ершов сказал:
– Моя жена...
Маленький толстяк предупредительно перебил его:
– Будьте покойны, Максим Андреевич, я лично о ней позабочусь.
– Благодарю вас, – нелепо сказал Ершов.
– Будьте добры переодеться, – сказал высокий, – из-за знаков отличия.
Ах да, действительно, знаки отличия... Военная куртка без галунов и нашивок, военная шинель, похожая на его собственную, но без нашивок, были брошены на спинку стула. Всё это неплохо подготовлено. Он машинально, как лунатик, переоделся. Всё становилось ясным – и даже его собственные поступки. Его портрет, пожелтевший на солнце и загаженный мухами, глядел на него.
– Убрать портрет, – строго приказал он.
Этот сарказм укрепил его силу, но не встретил отклика.
Когда Ершов вышел из этой комнатки между маленьким толстяком и худым дылдой, соседняя дежурная оказалась пустой: те, что видели его со звёздочками – символами власти – на вороте и на рукавах, не увидели разжалованного. «Организатор этого ареста заслуживает всяческих похвал», – подумал Он. Машинально или иронически? Он и сам этого не знал. Станция была пустынна. Чёрные рельсы на снегу, белые пространства. Ушёл специальный поезд, унося Валю, унося прошлое. В ста метрах Ершова поджидал один-единственный вагон, совсем иной, ещё более специальный, – и он направился к нему крупными шагами в сопровождении двух молчаливых офицеров.
Из полярных областей, пролетая над спящими камскими лесами, гоня перед собой там и сям волчьи стаи, снежные бури, медленно кружась, долетали до Москвы. Над городом, обессиленные долгим полётом, они, казалось, разрывались на части. Внезапно они затопляли лазурь. Хмурый молочный свет разливался по улицам и площадям, лился на забытые особнячки в старинных переулках, на трамваи с заиндевевшими стёклами. Люди жили в мягком белом круговороте, как бы погребённые под снегом, ходили по мириадам чистейших звёздочек, непрерывно сменявших друг друга. И вдруг вверху, над церковными луковками, над тонкими крестами, хранившими ещё следы позолоты и прикреплёнными к опрокинутому полумесяцу, вновь возникала лазурь.. Солнце распластывалось на снегу, ласкало старые, запущенные фасады домов, сквозь двойные окна пробиралось в комнаты. Рублёв без устали наблюдал за этими метаморфозами. В окне его рабочего кабинета вставали тонкие, бриллиантами сверкающие ветки. Видимый отсюда мир сводился к куску заброшенного сада, к стене и – за ней – часовне с зелёным позолоченным куполом, порозовевшим под налетом времени.
Рублёв отвёл взгляд от четырёх книг, в которых он одновременно искал справки. Тот же ряд фактов представлялся в каждой из них по-иному, всё было и неоспоримо, и недостоверно: так зарождались ошибки историков, и методические, и непосредственные. Приходилось пробираться сквозь эти ошибки, как сквозь снежную бурю. Только много веков спустя из этого сплетения противоречий кому-нибудь откроется истина, как сегодня она открылась мне. Экономическая история, отметил мысленно Рублёв, часто кажется обманчиво ясной, – как протокол вскрытия. К счастью, от неё, как и от вскрытия, – ускользает самое существенное: разница между трупом и живым существом.
– У меня почерк неврастеника.
Вошла помощница библиотекаря Андронникова. («Ей кажется,. что я похож на неврастеника».)
– Будьте добры, Кирилл Кириллович, просмотрите список запрещённых книг, для которых требуется особое разрешение.
Обычно Рублёв небрежно визировал все эти просьбы, – даже когда дело шло об историках-идеалистах, либеральных экономистах, социал-демократах, соблазнившихся буржуазным эклектизмом, путаниках-интуиционистах... Но на этот -раз он заколебался: какой-то студент Института прикладной социологии просил, чтобы ему выдали «1905 год» Л. Д. Троцкого. Помощница библиотекаря Андронникова, тонкое лицо которой было окружено пушистыми седыми волосами, этого, по-видимому, ждала.
– Отказать, – сказал он, – посоветуйте этому молодому человеку обратиться в Комиссию истории партии.
– Я ему так и сказала, – мягко ответила Андронникова, – но он очень настаивал.
Рублёву показалось, что она смотрит на него с детской симпатией чистого и слабого существа.
– Ну, как дела, товарищ Андронникова? Достали сукна в кооперативе на Кузнецком?
– Да, благодарю вас, Кирилл Кириллович, – ответила она со сдержанным волнением в голосе.
Он снял с вешалки свою шубу и, надевая, пошутил с Андронниковой на тему об умении жить.
– Надо ловить удачу на лету, товарищ Андронникова, и для себя и для других... Мы живём в джунглях переходного периода, верно?
«А жить в такой период – небезопасное искусство», – подумала седовласая женщина, но ограничилась улыбкой, причём улыбнулась не ртом, а скорее глазами. Неужели этот странный человек – образованный, проницательный, влюблённый в музыку, – неужели он действительно верил в двойной переходный период, от капитализма к социализму и от социализма к коммунизму? Он напечатал об этом книгу в те времена, когда ему ещё позволяли писать. Гражданка Андронникова, бывшая княгиня, дочь известного политического деятеля, либерала (и монархиста), сестра генерала, убитого в 18-м году его же солдатами-пехотинцами, вдова коллекционера картин, который в своей жизни любил по-настоящему только Матисса и Пикассо, лишённая права голоса из-за социального происхождения, – гражданка Андронникова жила тайным поклонением Владимиру Соловьёву. Если философ мистической мудрости и не помогал ей разобраться в этих до странного упрямых, суровых, ограниченных, жестоких людях – большевиках (среди которых, впрочем, встречались и люди удивительного душевного богатства) , он учил её снисхождению, а с некоторых пор – и тайной жалости к ним. Если не любить и самых худших, что же христианской любви вообще делать на земле? И если бы худшие не были иногда близки к самым лучшим, – разве они были бы худшими? Андронникова подумала: «Они, несомненно, верят тому, о чём пишут... И может быть, Кирилл Кириллович прав. Может быть, это действительно переходный период...» Она помнила имена, лица, биографию, манеру улыбаться, манеру надевать шубу многих выдающихся партийцев, недавно исчезнувших или расстрелянных после непостижимых процессов. И все они были братьями этого Рублёва; все были друг с другом на «ты»; все говорили о «переходном периоде» и, вероятно, оттого и погибли, что верили в него.
Андронникова заботилась о Рублёве с почти болезненно тревожным чувством, о котором тот и не догадывался. Перед сном, закутавшись, как в шестнадцать лет, до подбородка, она в своих мысленных вечерних молитвах поминала его имя. У неё была крошечная комнатка, полная увядших предметов, старых писем в шкатулках и портретов красивых молодых людей, кузенов и племянников, большинство которых было погребено Бог знает где – в Карпатах, в Галлиополи, под Трабзоном, в Ярославле, в Тунисе. Из этих аристократов выжили, по всей вероятности, только двое: один служил в константинопольском ресторане, другой под чужим именем водил трамваи в Ростове... Но когда Андронниковой удавалось раздобыть немного приличного чая и сахара, жизнь казалась ей почти приемлемой.
Чтобы иметь предлог ежедневно хоть минутку поболтать с Рублёвым, она придумала искать в магазинах материал, или письменную бумагу, или редкие лакомства – и делилась с ним своими затруднениями. Рублёв, любивший бродить по московским улицам, заходил в магазины и наводил для неё справки.
С наслаждением вдыхая холодный воздух, Рублёв возвращался домой пешком, по заснеженным бульварам. Он был высок, худ, широкоплеч, за последние два года начал сутулиться, – но не под бременем лет, а под тяжелейшим бременем тревоги. Мальчишкам, гонявшимся на коньках друг за другом по бульвару, хорошо были знакомы его старая, выцветшая на плечах шуба, барашковая шапка, надвинутая на глаза, жидкая борода, большой костистый нос, густые брови. Проходя мимо них, Рублёв слышал их крики: «Эй, Ванька, гляди, вот профессор Шах и Мат» или: «Берегись, Тёмка, вон царь Иван Грозный!». Раз какой-то школьник, разлетевшись на единственном коньке, угодил ему прямо в ноги и, покраснев, начал бормотать очень странные извинения: «Простите, пожалуйста, гражданин профессор Иван Грозный», – и он так и не понял, почему этот высокий, на вид строгий старик разразился таким удивительным смехом.
Он прошёл мимо дома № 25 по Тверскому бульвару: Дом писателей. Посреди фасада небольшого особняка выделялся на медальоне благородный профиль Александра Герцена. Из полуподвальных окон вырывались запахи столовки литераторов, или, скажем точнее, «кормушки писак». «Я посеял драконов, – сказал Маркс, – а пожал блох». «Наша страна непрерывно сеет драконов и в бурные эпохи порождает их – могущественных, крылатых, когтистых драконов, наделённых великолепными мозгами, – но их потомство угасает из-за блох, дрессированных блох, вонючих блох, блох и блох!» В этом доме родился Александр Герцен – великодушнейший человек тогдашней России, из-за этого обречённый на изгнание; а выдающийся ум Чернышевского двадцать лет подряд топтали жандармы за то, что этот писатель, может быть, однажды обменялся с Герценом письмом. Теперь же в этом самом доме разные писаки набивали себе животы, сочиняя по заказу деспотизма и во имя Революции глупости и гнусности в стихах и прозе. Блохи, блохи! Рублёв состоял ещё в Профсоюзе писателей, члены которого, недавно приходившие к нему за советами, теперь, боясь скомпрометировать себя, делали вид, что не узнают его на улице...
Что-то вроде ненависти вспыхивало в его глазах, когда ему попадался «комсомольский поэт» (сорокалетний), который о расстрелянном Пятакове и других написал такие стихи:
Расстрелять их мало,
Мало, слишком мало,
Ядовитая падаль,
Мерзавцы,
Паразиты империализма,
Не стоят гордых пуль
Социализма.
Богатая рифма. Всего таких было сто строк; по четыре рубля за строчку – месячный заработок квалифицированного рабочего, четырёхмесячный – чернорабочего. А румяную физиономию сочинителя, носившего спортивный костюм из толстого материала немецкого производства, можно было видеть во всех редакционных залах.
Страстная площадь: Пушкин размышлял на своём пьедестале. Хвала тебе, во веки веков, русский поэт, за то, что ты не был подлецом, был лишь немного трусоват, – ровно насколько это было необходимо, чтобы выжить в твой век сравнительно просвещённого деспотизма, когда повесили твоих друзей-декабристов.
Напротив памятника неторопливо разрушали монастырскую башенку. Здание «Известий» из железобетона, с большими часами в стене, возвышалось над садами бывшего монастыря. По углам площади виднелись: маленькая, грязно-белая церковь, кинематографы, книжный магазин. Вытянувшись в очередь, люди терпеливо поджидали автобуса. Рублёв свернул направо, на улицу Горького, бросил рассеянный взгляд на витрины большого продовольственного магазина: пышная волжская рыба, отличные фрукты из Средней Азии – редкие лакомства, доступные лишь щедро оплачиваемым специалистам. Он жил на маленькой боковой улице в десятиэтажном доме с широкими, плохо освещёнными коридорами. Лифт медленно добрался до седьмого этажа. Рублёв пошёл по угрюмому, тёмному коридору, осторожно постучал в дверь; она отворилась, он вошёл, поцеловал жену в лоб.
– Ну как, Дора, топят?
– Плохо. Радиаторы чуть-чуть тёплые. Надень твою старую куртку.
Ни собрания жильцов Дома Советов, ни ежегодные процессы техников Областного управления топливом не улучшали положения. От холода в большой комнате водворялось уныние. В широкое окно входила белизна крыш, чуть тронутая сумерками. Листва комнатных растений казалась металлической, пишущая машинка выставляла напоказ свои похожие на фантастические зубы пыльные клавиши. На чёрно-серых уменьшенных репродукциях, висевших на стене, пышущие силой человеческие тела, написанные Микеланджело для Сикстинской капеллы, казались просто никому не интересными пятнами. Дора зажгла столовую лампу, села, скрестив руки под коричневым шерстяным платком, и подняла на Рублёва спокойный взгляд своих серых глаз:
– Хорошо тебе сегодня работалось?
Она скрывала свою радость при его возвращении, как за минуту до того подавляла свой страх: что, если он не вернётся? И это всегда так будет.
– Ты прочёл газеты?
– Пробежал. Назначили – нового наркома земледелия РСФСР, предшественник его исчез... Ещё бы! Не пройдёт и шести месяцев, исчезнет и этот, можешь не сомневаться, Дора. И следующий нарком исчезнет тоже. Кто из них внесёт какое-нибудь улучшение?
Они говорили, понизив голос. Если бы подсчитать число жильцов этого дома – сплошь людей влиятельных, исчезнувших за последние двадцать месяцев, получилось бы очень странное процентное отношение, оказалось бы, что некоторые этажи приносят людям несчастье и что можно с весьма опасных точек зрения судить об истекших двадцати пяти годах истории. Этот тёмный подсчёт запечатлелся в их сердцах. Оттого-то Рублёв и постарел: это было его единственной уступкой эпохе.
В этой же самой комнате, между растениями с металлической листвой и полинявшими репродукциями Сикстинской капеллы, им пришлось целыми днями, иногда до поздней ночи, слушать безумные, демонические, беспощадные, непостижимые голоса, которые лились из громкоговорителя. Эти голоса заполняли часы, ночи, месяцы, годы, они наполняли душу бредом, и казалось непонятным, что, наслушавшись их, можно было ещё жить. Дора однажды вдруг вскочила; бледная, растерянная, заломив руки, она сказала:
– Это прямо что метель, снегом замело целый материк... нет больше ни дорог, ни света, некуда больше двинуться, всё будет погребено... Это лавина какая-то катится, уносит нас с собою... Это ужасная революция...
Кирилл тоже весь побелел; потускнела комната. Из лакированного ящика радио лился на них голос, чуть хриплый, дрожащий, заикающийся, с тяжёлым и некрасивым турецким акцентом, и, подобно всем другим, он признавался в бесчисленных изменах: «Я организовал убийство такого-то... Я участвовал в неудачном покушении на... Я провалил планы орошения... Я спровоцировал восстание басмачей... Я выдал английской контрразведке... Мне заплатили тридцать тысяч серебреников...» Выключив ток, Кирилл остановил поток этих безумных слов. «Это допрос Абрагимова, – бормотал он, – бедный малый!» Он знал его: это был молодой карьерист из Ташкента, любитель доброго вина, старательный и неглупый советский работник... Кирилл поднялся и тяжело выговорил:
– Это – контрреволюция, Дора.
Голос Верховного прокурора неутомимо, уныло твердил всё о том же: заговоры, покушения, преступления, разорение, предательство, измена, и этот голос, изливавший ругательства на обвиняемых, превращался в какой-то исступлённый лай, а они слушали его, эти конченые люди, опустив головы, отчаявшись, перед лицом толпы, между двумя милиционерами: и многие из них были чистейшими, лучшими, умнейшими из революционеров, и именно поэтому их подвергали пытке, на которую они добровольно шли. Иногда, слушая их голоса по радио, думалось: «Как он, наверно, страдает... Да нет же, его голос звучит как обычно. Что же это значит? С ума он, что ли, сошёл? Зачем он так лжёт?»
Дора прошла через комнату, спотыкаясь, повалилась на постель, дрожа и задыхаясь от сухих рыданий.
– Может быть, лучше было бы, если бы они дали растерзать себя в клочья? Неужели они не понимают, что отравляют душу пролетариата? Что отравляют источники будущего?
– Нет, они этого не понимают, – сказал Кирилл Рублёв, – они уверены, что служат ещё делу социализма. Некоторые из них надеются спасти свою жизнь... Их пытали...
Он заломил руки.
– Нет, они не трусы; нет, их не пытали, я этому не верю. Ты понимаешь, они верны, они всё ещё верны партии, а партии больше нет, есть только инквизиторы, палачи, подлецы... И может быть, я бы так же вёл себя, если бы был на их месте.
(И он тотчас же отчётливо подумал: «Это место – моё, когда-нибудь я непременно на нём окажусь...», и его жена так же отчётливо услышала его мысль.)
– Они думают, что лучше умереть, пожертвовав своей честью, быть жертвами Хозяина, чем, умирая, донести на него международной буржуазии...
И он почти выкрикнул, как раздавленный:
– ...и они правы!
Этот неотступный разговор завязался между ними надолго. Их ум был занят теперь только этим, они изучали эту тему всесторонне, потому что в их стране, в великой Шестой части света, История сводилась теперь только к этому: к потёмкам, лжи, противоестественной преданности и ежедневно проливаемой крови. Старые партийцы избегали друг друга, боялись взглянуть друг другу в лицо, чтобы из-за разумной трусости не солгать бесстыдно, не споткнуться на именах исчезнувших товарищей, не скомпрометировать себя, пожав чью-то руку, и не мучиться потом, отказавшись её пожать. До них всё же доходили известия об арестах, исчезновениях, подозрительных отпусках для леченья и ничего доброго не предвещавших новых назначениях, до них доходили отрывки тайных допросов и зловещие слухи.
Задолго до того, как исчез заместитель начальника генштаба, генерал, трижды награждённый орденом Красного Знамени (бывший шахтер, большевик с 1908 года, отличившийся когда-то в украинской, алтайской, якутской кампаниях), его окружила коварная молва, и женские зрачки при встрече с ним странно расширялись, а когда он проходил по приёмной Комиссариата обороны, вокруг него образовывалась пустота.
Рублёв встретил его однажды на вечере в Доме Красной Армии. «Представь себе, Дора, люди, находившиеся в десяти шагах от него, поспешно удирали... Так же, как вдруг сталкивались с ним лицом к лицу, притворно улыбались, любезничали – и вдруг стушевывались... Я наблюдал за ним минут двадцать: он сидел один, между двумя пустыми стульями, в новеньком мундире, при всех орденах, похожий на восковую куклу, и смотрел на кружащиеся пары. К счастью, ничего не подозревавшие молодые лейтенанты приглашали его жену... Подошёл Аршинов, узнал его, потоптался на месте, делая вид, что ищет что-то в своих карманах, – и медленно повернулся к нему спиной...» Когда месяц спустя его арестовали после заседания Комитета, на котором он не произнёс ни звука, – он испытал чувство облегчения, да и для всех конец этого ожидания был облегчением.
Такая же ледяная атмосфера создалась вокруг другого красного генерала, вызванного телеграммой с Дальнего Востока под предлогом мифического назначения; но этот генерал, сидя в ванне, пустил себе пулю в лоб. Против ожидания Центральное артиллерийское управление устроило ему пышные похороны; но три месяца спустя, на основании декрета, обрекавшего семейства предателей на ссылку «в самые отдалённые области Союза», его мать, жена и двое детей получили приказ отправиться вдаль, в неизвестность. Эти и подобные новости узнавались случайно, по секрету, о них сообщали друг другу на ухо, причём в подробностях никто не был уверен.
Вы звонили товарищу из телефонной будки для вящей осторожности, и незнакомый, очень внимательный мужской голос спрашивал: «А кто говорит?», и вы понимали, что там засада, и отвечали смущённо, но и не без насмешки: «Госбанк, по делу», а потом удирали, не оглядываясь, зная, что через десять минут эту телефонную будку опознают.
В учреждениях знакомые лица сменялись новыми: стыдно было упомянуть имя исчезнувшего и так же стыдно было его не упомянуть. В газетах сообщалось о назначениях новых членов республиканских правительств, причём о судьбе прежних не говорилось ни слова, что само по себе уже было объяснением. Когда среди ночи в коммунальной квартире раздавался звонок, жильцы говорили: «Это пришли за коммунистом», как сказали бы раньше: «Пришли за фабрикантом или за бывшим царским офицером».
Рублёв подвёл счёт товарищам, с которыми был прежде близок, и открыл двух уцелевших: Филиппова из Плановой комиссии и Владека, польского эмигранта. Владек знал когда-то Розу Люксембург, вместе с Барским и Валецким был членом первых ЦК Польской компартии, работал в секретных отделах под начальством Уншлихта... Валецкий и Барский, если и были ещё в живых, сидели в тюрьме, в каком-нибудь секретном изоляторе для когда-то влиятельных руководителей III Интернационала; о тучном Уншлихте, большеголовом очкарике, ходили достоверные – почти достоверные – слухи, что он расстрелян. Владек теперь незаметный сотрудник Сельскохозяйственного института, старался изо всех сил, чтобы о нём забыли. Он жил километрах в сорока от Москвы, в лесу, на заброшенной даче; приезжал в город только на работу, ни с кем не встречался, никому не писал и не звонил, ни от кого не получал писем.
– Может, они обо мне так и забудут? – сказал он Рублёву. – Нас было человек тридцать поляков из старых партийных кадров. Осталось четверо, не больше.
Маленького роста, облысевший, с круглым носиком, очень близорукий, он глядел на Рублёва сквозь стёкла необыкновенной толщины; но у него по-прежнему был молодой и весёлый взгляд и пухлые, надутые губы.
– Кирилл Кириллович, в сущности этот кошмар очень интересен и не нов. Истории наплевать на нас, мой друг. Ах, миленькие марксисты, говорит эта ведьма из «Макбета», вы планы составляете, интересуетесь вопросами этики? И она напускает на нас царя-батюшку Ивана Грозного с его истерическим страхом и посохом с железным наконечником...
Они шептались между собой, выкуривая одну за другой папиросы, в полумраке передней, где под витринами хранились коллекции злаков. Рублёв ответил, тонко посмеиваясь в бороду:
– Знаешь, школьники находят, что я похож на царя Ивана...
– Мы все чем-то на него похожи, – сказал Владек полушутя, полусерьёзно. – Все мы – профессора из потомства Грозного... Уверяю тебя, мне самому, несмотря на, мою лысину и иудейское происхождение, бывает немножко страшно, когда я заглядываю в самого себя.
– Совершенно не согласен с твоей сомнительной психологической литературой, Владек. Надо будет нам поговорить серьёзно. Я приведу Филиппова.
Свидание было назначено в лесу, на берегу Истры. Встречаться в городе или у Филлиппова, который жил рядом с железнодорожниками, было бы неблагоразумно. «У меня никто никогда не бывает, – сказал Филиппов, – этак надёжнее. Да и о чём говорить с людьми?»
К собственному удивлению, Филиппов остался в живых после разгрома нескольких экономических отделов при Государственном плановом комитете. «Единственный план, который будет полностью выполнен, – шутил он, – это план арестов». Член партии с 1910 года, он был председателем одного сибирского Совета, когда в марте 1917 года вешние воды унесли двуглавых орлов (из прогнившего дерева), позднее – комиссаром небольших партизанских частей, оборонявших тайгу от Колчака, а теперь уже второй год участвовал в разработке плана производства товаров ширпотреба: неслыханное занятие, ежечасно грозившее тюрьмой в стране, где не хватало и гвоздей, и спичек, и тканей, и всего прочего.
Но так как ему, старому партийцу, не слишком доверяли, руководители, во избежание неприятностей, поручили ему план распределения народных музыкальных инструментов: гармоний, фисгармоний, флейт, гитар, цитр и тамбуринов для Востока, причём обслуживанием оркестров занималось особое отделение. Бюро Филиппова было своего рода безопасным оазисом: почти на всех рынках предложение превышало спрос, – кроме тех, что считались второстепенными: Бурят-Монголии, Биробиджана, Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской автономной области. «Зато, – прибавлял Филиппов, – благодаря нам гармонь проникла в Джунгарию... Шаманы Внутренней Монголии требуют у нас бубнов». Он отмечал удивительные достижения. По правде говоря, все знали, что удачная продажа музыкальных инструментов объяснялась именно нехваткой более насущных предметов производства и что музыкальные инструменты производились в достаточном количестве: во-первых, благодаря работе кустарей, уклонявшихся от вступления в кооперативы, во-вторых, именно из-за ненужности этого чепухового производства... Но за это отвечал на высшем уровне Государственный плановый комитет.
– Филиппов – как и Рублёв – пришёл на свидание на лыжах: он был круглоголов, краснолиц, с коротко обстриженными чёрными усиками , и опухшими веками, из-под которых блестели проницательные выпуклые глаза. Владек пришёл пешком из своего дома в валенках и овчинном тулупе, что делало его цохожим на странного, очень близорукого лесоруба.
Они встретились под соснами, чёрные прямые стволы которых вытягивались из голубоватого снега на пятнадцать метров высоты. Под лесистыми холмами река чертила медленные извилины, у воды были серо-розовые и лазурные тона, какие встречаются на японских акварелях.
Все трое давно знали друг друга. Когда-то, незадолго до мировой войны, Филиппов и Рублёв делили комнату в мизерном парижском отеле на площади Контрэскарп. В ту пору они питались сыром бри и кровяной колбасой, презрительно комментировали в библиотеке св. Генофевы социологический труд Густава Ле Бон, вместе читали в газете Жореса отчёты о процессе мадам Кайо, покупали съестные припасы на лотках улицы Муфтар, с восхищением рассматривали старые дома эпохи Революции и в людях, выходивших из коридоров, похожих на подвалы, узнавали персонажей Домье[3]...
Филиппову случалось иногда переспать с некой Марселью, маленькой шатенкой, то смеющейся, то серьёзной, носившей челку и часто посещавшей таверну на площади Пантеона, где она, бывало, раскачиваясь, танцевала с подружками вальс. Это происходило в поздний вечерний час, в узких полуподвальных залах, под аккомпанемент скрипок. Рублёв упрекал товарища в непоследовательности его половой морали. Они ходили также в Клозери де Лила смотреть на окружённого поклонниками Поля Фора[4], причёсывавшегося под мушкетера – усы и длинные волосы, – перед кофейней маршал Ней на своём пьедестале шёл на смерть, размахивая саблей, и, наверное, уверял Рублёв, при этом бранился: «Все вы свиньи! Все вы свиньи!»
Они вместе декламировали стихи Константина Бальмонта:
Будем как солнце!
Они поссорились из-за проблемы материи и энергии, терминология которой была обновлена Авенариусом, Махом и Максвеллом. «Энергия – единственная познаваемая реальность, – заявил как-то вечером Филиппов, – материя – лишь один из её аспектов». – «Ты просто бессознательный идеалист, – ответил ему Рублёв, – и ты поворачиваешься спиной к марксизму. Впрочем, – добавил он, – мелкобуржуазное легкомыслие твоей личной жизни мне давно уже всё объяснило». Они обменялись холодным рукопожатием на углу улицы Суффло. Массивный чёрный силуэт Пантеона[5] вставал в глубине этой широкой пустынной улицы, окаймлённой мрачными фонарями. Блестела мостовая, одинокая проститутка, носившая всегда вуалетку, ждала неизвестного клиента в темноте.
Их затянувшаяся размолвка ещё углубилась из-за войны. Оба они были по-прежнему интернационалистами, но один поступил в иностранный легион, а другой был интернирован. Потом они встретились в Перми в 1918 году – и у них нашлось не более пяти минут, чтобы удивиться или обрадоваться этой встрече.
Рублёв привёл в этот город отряд рабочих, чтобы подавить бунт пьяной матросни. Филиппов, с обвязанным шарфом горлом, безголосый, с раненой рукой на перевязи, только благодаря счастливой случайности ускользнул от дубин мужиков, восставших против реквизиции. Оба были в чёрных кожаных куртках, у них были маузеры с деревянными рукоятками, повелительные ордера, оба питались кашей на воде и солёными огурцами, оба были замучены, полны энтузиазма и мрачной энергии.
Они стали держать совет при свечах, под охраной петроградских пролетариев, увешанных поверх пальто патронташами. Необъяснимые выстрелы раздавались где-то в чёрном городе, где были сады, полные волнения и звёзд. Филиппов первый сказал:
– Придётся расстрелять кое-кого, иначе не справимся.
Один из стороживших у дверей сдержанно бросил:
– Ещё бы – чёрт их возьми!
– Кого? – спросил Рублёв, пересиливая усталость, дремоту, тошноту.
– Заложников. Есть офицеры, поп, фабриканты...
– Разве это необходимо?
– Ещё как! Не то сами пропадём, – снова проворчал человек из стражи и шагнул вперёд, протянув перед собой чёрные руки.
Рублёв вскочил, охваченный бешеной злобой:
– Молчать! Запрещаю вмешиваться в совещание военного совета! Дисциплина!
Филиппов, слегка надавив на его плечо, заставил его снова сесть и шепнул иронически:
– Буль Миш помнишь?[6]
– Что? – переспросил удивлённый Рублёв. – Замолчи, татарин, прошу тебя! Я решительно против расстрела заложников. Незачем нам делаться варварами.
– Тебе придётся согласиться, – ответил Филиппов. – Во-первых, отступление для нас с трёх сторон отрезано... Во-вторых, мне необходимо раздобыть несколько вагонов картошки, за которую мне нечем заплатить. В-третьих, моряки вели себя по-хулигански, это их следовало бы расстрелять, но нельзя, потому что они замечательные парни. В-четвёртых, не успеем мы отсюда уйти, как весь край восстанет... Значит, ты должен подписать.
Приказ о расстреле, набросанный на оборотной стороне какого-то счёта, был уже готов. Рублёв подписал его, ворча:
– Надеюсь, что мы с тобой когда-нибудь за это расплатимся. Я тебе говорю – мы пачкаем революцию. Это чёрт знает что такое...
Они были молоды тогда... А теперь, двадцать лет спустя, отяжелевшие, поседевшие, они медленно скользили на лыжах сквозь дивный пейзаж Хокусаи[7], и это прошлое безмолвно пробуждалось в них.
Филиппов, разбежавшись, оказался впереди других. Владек пришёл им навстречу. Они воткнули лыжи в снег и пошли опушкой леса, над оледеневшей рекой, окаймлённой удивительными заснеженными кустами.
– Как славно, что мы встретились, – сказал Рублёв.
– Как замечательно, что мы живы, – сказал Владек.
– Что же нам делать? – спросил Филиппов. – That is the question[8].
Пространство, лес, снег, лёд, лазурь, тишина, прозрачный холодный воздух окружили их. Владек стал рассказывать о поляках: все они исчезли в тюрьмах, сначала правые с Костшевой во главе, потом левые, которыми руководил Ленский.
– И югославы тоже, – прибавил он, – и финны... Через это проходит весь Коминтерн.
Его рассказ был усеян именами и лицами. *
– Да у них лучшие достижения, чем у Плановой комиссии! – радостно воскликнул Филиппов.
– А я, – прибавил он, – я, кажется, обязан жизнью Бруно. Ты его знал, Кирилл, когда он был секретарём берлинской дипломатической миссии, – помнишь его ассирийский профиль? После ареста Крестинского он думал, что и его тоже ликвидируют, а его вдруг назначили – это прямо невероятно! – заместителем начальника какого-то особого отдела НКВД: таким образом он получил доступ к главной картотеке. По его словам, ему удалось спасти дюжину товарищей, уничтожив их карточки. «Но я всё же погиб, – говорил он, – остались, само собой, дела в папках, картотека КЦ... но там человек не слишком на виду, иногда его труднее разыскать...»
– А дальше?
– Он погиб в прошлом году, не знаю где, не знаю как. Так что же нам делать? – повторил Филиппов.
– Что касается меня, – сказал Владек, нащупывая папиросы в кармане, – и у него был свойственный ему немного комический вид обиженного старого ребёнка, – если придут за мной, я живым в руки не дамся. Спасибо.
Двое других смотрели вдаль.
– Случается всё же, – сказал Филиппов, – что арестованных выпускают на свободу или ссылают куда-нибудь. Мне известны такие случаи. Твоё решение неразумно. И кроме того, мне в нём что-то не нравится. Похоже на самоубийство.
– ...если хочешь. Филиппов продолжал:
– Во всяком случае, если меня арестуют, я им вежливо скажу, что не пойду ни на какие сделки ни с процессом, ни без процесса. Делайте со мной что хотите. Мне кажется, если высказаться откровенно, есть шансы на спасение. Пошлют меня на Камчатку составлять планы лесоповала. Я на это согласен. А ты, Кирилл?
Кирилл Рублёв снял шапку, подставив морозу высокий лоб, покрытый прядями ещё тёмных волос.
– С тех пор как расстреляли Николая Ивановича[9], я чувствую, как они незаметно кружат вокруг меня. Я их жду. Доре я об этом не говорю, но она знает. Для меня это – практический вопрос, который может встать передо мной в любой день... И... я не знаю...
Они шли, проваливаясь по колено в снег. Над ними с ветки на ветку перелетали вороны. Дневной свет был пронизан зимней белизной. Кирилл Рублёв был на голову выше своих товарищей, и душа его тоже была иная, чем у них. Он продолжал спокойным тоном:
– Самоубийство – индивидуальный, следовательно, не социалистический выход из положения. В моем случае это было бы плохим примером. Я не для того говорю это, Владек, чтобы повлиять на твоё решение. У тебя свои причины, для тебя они могут быть решающими. Утверждать, что мы ни в чём не сознаемся – это смело, может быть, слишком смело. Никто не может быть совершенно уверен в своих силах. Кроме того, всё это гораздо сложнее, чем кажется.
– Да, да, – подтвердили двое других, спотыкаясь в снегу.
– Надо осознать происходящее... осознать...
Рублёв, смущённо повторявший эти слова, был похож на озабоченного педагога. Владек вспылил, покраснел, стал жестикулировать своими короткими ручками:
– Несчастный теоретик! Ты неизлечим! Уморительный ты тип! Я помню ещё статьи, в которых ты в 27-м году нападал на троцкистов, уверяя, что пролетарская партия не может выродиться... Потому что если она выродится, то перестанет, само собой, быть пролетарской. Казуист! То, что происходит теперь, ясно, как день: это Термидор, Брюмер и тому подобное, происходящее на непредвиденном социальном фоне, в стране, где Чингисхан имеет в своём распоряжении телефон, как сказал старик Толстой.
– Чингисхан, – сказал Филиппов, – жертва несправедливого осуждения. Он вовсе не был жесток. Он приказывал возводить пирамиды из отрубленных голов вовсе не из злобы и не потому, что увлекался примитивной статистикой: ему необходимо было опустошить области, над которыми он иначе не мог бы господствовать и где он намеревался ввести скотоводческое хозяйство, единственно ему понятное. Уже и в те времена рубили головы из-за различия экономических систем... И заметьте: у него не было иного способа убедиться в точном исполнении его приказаний; надо было собрать отрубленные головы в одно место. Хан не доверял своей рабочей силе...
Они ещё некоторое время брели по глубокому снегу.
– Чудесная Сибирь, – пробормотал Рублёв, на которого этот пейзаж действовал успокоительно.
Владек резко повернулся к своим товарищам, остановился перед ними в комическом негодовании:
– Ах, как вы хорошо рассуждаете! Один читает доклад о Чингисхане, другой рекомендует осознать положение. Вы над собой смеётесь, дорогие товарищи! Разрешите мне, мне, мне сделать вам признание.
(Они увидели, что его толстые губы дрожали, что лёгкий туман застлал стёкла его очков, что прямые морщины горизонтально раздвинули его щёки, – и в течение нескольких секунд он продолжал неразборчиво бормотать «мне, мне, мне...».)
– У меня, наверно, более грубая натура, чем у вас, дорогие товарищи. Ну так вот, мне страшно. Я подыхаю от страха, слышите, и мне всё равно, достойно это революционера или нет. Я живу один, как зверь, среди этого снега, среди этих лесов, которые я ненавижу, – потому что мне страшно. Я живу один, без женщины, потому что не хочу, чтобы мы оба просыпались и думали, что эта ночь, быть может, последняя. Я жду их каждую ночь, в одиночестве, я принимаю бром, засыпаю как бревно, потом внезапно просыпаюсь, мне кажется, что они пришли, я кричу: «Кто там?», и моя соседка отвечает: «Это ставня хлопнула, спите спокойно, Владимир Эрнестович», но я не могу больше уснуть, это ужасно. Мне стыдно и страшно, стыдно не за себя, за всех нас. Я думаю о тех, которых расстреляли, я вижу их лица, слышу их шутки, и у меня начинается мигрень, которую медицина ещё не классифицировала: маленькая боль огненного цвета, сверлящая затылок. Я боюсь, боюсь, не так боюсь смерти, как всего этого: боюсь вас видеть, боюсь говорить с людьми, боюсь думать, боюсь понять...
И это было заметно по его опухшему лицу, по порозовевшим векам, по быстрому говору. Филиппов сказал:
– Мне тоже, конечно, страшно, но какой в этом толк? Я к этому привык. Можно жить со своим страхом, как с грыжей.
Кирилл Рублёв медленно стягивал перчатки, рассматривал свои сильные, большие руки, немного волосатые над суставами. «Руки, заряженные ещё жизненной энергией», – подумал он. Набрав немного снега, он стал лепить из него крепкий комок. Его большой рот скривился.
– Все мы трусы, это давным-давно известно. Сознавать это и вести себя, когда нужно, так, как будто страха не существует: в этом и состоит храбрость. Ты напрасно, Владек, считаешь себя исключением. Всё же для таких ненужных признаний не стоило нам встречаться в этом волшебном лесу...
Владек ничего не ответил. Перед ним был пустынный, печальный и светлый пейзаж. Мысли, медленные, как полёт ворон в небе, возникали в его мозгу: все наши разговоры ни к чему не ведут, – мне бы стакан горячего чая... Стряхнув с себя внезапно тяжесть лет, Кирилл отскочил назад, поднял руку – и твёрдый снежок, который он вылепил, попал прямо в грудь удивлённому Филиппову.
– Защищайся, я нападаю! – весело крикнул ему товарищ; глаза его смеялись, борода скосилась, он набирал снег обеими руками.
– Ах ты, сукин сын! – закричал, преобразившись, Филиппов.
Между ними разгорелась битва, как будто они были школьниками. Они подпрыгивали, хохотали, по самую поясницу проваливались в снег, прятались за стволами сосен, чтобы вылепить свои снаряды и как следует нацелиться. Казалось, они вновь обрели ловкость пятнадцатилетних подростков; весело восклицали «эх», заслонялись локтем, задыхались.
Владек, не двигаясь с места, твёрдо стоял на своих коротких ножках, методически лепил снежки, чтобы атаковать Рублёва сбоку. Он хохотал до слёз, бранился: «Вот тебе, теоретик! Моралист! Чёрт бы тебя побрал!» – и всякий раз промахивался...
Им стало жарко, сердца их колотились, прояснились лица. Незаметно посерело небо, и так же неожиданно спустился вечер на матовый, слегка туманный снег, на окаменевшие деревья. Все трое, тяжело дыша, направились к железной дороге.
– Здорово я тебе, Кирилл, попал в ухо! – воскликнул Филиппов, давясь от смеха.
– А ты, брат, – ответил Рублёв, – получил от меня как следует в затылок, а?
Владек возобновил серьёзный разговор.
– Знаете, нервы у меня расстроены, это факт, но в общем мне не так уж страшно. Будь что будет, подохну, как другие, для удобрения социалистической земли – если это земля социалистическая...
– Государственный капитализм, – сказал Филиппов.
А Рублёв:
– ...Надо осознать положение. При варварстве существуют несомненные достижения, при упадке – прогресс. Посмотрите на массы, посмотрите на нашу молодёжь, на новые заводы, на Днепрострой, Магнитогорск, Кировск... Все мы обречены на расстрел, но лик земли изменился, перелётные птицы, верно, не узнают больше пустынь, где возникли строительные участки. А новый пролетариат, десять миллионов за работой, за машинами – вместо трёх с половиной миллионов в 1927 году? Что принесёт миру через полвека это гигантское усилие?
– ...когда даже от наших косточек ничего не останется, – пропел Владек, быть может, без всякой иронии.
Из предосторожности они расстались, не доходя до первых домов. «Надо бы нам ещё увидеться», – предложил Владек, и двое других сказали: «Да, да, обязательно», но каждый из них знал, что это и невозможно, и бесполезно. Они простились, обменявшись крепким рукопожатием. Кирилл быстро заскользил на лыжах до следующей железнодорожной станции, вдоль безмолвных лесов, где темнота, казалось, рождалась из земли, подобно неуловимому туману. Тонкий, страшно заострённый голубоватый лунный серп вставал в ночи, – он как будто обхватывал идеальную женскую грудь. «Какая гадкая луна», – подумал Рублёв. Страх встаёт в нас совершенно как ночь.
Как-то вечером, когда Рублёвы кончали обедать, к ним пришла Ксения Попова – сообщить важную новость. На столе стояли блюдо риса, колбаса, бутылка нарзана, лежал серый хлеб. Примус гудел под чайником. Кирилл Рублёв сидел в старом кресле, Дора примостилась в углу дивана.
– Какая ты хорошенькая, – ласково сказал Кирилл Ксении, – покажи-ка твои большие глаза.
Она прямо поглядела на него, – у неё были большие глаза красивого разреза, окаймлённые длинными ресницами.
– Нет ни камней, ни цветов, ни неба такого оттенка, – сказал Рублёв жене. – Такие глаза – чистое чудо. Можешь гордиться, девочка!
– Да вы меня сконфузите, – сказала она.
Рублёв внимательно и не без лукавства разглядывал её: ясные черты лица, высокий, чистый лоб, закрученные на ушах белокурые косички и такое выражение, будто она всегда улыбалась жизни. Оказывается, чистота рождается из грязи, юность – из истощения. Он больше двадцати лет знал Попова: это был старый дурак, неспособый понять даже азбуку политической экономики, специализировавшийся на вопросах социалистической морали и погрязший поэтому по уши в делах Центральной комиссии партийного контроля. Прелюбодеяния, должностные преступления, пьянка, превышение власти, в которых обвинялись старые партийцы, – к этому сводилась вся жизнь Попова. Это он мотивировал выговоры, рассылал предупреждения, подготовлял обвинения, предвидел экзекуции, предлагал наградить палачей. «Немало приходится совершать грязный дел, – для них нужно много грязных исполнителей» – это была мысль Ницше. Но как, каким чудом из духа и плоти старого, насквозь прокисшего ханжи и фарисея Попова вышло это существо, эта Ксения? Значит, жизнь сильнее нашей жалкой материи. Кирилл Рублёв смотрел на Ксению с жадной и лукавой радостью.
Высоко положив ногу на ногу, девушка закурила, стараясь придать себе уверенный вид. Она была так счастлива, что боялась выдать себя. Неубедительно-небрежным тоном она сказала:
– Папа устроил мне поездку за границу: я еду в командировку в Париж на шесть месяцев по поручению Центрального управления текстильной промышленности, для изучения новой техники печатания рисунков на ткани. Папа давно знает, как мне хочется поехать. Я так и подпрыгнула от радости!
– И неудивительно, – сказала Дора, – я очень рада за тебя. Что же ты будешь делать в Париже?
– У меня голова кружится, когда я об этом думаю. Увидеть собор Парижской богоматери, Бельвиль! Я читаю жизнь Бланки, историю Коммуны. Пойду в предместье Св. Антуана, на улицу Св. Мерри, на улицу Аксо, увижу Стену коммунаров... Бакунин жил на улице Бургундии, но мне не удалось найти номер дома. А может быть, номера теперь другие. Вы не знаете, где жил Ленин?
– Я как-то был там у него, – медленно сказал Рублёв, – но совершенно не помню, где это было...
Ксения с упреком воскликнула: «О! Как можно забыть такое?» В её больших глазах было удивление.
– Да, правда, вы знали Владимира Ильича?.. Какой вы счастливый!
«Какой ты ребёнок, – подумал Рублёв, – и всё-таки ты права».
– И потом, – сказала она, преодолевая лёгкое смущение, – мне хочется немножко приодеться. Накупить красивых французских вещей... Скажите, разве это дурно?
– Напротив, очень хорошо, – сказала Дора, – всей нашей молодёжи нужны красивые вещи.
– Я так и думала! Я так и думала! Но папа уверяет, что одежда должна быть утилитарной, что всякое украшение – пережиток варварской цивилизации. Что моды отражают умонастроение буржуазии. (И в её необыкновенной синевы глазах стоял смех.)
– Твой отец неисправимый старый пуританин, – сказал Рублёв, – а как он поживает?
Ксения стала рассказывать. Бывает, что в глубине прозрачной воды, струящейся по камешкам, мелькнёт тень, привлечёт ваше внимание, потом исчезнет, и вы спросите себя, что это было, чья таинственная жизнь бежала там своим путём? Рублёвы вдруг навострили уши; Ксения сказала:
– Отец очень занят делом Тулаева, он говорит, что это – тоже заговор.
– Я немного знал Тулаева, – сказал Рублёв глухо, – четыре года тому назад я выступал против него в Московском комитете. Наступала зима, и, как всегда, не хватало топлива. Тулаев внёс предложение: отдать под суд руководящие кадры Треста топливных ресурсов. Мне удалось добиться отклонения этого идиотского предложения.
– ...Отец говорит, что много людей запутано в этом деле... Мне кажется – только никому не говорите, это очень серьёзно, – мне кажется, что арестован Ершов... Его вызвали с Кавказа, и. с тех пор его никто не видел... Я случайно подслушала телефонный разговор относительно его жены... Она, наверное, тоже арестована...
Рублёв взял со стола пустой стакан, поднёс его ко рту, потом поставил на место. Ксения смотрела на него с изумлением.
– Кирилл, – спросила Дора, – что ты выпил?
– Я? Ничего, – ответил он с растерянной улыбкой. Наступило неловкое молчание. Ксения опустила голову. Ненужная папироса дотлевала в её пальцах.
– А наша Испания, Кирилл Кириллыч, – спросила она наконец с усилием, – как вы думаете, продержится она? Мне бы хотелось... (но она не сказала, чего бы ей хотелось).
Рублёв снова взял со стола пустой стакан.
– Кончится поражением, – сказал он, – и в этом будет доля и нашей вины.
Разговор их стал трудным. Дора попыталась перейти на другие темы:
– Ты ходишь в театр, Ксения? Что ты читаешь?
Но её слова падали в пустоту. Серая холодная сырость вползала в комнату; она была непреодолима, от неё потускнела лампа. Ксения почувствовала укол холода в плечах. Она встала, и Рублёвы поднялись тоже, чтобы проводить её до порога. На минуту им удалось победить серый холодок.
– Ксения, – тихо сказала Дора, – желаю тебе быть счастливой. И Ксении стало чуть-чуть больно: это было похоже на прощание. Как ответить на это пожелание? Рублёв ласково обнял её за талию:
– У тебя широкие плечи и узкие бёдра, как у египетской статуэтки. С такими плечами, с такими сияющими глазами, – смотри, Ксенюшка, держись!
– Что вы хотите сказать?
– Слишком многое. Потом когда-нибудь поймёшь. Счастливого пути.
В самую последнюю минуту, в тесной передней, заваленной кипами газет, Ксения вспомнила, что непременно должна была рассказать им что-то очень важное. Она сказала вполголоса, – и взгляд её потемнел:
– Я слышала от отца, что в какую-то московскую тюрьму привезли Рыжика, что он объявил голодовку, что ему очень плохо... Он троцкист?
– Да.
– Иностранный агент?
– Нет. Сильный и хрустально чистый человек.
В её растерянном взгляде отразился страх.
– Но тогда – почему же?..
– В истории никогда не происходит ничего совершенно неразумного. Случается, что самые лучшие люди должны погибнуть: они вредны именно тем, что они лучше всех. Ты этого ещё не можешь понять.
В каком-то порыве она чуть не бросилась ему на грудь:
– Кирилл Кириллович, вы оппозиционер?
– Нет.
Они расстались на этом чётком слове; Рублёв обнял её, Дора несколько раз быстро поцеловала в губы, – и в губах Доры было отчаяние. Звук молодых шагов постепенно заглох в коридоре. Кириллу и Доре их комната показалась ещё больше, ещё неуютнее.
– Вот оно как, – сказал Кирилл.
– Вот оно как, – повторила Дора со вздохом.
Кирилл налил себе полстакана водки, выпил её залпом.
– А ты, Дора, – ведь ты живёшь со мной уже шестнадцать лет – как ты считаешь, я оппозиционер? Да или нет?
Дора предпочла промолчать. Ему случалось иногда, говоря с самим собой, резким тоном задавать ей вопросы.
– Дора, мне хотелось бы завтра напиться, может быть, тогда всё станет яснее... У нашей партии не может быть оппозиции: она монолитна, потому что для высшей эффективности мы слили в одно теорию и практику. Вместо того чтобы переубеждать друг друга, мы предпочитаем все вместе ошибаться: так мы сильнее в глазах пролетариата. Искать правду для моего личного сознания, для меня; для меня – в этом заключается извечная ошибка буржуазного индивидуализма. Нам наплевать на наше «я», мне наплевать на меня, наплевать на истину – была бы сильна партия!
– Какая партия?
Эти два слова, произнесённые низким, ледяным голосом Доры, дошли до него в ту секунду, когда в нём самом внутренний маятник метнулся в обратном направлении.
– ...Конечно, если партия изменила самой себе, если она уже не партия революции, тогда то, что мы делаем, – смешно и безумно. Надо было бы делать совершенно обратное, каждое отдельное сознание должно было бы опомниться... твёрдая спайка нам необходима, чтобы устоять против напора вражеских сил... Но если эти силы уже проникли в наше единство... Что ты сказала?
Он не мог устоять на месте, его угловатая фигура пересекала по диагонали большую комнату; он был похож на крупную, исхудавшую хищную птицу, запертую в просторной, но всё же тесной клетке. Этот образ возник в глазах Доры; она ответила:
– Не знаю.
– В самом деле, надо было бы пересмотреть наши суждения относительно оппозиции между 1923 и 1930 годами, – лет семь-десять тому назад. Мы ошибались тогда, оппозиция, может быть, была права – может быть, – ведь никто не знает, могла ли бы история пойти иным путём...
Пересмотреть суждения о мёртвых годах, о законченной борьбе, об отживших формулах, о людях, по-разному загубленных?
Прошло несколько дней: это были московские дни, беспорядочные, торопливые, тесно набитые делами, прорезанные внезапными просветами, – когда вдруг на улице, забью обо всём на свете, остановишься, чтобы полюбоваться яркими красками и снегом под холодным и ясным солнцем. Мелькают здоровые, молодые лица, и хотелось бы знать, какая у этих людей душа, и думается, что нам, как травинкам, нет числа, что сотня народов входит в наш народ- славяне, финны, монголы, северяне, турки, евреи, и что все они идут вперёд, а ведут их девушки и юноши с золотистой кровью. Думаешь о машинах, энергия которых пробуждается на новых заводах, эти машины проворны и блестящи, в них – скрытая сила миллионов рабов-автоматов. Они навсегда победят извечный мучительный труд. Мало-помалу новый мир вырастает из страдания, – ещё недостаёт мыла, белья, одежды, ясного знания, правдивых, простых и значительных слов, великодушия, мы ещё едва умеем оживлять эти машины; вокруг наших новых гигантских заводов, лучше оборудованных, чем заводы Детройта или Рурской области, стоят ещё убогие бараки, и в них спят тяжёлым сном люди, раздавленные суровым законом эксплуатации труда. Но завод победит бараки, и благодаря машинам этих людей – или тех, что последуют за ними, не всё ли равно? – ждёт удивительное пробуждение. Движение этого мира, этих машин и людских масс, вместе идущих вперёд, конечно, искупит многое. Может быть, оно искупит и конец нашего поколения? Это – накладные расходы, нелепая расплата за прошлое. Нелепая: это было хуже всего. Мы были нужны ещё и машинам, и массам, без нас они могли заблудиться, и это вызывало тревогу и возмущение. Но что же делать? Чтобы сознательно исполнить наш долг, у нас одна опора: партия, «железная когорта». Железная, телесная, духовная...
Никто из нас больше не думал, не действовал в одиночку: все мы думали и действовали сообща, всегда в интересах огромных человеческих масс, за которыми мы ощущали присутствие других неисчислимых масс, – пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Но дух смутился, плоть ослабела, железо заржавело, потому что наша когорта, созданная, быть может, в исключительный исторический момент испытаниями, доктриной, ссылкой, каторгой, восстанием, властью, войной, работой, братством, – эта когорта износилась, в неё незаметно пробрались чужие, которые говорили на нашем языке, подражали нашим жестам, выступали под нашим знаменем, но не были на нас похожи; их стимулом была извечная жадность, они не были ни пролетариями, ни революционерами, а карьеристами...
Больная когорта, тайно захваченная врагами, мы все ещё принадлежим тебе. Если бы можно было тебя вылечить, хотя бы калёным железом, или заменить тебя другой – за это стоило бы отдать жизнь. Но ты неизлечима – и пока ещё незаменима. Нам остается только по-прежнему служить тебе, и если нас убьют – принять смерть. Наше сопротивление только углубило бы зло. В самом деле, если бы Бухарин или Пятаков вдруг вскочили со скамьи подсудимых, чтобы в один миг разоблачить своих несчастных товарищей, лгавших в свой последний час по приказу свыше, прокурора-фальсификатора, судей-сообщников, подлую инквизицию, онемевшую партию, поглупевший терроризированный ЦК, раздавленное Политбюро, Вождя, преследуемого кошмарами, – как была бы деморализована страна, какое ликование это вызвало бы в капиталистическом мире, какие заголовки в фашистской прессе! «Требуйте «Скандал в Москве», «Прогнивший большевизм», «Жертвы Вождя разоблачают его». Нет, право, лучше смерть, всё равно какая. Эти счёты мы должны свести между собой, внутри нашего нового общества, которое подтачивают старые болезни...»
Мысли Рублёва непрерывно вращались в этом железном круге.
Как-то вечером, после ужина, он надел свой полушубок, барашковую шапку, сказал Доре: «Пойду подышать свежим воздухом наверху», вошёл в лифт и велел лифтёру подняться на террасу, которая была над десятым этажом. Летом там был дорогой ресторан, и клиенты, рассеянно слушая пение скрипок и глядя на бесчисленные московские огни, невольно поддавались очарованию этих земных созвездий, – среди них самый слабый огонёк указывал путь рабочему люду. Но зимой, когда не было ни обедающих, ни цветов, ни цветных абажуров на маленьких столиках, ни скрипок, ни запаха жареной баранины, шампанского и косметики, зимой всё это было ещё прекраснее: одна лишь огромная тихая ночь над огромным городом, красный отблеск площади Пушкина с её световыми рекламами, чёрными тропинками на снегу, муравьиным движением людей и машин под фонарями, скромным и тайным рдением окон... На такой высоте электрический свет не мешал зрению, можно было отлично различить звёзды. Среди густой черноты зданий жаркое сверкание отмечало место площадей. Белые бульвары терялись в тени. Сунув руки в карманы, ни о чём не думая, Рублёв обошёл всю террасу. Улыбка мелькнула между его бородой и усами. «Надо было вытащить сюда Дору, чтобы она на это посмотрела, это замечательно, замечательно...» И он внезапно остановился, совершенно очарованный: прямо на него, возникнув из неба и ночи, неслась, грациозно наклонившись вперёд в своём полёте, обнявшаяся пара.
Эти влюблённые катались на коньках на террасе, в полном одиночестве... Они налетели на Кирилла Рублёва, сверкнули на него блеском счастливых лиц, полуоткрытых губ, улыбнулись ему, потом, склонившись, описали лёгкую изогнутую линию и улетели к другому горизонту, – вернее, на другой конец террасы, откуда виден был Кремль. Там, увидел Рублёв, они остановились, облокотившись на перила. Он подошёл к ним, облокотился рядом. Оттуда легко можно было различить высокую зубчатую стену, массивные сторожевые башни, алое пламя знамени на куполе исполкома, освещённое прожектором, купола соборов, широкий отблеск Красной площади...
Молодая конькобежица взглянула искоса на Рублёва, узнав в нём старого, влиятельного партийца, за которым – в прошлом году – каждое утро приезжала машина из ЦК. Она наполовину повернулась к нему. Её друг кончиками пальцев гладил ей затылок.
– Ват там живёт Вождь нашей партии? – спросила она, поглядев вдаль на башни и зубцы, освещённые в ночи.
– В Кремле у него есть квартира, – сказал Рублёв, – но он там не живёт.
– Но работает? Вот там, где-то над красным знаменем?
– Иногда.
Девушка помолчала с минуту, потом повернулась к Рублёву.
– Ужасно, когда подумаешь, что такой человек годами был окружён предателями и преступниками! Прямо дрожишь за егэ жизнь!.. Разве это не ужасно?
Кирилл отозвался эхом, негромко:
– ...Ужасно.
– Пошли, Дина, – сказал вполголоса молодой человек. Они взяли друг друга за талию и, вновь став воздушными, склонились и улетели на коньках к другому горизонту, будто несла их волшебная сила... Чуть-чуть раздражённый, Кирилл направился к лифту.
У себя дома он застал неизвестного, хорошо одетого молодого посетителя. Он сидел против очень бледной Доры:
– Товарищ Рублёв, я привез вам письмо из Московского комитета (большой жёлтый конверт, обыкновенная повестка по спешному делу). Если можно, поедем сейчас же, машина ждёт внизу.
– Но уже одиннадцать часов, – возразила Дора.
– Мне приказано заверить вас, что товарищ Рублёв вернётся через двадцать минут, на машине.
Рублёв отпустил посланца.
– Я спущусь через три минуты.
Они смотрели друг на друга, глаза в глаза, на губах Доры не было ни кровинки, лицо её пожелтело, как будто ей было дурно. Она пробормотала:
– Что это значит?
– Не знаю. Помнишь, это уже раз было. Всё-таки довольно странно...
Ни малейшего луча света. Ни малейшей надежды на помощь. Они поспешно, вслепую поцеловались холодными губами.
– До очень скорого...
– До очень скорого...
Кабинеты Комитета были пустынны. В секретариате толстый татарин, увешанный орденами, бритоголовый, с чёрными волосками над губой, читал газету, попивая чай. Он взял повестку. «Рублёв? Сейчас...» Открыл папку, в которой был один только листок с машинописным текстом. Прочёл его, нахмурясь. Поднял опухшее, непроницаемое, тяжёлое лицо любителя хорошо поесть.
– Партийный билет при вас? Позвольте мне...
Рублёв вынул из бумажника красную книжечку, на которой стояло: «член партии с 1907 г.». Более двадцати лет. И каких лет!
– Хорошо.
Красная книжечка исчезла в ящике стола, ключ повернулся.
– Вы находитесь под следствием. Билет вам будет возвращён после окончания следствия, в зависимости от его результатов. Всё.
Рублёв давно уже готовился к этому удару, но от внезапной ярости брови его взъерошились, челюсти сжались, плечи стали квадратными... Секретарь слегка отодвинулся на своём вращающемся кресле.
– Мне об этом ничего другого не известно. Я получил определённые указания. Это всё, гражданин.
Рублёв вышел, чувствуя себя до странного лёгким; его как бы несли мысли, похожие на полёт испуганных птиц. Вот это и есть ловушка – зверь, пойманный в ловушку, это ты, это ты, старый революционер... Да и все мы попали в ловушку, все... А что, если мы в чём-то страшно ошиблись? Подлецы, подлецы!.. Пустой, ярко освещённый коридор, широкая мраморная лестница, двойные вращающиеся двери, улица, сухой мороз, чёрная машина посланца... Рядом с курившим посланцем стоял ещё кто-то, низкий голос неясно пробормотал:
– Вас просят следовать за нами, товарищ Рублёв, для нескольких минут разговора...
– Знаю, знаю, – яростно сказал Рублёв и, открыв дверцу, бросился внутрь ледяного «линкольна», напрягая всю свою волю, чтобы подавить взрыв отчаянного гнева...
Переулки двух оттенков, снежно-белого и синего, ночного пролетали в окнах. «Замедли ход», – приказал Рублёв, и шофёр его послушался. Рублёв опустил стекло, чтобы яснее разглядеть кусочек улицы – всё равно какой. Сверкал тротуар, покрытый нетронутым снегом. Старый барский особняк прошлого века, с фронтоном, покоившимся на двух колоннах, казалось, уже сто лет дремал за своей решёткой. Серебристые стволы берёз слегка блестели в саду. Всё это вечно покоилось в абсолютной тишине, в чистоте, похожей на сон. «Прощай, подводный город... – Шофёр прибавил хода. – Это мы оказались под водой. Но всё равно, – когда-то мы были сильными».
Макеев был щедро наделён одним даром: чтобы расти, он умел забывать. О мужичке из Акимовки (возле Ключева, Тульской губернии, холмистые зелёные и рыжие поля, там и сям соломенные крыши) он помнил лишь то, что позволяло ему гордиться переменой судьбы. Деревенские девушки пренебрегали рыжим пареньком, похожим на миллионы других и, как другие, обречённым на крестьянский труд; они с оттенком насмешки звали его Артёмкой Рябым. От детского рахита у него осталась неуклюжая кривизна ног. Всё же, когда ему было семнадцать лет, ему случалось на воскресных вечерних побоищах между парнями с Зелёной и с Вонючей улицы одним ударом кулака сразить противника, ударом собственного изобретения, попадавшим между ухом и шеей и вызывавшим немедленное головокружение... Но кончались эти грубые драки, а девушки по-прежнему и знать его не хотели, и он сидел, покусывая ногти, на своём полуразвалившемся крыльце и глядел, как шевелятся в пыли большие, сильные пальцы его ног. Если бы он знал, что существуют слова, чтобы выразить мрачное оцепенение таких минут, он пробормотал бы, как Максим Горький в том же возрасте: «И скучно, и грустно, и некому морду побить» – чтобы уйти от себя, от нерадостного мира. В 17-м году Империя превратила Артёма под своими двуглавыми орлами в пассивного солдата, такого же грязного и бездельного, как и другие, сидевшие в волынских окопах. Он убивал время, мародёрствуя в краю, где до него побывали уже сотни тысяч таких же мародёров, в сумерках деловито искал вшей и мечтал об изнасиловании молодых крестьянок, в поздний час изредка проходивших по дороге, – которых, впрочем, уже не раз насиловали другие... Он же на это не осмеливался.
Он брёл за женщинами по меловым полям с поломанными деревьями, в земле ширились воронки, и оттуда вдруг высовывалась скрюченная рука, колено, каска, консервная банка, разорванная зигзагом. Он шёл за ними с пересохшим горлом, мускулы его мучительно жаждали насилия, – но он так и не посмел ни на что решиться.
Странная сила, вначале встревожившая его самого, проснулась в нём, когла он узнал, что крестьяне забирают себе землю. Теперь он постоянно видел перед собой барское имение Акимовку, господский дом с низким фронтоном на четырёх белых колоннах, статую нимфы на берегу пруда, поля, леса, болото, луга... Он почувствовал, что от всей души ненавидит неизвестных ему владельцев этого мира, который на самом-то деле испокон веков по справедливости принадлежал ему и который у него отняли задолго до его рождения: это было неслыханным преступлением против крестьян всего мира. И это всегда так было, а он и не знал; и всегда дремала в нём эта ненависть.
Порывы ветра, пролетавшие по вечерам над изуродованными войной полями, принесли ему вместе с непонятными речами всё объясняющие слова: этих бар и барынь, живших в помещичьих домах, называли «кровопийцами». Солдат Артём Макеев никогда их в глаза не видел; и образ, теперь зарождавшийся в нём, не смешивался ни с каким живым человеческим образом; но зато после разрыва шрапнелей ему не раз приходилось видеть кровь своих товарищей, её впитывали земля и жёлтые травы; вначале она была такой красной, что вид её вызывал тошноту, а потом чернела, и на неё налетали мухи.
В это же самое время Макеев впервые в жизни стал думать. Это было всё равно что разговаривать с самим собой и сначала показалось ему смешным, «что я дурака валяю?». Но слова, рождавшиеся в его мозгу, были так серьёзны, что гасили смех, и он морщился, как человек, взваливший себе на плечи непомерную тяжесть. Он говорил себе, что надо уехать, унести с собой под шинелью несколько гранат, вернуться в деревню, поджечь помещичий дом, забрать землю. Откуда взялась у него мысль о поджоге? Порою летом горит весь лес, и никто не знает, как он загорелся. Пылают деревни, и никто не знает, где зародилось пламя. Мысль о пожаре заставила его думать ещё напряжённее. «Жаль, конечно, палить красивый помещичий дом, но что же с ним делать? Как приспособить его для мужиков? Пустить туда лапотников – нет, это, конечно, было невозможно. Сгорит гнездо – улетит птица. Когда сгорит дворянское гнездо, огненный страшный ров отделит прошлое от настоящего, – но мы попадём в поджигатели, а поджигателей ждёт каторга или виселица, значит, надо оказаться сильнее других»; но всё это было слишком сложно для конкретного ума Макеева, всё это он, скорее, чувствовал, чем охватывал мыслью. Он отправился в путь один, – выбрался из завшивевшего окопа через отхожее место. В поездах он встретился с такими же, как он, людьми, как он, ушедшими с фронта, и при виде их его сердце налилось силой. Но он им ничего не сказал: молчание делало его ещё сильнее. Помещичий дом запылал. По зелёным дорогам поспешил усмирять крестьянское восстание казачий эскадрон. Над потными крупами лошадей жужжали осы; муаровые бабочки улетали от терпкого запаха этой скачущей воинской части. Но прежде чем она добралась до преступной деревни Акимовки, близ Ключева, полученные в уезде телеграммы таинственно распространили благую весть: декрет, подписанный народными комиссарами, национализировал землю. Казаки узнали об этом от совершенно седого старика, появившегося вдруг на краю до-роги между кустами, под берёзами в серебряной чешуе. «Это закон такой вышел, сынки, нельзя вам против закона идти». Земля, земля! Закон! Удивлённый шёпот пополз среди казаков, и они стали совещаться. Бабочки в изумлении опустились на траву, отряд же замер на месте, как бы остановленный невидимым декретом, не зная, куда ему идти. Какая земля? Чья земля? Господская? Наша? Чья? Поражённый офицер вдруг испугался своих казаков, – но никто из них и не думал помешать его бегству. На единственной улице Акимовки, где бревенчатые домишки клонились каждый в свою сторону посреди маленьких зелёных участков, тяжелогрудые женщины осеняли ,себя крестным знамением. Видно, на этот раз и вправду настали времена Антихриста? Макеев, не расстававшийся со своим увешанным гранатами поясом, вышел, красномордый, на крыльцо своей полуразвалившейся избы с дырявой крышей и заорал; чтоб помолчали ведьмы-то, чёрт бы их побрал! Не то увидят они, так их и сяк... Первый совет бедняков выбрал его в председатели исполкома. Первое постановление, продиктованное им писарю (окружного мирового суда), предписывало высечь баб, которые при народе заговорят об Антихристе. Постановление это, каллиграфически выведенное круглыми буквами, было вывешено на главной улице.
Так началась головокружительная карьера Макеева. Он стал Артёмом Артёмовичем, председателем исполкома, не зная толком, что такое исполком, – но у него были под надбровными дугами глубоко посаженные глаза, крепко сжатый рот, бритая голова, рубаха, очищенная от насекомых, а в душе, как корни в трещинах скал, – узлом завязанная воля. Он прогнал людей, тосковавших о прежней полиции, велел арестовать других, которые были отосланы в район и никогда оттуда не вернулись. О нём говорили, что он «справедлив». С матовым блеском в глазах, он повторял в самой глубине своего существа: я справедлив. Если бы у него было время взглянуть на себя со стороны, он удивился бы новому открытию. Так же, как внезапно обнаружилась у него способность мыслить, для того чтобы захватить землю, зародилась в нём непонятным образом (в затылке, в пояснице, в мускулах) – другая, ещё более смутная способность, и она влекла его вперёд, окрыляла его, давала ему силы. Он не знал, как её назвать. Интеллигенты назвали бы её волей.
Только спустя несколько лет, когда он привык выступать на собраниях, Макеев научился говорить «я хочу», но ещё раныце он инстинктивно знал, что надо делать, чтобы поставить на своём, заставить, приказать, добиться успеха и потом испытать спокойное удовлетворение, почти такое же приятное, как после обладания женщиной. Он редко говорил от первого лица единственного числа, предпочитая говорить «мы». «Не я хочу, все мы, братцы, этого хотим!» В самом начале ему приходилось обращаться с речью к красноармейцам в товарном вагоне, – и голос его должен был покрывать железный лязг движущегося поезда. Его способность понимать расширялась вспышками, от одного события к другому; он хорошо разбирался в причинах и возможных следствиях, в побуждениях людей, знал, как надо действовать и противодействовать; ему очень трудно было свести это к мысленным словам, затем к идеям и воспоминаниям, – и этому он по-настоящему никогда и не научился.
Белые вторглись в эту область. Таких, как Макеев, офицеры с погонами вздёргивали на виселицу с позорной дощечкой на груди: бандит, или большевик, или и то и другое. Макеев убежал к товарищам в леса, вместе с ними захватил поезд и вышел из него в степном городе, который ему чрезвычайно понравился: это был первый в его жизни большой город; он жил неспешной жизнью под жгучим солнцем. Там на рынке продавали за несколько копеек большие сочные арбузы. Верблюды медленно брели по песчаным улицам. В трёх километрах от города Макеев, лежа в тростниках на берегу тёплой реки с блестящим песчаным дном, так удачно стрелял по всадникам в белых чалмах, что его произвели в помощники командира. Немного позже, в 19-м году, он вступил в партию. Собрание состоялось в поле, вокруг костра, под ослепительными созвездиями. Пятнадцать партийцев окружили тройку бюро, а тройка, положив записные книжки на колени, сидела на корточках в свете костра. После доклада о международном положении, прочитанного грубым голосом – причём непривычные европейские имена произносились на азиатский манер, Клемансо, Ллой-Джорж, Либкнехт, – комиссар Каспаров спросил: «Имеет ли кто возразить против принятия кандидата Макеева, Артёма Артёмыча, в партию пролетарской революции?» «Встань, Макеев», – повелительно сказал он. Но Макеев уже стоял, весь вытянувшись в багровом отблеске костра, ослеплённый и этим блеском, и взглядами, устремлёнными на него, и звёздным дождём – хотя звёзды были неподвижны... «Крестьянин, сын трудящихся крестьян...» Макеев гордо поправил: «Сын безземельных крестьян». Несколько голосов вслух одобрили его кандидатуру. «Принято», – сказал комиссар.
В Перекопе, когда им пришлось, чтобы выиграть последнее сражение этой проклятой войны, войти в коварное Сивашское море, брести там – по живот, потом по плечи в воде, опасными местами, – и кто знает, что ждёт нас через десять шагов, может быть, окончательно захлебнёмся? – Макеев, помощник комиссара 4-го батальона, не раз рисковал жизнью, упорно отбивая её у страха и ярости. Какие смертельные ямы таила эта белёсая вода под бледной зарей? Чти, если предал нас какой-нибудь военспец , из командования? Сжав челюсти, дрожа всем телом, но полный безумной решимости, безумного хладнокровия, Макеев обеими руками держал ружьё над головой, подавая пример другим. Выйдя первым на сушу, взобравшись на песчаную дюну, он лёг на чуть согревшийся живот, вскинул ружьё на плечо и стал стрелять с тыла, сам невидимый другим, в людей, которых он ясно различал: они возились вокруг небольшой пушки... Вечером после этой изнурительной победы какой-то начальник в новой форме защитного цвета влез на пушку и принялся читать вслух бойцам послание командарма, – но Макеев его не слушал: поясницу жестоко ломило, веки слипались от усталости. Всё же к концу чтения строго отчеканенные слова дошли до его слуха:
– Как тот отважный боец славной степной дивизии, который...
Макеев машинально спросил себя: «А кто же в самом деле этот отважный боец и что он, собственно, сделал, а впрочем, ну его к чёрту, и его, и эти церемонии, спать охота до смерти, не могу больше...» В эту минуту комиссар Каспаров посмотрел на него таким странным, пронзительным взглядом, что Макеев подумал: уж не провинился ли он в чём? «Я, надо думать, похож на пьяницу», – сказал он себе, делая огромное усилие над собой, чтобы не закрыть глаз. Каспаров крикнул:
– Макеев!
И Макеев, спотыкаясь, вышел из рядов. Товарищи шёпотом указывали на него. Он, он, он, Артёмыч! Бывший Артёмка, которого презирали девушки, входил в славу, до плеч облепленный сухой грязью, пьяный от усталости, мечтавший только об одном: раздобыть немного травы или соломы, чтобы на ней растянуться.
Командир поцеловал его в губы. Командир был плохо выбрит, от него пахло сырым луком, остывшим потом, конём. Они с минуту глядели друг на друга сквозь туман – так, встретившись, глядят влажными глазами замученные лошади. И Макеев проснулся, узнав уральского партизана, победителя у Красного Яра, победителя у Уфы, победителя после самого отчаянного отступления – Блюхера.
– Товарищ Блюхер, – сказал он, с трудом ворочая языком, – я... я рад тебя видеть... Ты... ты человек, который...
Ему показалось, что командир, как он сам, шатался от усталости.
– Ты тоже, – ответил, улыбаясь, Блюхер, – ты тоже человек – настоящий человек. Приходи завтра утром в штаб дивизии пить чай.
У Блюхера было загорелое лицо, всё в продольных морщинах, и тяжёлые мешки под глазами. С этого дня началась их дружба, – дружба людей одного закала. Они встречались на часок раза два в год – на учениях, на торжествах, на партийных конференциях.
В 1922 году Макеев вернулся в Акимовку в тряском «форде», украшенном буквами «ЦК КП(б) РСФСР». Деревенские мальчишки облепили машину. Макеев несколько секунд глядел на них с напряжённым волнением – среди них он искал самого себя. Он бросил им весь свой запас сахара и мелкой монеты, потрепал по щекам робеющих девочек, пошутил с женщинами, переспал с самой смешливой из этих полногрудых, широкозубых, широкоглазых баб – и поселился в качестве секретаря парторганизации района в самом лучшем доме села. «Что за отсталый край, – говорил он. – Сколько дела! Одно слово – темнота!» Оттуда его послали в Восточную Сибирь председателем облисполкома. Через год после смерти Ильича он был избран кандидатом в члены ЦК... Каждый год новые служебные отметки появлялись в его личном деле, он входил теперь в категорию самых ответственных партийцев. Честно и терпеливо, уверенным шагом поднимался он по ступенькам власти. Понемногу в его памяти стёрлись воспоминания о его несчастном детстве и отрочестве, об унижениях военного времени, о прошлом, когда он не знал ни гордости, ни власти, и поэтому он, сознавал своё превосходство над всеми, с кем встречался, за исключением тех, кого ЦК облек ещё более высокой властью. Перед ними он благоговел без всякой зависти, видя в них существа особой породы, к которой и он когда-нибудь будет принадлежать. Он чувствовал, что, подобно им, он – представитель законной власти, частица диктатуры пролетариата, – как винт из доброй стали является на своём месте частицей замечательной, гибкой и сложной машины.
Макеев, секретарь обкома, уже несколько лет управлял Курганом – и городом и областью, – и в нём зародилась горделивая тайная мысль дать им своё имя. Макеевгород или Макеевград – почему бы и нет? Более простое название – Макеево слишком напоминало мужицкую речь. Это предложение, вынесенное в кулуарах во время одного областного совещания, уже было принято – единогласно, как полагается, когда в последнюю минуту сам Макеев, охваченный сомнениями, передумал.
– Вся заслуга моей работы, – воскликнул он, стоя на эстраде под большим портретом Ленина, – принадлежит партии. Партия создала меня, партия создала всё!
Раздались шумные аплодисменты. Испуганный Макеев подумал, что в его словах, пожалуй, могут найти какой-то неловкий намёк на членов Политбюро. Перелистав два последних выпуска теоретического журнала «Большевик» и найдя в них нужные фразы, он через час опять поднялся на эстраду и провозгласил, коротким жестом выбрасывая вперёд кулак:
– Величайшее олицетворение партии – наш великий, наш гениальный Вождь! Предлагаю назвать его славным именем новую школу, которую мы выстроим.
Ему аплодировали без колебания, – точно так же голосовали бы за Макеевград, Макеево, Макеев-сити. Он спустился с эстрады, вытирая потный лоб, довольный тем, что – на время – ловко отстранил от себя славу. «Это от меня не уйдёт». Имя Макеева будет красоваться на картах, между изгибами рек, зелёными пятнами лесов, заштрихованными холмами, гибкими чёрными линиями железных дорог. Он верил в свою звезду, как верил в торжество социализма, – и это была, вероятно, одна и та же вера.
В настоящем, единственно для него реальном, он не отделял себя от этого края, по величине равного старой Англии, на три четверти уместившегося в Европе, на четвёртую перелившегося на азиатские равнины и пустыни, ещё изборождённые тропами караванов. У этого края не было истории: здесь в пятом веке пролетали хазары на своих маленьких лохматых лошадях, похожие на скифов, опередивших их на несколько веков; они собирались основать на Волге империю. Откуда они пришли? Кем были? Этим краем прошли печенеги, всадники Чингисхана, стрелки Хулагу-хана, косоглазые администраторы, методические палачи – те, что рубили головы, – из Золотой Орды, ногайские татары. Равнины, равнины... Кочующие народы исчезали в них, как вода исчезает в песках.
Из этой древней легенды Макееву знакомы были лишь несколько имён, несколько образов, но он любил и понимал лошадей, как печенег или ногайский татарин, он умел, подобно им, толковать полёт птиц; неразличимые для людей другой расы признаки указывали ему путь в снежную бурю. Если бы в его руках чудом оказался лук былых веков, он сумел бы стрелять из него так же ловко, как те, неизвестные, что жили на этой земле, умерли, растворились в ней... «Всё наше!» – заявлял он совершенно искренне на открытых собраниях Клуба железнодорожников, но мог бы с такой же лёгкостью выразить это иначе: «Всё моё!», не зная в точности, где кончалось «мы», где начиналось «я». («Я» принадлежит партии, оно ценно только тем, что посредством партии воплощает новый коллектив, но, воплощая коллектив сознательно и страстно, «я» во имя «мы» владеет миром.) Макеев не мог бы разобраться в этой теории, но на практике он не знал сомнений. «У меня в этом году, в районе Татаровки, сорок тысяч баранов!» – весело бросал он на областном производственном совещании. «В будущем году у меня будут работать три кирпичных завода». «Я сказал Плановой комиссии: «Товарищ, ты должен дать мне до осени триста лошадей, не то ты мне весь годовой план провалишь». «Вы хотите прикрепить к Центру мою единственную электростанцию? Ни за что не дам, она моя, всех обойду, пусть решает ЦК». Он говорил, что обойдёт все инстанции и выговаривал: инсистанции.
В конце XVIII и в начале XIX века два Нарышкина были один за другим сосланы в Курган, первый – за растраты, которые нашли непомерными, когда он перестал нравиться растолстевшей стареющей императрице, второй – за остроумные замечания по поводу якобинства господина Бонапарта. Они выстроили в этом городе небольшой дворец в новогреческом стиле ампир, с перистилем на колоннах. В подражание этому дворцу были построены деревянные дома купцов, постоялый двор с невысокими стенами, разбиты были сады частных особняков. Макеев выбрал для своего кабинета одну из гостиных старорежимного генерал-губернатора, – ту самую, где либеральный Нарышкин, которого обслуживали томные крепостные девушки, любил перечитывать Вольтера. Некий местный эрудит рассказал об этом товарищу Артёму Артёмовичу. Он был франкмасоном, этот Нарышкин, той же ложи, что и декабристы, и искренним либералом. «Вы правда верите, – спросил Макеев, – что эта феодальная сволочь могла быть искренне либеральной? А что это вообще значит – либерал?» Тетрадь семейной хроники, разрозненные тома Вольтера, экземпляр «О духе законов» с пометками вельможи на полях валялись ещё на чердаке среди старой ободранной мебели и фамильных портретов, на которых один, работы Виже-Лебрен, эмигрантки времён французской революции, изображал раздобревшего сановника лет пятидесяти, с карими, очень живыми глазами и ироническим ртом гурмана... Макеев велел принести этот портрет, поглядел прямо в лицо Нарышкину, поморщился при виде сверкающей звезды, которую тот носил под подбородком, дотронулся кончиком сапога до края рамы и промолвил: «Ничего себе... Настоящая барская морда. Отправить в областной музей!» Ему перевели название книги Монтескье. Он фыркнул: «Дух эксплуататора»... Отправить в библиотеку!» – «Лучше бы в музей», – возразил учёный-специалист. Макеев повернулся к нему и сказал уничтожающим тоном (потому что не понял): «Зачем?» Оробевший специалист ничего не ответил.
На двустворчатой двери из красного дерева повесили дощечку с надписью «Кабинет секретаря обкома». В кабинете стоял большой стол, было четыре телефона, один из них – прямой провод в Москву, ЦК и Центральный исполком; между высокими окнами – карликовые пальмы; четыре глубоких кожаных кресла (единственные, имевшиеся в городе), на правой стене – карта области, специально сделанная ссыльным, бывшим офицером; на левой – карта Госплана, где были обозначены местоположения будущих заводов, будущих железнодорожных путей, будущего канала, трёх рабочих поселков, которые надо было выстроить, бань, школ, стадионов, которые надо быстро создать в городе. За удобным креслом областного секретаря висел портрет Генерального секретаря, писанный маслом и купленный за восемьсот рублей в столичном универмаге; он блестел и лоснился, этот портрет, на котором зелёная куртка казалась вырезанной из толстого раскрашенного картона, а полуулыбка Вождя ровно ничего не выражала.
Когда устройство кабинета было закончено, Макеев, обуреваемый глухой радостью, вошёл туда.
– Портрет Вождя прямо замечательный! Вот это настоящее пролетарское искусство, – сказал он, сияя.
Но чего здесь не хватало? Почему это ощущение странной, досадной, неприличной, невозможной пустоты? Чем-то недовольный, Макеев повернулся на каблуках, и все окружавшие его – архитектор, секретарь горкома, комендант здания, завхоз, личная секретарша – ощутили одинаковую тревогу. Макеев соображал.
– А Ленин? – спросил он наконец. И с громовым упреком:
– Ленина забыли, товарищи! Ха-ха-ха!
Его дерзкий смех прозвучал среди всеобщего смущения. Первым опомнился секретарь горкома.
– Да нет, товарищ Макеев, вовсе нет. Мы торопились всё закончить сегодня и не успели поставить, вот сюда, книжный шкаф с Полным собранием сочинений Ильича, а на него – маленький бюстик, знаете, как в моем кабинете.
– А, ну ладно, – сказал Макеев. В глазах его ещё – были искорки смеха.
Прежде чем отпустить своих подчинённых, он сказал им поучительным тоном:
– Никогда не забывайте Ленина, товарищи! Это – закон коммуниста.
Оставшись один, Макеев удобно расположился в своём вращающемся кресле, радостно повертелся во все стороны, окунул новое перо в красные чернила, на листке блокнота с надписью «ЦК СССР, Курганский областной комитет, секретарь обкома» крупно, с росчерком расписался – А. А. Макеев – и полюбовался своей подписью. Потом, заметив телефонные аппараты, улыбнулся им полными щеками. «Алло! Дайте мне город, 76». Смягченным голосом: «Это ты, Аля? (смеясь, почти ласково). Да ничего. Как у тебя, в порядке? Да, ладно, скоро приду». Повернулся к другому аппарату: «Алло, дайте мне Гепеу, кабинет директора. Здравствуй, Тихон Алексеич, зайди ко мне часа в четыре. Как жена, лучше? Ну ладно, ладно». Всё это было чудесно. Он с вожделением поглядел на прямой провод в Москву, но у него не нашлось для сидевших в Кремле людей спешных сообщений. Всё же он положил руку на аппарат («Что, если вызвать Центральную плановую комиссию, насчёт дорожного транспорта?»), но не посмел позвонить. Раньше телефон казался ему чудесным волшебным инструментом; он его долго побаивался, не умея им пользоваться, теряя уверенность перед чёрной слуховой трубкой. А теперь это представленное в его распоряжение опасное волшебство казалось ему признаком его могущества. В маленьких местных комитетах боялись его прямых вызовов. Его повелительный голос раздавался в аппарате: «Говорит Макеев (и слышалось только громкое «еев»). Это вы, Иванов? Опять скандалили, а?.. Не потерплю!.. Немедленные санкции!.. Даю вам двадцать четыре часа!» Он любил разыгрывать такие сцены в присутствии нескольких почтительных сотрудников. Кровь приливала к его тяжёлому лицу, к выбритой, широкой, конической формы голове.
Покончив с выговором, он бросал телефонную трубку, поднимал голову (при этом выражение лица у него было возмущенно-хищное) и, делая вид, что никого не замечает, открывал какую-нибудь папку, как будто для того, чтобы успокоиться: на самом деле всё это было обычным ритуалом. Горе партийцу, вызванному в Контрольную комиссию, личное дело которого в такую минуту попадалось Макееву. В какие-нибудь сорок секунд его взгляд безошибочно находил слабое место дела: «Выдал себя за сына крестьянина-бедняка, на самом же деле сын дьякона». Подлинный сын безземельных крестьян только злобно посмеивался, выводя толстым синим карандашом в надлежащей колонке буквы «искл.» и сопровождая их безжалостным М.
На такие дела он обладал непостижимой памятью и способен был разыскать их среди сотни дел полтора года спустя, когда папка возвращалась из Москвы с дюжиной новых пометок. И если Центральная контрольная комиссия давала благоприятный отзыв и разрешала бедняге остаться в партии, Макеев умел с макиавеллевской ловкостью воспротивиться этому решению. Про эти дела в ЦКК все знали и снисходительно предполагали, что Макеев сводит какие-то личные счёты. Никто не догадывался о полном бескорыстии этих исключительно престижа ради разыгранных сцен. Лишь один из секретарей ЦКК позволил себе пересматривать иногда эти решения: Тулаев. «Съел Макеев», – бормотал он в свои густые усы, когда восстанавливал в партии исключённого, которого, впрочем, ни он, ни Макеев никогда не видали. Во время их редких встреч в Москве Тулаев, который был персоной поважнее Макеева, фамильярно его «тыкал», но называл «товарищем», чтобы подчеркнуть разницу между ними.
Макеев относился к Тулаеву с уважением. В сущности, они были похожи. Тулаев был образованней Макеева и более гибкого ума, больше привык ежедневно пользоваться властью (в своё время, когда он был первым приказчиком богатого волжского купца, он прошёл курс коммерческого училища) и делал более блестящую карьеру. Ему случилось однажды страшно сконфузить Макеева, рассказав на одном собрании, что на первомайской демонстрации в Кургане можно было насчитать сто тридцать семь портретов всех размеров секретаря обкома товарища Макеева и что в одной казахской деревне были названы его именем новые ясли, – а впрочем, вскоре вся эта деревня перешла на новые пастбища...
У Макеева, уничтоженного взрывами смеха, были слёзы на глазах, и спазма душила его, когда, весь побагровев, он поднялся над хохочущими лицами и попросил слова... Но слова ему не дали, так как в эту минуту вошёл какой-то член Политбюро в элегантном железнодорожном кителе, и весь зал встал для обязательной овации, продолжавшейся минут семь-восемь.
В конце заседания Тулаев подошёл к Макееву:
– Что, брат, здорово я тебе бока намял, а? На ты на меня за такие пустяки не сердись. Подвернётся случай – сам колоти меня, не стесняйся. Пойдём, хлопнем рюмочку?
То были счастливые времена грубоватого братства.
В это время партия меняла кожу. Пришёл конец героям: нужны были толковые администраторы, практики, а не романтики. Пришёл конец безответственным стремлениям к интернациональной, всемирной и прочей революции: построим социализм в нашей стране, для нас самих! Республика молодела, обновляя кадры, отводя место менее видным людям. Макеев, принявший участие в чистках, создал себе репутацию человека практического, всецело преданного генеральной линии и научился в течение битого часа повторять официальные успокоительные фразы.
Однажды ему пришлось испытать странное волнение. Как-то душным летним днём, часа в три пополудни, Каспаров – бывший комиссар степной дивизии, командир в жаркие дни гражданской войны, – не постучавшись, без доклада, тихо вошёл в кабинет секретаря обкома.
Это был постаревший, похудевший, как будто уменьшившийся в росте Каспаров; на нём белая рубаха и белая фуражка. «Это ты!» – воскликнул Макеев, бросаясь к посетителю, обнимая и прижимая его к груди. Каспаров показался ему лёгким... Они сели друг против друга в глубокие кресла – и сразу возникло между ними неловкое чувство, заглушавшее их радость.
– Ну, – спросил Макеев, не зная, что сказать, – куда же ты, собственно, направляешься?
У Каспарова было напряжённое выражение лица и строгий взгляд, как бывало на бивуаке в оренбургских степях или во время крымского похода, у Перекопа... Он загадочно смотрел на Макеева, быть может, судил его – тому стало неловко.
– ЦК назначил меня в Управление речным транспортом Дальнего Востока, – сказал Каспаров.
Макеев моментально взвесил всё значение такой явной немилости: изгнание в дальний край, чисто экономическая должность – а ведь такой Каспаров мог бы по меньшей мере управлять Владивостоком или Иркутском.
– А ты? – спросил Каспаров, и голос его звучал грустно.
Чтобы рассеять неловкое чувство, .Макеев поднялся – мощный, массивный, бритоголовый. Пятна пота выступили на его рубашке.
– Я, брат, строю, – сказал он радостно. – Вот посмотри-ка!
И он подвёл Каспарова к карте Госплана: орошение, кирпичные заводы, железнодорожный парк, школы, бани, конные заводы; «смотри, брат, смотри, страна растёт у нас на глазах, мы догоним США в двадцать лет, я этому верю, потому что сам участвую в стройке». Он заметил, что голос его звучал фальшиво: это был голос официальных выступлений... Каспаров неуловимым жестом отстранил ненужные слова, экономические планы, притворную радость своего старого товарища – и именно этого опасался Макеев. Каспаров сказал:
– Всё это прекрасно, – но партия на распутье. Решается судьба революции, брат.
В эту минуту – необыкновенное везение! – кисленько затрещал телефон. Макеев отдал приказания относительно национализированного сектора торговли. Затем отстранил в свою очередь то, чего не хотел знать: с наивным видом, как бы что-то показывая, развел руками, широкими и мясистыми.
– В этом краю, брат, всё решено окончательно. Для меня, кроме генеральной линии, ничего не существует. Я иду вперёд. Вот приезжай-ка сюда опять года через три-четыре – не узнаешь ни города, ни деревни. Новый мир растёт, брат, новая Америка! Наша партия молода, не подвержена панике, полна веры в себя. Хочешь сегодня вечером председательствовать вместе со мной на комсомольском спортивном смотре? Сам увидишь!
Каспаров уклончиво покачал головой. Ещё один законченный термидорианец, замечательная бюрократическая скотина, вызубрившая наизусть четыреста фраз официальной идеологии, избавляющих человека от необходимости думать, видеть, чувствовать и даже вспоминать, даже испытывать малейшие угрызения совести, когда делаешь величайшие подлости. В лёгкой усмешке, осветившей измождённое лицо Каспарова, были и ирония, и отчаяние. Макеев угадал эти чувства, хотя они и были совершенно чужды его натуре, и взъерошился.
– Да, да, конечно, – сказал Каспаров странным тоном.
Он, казалось, почувствовал себя дома, расстегнул ворот, бросил фуражку на соседнее кресло, уселся поудобнее, скрестил ноги на спинке другого кресла.
– Хорош у тебя кабинет, это да, ничего не скажешь. Берегись бюрократического комфорта, Артёмыч! Это тина: засосет.
«Что он, нарочно, что ли, говорит неприятности?» Макеев несколько растерялся. Каспаров твёрдо смотрел на него своими странными серыми глазами, всегда спокойными – и в минуту опасности, и в минуту волнения.
– А я, Артёмыч, думал о другом. На 50-60 процентов наши планы невыполнимы. А чтобы выполнить остальные 40 процентов, придётся понизить реальную зарплату рабочего класса, она будет ниже зарплаты при царском режиме, ниже нынешнего уровня в капиталистических, даже отсталых странах... Ты об этом подумал? Позволь усомниться... Через шесть месяцев, не позже, придётся объявить войну крестьянам и начать их расстреливать. Это ясно, как дважды два четыре. Отсутствие промышленных товаров плюс обесценивание рубля, или, скажем откровеннее, – скрытая инфляция, низкие цены на зерновые, установленные государством, естественное сопротивление владельцев зерна – ты эту песенку сам знаешь. А о последствиях ты подумал?
Макеев не посмел возразить: сознание реальности в нём было слишком сильно. Но он испугался, что в коридоре услышат эти слова, произнесённые в его кабинете (кощунственные, посягавшие на доктрину Вождя, на всё...). Они хлестали, мучили его, и он вдруг понял, что до сих пор изо всех сил старался не говорить самому себе таких страшных слов.
Каспаров продолжал:
– Я не трус, не бюрократ, и я знаю свой долг по отношению к партии. Всё, что я сказал тебе, я написал Политбюро, подкрепив мои слова цифрами. Вместе со мной письмо подписало тридцать человек, все выходцы из прежних тюрем, Таманской, Перекопской, Кронштадтской... Угадай-ка, что нам ответили? Что меня касается, так меня сначала послали инспектором школ в Казахстан – где нет ни учителей, ни школ, ни книг, ни тетрадей. А теперь посылают подсчитывать барки в Красноярске. Мне на это, сам понимаешь, наплевать. Но что продолжают делать преступные глупости для удовольствия сотни тысяч бюрократов, которые по своей лености не понимают, что они сами себя губят и тянут за собой революцию, – нет, на это мне не наплевать. А ты, брат, занимаешь почётное место в иерархии этих ста тысяч. Я, по правде говоря, так и думал. Но иногда спрашивал себя: а что с ним стало, с Макеичем, – может, он уже ударился в пьянство?
Макеев нервно ходил от одной стенной карты к другой. Эти слова, эти мысли, самое присутствие Каспарова были ему невыносимо мучительны. Ему казалось, что он весь, с головы до ног, вдруг покрылся грязью – из-за этих слов, этих мыслей, этого Каспарова. И четыре телефона, и все приметы в его кабинете приобрели вдруг пренеприятный оттенок. К тому же невозможно было облегчить себя взрывом гнева – а почему? Он ответил усталым тоном:
– Не будем говорить на эти темы. Ты же знаешь: я не экономист. Я выполняю директивы партии, вот и всё, – теперь, как и прежде, когда мы с тобой были в армии. Ты учил меня повиноваться во имя революции. Что же мне ещё прикажешь делать? Приходи ко мне ужинать. Ты знаешь, у меня новая жена, Аля Саидова, татарка. Придёшь?
Под этим небрежным тоном Каспаров угадал скрытую мольбу. Докажи мне, что ты ещё достаточно меня уважаешь, чтобы сесть за мой стол, с моей новой женой; ни о чём другом тебя не прошу. Каспаров надел фуражку, посвистал перед открытым окном, выходившим в общественный сад: там сверкал на солнце кружок гравия и в самом центре его был маленький бюст из чёрной бронзы.
– Ладно, Артёмыч, приду вечером. Красивый у тебя город...
– Да, ведь верно? – с живостью сказал Макеев, почувствовав облегчение.
Внизу бронзовая голова Ленина блестела, как полированный камень.
Ужин был вкусный: его подавала Аля, маленькая и пухлая, с округлёнными формами, грациозная, как зверек, чистенькая, откормленная; у неё были закрученные на висках синевато-чёрные косы, глаза, как у серны, мягкий профиль, расплывчатые контуры лица и тела. В ушах у неё висели старинные монеты из иранского золота, ногти были выкрашены в гранатово-красный цвет. Она угостила Каспарова пловом, сочным арбузом, настоящим чаем, «какого теперь нигде не найти», как мило прибавила она. Каспаров не признался им, что уже шесть месяцев так вкусно не ел. Он хранил на лице самое своё любезное выражение, рассказал им три единственных своих анекдота, которые он называл про себя «три истории для дурацких вечеров», скрыл своё раздражение при виде милого Алиного смеха – белыми зубками и круглой грудью – и громкого самодовольного смеха Макеева; до того был любезен, что даже поздравил их с семейным счастьем.
– Вам бы ещё канарейку в красивой большой клетке: подходит к такому уютному дому...
Макеев почти угадал в этом сарказм, но Аля живо воскликнула:
– Я и сама так думала, товарищ! Спросите Артёма: я ему уже это говорила.
Оба, прощаясь, почувствовали, что больше не увидятся, а если встретятся – то врагами.
Зловещее посещение: вскоре после него начались неприятности. Только что закончилась чистка партии и администрации, энергично проведённая Макеевым. В курганских бюро оставался лишь ничтожный процент старых работников – людей, сложившихся в истекшее бурное десятилетие. Левацкий (троцкистский), правый (Рыкова, Томского, Бухарина) и мнимолояльный (Зиновьева, Каменева) уклоны были вроде бы окончательно ликвидированы, на самом же деле не совсем: благоразумие подсказывало оставить кое-кого про запас на будущее. Но зерно поступало туго. Следуя указаниям ЦК, Макеев объезжал деревни, расточая обещания и угрозы, снялся, окружённый мужиками, бабами и ребятами, организовал шествия крестьян-энтузиастов, сдававших весь свой хлеб государству. Длинней вереницей шли они в город с телегами, нагруженными мешками, с красными знаменами, с транспарантами, провозглашавшими единодушную преданность партии, с портретами Вождя, а также с портретами Макеева, которые, как знамёна, несли молодые парни. На этих манифестациях царило праздничное настроение. Исполком райсовета высылал навстречу шествию оркестр Клуба железнодорожников; кинооператоры, вызванные по телефону из Москвы, прилетали на самолётах, чтобы заснять одну из этих красных процессий, которую весь Союз видел потом на экранах. Макеев, стоя на грузовике, встречал её звучным приветствием: «Слава труженикам счастливой земли!» Но вечером того же дня бодрствовал до глубокой ночи в своём кабинете вместе с начальником госбезопасности, председателем исполкома Совета и особым представителем ЦК, потому что положение оказывалось серьёзным: недостаточные запасы, недостаточное поступление зерна, несомненное уменьшение посевной площади, противозаконное повышение рыночных цен, рост спекуляции. Чрезвычайный представитель ЦК объявил, что придётся «железной рукой» применить строжайшие меры. «Само собой», – сказал Макеев, не смея понять его.
Так начались чёрные годы. Около семи процентов крестьян, сначала раскулаченных, потом сосланных, покинули край в вагонах для скота, под крики, плач и проклятия детей, растрёпанных женщин и обезумевших от ярости стариков. В залежи оказалась земля, исчезла скотина, стали питаться жмыхом, не было больше ни сахара, ни керосина, ни обуви, ни тканей, ни бумаги. Всюду были отмечены голодом бледные, лицемерные лица, все воровали, придумывали комбинации, болели. Гепеу тщетно опустошало отделы скотоводства, земледелия, транспорта, продовольственного снабжения, сахарной промышленности, распределения... ЦК посоветовал заняться разведением кроликов. Макеев велел объявить на плакатах, что «кролики будут краеугольным камнем пролетарского питания». Но одни только кролики местного управления – та есть самого Макеева – не подохли в самом начале кампании, потому что только этих кроликов и кормили. «Даже кролик, – иронически констатировал Макеев, – хочет есть, прежде чем быть съеденным».
Коллективизация охватила 82 процента дворов. «Велик социалистический энтузиазм крестьян этой области», – провозгласила «Правда», напечатав при этом портрет тов. Макеева, «боевого организатора этого могучего движения». Вне колхозов оказались только единичные крестьяне, избы которых дремали вдалеке от дорог, несколько деревень, населённых меннонитами, да село, где жил противник колхозов, бывший иртышский партизан, дважды награждённый орденом Красного Знамени, лично знавший Ленина – которого поэтому и не арестовали. Тем временем строили завод мясных консервов, снабжённый усовершенствованным американским оборудованием, и в дополнение к нему обувную фабрику, кожевенный завод, фабрику особой кожи для армии; она была закончена в год, когда исчезли и мясо, и кожа. Построили также комфортабельные дома для ответственных партийцев и инженеров; недалеко от мёртвой фабрики вырос рабочий поселок...
Всем этим должен был заниматься Макеев, он воевал «на три фронта», чтобы выполнить распоряжения ЦК, план индустриализации и чтобы не дать земле умереть. Откуда взять сухой лес для строек, гвозди, кожу, спецодежду, кирпичи, цемент? Материалов постоянно не хватало, изголодавшиеся люди воровали или убегали, и в руках великого строителя оставались одни лишь бумаги, циркуляры, доклады, приказы, тезисы, официальные прогнозы, тексты угрожающих речей, резолюции, проголосованные ударными бригадами. Макеев звонил по телефону, кидался в свой «форд», теперь потрёпанный, как штабные машины былых времён, появлялся неожиданно на стройках, самолично пересчитывал, грозно сдвинув брови, бочки с цементом, мешки с известью, допрашивал инженеров: одни лгали, божась, что будут строить без леса и без кирпичей, другие лгали, доказывая, что строить с таким цементом невозможно. «Может быть, – говорил себе Макеев, – они все в заговоре: хотят погубить Союз и меня самого». Но он чувствовал и знал, что они говорят правду.
С портфелем под мышкой, с фуражкой на затылке, Макеев приказывал, чтобы его одним духом через лесные поросли и равнины везли в колхоз «Слава индустриализации», где не было больше ни одной лошади, где последние коровы подыхали из-за отсутствия корма, где только что украли ночью тридцать вязанок сена, чтобы – кто знает? – накормить лошадей, якобы подохших, на деле же спрятанных в дремучем лесу Чёртова Рога. Колхоз казался вымершим; там жили среди общей вражды и общего лицемерия два молодых, приехавших из города коммуниста. Председатель колхоза, заикавшийся от растерянности, объяснил товарищу секретарю обкома, что дети болеют с голодухи, что обязательно надо сейчас же прислать хоть грузовик картошки, не то люди не смогут работать в поле; пайков, отпущенных государством в конце прошлого (голодного) года, на два месяца не хватило; ведь говорили вам, помните? Макеев сердился, обещал, тщетно угрожал – и им овладело тупое отчаяние... Всё те же самые, давно знакомые истории – но они лишали его сна. Гибла земля, дохла скотина, дохли люди, партия заболела чем-то вроде цинги. Умирали даже дороги, по которым не проходил больше гужевой транспорт: они зарастали сорной травой.
Его самого так возненавидели, что он только в случае крайней необходимости решался ходить по городу, и тогда за ним, не вынимая руки из заднего кармана, по пятам следовал человек в штатском. Сам же он держал в руке палку, готовясь отразить нападение. Он велел окружить свой дом забором, и его охраняли милиционеры.
Но драма ещё больше усложнилась на третий год голода, в тот день, когда ему передали по телефону из Москвы конфиденциальный приказ: провести до посева озимых новую чистку, чтобы уничтожить тайное сопротивление в колхозах.
– Кто подписал этот приказ?
– Товарищ Тулаев, третий секретарь ЦК.
Макеев сухо поблагодарил, повесил трубку, бессильным кулаком ударил по столу.
– Просто рехнулись!
Ненависть к Тулаеву ударила ему в голову, к длинным усам Тулаева, к широкому лицу Тулаева, к бессердечному бюрократу Тулаеву, организатору голода Тулаеву... В тот вечер Аля Саидовна увидела обозлённого, похожего на бульдога Макеева. Он очень редко говорил с ней о делах, больше обращался к самому себе: когда он был взволнован, ему трудно было думать молча. И Аля, у которой был мягкий смуглый профиль и золотые монетки в мочках хорошеньких ушек, услышала его ворчанье:
– Не хочу, чтобы опять был голод. Мы своё заплатили, хватит! Не согласен. Край до чего довели! Дороги умирают! Нет, нет и нет! Напишу в ЦК.
Он так и сделал, после бессонной мучительной ночи. Впервые в жизни Макеев отказывался исполнить приказ ЦК, видел в нём ошибку, безумие, преступление. Письмо казалось ему то слишком, то недостаточно энергичным. Перечитывая его, он приходил в ужас от собственной дерзости и думал, что сам потребовал бы исключения и ареста человека, который позволил бы себе в таких выражениях критиковать директивы партии. Но не вспаханная, сорняком заросшая земля, дороги, покрытые травой, дети с раздутыми животами, пустые лавки кооперативов, чёрная ненависть в глазах крестьян – всё это было реальностью. Он разорвал один за другим несколько черновиков. Аля, вся тёплая, встревоженная, лихорадочно поворачивалась с боку на бок в большой кровати. Его теперь редко влекло к ней: ничего не понимающая бабёнка! Записка о необходимости отсрочить или отменить циркуляр Тулаева о новой чистке колхозов была отправлена на следующий день. У Макеева началась мигрень; неряшливо одетый, в ночных туфлях, он слонялся по комнатам, где ставни были закрыты из-за жары. Аля приносила ему на подносе рюмочки водки, солёных огурцов, большие стаканы воды, такой холодной, что на запотевшем стекле блестели капельки. От бессонницы у него покраснели глаза, небритые щёки покрылись щетиной, от него пахло потом...
– Ты бы поехал куда-нибудь, Артём, – предложила Аля, – рассеялся бы.
Он вдруг её заметил. Безумная послеобеденная жара полыхала над городом, над равнинами, над соседними степями, проникала сквозь стены, горела в отяжелевших венах. Всего три шага отделяли его от Али, которая отступила, покачнулась у края дивана; Артём сухими руками своими опрокинул её и неистово мял её тело; он душил её поцелуем, давившим ей рот, разодрал её шёлковый халат, недостаточно быстро расстёгнутый...
– Аля, ты вся бархатная, как персик, – сказал Макеев, поднимаясь. Он почувствовал себя освежённым. – А теперь ЦК увидит, кто из нас прав, – этот дурак Тулаев или я.
Само собой, борьба с Тулаевым закончилась через две недели поражением Макеева. Его могущественный противник обвинил его в «оппортунистическом правом уклоне», и Макеев почувствовал, что находится на краю гибели. Оказалось, что цифры и несколько строк записки Макеева, обличавшие «непоследовательность аграрной политики Политбюро», были заимствованы из документа, составленного, по всей вероятности, Бухариным и переданного Контрольной комиссии каким-то агентом. Поняв, что ему грозит гибель, Макеев поспешил со страстью отречься от самого себя. Политбюро и Оргбюро решили оставить его на посту, так как он раскаялся в своих ошибках и с примерным рвением взялся за новую чистку колхозов. Он не только не пощадил своих ставленников, но проявил по отношению к ним такую подозрительность, что многие были отправлены в концлагеря. Свалив на них собственную ответственность, он категорически отказался принять их или за них заступиться. Некоторые написали ему из тюрем, что всего-навсего исполняли его собственные распоряжения.
– Контрреволюционное легкомыслие этих разложившихся элементов не заслуживает никакого снисхождения, – сказал Макеев. – У них одна цель – дискредитировать партийную верхушку.
Он и сам в конце концов этому поверил.
Но что, если вспомнят о его разногласии с Тулаевым во время выборов в Верховный Совет? Колебания партийных комитетов беспокоили Макеева. Во многих округах кандидатурам руководящих коммунистов предпочитали кандидатуры ответственных работников госбезопасности или генералов. Но наступил счастливый день! По официальным слухам, один из членов Политбюро сказал: «В Курганской области возможна одна только кандидатура Макеева: Макеев строитель!» Немедленно появились, пересекая улицы, транспаранты, гласившие: «Голосуйте за строителя Макеева!» – который, кстати сказать, был единственным кандидатом. На первой же сессии Верховного Совета в Москве Макеев, бывший теперь в зените своей судьбы, встретил в коридоре Блюхера.
– Привет, Артём, – сказал ему главнокомандующий славной Особой Дальневосточной армией.
– Привет, маршал, – ответил опьяневший от счастья Макеев, – как живёшь?
Под руку, как подобает старым приятелям, они пошли в буфет. Оба они отяжелели, у обоих были полные и гладкие лица, мешки под глазами от усталости, оба были одеты в тонкое сукно и награждены знаками отличия. Но странное дело: им нечего было сказать друг другу. Искренне обрадованные, они обменялись газетными фразами:
– Ну, как, друг, – строишь? Всё в порядке? Доволен, крепко стоишь на ногах?
– Ну как, маршал? Нагнал страху япошкам?
– Ещё бы! Пусть только попробуют сунуться!
Вокруг толпились, разглядывая их, депутаты Северной Сибири, Средней Азии, Кавказа – все в национальных костюмах. Отблеск славы героя падал и на Макеева, и он восхищался самим собой. «Здорово мы бы вышли на фотографии», – подумал он. Но воспоминание об этой замечательной минуте стало горьким несколько месяцев спустя, когда после боев в районе озера Хасан Дальневосточная армия отвоевала у японцев две высоты у залива Посьет, стратегическое значение которых (до тех пор никем не замеченное) оказалось огромным. В сообщении ЦК, посвящённом этому славному событию, имя Блюхера не было упомянуто. Макеев сразу всё понял и похолодел. Он почувствовал, что и сам скомпрометирован. Блюхер, Блюхер, в свою очередь, исчезал где-то под землёй, в потёмках! Это было непостижимо... Хорошо ещё, что никакая фотография не запечатлела их последней встречи.
До тех пор Макеев жил довольно спокойно: вокруг него преследовали главным образом старые кадры, кадры поколения, к которому он ие принадлежал. «В общем, с социальной точки зрения, его поколение сыграло свою роль. Что поделаешь – наша эпоха не сентиментальна. Вчера герой, сегодня – выброшен на помойку: это диалектика истории». Рассудком своим он понимал, что теперь очередь его поколения заменить тех, что исчезали. Средние люди становились великими, когда наставал их час; что ж, это было справедливо. И хотя многих из обвиняемых на больших процессах он знал лично и восхищался ими, когда они были у власти, теперь он с особенным рвением одобрял их расстрел. Самому Макееву были доступны только веские аргументы, и поэтому чудовищные обвинения его ничуть не смущали: «Мы в таких тонкостях не разбираемся, чтобы уничтожить врага, надо раздавить его ложью, это всякому понятно. Этого требует психология отсталой страны».
До тер пор Макеев, призванный к власти подчинёнными Хозяина, разделявший могущество тех, что преследовали врагов, никогда ещё не чувствовал себя под угрозой. Но теперь незримая коса, сразившая Блюхера, задела и его. Что стало с маршалом? Лишён командования? Арестован? Или снова появится? Если не будет над ним суда, то, может быть, не всё ещё кончено; но как бы то ми было, имени Блюхера никто больше не упоминал... Макееву хотелось забыть о нём, но это имя, эта тень преследовали его на работе, в тишине, во сне, и, выступая перед ответственными работниками области, он боялся, как бы не выскочило вдруг посреди его речи это навязчивое имя. Раз ему даже почудилось, что, читая вслух правительственное сообщение, он назвал его среди имён членов Политбюро...
– Я там не оговорился случайно? – спросил он небрежным тоном одного члена обкома.
– Нет-нет, – ответил тот. – Странно! Что это вам вдруг показалось?
Макеев, охваченный неопределённым ужасом, посмотрел на него. «Что он, смеётся надо мной?» Оба сконфузились и покраснели.
– Вы были очень красноречивы, Артём Артёмович, – сказал член обкома, – вы прочли адрес Политбюро с замечательным подъёмом...
Макеев окончательно смутился. Его толстые губы беззвучно шевелились. Он сделал невероятное усилие над собой, чтобы не сказать: «Блюхер, Блюхер, Блюхер, слышите? Я назвал Блюхера...» Его собеседник встревожился:
– Что с вами, вы плохо себя чувствуете?
– Головокружение, – сказал Макеев и проглотил слюну.
Он справился с этим припадком, победил наваждение; Блюхер перестал появляться, с каждым днём уходил всё дальше. Но люди, хоть и не такие значительные, продолжали исчезать. Макеев твёрдо решил игнорировать это обстоятельство. «Таким, как я, нужно каменное сердце. Мы строим на трупах – но мы строим!»
В том году в Курганской области чистка и переводы на другие должности закончились лишь к середине зимы. А в конце её, февральской ночью, был убит Тулаев.
Узнав об этом, Макеев вскрикнул от радости. Аля, закутанная в шелка, раскладывала пасьянс. Макеев бросил на стол красный конверт с конфиденциальным сообщением.
– Вот уж, можно сказать, поделом! Дубина! Давно это должно было с ним случиться. Покушение? Просто какой-нибудь тип, которому он отравлял жизнь, двинул его кирпичом по морде... Сам виноват, у него был собачий характер...
– Кто? – спросила Аля, не поднимая головы, потому что между ней и червонным королем появилась дама бубен уже во второй раз.
– Тулаев. Я получил письмо из Москвы: его убили.
– Боже мой! – сказала Аля, озабоченная появлением бубновой дамы, вероятно блондинки. Макеев раздражённо заметил:
– Сто раз тебя просил не поминать Бога, как простая баба!
Карты щёлкнули в хорошеньких пальчиках с кроваво-красными ногтями. Бубновая дама подтверждала ехидные намёки Доротеи Германовны (жены председателя горсовета, высокой мягкотелой немки, которая уже десять лет была в курсе всех городских сплетен), и осторожные недомолвки маникюрши, и убийственно точные данные анонимного письма, тщательно составленного из больших, вырезанных из газет букв. Их было сотни четыре, этих букв, наклеенных одна за другой и обличавших кассиршу из кинотеатра «Заря», которая раньше жила с заведующим коммунальным хозяйством, «а теперь уже больше года была любовницей Артёма Артёмовича, и вот тому доказательства: прошлой зимой она сделала аборт в клинике Гепеу, куда была принята по личной рекомендации, а потом получила месячный платный отпуск и провела его, благодаря связям, в доме отдыха для школьных работников, а ещё – тов. Макеев съездил тогда два раза в дом отдыха и раз провёл там даже ночь...». Так продолжалось на нескольких страницах; неровно наклеенные буквы подпрыгивали, образуя нелепые рисунки. Аля подняла глаза на Макеева, и в них было такое напряжённое внимание, что они казались жестокими.
– Что с тобой? – спросил он, смутно обеспокоенный.
– Кого это убили? – сказала она с искажённым от волнения лицом.
– Тулаева, Тулаева, ты что, оглохла?
Аля подошла к нему вплотную; она была бледна, плечи её отяжелели, губы дрожали.
– А эту блондинку кассиршу, её кто убьёт, обманщик ты?
Макеев стал понемногу понимать значение этого события для партии: реорганизации ЦК, сведение счётов между отделами, сильный удар по правым, смертельно опасные обвинения против исключённых левых и отпор – какой отпор? Ветер, могучий ночной ветер носился кругами, гнал из комнаты спокойный дневной свет, обволакивал его самого, вызывал холодную дрожь во всём теле... Сквозь страшный чёрный вихрь до его сознания смутно доходили дрожащие слова Али, её жалкое, искажённое лицо.
– Оставь меня в покое, – закричал он вне себя.
Макеев не умел думать одновременно о важном и о незначительном. Запершись со своим личным секретарём, он приготовил речь, которую должен был произнести вечером на собрании ответственных партийных работников. Это была ударная речь, звучная, вырывавшаяся из самой глубины души, подчёркнутая в иных местах сжатым кулаком. Макеев говорил так, будто дрался один на один с врагами партии, с теми, что прячутся в потёмках, с всемирной контрреволюцией, с троцкизмом, чьё свиное металлическое рыло украшено свастикой, с фашизмом, с микадо... «Горе вонючим паразитам, которые осмелились поднять вооружённую руку на нашу великую партию! Мы уничтожим их навеки, уничтожим их потомство. Вечная память нашему великому, мудрому товарищу Тулаеву, железному большевику, непоколебимому ученику нашего любимого Вождя, величайшего человека всех времён!»
В пять часов утра, весь в поту, окружённый замученными секретарями, Макеев исправлял ещё стенографическую запись своей речи, которую особый курьер должен был через два часа отвезти в Москву. Уже лился дневной свет на город, на равнины, на строительные участки, на тропы караванов, когда Макеев лёг в постель.
Аля только что задремала после мучительной ночи. Почувствовав присутствие мужа, она открыла глаза, увидела белый потолок, вспомнила всё... Почти голая, она неслышно встала, мельком глянула на себя в зеркало: распущенные волосы, опустившаяся грудь, бледная, похудевшая, обманутая, униженная – на старуху стала похожа, – и всё это из-за блондинки, из-за кассирши кинотеатра «Заря». Сознавала ли она, что делала? Что искала в ящике с разными безделушками? Она нашла там маленький охотничий нож с костяной рукояткой.
Аля опять подошла к постели. Откинув простыни, распахнув пижаму, Артём крепко спал; рот его был закрыт, по краям ноздрей выступили крошечные капельки, его большое нагое тело всё в рыжеватых волосках казалось покинутым. Аля с минуту на него смотрела, с удивлением его узнавая, с ещё большим удивлением открывая в нём что-то ей неизвестное, что-то безнадёжно ей недоступное, может быть, присутствие чего-то чужого, какой-то сонной души, подобной тайному блеску, который угаснет при пробуждении. «Боже мой, Боже мой», – повторила она мысленно, предчувствуя, что какая-то сила в ней поднимет нож, размахнётся и ударит это распростёртое мужское тело, которое она любила в глубине своей ненависти. Куда ударить? Найти сердце, до глубины которого трудно добраться, защищённое крепкой бронёй из костей и плоти? Поразить открытый живот, куда легко нанести смертельную рану? Эта мысль – но уже не мысль, а начало поступка – смутно продвигалась вперёд по нервным центрам Али. Тёмный её поток скрестился с другим, тревожным. Повернув голову, Аля увидела, что Макеев со страшной проницательностью смотрит на неё широко открытыми глазами.
– Аля?- сказал он просто, – брось этот нож!
Она не в силах была двинуться. Разом, одним рывком вскочив, Артём стиснул её запястье, разжал её маленькую слабую руку и отбросил далеко от себя нож с костяной рукояткой. Аля обессилела от стыда и отчаяния, крупные слёзы заблестели на её глазах. Она почувствовала себя скверной девчонкой, уличённой в проступке; некому было за неё заступиться, и теперь он выбросит её вон, как больную собаку, которую надо утопить.
– Ты хотела меня убить? – сказал он. – Меня, Макеева, секретаря обкома, – ты, член партии? Убить строителя Макеева, несчастная ты? Убить меня за блондинку кассиршу, дурёха?
И пока он произносил эти простые слова, в нём разгорался гнев.
– Да, – слабо сказала Аля.
– Дура ты, дура! Да тебя шесть месяцев продержали бы в подвале, ты об этом подумала? Потом, ночью, в два часа, повели бы тебя за вокзал и там пустили бы тебе пулю, вот сюда (он больно щёлкнул её в затылок), поняла? Хочешь, сегодня же разведёмся?
Она сказала с яростью:
– Да.
И сейчас же прибавила, понизив голос, опустив длинные ресницы:
– Нет. Ты лгун и предатель, – повторила она машинально, стараясь привести в порядок свои мысли.
И она продолжала:
– Тулаева за меньшее убили, а ты обрадовался его смерти. А ведь ты помогал ему организовать голод, сам мне часто говорил. И он, может быть, не врал своей жене, как ты.
Услышав такие страшные слова, Макеев посмотрел на свою жену обезумевшими глазами. Он почувствовал вдруг отчаянную слабость; не будь он так разъярён, ему стало бы дурно. Он разразился криком:
– Никогда! Никогда я не думал и не говорил такой преступной ерунды!.. Ты недостойна партии... Дрянь!
Он заметался по комнате, жестикулируя, как сумасшедший, Аля лежала неподвижно на диване, спрятав лицо в подушки. Вдруг он подошёл к ней с ремнем в руке, левой рукой придавил ей затылок, а правой стал, задыхаясь, хлестать её слабо извивавшееся под его тяжёлой рукой тело... Когда она перестала содрогаться, когда чуть слышные стоны затихли, Макеев отвернулся и отошёл. Потом он вновь вернулся и принялся пропитанной одеколоном ваткой вытирать лицо своей жены, – в несколько минут подурневшее, жалкое, напоминавшее лицо маленькой девочки. Он сходил за нашатырем, смочил полотенца, был старателен и ловок, как опытный санитар.
Придя в чувство, Аля увидела над собой зелёные кошачьи глаза Макеева с суженными зрачками... Он покрыл её лицо тяжёлыми жаркими поцелуями, потом отвернулся от неё.
– Отдыхай, дурочка, а я пойду работать.
Для Макеева вновь началась нормальная жизнь, между молчаливой Алей и бубновой дамой, которую он из предосторожности услал на стройку новой электростанции, расположенной между равниной и лесом, где она заведовала экспедицией. Этот строительный участок работал круглые сутки. Секретарь обкома нередко появлялся там, чтобы стимулировать работу отборных бригад, самолично следить за выполнением еженедельных планов, принимать доклады технического персонала, скреплять своей подписью телеграммы, ежедневно посылавшиеся в центр... Он возвращался домой под ясными звёздами совершенно измученный. (А между тем где-то в городе неизвестные руки продолжали в глубокой тайне упрямо вырезать из газет буквы всевозможных размеров, собирать и располагать их на листках тетради: для задуманного послания понадобится по крайней мере пятьсот штук. Эта требовавшая терпения работа велась в одиночестве, в молчании, с величайшей осторожностью; искромсанные газеты привязывали к камню и опускали на дно колодца; если сжечь их, пошёл бы дым, – а дыма без огня не бывает, ведь верно? Чьи-то руки тайно подготовляли чёртову азбуку, никому не известный ум собирал чёрточки, отдельные доказательства, бесконечно малые элементы различных тайных и постыдных фактов...)
Макеев собирался поехать в Москву, чтобы вместе с руководителями электрификации обсудить вопрос недостающих материалов, а заодно сообщить в ЦК и Исполкому о достижениях истекшего полугодия в области оборудования дорог и орошения (благодаря дешёвому труду заключённых); может быть, эти успехи искупят упадок кустарного производства, кризис скотоводства, плохое состояние технических культур, замедление темпа работы железнодорожных мастерских... Он обрадовался краткому посланию ЦК («спешно, конфиденциально»), вызывавшему его на съезд юго-западных обкомов. Макеев уехал за два дня до назначенного срока и, сидя в голубом купе спального вагона, весело просмотрел доклады областного экономического совета. Специалисты Государственного планового комитета увидят, что и он не лыком шит. За окном пролетали бескрайние снежные поля, под оловянным небом грустила черта лесов на горизонте, в свете, лившемся на белые пространства, чувствовалось бесконечное ожидание. Макеев смотрел на прекрасную чёрную землю; ранняя оттепель там и сям покрыла её лужами, и в них гнались друг за дружкой облака. «Ты и убогая, ты и обильная», – пробормотал он, потому что Ленин в 18-м году как-то процитировал эти строки Некрасова. Но Макеевы обрабатывают эти земли и из убогих превращают их в обильные!
На московском вокзале Макеев без труда добился, чтобы за ним выслали автомобиль ЦК: это была большая американская машина странной формы, одновременно закругленной и удлинённой. «Аэродинамическая», – пояснил шофёр, одетый почти как шофёры миллионеров в импортных фильмах. Макеев заметил, что за семь месяцев его отсутствия многое в столице изменилось к лучшему. Жизнь тут протекала в прозрачно-серой атмосфере, на новом асфальте, который каждый день старательно очищали от снега. Витрины были хоть куда. В помещении Госплана, здании из железобетона, стекла и стали, где помещались две или три сотни кабинетов, Макеева приняли элегантные служащие в больших очках и британского покроя костюмах, – приняли с почётом, как ему полагалось по его положению, и он без труда добился всего, чего хотел: материалов, дополнительных кредитов, передачи одного дела в отдел проектов, создания новой дороги вне плана. Как мог бы он догадаться, что этих материалов вообще не существовало и что все эти компетентные, внушительные служащие сами были всего-навсего призраками, так как Политбюро только что приняло принципиальное решение: провести чистку и полную реорганизацию всех отделов Госплана?
Довольный Макеев заважничал пуще обычного. Его широченная шуба и простая ушанка на меху подчёркивали контраст между ним и безупречно одетыми служащими, выявляли в нём провинциального строителя. «Мы, поднимающие целину» – такие фразочки он вставлял в разговор, и они не звучали фальшью.
Но ему не удалось добраться ни до одного из немногочисленных старых товарищей, которых он попытался разыскать на следующий день. Один был болен, находился в клинике, в дальнем пригороде. О двух других ему ответили по телефону как-то уклончиво. Во время второго разговора он рассердился. «Говорит Макеев, слышите? Макеев из ЦК, понимаете? Я вас спрашиваю, где Фома, мне, я думаю, можно ответить?» На другом конце провода неуверенный мужской голос ещё тише, будто желая спрятаться, прошептал: «Он арестован...» Арестован? Фома, большевик с 1904 года, верный генеральной линии, бывший член Центральной контрольной комиссии, член Особой коллегии госбезопасности? Макеев задохнулся, сморщился, на минуту лишился самообладания. Что это у них происходит?
Он решил провести вечер один, в Большом театре. Войдя вскоре после поднятия занавеса в большую правительственную ложу – бывшую царскую, – он увидел там одну только немолодую чету, сидевшую в первом ряду, с левой стороны... Он скромно поклонился Попову, одному из «духовников» партии, невзрачному старичку с серым цветом лица, с вялым профилем, с желтоватой бородкой, в сером френче с помятыми карманами; его спутница была на него удивительно похожа. Макееву показалось, что она едва ответила на его поклон, даже не повернула к нему головы. Попов же скрестил руки на бархате барьера, кашлянул, сделал гримасу, по-видимому целиком; поглощённый зрелищем. Макеев сел на другом конце ряда. Пустые кресла этого ряда ещё увеличивали расстояние между ними. Но даже если бы они сидели ближе друг к другу, просторная ложа создала бы вокруг них одиночество. Макееву не удалось увлечься ни спектаклем, ни музыкой, хотя обычно она опьяняла его, как наркотик, наполняла всё его существо волнением, создавала образы в его мозгу то неистовые, то печальные; из его горла готовы были вырваться крики, или вздохи, или жалобы. Он твердил себе, что всё обстоит благополучно, что это – одно из прекраснейших зрелищ в мире, хоть оно и часть старорежимной культуры, – но мы законные наследники, завоеватели этой самой культуры! А балерины, хорошенькие балерины, почему бы за ними не поухаживать? (Желать чего-нибудь помогало ему забыться.)
Во время антракта Поповы вышли так тихо, что он только по усилившемуся ощущению одиночества заметил их отсутствие. Стоя, он с минуту полюбовался амфитеатром, блиставшим огнями, дамскими туалетами, мундирами. «Наша Москва, первая столица мира!» Он улыбнулся. По дороге в фойе какой-то офицер в гранёных очках, у которого над усами, ловко подстриженными квадратом, торчал изогнутый маленький нос, настоящий совиный клюв, очень почтительно ему поклонился. Отвечая на поклон, Макеев задержал его движением подбородка. Тот представился:
– Капитан Пахомов, начальник службы охраны, рад вам служить, товарищ Макеев.
Польщённый тем, что его узнали, Макеев готов был расцеловать капитана. Исчезло непривычное одиночество. Он прицепился к капитану.
– Ах, вы только что приехали, товарищ Макеев, – медленно, как будто о чём-то раздумывая, сказал? Пахомов, – так вы ещё не видели нашей новой техники декораций, которая была куплена в Нью-Йорке и смонтирована в ноябре? Вам бы надо было посмотреть на эти машины. Мейерхольд был от них в восторге... Хотите, я подожду вас в антракте третьего акта и проведу туда?
Прежде чем ответить, Макеев вставил небрежным тоном:
– Скажите, капитан Пахомов, кто эта маленькая грациозная актриса в зелёной чалме?
Нос в виде совиного клюва и ночные глаза Пахомова осветились лёгкой улыбкой:
– Большой талант, товарищ Макеев. Всеми замеченный. Полина Ананьева. Я вам её представлю в её уборной, она будет очень рада, товарищ Макеев, очень рада, не сомневайтесь...
«А теперь мне наплевать на тебя, старый моралист, мрачный старик Попов, – на тебя и на твою старуху жену, похожую – на ощипанную индюшку. Что вы понимаете в жизни сильных людей, строителей, привыкших к вольному воздуху, привыкших бороться? Под полом, в глубине подвалов, крысы грызут Бог весть какие остатки, – а вы, вы пожираете папки с делами, жалобы, циркуляры, тезисы, которые наша великая партия кидает вам на стол, и так будет продолжаться до того дня, когда вас похоронят с большими почестями, чем те, что выпадали на вашу долю за всю вашу скучную жизнь». Макеев облокотился на барьер, чуть не повернувшись спиной к этой несимпатичной чете. Куда пригласить Полину? В бар Метрополя? Полина, какое красивое имя для любовницы! Полина... Позволит ли она увлечь себя сегодня же вечером? Полина... Охваченный ощущением счастья, Макеев ждал антракта.
Капитан Пахомов подстерегал его на повороте главной лестницы:
– Сначала покажу вам новые машины, товарищ Макеев, а потом пройдём к Ананьевой, она вас ждёт...
– Ладно, очень хорошо...
Макеев шёл за офицером по лабиринту всё ярче освещённых коридоров. Налево, за отодвинутой портьерой, он увидел машинистов, возившихся с лебедкой; молодые люди в синих халатах подметали сцену; в них врезался механик, толкавший перед собой какой-то маленький прожектор на колёсах.
– Необыкновенно увлекательно, правда? – сказал офицер с совиной головой.
Макеев, мысли которого были всецело заняты ожиданием женщины, ответил:
– Это волшебство театра, дорогой товарищ... Они пошли дальше, металлическая дверь отворилась и захлопнулась за ними, и они оказались в темноте.
– Что это такое? – воскликнул офицер, – позвольте, товарищ Макеев, не двигайтесь, я...
Было холодно. Только несколько секунд длилась темнота, но когда вспыхнул слабый, туманный закулисный свет – свет покинутой приёмной комнаты – или передней убогого ада, – Пахомова больше не было. Зато от задней стены отделились несколько чёрных пальто. Кто-то быстро подошёл к Макееву – коренастый тип, с поднятым воротом, в кепке, надвинутой на глаза, засунувший руки в карманы, – и незнакомый голос явственно, очень близко произнёс:
– Без скандала, Артём Артёмович, прошу вас! Вы арестованы. ,
Несколько чёрных пальто его окружили, прилипли к нему, ловкие руки шарили по его телу, его теснили, нащупали его револьвер. Макеев так резко откинулся назад, что чуть не вырвался из их рук, но они, отяжелев, пригвоздили его к месту.
– Без скандала, товарищ Макеев, – твердил убедительный голос. – Всё, без сомнения, образуется, это, наверно, простое недоразумение, повинуйтесь приказу... Эй, вы там! Чтобы не было шума!
Макеев дал увлечь, почти унести себя. На него надели шубу, двое взяли его под руки, другие шли впереди или за ним.
Превратившись в единое существо, неловко передвигая сразу множество ног, они шли сквозь густые сумерки, спотыкаясь друг о друга в тесноте узкого коридора. За соседней лёгкой перегородкой чудесной нежностью зазвучал оркестр. Где-то далеко, на лугах, на берегу серебристого озера, тысячи птиц приветствовали зарю, свет разгорался с каждым мгновением, с ним слилось пение, чистый женский голос летел ввысь сквозь это нездешнее утро...
– Тихонько, осторожней, здесь ступеньки, – прошептал кто-то над ухом Макеева.
И не было больше ни утра, ни пения, ничего – только холодная ночь, чёрная машина, невообразимое...
Прежде чем добраться до Барселоны, Иван Кондратьев прошёл через несколько обычных превращений. Сначала он был господином М. Мэррей-Баррен из Цинциннати (Коннектикут, США), фотографом Всемирной фотопрессы, ехавшим из Стокгольма в Париж через Лондон... Такси привезло его на Елисейские поля, и там он некоторое время бродил пешком с небольшим рыжеватым чемоданом в руке, между улицей Марбеф и Большим дворцом. Его видели у Малого дворца перед Клемансо – в виде старого солдата, шагающего по каменной глыбе. Но бронза останавливала движение старика – и это было отлично. Так шагают в самом конце пути, когда больше не осталось сил. «Надолго ли, суровый старик, ты спас умирающий мир? Быть может, ты просто глубже забил в скалу ту мину, которая его взорвёт?»
«Я посадил их в калошу на пятьдесят лет», – с горечью пробормотал бронзовый старик. Кондратьев смотрел на него с тайной симпатией. И он прочёл, улыбаясь, на белой мраморной дощечке, вделанной в скалу. «Конье, скульптор»[10].
Два часа спустя господин Мэррей-Баррен вышел из большого, населённого духовными лицами дома в квартале Св. Сульпиция. В руке у него был по-прежнему рыжеватый чемодан, но он уже превратился в господина, Вальдемара Лайтиса, латвийского гражданина, делегированного в Испанию латвийским Красным Крестом. Из Тулузы, пролетев над пейзажами, насыщенными божественным светом, над ржавыми вершинами Пиренеев, над дремлющим Фигерасом, над золотистыми холмами Каталонии, самолёт Эр-Франс перенёс Вальдемара Лайтиса в Барселону. Офицер международного контроля невмешательства, добросовестный швед, вероятно, подумал, что Краный Крест балтийских государств проявляет на этом полуострове похвальную активность: господин Лайтис был пятым или шестым делегатом, которого присылали сюда посмотреть на результаты воздушной бомбёжки необороняемых городов, Иван же Кондратьев, заметив внимательное выражение на лице офицера, сказал себе только, что разведка, вероятно, слишком часто пользуется этим трюком.
На аэродроме Прат дородный полковник в очках слащаво приветствовал господина Лайтиса, попросил его сесть в прекрасную машину, кузов которой был слегка поцарапан пулями, и сказал шофёру: «Vaya, amigo» (Поезжай, друг»).
Иван Кондратьев, посланец могущественной и победоносной революции, подумал, что он приехал к революции, тяжело заболевшей.
– Положение?
– Довольно хорошее. То есть я хочу сказать – не совсем отчаянное. На вас очень надеются. Сегодня ночью около Балеарских островов потопили греческое судно под британским флагом. Боеприпасы, бомбардировки, артиллерийский обстрел – ежедневный шум... Это неважно (No importa). Ходят слухи о концентрации войск в районе Эбро.. Вот и всё (Es todo).
– А внутреннее положение? Анархисты? Троцкисты?
– Анархисты угомонились, с ними, по-видимому, покончено...
– Потому что они угомонились, – тихо сказал Кондратьев.
– Почти все троцкисты в тюрьме...
– Очень хорошо. Но вы слишком долго ждали, – строго сказал Кондратьев, и его сердце сжалось.
Перед ним открылся город, с чудесной мягкостью освещённый предвечерним солнцем; он был похож на многие другие города, отмеченные тем же банальным и дьявольским знаком. Облупилась штукатурка низких, розовых или красных домов, зияли окна с разбитыми стёклами, чёрные следы пожара там и сям разъедали кирпичи, витрины магазинов были крест-накрест заколочены досками. У двери полуразрушенного магазина стояло в ожидании полсотни болтливых и терпеливых женщин. Кондратьев опознал их по землистому цвету лица, по утомлённому виду и потому, что – давно или недавно – видел таких же убогих, терпеливых и болтливых женщин, в солнечном или лунном свете, у магазинов Петрограда, Киева, Одессы, Иркутска, Владивостока, Лейпцига, Гамбурга, Кантона, Шанхая, Уханя... Очевидно, эти женские очереди за картошкой, горьким хлебом, рисом, последними запасами сахара были такой же неотъемлемой частью социального переустройства, как речи вожаков, тайные расстрелы, нелепые приказы. Накладные расходы. Машина подпрыгивала, как на дорогах Средней Азии. Показались виллы, окружённые садами. Из листвы поднимался белый фасад, с насквозь пробитыми стенами, в дыры видно было нёбо...
– Какой процент повреждённых домов?
– Не знаю... (No se). Не такой уж значительный, – небрежно ответил дородный полковник в очках, жевавший, казалось, резинку; но он ничего не жевал, у него просто был тик.
В патио роскошной когда-то виллы Сарриа Иван Кондратьев пожал, улыбаясь, множество рук. Фонтан, казалось, тихонько смеялся про себя; крепкие колонны поддерживали своды, под которыми синела прохладная тень. Вода ручейка лилась в мраморный желоб, и лёгкий стук пишущих машин сливался с этим шелковистым шелестом, – и его не нарушали далёкие взрывы. Чисто выбритый, облачённый в новенькую форму республиканской армии, Кондратьев превратился в генерала Рудина.
– Рудин?! – воскликнул один видный чиновник Министерства иностранных дел. – Мы как будто уже встречались? В Женеве, может быть, в Лиге Наций?
Кондратьев чуть усмехнулся.
– Я там никогда не бывал, но вы, может быть, встречали моего тезку, героя тургеневского романа...
– Ну как же! – воскликнул важный чиновник. – Ещё бы! Знаете, для нас Тургенев – почти классик...
– Я это констатирую с удовольствием, – вежливо ответил Кондратьев, которому становилось не по себе.
Эти испанцы с самого начала стали его шокировать. Они были симпатичны, вели себя как дети, были полны идей, проектов, требований, конфиденциальных сведений, откровенных подозрений, секретов, которые они провозглашали во всеуслышание прекрасными пылкими голосами, – но ни один из них не читал Маркса (некоторые нахально уверяли, что прочли, в невежестве своём даже не подозревая, что их ложь обнаруживалась после обмена тремя фразами), ни один не годился бы даже в агитаторы второстепенного промышленного центра, вроде Запорожья или Шуи. Вдобавок они находили, что советское снаряжение доставляется им в недостаточном количестве, что грузовики никуда не годятся; по их мнению, положение на всех фронтах было отчаянным, но минуту спустя они же предлагали собственный план победы, причём некоторые выдвигали идею европейской войны; анархисты намеревались усилить дисциплину, ввести беспощадный порядок, вызвать иностранную интервенцию; буржуазные республиканцы находили анархистов слишком умеренными и осторожно упрекали коммунистов в консерватизме; синдикалисты Национальной конфедерации труда уверяли, что в каталонском отделе Всеобщего союза трудящихся (которым руководили коммунисты) было по крайней мере сто тысяч контрреволюционеров и сочувствующих фашизму; руководители барселонского отдела ВСТ готовы были порвать с мадридским ВСТ; они повсюду обличали диверсионную работу анархистов; коммунисты презирали все остальные партии и заигрывали с буржуазными; они ещё, по-видимому, опасались призрачной организации «Друзей Дурутти»[11] и в то же время утверждали, что она уничтожена; троцкистов, по их заверениям, тоже больше не оставалось, но их продолжали преследовать, и они необъяснимым образом возрождались из тщательно затоптанного пепла в тайных тюрьмах. Штабы радовались смерти какого-то активиста из Лериды, которого прикончили на передовой выстрелом в спину, когда он шёл за супом для товарищей; хвалили мужество капитана дивизии имени Карла Маркса, который под хитроумным предлогом велел расстрелять старого рабочего, члена Рабочей партии марксистского объединения («ПОУМ»)[12] – этой зачумлённой партии. Сведению различных счётов не предвиделось конца: потребовались годы, чтобы инсценировать процесс каких-то генералов, которых в СССР расстреляли бы в два счёта без всякого процесса. Никто не знал, удастся ли набрать достаточно покладистых судей, чтобы на основании подложных документов, фабрикованных с невероятной небрежностью, отправить этих генералов на тот свет во рвах Монхуича, в тот лучезарный час, когда в пении птиц воскресает утро.
– Для начала надо было бы расстрелять наше бюро подложных документов, – сердито сказал Рудин, перелистывая дела. – Неужели эти идиоты не понимают, что подложный документ должен хоть немного походить на настоящий? Такими дрянными бумажками можно надуть разве интеллигентов, которым и без того заплачено.
– Почти все, кто работал в этом бюро с самого начала, – расстреляны, – ответил со свойственной ему сдержанностью болгарин Юванов, – но это ничему не помогло.
И он весьма ироническим тоном объяснил, что в этой стране, где так ярко светит солнце, где не знают, что такое точность, где в процессе сгорания изменяются самые жгучие факты, фальшивкам никогда не удаётся стать убедительными: этому мешают неожиданные препятствия. На отпетых подлецов находит вдруг раскаяние, вроде сильной зубной боли, сентиментальные пьяницы выбалтывают секреты, из-за общего беспорядка неожиданно выплывают на поверхность подлинные документы, судебный следователь совершает оплошность, судья краснеет и смущается, когда старый друг в лицо называет его гнусным мерзавцем, и в довершение всего появляется из Лондона депутат лейбористов в поношенном сером костюме, сухой и костлявый, типично по-британски некрасивый и, сжав в своих крепких челюстях трубку, начинает с упорством автомата спрашивать: «Закончено ли расследование об исчезновении Андреса Нина?»[13] Министры (вот тоже невероятные типы!) в присутствии пятнадцати свидетелей настойчиво требуют, чтобы он «опроверг эти клеветнические, оскорбительные для Республики слухи», наедине же с ним хлопают его по плечу: «Конечно, эти подлецы его прикончили, но что же нам делать? Ведь мы не можем воевать без русского оружия! А мы сами разве в безопасности?» Ни один из государственных деятелей – включая и коммунистов – не достоин был бы занять даже самое скромное место в особом отделе: они слишком болтливы. Министр-коммунист разоблачал в прессе (под прозрачным псевдонимом) своего коллегу, социалиста, продавшегося будто бы банкирам Сити; старый же социалист, сидя в кафе, снабжал своими комментариями эту гнусную статью, и его тяжёлый тройной подбородок, толстые щёки и даже пепельные веки тряслись от смеха: «Я продался, ну ещё бы! И это говорят наши наивные канальи, которые сами продались Москве – да ещё за испанское золото!» Это словцо попало в цель.
Болгарин Юванов так закончил свой доклад:
– Все они никуда не годятся. Но массы всё же замечательные. Он вздохнул:
– Зато сколько с ними хлопот!
На квадратные плечи Юванова была посажена фатоватая физиономия с внушительно-серьёзным выражением. У него были чёрные волнистые волосы, точно приклеенные к плотному черепу, скрытный взгляд укротителя, тщательно подбритые усики, чёрной каёмкой подчёркивавшие контуры верхней губы. Кондратьев сразу почувствовал к нему необъяснимую антипатию, ещё усилившуюся, когда они вместе просмотрели список лиц, просивших приёма. Болгарин лёгким пожатием плеч подчёркивал своё неодобрительное отношение к некоторым из них: и именно те трое, которых он, видимо, хотел устранить, оказались самыми интересными посетителями – по крайней мере, именно от них Кондратьев больше всего узнал.
Он провёл несколько дней в двух белых, почти пустых комнатках, выходил в патио, только чтобы покурить, и бродил там под звёздами, когда наступала ночь. Машинистки, которых отправили в пристройку, продолжали трещать вдалеке на своих «ремингтонах».
Из города не доносилось ни малейшего звука; летучие мыши неслышно кружили в пространстве. Кондратьев, утомлённый докладами о запасах, фронтах, дивизиях, воздушных эскадрильях, заговорах, персонале СИМ[14], цензуре, флоте, секретариате президента, духовенстве, партийных расходах, личных делах, НКТ, интригах английских агентов и тому подобном, смотрел на звёзды, о которых ему давно уже хотелось знать побольше; но он не знал даже их названий. (В те периоды его жизни, которые он мог бы посвятить размышлениям и изучению чего-нибудь – в тюрьмах, – ему не удавалось добиться ни учебника астрономии, ни разрешения на ночные прогулки.) Но в действительности у бесчисленных звёзд нет ни имени, ни числа, у них есть только этот таинственный свет, – таинственный, оттого что люди о нём ничего не знают... Я так и умру, ничего о них не узнав, это удел современного человека, «оторванного от самого себя», «разорванного», как говорил Маркс; это – удел и профессионального революционера, несмотря на то, что он лучше и яснее других разбирается в историческом развитии. Оторван от звёзд, оторван от самого себя? Кондратьеву не хотелось раздумывать над этой странной формулой, возникавшей в его уме наперекор практическим заботам. Только дашь себе волю и начинаешь заговариваться, откуда-то из глубины встаёт старое литературное образование, в пятьдесят с лишним лет рискуешь снова впасть в сентиментальность. Он возвращался в комнату, брался вновь за опись бумаг по вопросам артиллерии, за список (с примечаниями) назначений в отдел мадридской военной разведки, фотокопии личной корреспонденции Дон Манюэля Асана, президента Республики, разбор телефонных разговоров Дон Индалесио Прието, военного и морского министра, весьма трудного типа... Во время ночной бомбёжки порта и повреждения электричества он принял при свечах первого из тех посетителей, которых Юванов предпочел бы устранить: это был подполковник, социалист буржуазного происхождения, до гражданской войны – адвокат, высокий, худой малый с жёлтым лицом, на котором улыбка раздвигала некрасивые морщины. Его ловкая речь была полна довольно определённых упреков:
– Я принёс вам подробный доклад, дорогой товарищ (ему случалось даже в пылу разговора ехидно пускать «милого друга»). У нас в Сьёрре никогда не было больше двенадцати патронов на бойца... Арагонский фронт не обороняли, а его можно было бы в две недели сделать неприступным. Я написал по этому поводу двадцать семь писем, из которых шесть были адресованы вашим соотечественникам... Авиация совершенно недостаточная... Короче говоря, мы проигрываем войну, милый друг, вы не должны на этот счёт заблуждаться...
– Что вы хотите сказать? – перебил его Кондратьев, похолодевший от этих слов.
– Именно то, что я говорю, дорогой товарищ. Если не хотят дать нам возможность воевать, пусть позволят начать переговоры. Мы, испанцы, пока ещё можем между собой сговориться, избежать окончательной катастрофы, которая, как мне кажется, и не в ваших интересах.
Это было такой неслыханной дерзостью, что Кондратьев, почувствовав, как разгорается в нём гнев, ответил изменившимся голосом:
– От вашего правительства зависит, начать переговоры или продолжать войну. Я нахожу ваши выражения неуместными, товарищ.
Социалист вытянулся во весь рост, поправил галстук защитного цвета, выставил свои дёсны в широкой жёлтой улыбке:
– Ну, тогда извините меня, дорогой товарищ. Может быть, всё это – просто фарс, которого я не понимаю, но который дорого стоит моему несчастному народу. Во всяком случае, я высказал вам чистую правду, генерал... До свиданья.
Он первый протянул свою длинную обезьянью руку, гибкую и сухую, щёлкнул каблуками на немецкий манер, поклонился, вышел... «Пораженец, – в ярости подумал Кондратьев, – вредный элемент... Юванов был прав».
Первым посетителем на другое утро был курчавый синдикалист с очень толстым, треугольной формы носом, с глазами то горящими, то искрящимися. Он с сосредоточенным видом отвечал на вопросы Кондратьева. Положив одна на другую свои толстые руки, он, казалось, ожидал чего-то другого. Когда в конце разговора настала неловкая пауза, Кондратьев собрался встать, чтобы положить конец аудиенции. В эту минуту лицо синдикалиста внезапно оживилось, его руки живо протянулись вперёд, и он заговорил очень быстро, с жаром, на сбивчивом французском языке, как будто хотел убедить Кондратьева в самом главном:
– Я, товарищ, люблю жизнь. Мы, анархисты, – партия людей, которые любят жизнь, жизненную свободу, гармонию... Свободу жизни! Я не марксист, нет, я против государства, против политики. Совершенно не согласен с вами, во всём и от всей души.
– Вы думаете, что существует анархистская душа? – спросил Кондратьев, которого позабавило это выражение.
– Нет. И мне на это наплевать... Но я готов умереть, как многие другие, если это значит – умереть за революцию. Даже если надо сначала выиграть войну, а потом устроить революцию, как уверяют ваши, – что, по-моему, роковая ошибка: потому что люди должны ведь знать, за что они дерутся... Вы хотите нас провести этой выдумкой: «война прежде всего» – и сами здорово попадёте впросак, если мы её выиграем. Но дело не в этом... Я готов пожертвовать своей шкурой, – но потерять и войну, и революцию, и свою шкуру – чёрт побери, это уже слишком! А мы к этому идём, потому что делаем массу подлых глупостей. Знаете каких? Например: двадцать тысяч прекрасно вооружённых парней в красивых новых формах сторожат в тюрьмах, в тылу десять тысяч революционеров, антифашистов, самых лучших... И при первой же опасности ваши двадцать тысяч мерзавцев удерут или же перебегут к врагу. Или, например, политика продовольственного снабжения Комореры[15]: лавочники набивают себе карманы, а пролетарии голодают. Или, например, все эти истории – «пумистов» и «каналлеристов», я знаю и тех и других, они – узкие доктринёры, как все марксисты, но честнее ваших. Среди них нет ни одного предателя – я хочу сказать, не больше жуликов, чем среди других.
Его руки протянулись через стол, нашли руки Кондратьева, ласково и сильно их сжали. Его дыхание приблизилось, приблизилась и курчавая голова с блестящими глазами. Он сказал:
– Вас послал Вождь? Уж мне-то можете сказать правду, Гутиеррес для секретов – могила. Скажите, неужели ваш Вождь • не знает, что здесь творится, что наделали эти дураки, его бездарные лакеи? Ведь он искренне хочет, чтобы мы победили? Если так, мы можем ещё спастись, мы спасены? Ответьте мне!
Кондратьев медленно ответил:
– Я послан ЦК нашей партии. Наш великий Вождь желает блага испанскому народу. Мы помогаем вам и будем помогать по мере возможности.
Это был ледяной ответ. Гутиеррес отдёрнул руки, откинул назад курчавую голову, потушил блеск своих глаз. Он немного подумал, потом расхохотался.
– Bueno, товарищ Рудин. Когда посетите метро, скажите себе, что Гутиеррес, который любит жизнь, умрёт там через два или три месяца. Это – вопрос решённый. Мы спустимся в туннели с нашими пулеметами и дадим там фашистам последний бой, который им дорого обойдётся, уж поверьте!
Он весело подмигнул Кондратьеву.
– А когда мы будем разбиты, вам придётся ой как туго! Всем! (Круглым жестом он охватил весь мир.)
Кондратьеву хотелось успокоить его, обратиться к нему на «ты»... Но он чувствовал, что внутренне становится жёстче.
Напоследок он произнёс несколько пустых слов, сам сознавая их пустоту. Гутиеррес ушёл тяжёлым шагом, раскачиваясь, – после последнего рукопожатия, окончившегося рывком.
Впустили третьего неприятного посетителя. Это был Клаус, капрал Интернациональной бригады, старый член немецкой компартии, заподозренный когда-то в уклоне Гейнца Нейманна, осуждённый в Баварии, осуждённый в Тюрингии... Кондратьев знал его с 1923 года: три дня и две ночи уличных боев в Гамбурге... Клаус был хорошим, замечательно хладнокровным стрелком. Оба были рады встрече; они стояли друг против друга, засунув руки в карманы.
– Ну, как там у вас, социалистическое строительство действительно подвигается? – спросил Клаус. – Людям лучше живётся? А как молодёжь?
Кондратьев повысил голос, чтобы объявить радостным тоном, – фальшь которого он сам сознавал, – что страна растёт на глазах. Они поговорили об обороне Мадрида с технической точки зрения, о прекрасном духе Интернациональных бригад.
– Ты помнишь Беймлера – Ганса Беймлера? – спросил Клаус.
– Конечно, помню, – сказал Кондратьев. – Он здесь, с тобой?
– Его больше нет.
– Убит?
– Убит. На переднем крае, в Университетском городке – но в спину, нашими! – Губы Клауса дрожали, и голос его тоже задрожал. – Потому-то я и хотел непременно тебя увидеть. Ты должен расследовать это дело. Гнусное преступление! Его убили из-за чёрт знает каких сплетен или подозрений. Болгарин с физиономией сутенёра, которого я встретил идя сюда, наверно, что-то об этом знает. Расспроси-ка его.
– Расспрошу, – сказал Кондратьев. – Это всё?
После ухода Клауса Кондратьев приказал часовому никого больше не впускать, закрыл дверь, ведущую в патио, и стал расхаживать по комнате, ставшей вдруг душной, как тюремная камера. Что ответить этим людям? Что написать в Москву? Каждое столкновение с фактами бросало зловещий свет на заявления официальных лиц. Почему зенитки вступали в действие слишком поздно – когда кончалась бомбёжка? Почему объявляли тревогу, когда уже падали бомбы? Почему бездействовал флот? Почему умер Ганс Беймлер? Почему недоставало патронов на передовых позициях? Почему штабные офицеры перебегали к врагу? Почему бедный люд морили голодом в тылу? Он ясно сознавал, что за этими определёнными вопросами скрывалось ещё гораздо большее зло, о котором предпочтительнее было не думать... Но его размышления длились недолго: в дверь постучал Юванов.
– Пора ехать на конференцию политкомиссаров, товарищ Рудин.
Кондратьев согласился. И следствие о смерти Ганса Беймлера, убитого в бою, в лунном пейзаже мадридского Университетского городка, было тут же, на месте, закончено.
– Беймлер, – равнодушно сказал Юванов, – да, как же, знаю. Смелый – и довольно – неосторожный человек. В его смерти нет ничего таинственного: проверка аванпостов ежедневно стоит жизни одному-двоим. Его предупреждали об опасности... Бригада была не очень довольна его политическим поведением. Впрочем, ничего серьёзного: слишком снисходительные споры с троцкистами, неуместные замечания по поводу московских процессов, доказывавшие, что он в них ничего не понял... Я получил из надёжных источников точные сведения о его смерти. Один из моих товарищей его сопровождал, когда в него попала пуля...
– Что вы выяснили?.. – настаивал Кондратьев.
– Что ж тут выяснять? Происхождение шальной пули на ничьей земле, где стреляют из тридцати пулеметов?
В самом деле, смешно было об этом и думать.
Когда машина тронулась, Юванов снова заговорил:
– Хорошая новость, товарищ Рудин. Нам удалось арестовать Стефана Штерна... Я велел отправить его на наше судно «Кубань». Здоровый удар по изменникам-троцкистам! Это стоит победы, уверяю вас.
– Победы? Вы действительно так думаете?
Имя Стефана Штерна мелькало во многих докладах о деятельности враждебных групп. На нём не раз задерживалось внимание Кондратьева. Штерн был, по-видимому, секретарём какой-то отколовшейся группы, скорее теоретиком, чем организатором, автором нескольких прокламаций и брошюры об «интернациональной перегруппировке». Этот троцкист очень резко полемизировал с Троцким.
– Кто его арестовал? – спросил Кондратьев. – Мы? И вы велели отправить его на одно из наших суден? Вы действовали по приказанию – или это ваша личная инициатива?
– Я имею право не отвечать на этот вопрос, – твёрдо заявил Юванов.
Стефан Штерн незадолго перед тем переправился через Пиренеи, – без паспорта, без денег, но с драгоценным, на машинке отпечатанным журналом в сумке: «Тезисы движущих сил испанской революции». Первая же темноволосая девушка с золотисто-смуглыми руками, которую он встретил в гостинице округа Пуигсерда, опьянила его своими улыбающимися глазами, ещё более золотистыми, чем её руки, и сказала ему:
– Здесь, товарищ, начинается настоящая анархистская революция (Aqui, camarada, empieza la verdadera revolucion libertaria).
Поэтому она позволила ему коснуться её груди и поцеловать в затылок, под рыжими завитками. Рыжий жар её глаз, белизна зубов, острый запах её молодого тела – к этому сводилось всё её существо. Она несла охапку свежевыстиранного и выжатого белья, и всю её окружала колодезная прохлада. Вдали, сквозь ветки яблонь, виднелись вершины гор, чуть тронутые снежной белизной.
– Меня зовут Ниеве (Mi nombre es Nieve), – сказала девушка, которую забавляло робкое восхищение этого молодого иностранного товарища; у него были большие зелёные глаза, чуть косо прорезанные, на лоб его падали растрёпанные рыжие пряди. Он понял, что её зовут «Снег». «Снежинка, солнечная снежинка, чистая снежинка», – восторженно бормотал он на непонятном ей языке. Но, рассеянно лаская её, он, казалось, больше о ней не думал. Воспоминание об этой минуте, минуте простого и невероятного счастья, никогда не изгладилось из его памяти. В этот миг переломилась его жизнь; всё исчезло: нужда, пережитая в Праге и в Вене, деятельность мелких групп, их раскол, безвкусный хлеб, которым он питался в Париже, когда жил за Пантеоном, в маленьких гостиницах, пахнувших застарелой мочой, и, наконец, – одиночество человека, целиком поглощённого идеей.
В Барселоне, в конце одного митинга, когда толпа пела, провожая уходивших на фронт, – под большим портретом Иоахима Маурина, якобы погибшего в Сьерре (на самом же деле безымянного пленника вражеской тюрьмы), Стефан Штерн встретил Анни. В двадцать пять лет она казалась семнадцатилетней: у неё были голые икры, голые руки, открытая шея, руку оттягивал тяжёлый портфель. Издалека, с Севера, её привела сюда чистейшая страсть. Она постигла теорию перманентной революции: для чего же и жить, если не для осуществления этой высокой цели? Если бы кто-нибудь напомнил Анни большой фамильный салон, где её отец, господин судовладелец, принимал господина пастора, господина бургомистра, господина доктора, господина председателя благотворительного общества и где прежняя Анни, примерная девочка с накрученными на уши косичками, по воскресеньям разыгрывала сонаты в присутствии дам, – она, смотря по настроению, ответила бы с лёгким отвращением, что от этого буржуазного болота дурно пахло, или же с вызывающим видом и чересчур пронзительным, не совсем естественным смехом сказала бы что-нибудь в таком роде: «Хотите, расскажу вам, как в гроте Альтамира ребята из Национальной конфедерации труда научили меня любви?» Ей приходилось иногда работать со Стефаном, писать под его диктовку, – и раз, по выходе из Большого парка, в густой толпе, он вдруг обнял её за талию (за минуту до того он об этом и не думал), прижал к себе и без обиняков предложил:
– Хочешь остаться со мной, Анни? Мне по ночам бывает так скучно...
Она искоса посмотрела на него; в ней боролись раздражение и скрытая радость, и ей захотелось злобно ответить ему:
«Поищи себе какую-нибудь проститутку, Стефан, – хочешь, я одолжу тебе десять песет?»
Но она сдержалась, – и ему ответила её радость, вызывающим и чуть горьким тоном:
– Я тебе нравлюсь, Стефан?
– Ещё бы! – решительно ответил он, останавливаясь перед нею: рыжие пряди упали ему на лоб, глаза отливали медью.
– Хорошо. Так возьми же меня под руку, – сказала она.
Потом они поговорили о митинге, о речи Андреса Нинй, слишком расплывчатой в некоторых пунктах, недостаточно твёрдой в главном вопросе.
– Надо было высказаться гораздо резче, не уступать в вопросе о власти комитетов, – сказал Стефан.
– Ты прав, – горячо ответила Анни. – Поцелуй меня, – а главное, не декламируй плохих стихов.
Они неумело поцеловались в тени пальмы на площади Каталуны, в то время как прожектор противовоздушной обороны пробегал по небу и, останавливаясь в зените, светящейся шпагой вонзался в небо. Оба считали, что новое коалиционное правительство не должно было распускать революционные комитеты; из этого согласия выросла между ними горячая дружба. После майских дней 1937 года, похищения Андреса Нина, объявления ПОУМ вне закона, исчезновения Курта Ландау Стефан и Анни поселились в Грации, в розовом двухэтажном доме, окружённом запущенным цветником, где в беспорядке росли одичавшие роскошные цветы вперемежку с крапивой, чертополохом и неизвестными широколистными и мохнатыми растениями. У Анни были прямые плечи, прямая, как крепкий стебель, шея. Она высоко несла свою удлинённой формы головку, суженную у висков. Брови её были неуловимого оттенка и почти незаметны. Под соломенно-светлыми волосами у неё был гладкий и твёрдый лобик; серые глаза хладнокровно смотрели на мир. Анни ходила за провизией, готовила еду в печке или на керосинке, стирала, правила корректуру, переписывала на «ундервуде» письма, статьи, тезисы Стефана. Их жизнь проходила почти в молчании. Иногда Стефан садился против Анни, пальцы которой плясали на клавишах машинки, глядел на неё с кривой усмешкой, произносил одно только слово:
– Анни!
Она отвечала:
– Дай мне закончить это письмо... Ты приготовил ответ австрийской компартии?
– Нет ещё, не успел. В бюллетене IV Интернационала я нашёл массу вещей, которые нужно отметить.
Во всём этом было множество ошибок, в них тонула победоносная доктрина 1917 года; её, несмотря на военную бурю, надо было по возможности спасти, – а кроме неё – до наступления последних сроков, – по-видимому, спасать было нечего.
Каждый день товарищи приходили сообщать им новости. Самую смешную историю рассказал Хаиме – историю трёх парней, которые во время бомбёжки зашли к парикмахеру побриться: всех троих зарезали бритвой три парикмахера-подмастерья, одновременно сильно вздрогнувшие, когда разорвалась бомба. Какой замечательный трюк для кино! Трамвай, битком набитый женщинами, возвращающимися с утреннего рынка, внезапно и необъяснимо вспыхнул, как стог сена, страшный треск и вихрь пламени заглушили крики; посреди перекрёстка, под слепым взглядом выбитых окон, валялся чёрный металлический остов. «Трамвайную линию отвели...» Люди, лишившиеся драгоценного карто, феля, расходились мелкими шажками, каждый возвращался к своей жизни... Снова завывали гудки, но женщины, толпившиеся у двери бакалейной лавки, не разбегались, боясь потерять своё место в очереди и право на порцию чечевицы. Ибо смерть была возможна, но голод – несомненен. Люди кидались к развалинам домов в поисках щепок, чтобы было на чём сварить суп. Бомбы неизвестного образца, сфабрикованные в Саксонии добросовестными работниками науки, вызывали такие неслыханные бури, что от больших домов оставался один лишь остов, и они возвышались над островками молчания, подобные внезапно потухшим кратерам. Под развалинами никто не оставался в живых, – разве одна, чудом спасённая, потерявшая сознание девчурка с короткими чёрными кудрями, которую под обломками, в нетронутой выемке, на пяти метрах глубины нашли товарищи. Они унесли её, радостно прислушиваясь к её безмятежному дыханию и шагая с удивительной осторожностью. Может быть, она просто спала? Она пришла в себя – точно вышла из небытия – в ту минуту, когда яркий солнечный свет коснулся её век. Она проснулась на руках этих полуголых, почерневших от дыма людей, в белых глазах которых стоял безумный смех; и они спустились с неведомой горной вершины в центр города, в банальный повседневный квартал... Кумушки уверяли, что они видели, как за минуту до спасения девочки упала с неба обезглавленная голубка; из шейки этой жемчужно-серой птицы с распростёртыми крыльями била ключом красная пена, вроде красной росы... «Чёрт возьми, неужели вы верите выдумкам этих сумасшедших святош?»
Люди долго – вне пределов человеческого времени – брели в холодных потёмках, обдирая себе руки об острые и липкие выступы скал, спотыкаясь о неподвижные тела, – может быть, трупы, а может быть, живые, обессиленные люди, которые скоро станут трупами. Они надеялись добраться до более безопасной вершины, но там не оставалось ни одной целой крыши, в обитаемых подвалах не было ни одного свободного угла – подождите, пока кто-нибудь умрёт, говорили, и долго вам ждать не придётся, Иисусе! Вечно они поминают своего Иисуса. Море врывалось в убежища, выщербленные в скалах, небесный огонь падал на тюрьмы, мертвецкая была переполнена сегодня по-воскресному разодетыми детьми, завтра – милицейскими в синих блузах, сплошь безбородыми, у которых были повзрослевшие, странно серьёзные лица, послезавтра – изуродованными молодыми матерями, кормившими грудью мёртвых младенцев, на следующий день – старыми женщинами, с руками, загрубевшими от полувековой подневольной работы... Казалось, смерть забавляется, избирает жертвы последовательными сериями. Афиши твердили:
ОНИ НЕ ПРОЙДУТ! NO PASARAN!
Но мы-то, как мы пройдём через следующую неделю? Как пройдём через зиму? Пройдём, проходите, – успокоятся только усопшие...
Голод гнался по пятам за миллионами людей, оспаривал у них право на горох, на прогорклое растительное масло, на сгущённое молоко, присланное квакерами, на шоколад из сои – дар донецких профсоюзов; голод на свой лад лепил детские личики, придавая им трогательное выражение маленьких умирающих поэтов или убиенных херувимов, и фотографии их Друзья Испании выставляли в парижских витринах на бульваре Османа.
Беженцы из обеих Кастилий, из Эстремадуры, Астурии, Галисии, Эускади, Малаги, Арагона и даже семьи карликов из Гурды упорно, день за днём, выживали, вопреки ожиданиям, несмотря на все несчастья Испании, несмотря на всевозможные беды. Только несколько сотен людей верили ещё в чудо победы революции – это были люди различных идеологических групп: марксисты, анархисты, синдикалисты, марксисты-анархисты, анархисты-марксисты, социалисты крайне левого толка; большинство их сидели в образцовой тюрьме, где они с жадностью поедали всё те же бобы, яростно поднимали кулаки в знак ритуального приветствия и жили в изнурительном ожидании в этом мире, где всё сводилось к убийству, расстрелу на заре, дизентерии, бегству, бунту, величайшему экстазу, работе для единого научного и пролетарского дела, освящённого историей...
– Вот увидите, как они быстро дадут драпа, как побегут через Пиренеи, все эти красавцы военные, министры, политики, дипломаты, готовые и на бегство, и на измену, лжесоциалисты сталинского образца, лжекоммунисты, загримированные под социалистов, лжеанархисты, предавшиеся правительству, обманщики и фашисты чистой воды, лжереспубликанцы, заранее продавшиеся диктаторам, – увидите, как они быстро смотаются перед красными знаменами! Какой это будет реванш для нас, товарищи! Терпение!
Праздничное солнце освещало этот зарождавшийся и одновременно умиравший мир, его окружало идеально чистое море, а бомбардировщики «Савойя», похожие на чаек с неподвижными крыльями, вылетали из Майорки и летели на ярком солнце между небом и морем, сея смерть в бедных кварталах порта.
На Северном фронте не было патронов; в Теруэле, в ненужных боях, федеративные дивизии таяли, как сало на огне, – но ведь это были люди, и на этих людей, набранных во имя синдикализма и анархии Национальной конфедерацией труда, обрушились страдания и смерть; тысячи людей уходили в самое пекло с прощальными словами женщин в душе, и им не суждено было вернуться – или же они возвращались на носилках, грязных, кишащих паразитами поездах, помеченных Красным Крестом и распространяющих на железнодорожных путях ужасающий запах бинтов, гноя, хлороформа, дезинфекции и гнойной флегмоны. Кто захотел, чтобы был Теруэль? Зачем был Теруэль? Чтобы уничтожить последние рабочие дивизии?
Стефан Штерн задавал этот вопрос в письмах к иностранным товарищам, длинные пальцы Анни переписывали их на машинке, но Теруэль отошёл уже в прошлое, битвы катились теперь по направлению к Эбро, переходили через Эбро, какое значение имела ещё эта бойня, организованная из каких-то тайных соображений Листером или Эль Кампесино?[16] Почему было заранее предрешено отступление дивизии имени Карла Маркса? Разве потому, что её берегли для последнего братоубийства в тылу, потому что она готова была расстрелять последних бойцов дивизии имени Ленина? Стоя за Анни, за её узким затылком, крепким, как стебель, Стефан Штерн легче следил за ходом своей мысли через послушный мозг Анни, её пальцы, клавиши её машинки.
Им случалось иногда беседовать до поздней ночи, при свечах, попивая грубоватое чёрное вино с товарищами из подпольного комитета... Председатель Негрин передал русским золотой запас, отправленный в Одессу; коммунисты защищали Мадрид под верховным командованием Миахи («вот увидите, в последнюю минуту они не устоят»); на деле же командовали Орлов и Горев, Касорла[17] стоял во главе разведки, у них была своя инквизиция, свои секретные тюрьмы – они всё крепко держали в руках, в тесных узах интриг, страха, шантажа, покровительства, дисциплины, преданности, веры. Правительство, укрывшееся в монастыре Монсерра, среди острых скалистых вершин, было бессильно. В плохо защищённом городе зарождалась смертельная ненависть к организаторам-коммунистам.
– Вот увидите, близок день, когда чернь разорвёт их на улицах в клочки. Сожгут их осиные гнёзда, полные доносов, как сожгли монастыри. Боюсь только, что это произойдет слишком поздно, после окончательного поражения, в окончательном хаосе.
Стефан ответил:
– Они живы только ложью, самой гигантской, самой возмутительной ложью, которую когда-либо знала история с тех пор, как ловко была похищена идея христианства, – ложью, в которой есть и немалая доля правды. Они ссылаются на свершившуюся революцию – действительно, свершившуюся, – выступают под красными знаменами и взывают этим к самому сильному, самому справедливому инстинкту масс. Пользуясь верой людей, они похищают эту веру, превращают её в орудие собственной власти. Но самая страшная сила их ещё в другом: большинство из них верит, что продолжает служить революции, когда на самом деле они на службе у новой контрреволюции, такой, какой ещё свет не видал, поселившейся в тех самых комнатах, где когда-то работал Ленин.
Подумайте только: какой-то тип с жёлтыми глазами украл ключи Центрального Комитета, пришёл, уселся за стол старика Ильича, взял телефонную трубку и объявил: «Пролетарии – это Я!» И то же радио, которое ещё накануне твердило: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», принялось вопить: «Слушайте нас, слушайтесь нас, нам всё дозволено, революция – это мы...» Быть может, он и сам этому верит, тогда он полусумасшедший, но скорее – верит лишь наполовину: посредственные люди легко приноравливают свои убеждения к положению, в которое они попали. А за ним поднимаются, кишат, как крысы, спекулянты, благонамеренные трусы, робкие люди, те, что только что устроились, карьеристы, кандидаты в карьеристы, торгаши, хвалители всех власть имущих и те, что продаются любым хозяевам – весь этот сброд стремится к власти, потому что видит в ней верное средство завладеть трудами ближнего, плодами его трудов, его женой, если она хороша собой, его жилищем, если оно удобно. И вся эта орава принимается голосить, причём получается самый согласованный хор на свете: «Да здравствует наш бифштекс, да здравствует наш Вождь, революция – это мы, это для нас побеждали врага армии в лохмотьях, восторгайтесь нами, воздавайте нам почести, давайте деньги, места, слава нам, горе тем, кто восстанет против нас». Что же делать бедным людям? А нам что, по-твоему, делать? Все выходы прочно охраняются, охраняются и ротационные машины, советские идеологи и идеалисты излагают на газетных столбцах новую официальную истину, её провозглашают громкоговорители, её демонстрируют шествиями школьников на Красной площади, спуском парашютистов с неба; манифестациями работниц, мобилизованных, как для военного парада; её доказывают постройкой заводов, открытием стадионов, перелётом через полюс, конгрессами учёных. Искусство диктатора состоит в том, что он умеет использовать для своей славы и новый метод лечения рака, и предпринятое в стратосфере изучение космических лучей; он конфискует для своей славы все человеческие достижения, от него совершенно не зависящие. А когда завершается эта замечательная жульническая операция, выступает эпоха всемирной стабилизации. Хозяева старого мира узнают самих себя в этом человеке, который, по их мнению, восстановил порядок, потому что его власть, по существу, той же самой породы, что и их собственная власть...
– В былые времена отчётливая граница делила общество на две части; на этой границе можно было, в зависимости от эпохи, и бороться, и жить спокойно, без иллюзий и без отчаяния. У существовавшего режима были свои всем известные болезни, наследственные пороки, свойственные ему преступления, которые нетрудно было разоблачить. Рабочий класс требовал хлеба, досуга, свобод, надежды... Лучшие люди из имущих классов восставали против этого общества. Реакция против революции – какая прекрасная схема! Как всё это было ясно! Идя на баррикады, не боялись ошибиться: по эту сторону – товарищи, по ту – враги. А за баррикадой перед нами было будущее, и оно-то несомненно должно было принадлежать нам. Не важно, сколько братских могил будет у нас на пути, сколько придётся похоронить поколений, сколько принять страданий, пока мы дойдем до этого будущего. Это были светлые, благотворные, неопровержимые мифы, насыщенные ослепительной истиной... Но в наши дни всё смешалось. Новая реакция – опаснее прежней, потому что мы сами её породили, она говорит на нашем языке, присвоила себе наш ум и нашу волю, она пробралась в нашу победоносную революцию и хочет с нею смешаться... Маркс и Бакунин жили в эпоху простых проблем: у них не было врагов за спиной.
Хаиме сказал:
– В шестнадцатом веке Испания была самой богатой страной в Европе. Как всегда, цивилизация оказалась лишь небольшим островком на фоне общего здорового варварства, и хоть она действовала на него развращающе, но не проникала глубоко. Не труд и не торговля обогатили Испанию, а ограбление Америки: самое удивительное приключение разбойников и, по своим последствиям, – самое плачевное. Из золота, подобранного в крови индейцев, конкистадоры не сумели ничего создать. Настоящими завоевателями оказались впоследствии не искатели золота, а буржуа: без труда награбленное богатство убивало производительность. Упадок империи, непомерно обогащённой авантюристами, привёл к возрождению народных масс, которых почти не коснулись ни завоевания, ни обогащение, ни разорение: народ возрождался из грязи – на солнце. К этому, по существу, сводится здесь всё: к солнцу и к людям, привыкшим жить солнцем. Упадок страны отзывается главным образом на господах, на коронованных особах, на аристократах, духовенстве и артистах, назначение которых – забавлять вельмож. Народ же продолжает жить по-прежнему, почти как тысячу лет тому назад... И в конце концов в нашей монархии без монархистов, с её влиятельными людьми в деревнях, с замечательной современной индустрией в Каталонии, оказался самый молодой пролетариат в мире: он молод чистотой своих инстинктов, наивностью духа, прямым взглядом на вещи: у нас оказались самые нищие в мире крестьяне и тысячи интеллигентов, для которых старые, повсюду обесцененные идеи – христианской революции, якобинской революции, идеи Равных, идеи Бакунина 1860 года и либеральных адвокатов 1880 года – были истиной, вошедшей в их плоть и кровь. Они были свидетелями первой войны, приведшей к разделу мира. Для союзников мы оказались чем-то вроде подсобной фабрики: наши промышленные центры быстро развивались, и одновременно с обогащением владельцев росли мощь и сознательность пролетариата – подлинного пролетариата, нервы и мозг которого ещё не были отравлены машинами, газетами, кино, алкоголем и у которого не было ничего на свете, кроме труда, страстей, ребятишек и ожидания. Это были чудесные времена, мы чувствовали, что по справедливости будем владеть всем миром, – и это могло осуществиться. Русская революция запечатлела в наших сердцах свою пятиконечную звезду, свои ослепительные марксистские формулы, ещё упрощенные террором, свои неслыханные победы. Кто не работает, тот не ест, hombre! (Это было сказано ещё в Евангелии, но эту истину давно забыли... Вся власть трудящимся... Земля – крестьянам, фабрики – рабочим, hombre!) Они убили всю царскую семью, брат. В ту пору мне было семнадцать лет, я был анархистом, зарабатывал тёской досок две с половиной песеты в день, но жил как в чаду. Казнь царя, его красивых взрослых дочерей и хилого мальчика опьянила меня, как стакан виски натощак... Это гнусно, говорил я себе, мы палачи, убийцы, – но другой голос пел во мне во всё горло: чёрт возьми, так им и надо, этим коронованным вешателям, они заслужили казнь! После я понял, что из-за наших постоянных поражений мы все больны комплексом неполноценности, который нам трудно преодолеть. Этим болен рабочий класс. Нам нужно одержать немало побед и отомстить за обиды, хоть и грубо, но крепко, чтобы выздороветь и, может быть, даже найти в этой болезни зачатки другого комплекса – комплекса превосходства, совершенно нам необходимого... Какое нужно было согласие, какая была у русских организация, какой ум, чтобы добиться такой удачи!
Так я пришёл к мысли о партии... А потом, когда доходили до меня вести из России, я начал страдать, сам хорошенько не понимая почему... Если бы русские остались верны самим себе, если бы они сохранили своё величие, сознание своего превосходства, которое сообщалось и нам, и яркий свет, который они сюда внесли, – не знаю, чего бы мы добились и здесь, и в других странах, знаю только, что это было бы замечательно. Но они объявили анархистов вне закона, а мы здесь жили примитивным анархизмом, они свели марксизм к упрощенным формулам, а ураган – к пилюлям для экспорта, они заговорили на теоретическом языке, нам непонятном – из-за галиматьи, от которой стошнило бы Маркса, и из-за наших неискоренимых гуманитарных теорий... Вот почему, брат, мы подыхаем теперь, двадцать лет спустя, вот почему столько хороших людей полегло в наших Сьеррах под негашеной известью...
– Когда наш король сбежал, в Мадриде больше не было власти: никто не подобрал командного жезла, министерских портфелей, государственной печати, печатей для декретов, валявшихся в мусорных ящиках. А мы, безмозглые революционеры, и не подумали их подобрать. Из восставших нам надо было бы быстро превратиться частью в тряпичников, частью в карьеристов, частью в спекулянтов, частью в самозванцев. И само собой, власть захватила буржуазия. У них-то достаточно опыта, они тебе в каком-нибудь кафе быстро состряпают великолепное министерство с Алкала Самора, Маура и другими гробовщиками того же рода и уже на следующий день заговорят о порядке и власти, – кончено дело, газеты поместят портреты этих новых хозяев, будет проголосована конституция, успокоившаяся полиция прикладами выгонит из сельских мэрий – в Касас Виехас или других местах – наших наивных товарищей, которые собрались там, чтобы провозгласить всемирную анархистскую Республику. В наказание за это ужасное преступление их легковесные мозги разлетятся по мостовой.
– А какую победу можно было бы здесь одержать! Но никто её не продумал, никто не нашёл к ней пути, все только толкались, как слепые... У нас десятки тысяч хороших партийных работников, способных на быструю импровизацию, готовых на любом углу улицы превратиться в героев, – но нет ни одного человека, который одним взглядом сумел бы охватить положение, заглянуть в будущее, мыслить отважно, выразить в решительном слове то, о чём смутно мечтает весь народ, чего хотят миллионы не уверенных в себе людей; у нас нет сплочённой группы людей доброй воли, смелых и проницательных... Мы гибнем, потому что у нас, среди миллионов, нет нужных людей.
Они говорили о своей партии с нежностью, но не без строгости: она слишком слаба, ей недостаёт выдающихся людей, над ней тяготеют ошибки, совершённые ещё до её основания, преследования опустошили её ряды. Едва поднимается чья-либо голова, её сносят, – и это нетрудно, особенно когда удар наносится в спину.
– Лондонские банкиры не хотят социалистической Испании. Чтобы помешать нашей победе, они готовы пожертвовать безопасностью путей империи. Это мнение разделяют все финансисты мира. Пусть лучше завтра вспыхнет мировая война! Что ж, война неизбежна. Они поплатятся за свой священный эгоизм. Но для нас это слабое утешение. СССР гениального Вождя больше всего на свете боится молодой и жизнеспособной революции. Он всё меньше отпускает нам оружия и потихоньку убивает нас. Может быть, для Вождя мы всего-навсего пешки на шахматной доске... Мы одиноки, совершенно одиноки во всём мире с нашими последними пулеметами, последними пишущими машинками, тремя дюжинами последних товарищей, лишённых всяких средств, не ладящих между собой, разбросанных по обоим полушариям...
– Хуже всего, что народу всё это надоело. Выпьем за поражение, говорят люди, выпьем за что угодно, лишь бы кончилась эта война. Они больше не знают, за что борется Республика. И они не так уж не правы. Какая Республика? За кого она? Народ не подозревает, что история неисчерпаема на выдумки, что всегда может быть ещё хуже. Люди воображают, что им больше нечего терять... Между предельным голодом и затемнением мозгов есть прямая связь: когда желудок пуст, огоньки духа начинают колебаться и затухать... Кстати, когда я шёл сюда, мне попалась на дороге довольно противная немецкая физиономия; она мне совсем не понравилась. Вы ничего не заметили? Ваше убежище по-прежнему надёжно?
Насторожившись, Анни и Стефан переглянулись.
– Нет, ничего...
– Ты принимаешь необходимые предосторожности? Не выходишь?
Они подсчитали товарищей, знавших убежище: их было семь.
– Семь, – задумчиво сказала Аннй, – слишком много.
Но двоих они, оказывается, забыли: на самом деле их было девять. Вполне заслуживающих доверия – но девять!
– Надо будет послать тебя в Париж, – заключил Хаиме. – Нам необходимо иметь там хорошего интернационального секретаря.
Он поправил свой пояс, который оттягивал пистолет, надел пилотку, вместе с друзьями пересёк сад, остановился у калитки:
– Составь черновик умеренного ответа англичанам: они понимают марксизм по-своему, в свете позитивизма, либерализма, fair play и виски с содовой... И советую тебе всё же переночевать сегодня где-нибудь на холме, а я тем временем наведу справку в генералитете[18].
После ухода Хаиме в одичавшем саду, где металлически верещали цикады, осталось ощущение смутной тревоги.
Стефан, которому было тридцать пять лет, пережил уже крушение многих миров: поражение обессиленного пролетариата в Германии, термидор в России, развал социалистической Вены под пушками католиков, распад Интернационалов, эмиграцию, деморализацию, убийства, московские процессы... Если мы исчезнем, не успев выполнить нашей задачи или просто быть свидетелями событий, сознание рабочего класса совершенно померкнет бог знает на сколько лет. В каждом человеке создаётся в конце концов известная, единственная в своём роде ясность, у каждого свой незаменимый опыт. Потребовалось много поколений, бесчисленные жертвы и неудачи, восстание масс, значительные события, бесконечно сложные особенности личной судьбы, чтобы в двадцать лет создать человека, – и его жизнь зависит от пули, пущенной каким-нибудь мерзавцем. Стефан сознавал, что он сам такой человек, и ему было страшно за себя, особенно с тех пор, как многие его товарищи исчезли. Два исполкома были один за другим брошены в тюрьму, третий состоял из наилучших людей, которых можно было найти среди семи-восьми тысяч партийных работников, тридцати тысяч членов партии, шестидесяти тысяч сочувствующих, – но это были посредственности, полные добрых намерений, нерассуждающей веры, смутных идей, которые часто сводились к элементарным символам.
– Анни, послушай! Я боюсь стать трусом, когда подумаю обо всём, что я знаю, что я понимаю и чего они не знают, не понимают...
Он ничего толком не записывал, – некогда было думать.
– Послушай, Анни! Во всём мире пятьдесят человек, не больше, понимают теорию Эйнштейна. Если бы их всех расстреляли в одну и ту же ночь, всё было, бы кончено, на век, на два, может быть, на три, – откуда нам знать? Известное представление о мире исчезло бы... целиком. Подумай только: в течение десяти лет большевизм поднимал миллионы людей в Европе и в Азии выше их обычного уровня. А теперь, когда расстреляли русских, никто уже не увидит изнутри, что это было, чем жили эти люди, что составляло их силу, их величие, они станут непостижимыми; и после их исчезновения массы опустятся, окажутся ниже их...
Анни не знала, любит ли он её; если б она знала, что не любит, потому что любви почти не замечает, не успевает о ней подумать, она бы этим удовлетворилась: в работе она была ему необходима, они никогда не расставались, близость её крепкого тела действовала на него успокоительно. Благодаря её присутствию он реже нащупывал перед сном свой револьвер под подушкой.
После предупреждения Хаиме они из предосторожности провели ночь на холме, среди колючих кустов, завернувшись в одеяла. Они долго не могли заснуть в лунном свете, сознавая непривычную интимную связь, радуясь, что прозрачное небо вдруг так чудесно их сблизило. Утро развеяло их страхи: простое и чёткое, оно вернуло вещам их обычную форму, растениям, камням, насекомым, далёким контурам города – их привычный облик. Казалось, что слепая опасность удалилась, едва задев их.
– Хаиме всё это приснилось, – с насмешкой сказал Стефан. – Ну, как им нас разыскать, скажи, пожалуйста? На этой дороге нельзя не заметить слежки... Вернёмся домой.
Дом ожидал их; там всё было как всегда. Они умылись ледяной водой из колодца. Потом Анни взяла крынку для молока и бегом, как коза, поднялась вверх по тропинке, ведущей к ферме. Там наверху жил Батиста, «сочувствующий», который по дружбе продавал ей хлеб, молоко, немного сыра. Обычно эта прогулка на холм, которую она охотно совершала, отнимала у неё не более двадцати минут.
Почему, когда Анни вернулась, старая деревянная дверь в садовой стене была полуоткрыта? Она заметила это в четырёх шагах от двери и сразу почувствовала лёгкий толчок в сердце. Стефана не было в саду. В это время он обычно брился перед зеркалом, подвешенным к оконной задвижке, и, бреясь, склонялся над какой-нибудь брошюрой, лежавшей на его рабочем столе. Зеркало висело на оконной задвижке, кисточка для бритья, вся в мыльной пене, лежала на подоконнике рядом с бритвой, на столе валялась открытая книга, мохнатое полотенце было брошено на спинку стула...
– Стефан! – испуганно закричала Анни, – Стефан!
Никто не ответил ей, и она всем своим существом почувствовала, что дом безнадёжно пуст. Она бросилась в соседнюю комнату, где стояла нетронутая постель, к колодцу, на дорожки сада, к потайной калитке, выходившей прямо на холм, – эта калитка была плотно закрыта... Анни закружилась на месте, её охватила лихорадка беды, зрачки её сузились, взгляд стал безумным, – надо поскорее во всё вглядеться, скорее, скорее, с неумолимой быстротой... «Не может быть, не может быть!» Она снова позвала его. Страх узлом стиснул ей горло, она услышала сильный стук собственного сердца, похожий на тяжёлые шаги проходящего войска. «Стефан, вернись скорее! Не дразни меня, Стефан, мне страшно, Стефан, я сейчас заплачу...» Нелепо было так умолять его, надо было немедленно действовать, звонить по телефону. Провод был перерезан, телефон безмолвствовал. На пустой дом тяжёлыми кусками падало молчание, точно комья земли в огромную могилу. Анни бессмысленно смотрела на намыленную кисточку, на лезвие «жиллет», окаймлённое крошечными волосками и мыльной пеной. Вдруг Стефан окажется за её спиной, обнимет её, скажет: «Прости меня, я довёл тебя до слёз...» Нелепо было об этом думать. Солнце струилось на сад. Анни побежала по дорожкам, ища маловероятных следов на гравии, покрытом травой и землёй. В двух шагах от выхода глаза её расширились при виде подозрительного предмета: кончика недокуренной сигары, увенчанного пеплом. Хлопотливые муравьи, пересекавшие дорожку, обходили это препятствие неизвестного происхождения. Уже много месяцев в городе не было папирос, ни Хаиме, ни Стефан не курили; сигара выдавала присутствие богатых и могущественных иностранцев – Боже мой, русских! – Анни побежала по раскалённым камням вниз, в город. Дорога пылала, горячий воздух дрожал над скалами. Несколько раз она внезапно останавливалась, сжимая обеими руками виски, в которых слишком сильно бились вены, потом опять пускалась бежать вниз, в город, по внезапно окаменевшим лавам.
Стефан стал приходить в себя задолго до того, как открыл глаза. Смутное ощущение кошмара смягчилось, сейчас он проснётся, всё будет кончено – но кошмар вернулся, стал определённей и настойчивей, – «нет, это, может быть, не конец, а начало других потемок, вход в какой-то бесконечный туннель». Его плечи опирались на что-то твёрдое, в его членах приятное и вместе странное чувство пробуждения пересиливало ломоту и тревогу. «Что случилось? Я заболел? Анни? Ну, Анни?» Он с трудом приподнял веки, боясь открыть глаза, и сначала ничего не понял, потому что всё его существо отпрянуло перед страшной необходимостью понять; потом всё же что-то увидел в сотую долю секунды и уже сознательно сомкнул веки.
Какой-то человек с оливковым цветом лица, бритым черепом, выступающими скулами и узкими висками склонялся над ним. На вороте у него были офицерские знаки отличия. Незнакомая комната, узкая и длинная, где плавали в резком свете другие лица. Ужас схватил Стефана за горло, ужас, как ледяная вода, медленно спустился до его конечностей, но под этой дрожью он ощущал ещё благотворное тепло во всём теле. «Вероятно, они сделали мне укол морфия». Его веки сами смыкались плотнее. Заснуть опять, бежать от этого пробуждения, уснуть.
– Обморок кончился, – сказал человек с впалыми висками. И он прибавил или очень явственно подумал: «Теперь он притворяется спящим». Стефан почувствовал, как чья-то мускулистая рука сжала его запястье, нащупала пульс. Он старался взять себя в руки, пересилить ледяной поток, опустошавший всё его существо. Несмотря на внутреннюю дрожь, ему это удалось. И воспоминание о случившемся встало перед ним с неумолимой ясностью.
Около девяти утра, когда он собирался бриться, Анни сказала: «Я иду за продуктами, никому не отворяй». Когда закрылась за нею дверь сада, он побродил немного по заросшим дорожкам, – был почему-то в угнетённом состоянии, не радовался ни цветам, ни утреннему воздуху. Соседний холм запылал уже под жгучим солнцем... Стефан проверил свой браунинг, вставил новую обойму. Он попытался стряхнуть с себя ощущение тревоги, подошёл к пишущей машинке, решил побриться, как обычно. «Нервы, чёрт их возьми...» Он вытирал лицо и, стоя, пытался читать раскрытый на столе журнал, когда на дорожке сада под чьими-то шагами заскрипел песок; потом до него донесся условный свист – но как же они открыли дверь? Разве Анни так быстро вернулась? Но Анни не стала бы свистеть... Сжав в кулаке пистолет, Стефан бросился в сад, долный одичавших цветов. Кто-то, улыбаясь, шёл ему навстречу, – кто-то, кого он не сразу узнал, – товарищ, порой – очень редко – приходивший вместо Хаиме. Стефан не любил его широкой плоской физиономии, похожей на морду сильной обезьяны. «Привет! Что, напугал тебя? Принёс тебе срочные письма...» Успокоенный Стефан протянул ему руку: «Здравствуй, брат...» С этой секунды начинался обморок, кошмар, сон; его, по-видимому, ударили по голове (из забвения вставало неясное воспоминание об ушибе, в середине лба проснулась глухая боль), его оглушил ударом этот человек, этот товарищ, этот подлец, его потащили, унесли – конечно, русские. Ледяная вода в кишках. Тошнота. Анни! Анни, Анни! В эту секунду Стефаном овладело полное отчаяние.
– Обморок кончился, – сказал совсем близко неторопливый голос.
Стефан почувствовал, что его разглядывают вплотную с усиленным вниманием. Он подумал, что надо открыть глаза. «Они сделали мне укол в ляжку. Девяносто процентов из ста, что я погиб. Девяносто пять процентов... Разумнее, во всяком случае, это признать...» Он решительно открыл глаза и увидел, что лежит на диване в удобной каюте корабля. Стены были обшиты светлым деревом. Над ним склонились три внимательных лица.
– Вам лучше?
– Я чувствую себя хорошо, – отчётливо выговорил Стефан. – Кто вы?
– Вы арестованы отделом военной разведки. Вы чувствуете себя в силах отвечать на вопросы?
Так вот, значит, как обделывались такого рода дела! Стефан смотрел на всё это как бы издалека, с безразличием... Он не ответил, но, напрягая всё своё существо, разглядывал эти три лица. Одно из них неопределённое, неинтересное, само сейчас же отстранилось – это было, вероятно, лицо судового врача, человека с впалыми висками... Лицо это отделилось от других, отступило к перегородке, исчезло. Дыхание солёного воздуха освежило каюту. Другие два лица обладали в этом полуреальном мире материальной плотностью. У того, что помоложе, была крепкая квадратная голова, напомаженные волосы, холёные усы, бархатные, отвратительно настойчивые глаза: укротитель зверей, когда-то смелый, но ставший трусом, оттого что, замирая от страха, плеткой хлестал тигров – или же торговец белым товаром... Эта голова, посаженная на галстук в цветную полоску, казалась по-звериному враждебной. Другое лицо заинтересовало Стефана, зажгло в нём вспышку безумной надежды. Пятьдесят пять лет, на правильной формы лбу седые пряди, род окаймлён горькими складками, увядшие веки, чёрный, грустный, почти болезненный взгляд...
«Безвозвратно погиб, безвозвратно погиб» – эти слова глухо звенели в нём сквозь всё, что он мог понять и подумать, «Безвозвратно погиб». Он пошевелился, обрадовался, что его не связали, медленно выпрямился, прислонился к перегородке, скрестил ноги, попытался улыбнуться и думал, что это ему удалось, – на самом же деле получилось странно напряжённое выражение, – протянул руку к опасному фату:
– Сигарета есть?
– Да, – ответил тот с удивлением, принимаясь шарить по карманам. Потом Стефан попросил огня. Надо было быть очень, очень спокойным, смертельно спокойным. Смертельно – более точного выражения не придумаешь.
– Допрос? После этого противозаконного похищения? Не зная, кто вы, – или слишком хорошо зная?.. Без малейшей гарантии?
Массивная фатовская голова слегка покачнулась над галстуком: открылись зубы, широкие и жёлтые. Эта скотина тоже захотела улыбнуться. Она что-то пробормотала, вероятно: «Уж мы сумеем вас заставить!» Ещё бы! Электрическим током слабого напряжения можно скрутить человека как угодно, вызвать самые страшные эпилептические судороги, довести его до безумия, конечно, мне это известно. Всё же Стефан усмотрел перед собой отчаянный шанс на спасение.
– ...Но мне-то нужно многое вам сказать. Ведь я вас тоже поймал!
Человек с грустным взглядом сказал по-французски:
– Говорите. Хотите выпить сначала стакан вина? Вы не голодны?
Стефан ставил свою жизнь на карту. Броситься на этих людей, зажав свою правду в кулаке! Половина из них – безжалостные, на всё готовые подлецы, другая половина – подлинные революционеры, ослеплённые верой во власть, которая утратила веру. Надо смутить хотя бы одного из них – в этом, быть может, было спасение. Пока Стефан говорил, он пытался наблюдать за их реакцией, изучить их лица, но от слабости чувствовал себя странно бесплотным, зрение его застилалось; он говорил с жаром, отрывисто.
– Вы у меня в руках! Неужели вы верите в эти заговоры, которые сами сочиняете? Думаете этим добиться победы или что-то спасти – для вашего Хозяина? Знаете, что вы до сих пор наделали?
Он горячился, наклонившись к ним, обеими руками держась за край койки, на которой сидел и за которую ему приходилось время от времени цепляться из последних сил, чтобы не упасть – ни назад, на перегородку, ни вперёд, на голубой ковёр, колебавшийся, как море, и один вид которого вызывал у него лёгкое головокружение.
– Если у вас есть хоть тень души, я доберусь до неё, схвачу её, кровь из неё пущу, из вашей низкой душонки, и она против вашей воли закричит, что я прав!
Он говорил резко и настойчиво, был убедителен, ловок, упорен и сам не успевал следить за своей мыслью: она лилась из него, как кипящий поток крови из широкой раны (это сравнение промелькнуло у него в голове). Чего вы добились вашими надувательскими процессами? Вы отравили самое священное достояние пролетариата, источник его веры в самого себя, которой не могло отнять у нас никакое поражение. В прежние времена, когда расстреливали коммунаров, они сохраняли свою чистоту, умирали с гордостью; теперь же вы замарали одних с помощью других, покрыли их такой грязью, что самые лучшие ничего не понимают. В этой стране вы всё испортили, погубили, сгноили...
– Смотрите, смотрите...
Стефан отнял руки от койки, чтобы нагляднее показать их поражение, которое он как бы держал в бескровных ладонях, – и чуть не упал.
Продолжая говорить, он наблюдал за сидевшими против него людьми. Тот, что был помоложе, не шелохнулся. Изрезанное морщинами лицо другого, которому на вид было лет пятьдесят пять, то покрывалось вдруг серым туманом, то исчезало, то вновь выплывало. Выражение их рук тоже было различным. Правая рука молодого лежала на круглом столике из красного дерева – покоилась на нём, как задремавшее животное. Крепко стиснутые руки того, что был постарше, выражали, казалось, напряжённое внимание.
Замолчав, Стефан услышал молчание. Его голос, отделившийся от него, замирал в затянувшейся звонкой тишине.
– Всё, что вы нам сказали, – невозмутимо ответил человек с массивной головой и приклеенными ко лбу прядями, – не представляет для нас ни малейшего интереса.
Дверь отворилась и затворилась. Кто-то помог ослабевшему Стефану снова лечь. «Я погиб, погиб».
В лёгком ночном сумраке, где довольно легко можно было различить друг друга, где ощущалась близость звёзд, лета и земли со множеством людей, листвы, цветов, те двое, что только что слушали Стефана, молча прошлись по палубе, плечом к плечу, прежде чем остановиться друг против друга. За молодым и плотным возвышался корпус судна; тот, которому было на вид лет пятьдесят пять, оперся о релинги; за ним было открытое море, ночь, небо.
– Товарищ Юванов, – сказал он.
– Товарищ Рудин?
– Не понимаю, зачем вы велели похитить этого молодого человека. Ещё одна неприятная история, из-за которой пойдет до самой Америки чёрт знает какой шум. На меня он производит впечатление неисправимого романтика, путаника, троцкиста с анархическим уклоном и так далее... Здесь мы, можно сказать, дошли до точки... Советую вам отвезти его на берег и поскорее отпустить, организовав, может быть, небольшую мизансцену, пока не разнесся ещё слух о его исчезновении...
– Это невозможно, – сухо сказал Юванов.
– Невозможно, почему?
Вспылив, Кондратьев понизил голос, почти прошипел:
– Вы думаете, я позволю вам безнаказанно совершать преступления у меня на глазах? Не забывайте, что я послан ЦК.
– Троцкистский гад, за которого вы заступаетесь, товарищ Рудин, замешан в заговор, стоивший жизни великому товарищу Тулаеву.
Если бы десять лет тому назад Кондратьев услышал такую с апломбом выпаленную газетную фразу, он разразился бы неистовым хохотом; удивление, презрение, гнев, насмешка, даже страх – всё слилось бы в этом смехе, и он хлопнул бы себя по ляжке: «Нет, вы просто уморительны, я восхищаюсь вами, ваша вредная глупость граничит с гениальностью!» И теперь в нём поднялся было почти весёлый смешок, но его заглушила печальная трусость.
– Я ни за кого не заступаюсь, – сказал он, – я ограничился тем, что дал вам политический совет...
«Я трус». В светлой ночи судно тихонько покачивалось. «Меня затягивает их гнусная трясина». За ним было открытое море, и ему казалось, что он прислонился к этому «ничто», к этой беспредельной прохладе.
– А кроме того, товарищ Юванов, вы просто-напросто рехнулись... Я досконально знаю дело Тулаева. В шести тысячах страниц этого дела нет ни одного серьёзного повода – слышите? Ни одного! Для обвинения кого бы то ни было...
– Разрешите мне, товарищ Рудин, придерживаться другого мнения.
Юванов попрощался с ним кивком. И перед Кондратьевым открылся ночной горизонт, где небо и море сливались в одно. Пустота.
Из этой пустоты рождалось смятение, ещё не угнетающее, скорее, притягивающее к себе. Облака разрывали созвездия на части. Кондратьев спустился по верёвочной лестнице на моторный катер, прижавшийся в темноте к выпуклому корпусу «Кубани». В течение секунды, повиснув над плещущими волнами, он был совершенно один между огромным чёрным судном, морем и почти невидимым катером. И он спустился вниз, в колеблющуюся тьму, – один, с успокоенной душой, вполне овладев собой.
Механик, двадцатилетний украинец, отдал ему честь. Повинуясь весёлому требованию своих мускулов, Кондратьев отстранил механика и сам запустил мотор.
– Я, брат, с этой машиной ещё умею справляться. Сам старый моряк.
– Так точно, товарищ начальник.
Катер подпрыгнул над морской поверхностью, как окрылённый зверь. И в самом деле, два крыла из белой пены выскочили у него по бокам. У входа на мостик одного ленинградского канала стоят два больших красных златокрылых льва... и... А ещё что? А ещё есть открытое море – броситься бы туда безвозвратно! Море! Море! Мотор рычал, Кондратьева пьянила ночь, море, пустота – как чудесно было лететь вперёд, не зная куда, лететь без конца – так же чудесно, как пролетать галопом по степи... Такие же были когда-то ночи – мы охраняли Севастополь в наших ореховых скорлупках от эскадр Антанты, – и чем эти ночи были чернее, тем лучше было для нас: безопаснее. Адмиралы могучих эскадр боялись нас, потому что мы вполголоса распевали песни мировой революции. Всё это прошло, прошло, и эта чудесная минута тоже сейчас станет прошлым.
Кондратьев прибавил скорости, катер понёсся к горизонту. Как чудесно жить! Он дышал всей грудью, ему хотелось кричать от радости. Всего несколько движений – перешагнуть через борт, одним усилием опрокинуться вниз, и он упал бы в волнующуюся пену, через несколько минут всё было бы кончено – но молодого украинца, вероятно, расстреляли бы...
– Ты откуда, брат?
– Из Мариуполя, товарищ начальник. Из рыбацкого колхоза.
– Женат?
– Нет ещё, товарищ начальник. Когда вернусь...
Кондратьев изменил направление, взял курс на город. Из небытия возникла на черноте прозрачного неба густо-чёрная скала Монхуича. Кондратьев подумал, что этого расстилавшегося под скалой города, раненного бомбёжкой, уснувшего в голоде, опасности, измене, покинутости, на три четверти уже потерянного, – мёртвого города, ещё собирающегося жить, он не видел, не увидит, никогда не узнает. Завоёванный город, потерянный город, столица подавленных восстаний, столица зарождающегося и погибшего мира, мира, нами завоёванного, ускользнувшего из наших рук, – он ускользает, падает, катится к могиле... Потому что выдохлись мы, положившие начало этим завоеваниям, мы опустошены, мы превратились в подозрительных маньяков, в безумцев, способных в конце концов самих себя расстрелять, – что мы и делаем. Среди европейских и азиатских масс, которые по прихоти несчастной и славной судьбы первые совершили социалистическую революцию, оказалось недостаточно умов, способных ясно мыслить. Ленин понял это с первой минуты, Ленин противился изо всех сил этой высокой и тёмной судьбе. Пользуясь научной терминологией, следовало бы сказать, что, когда начался кризис режима, рабочий класс ещё не достиг зрелости и получилось так, что классы, пытавшиеся подняться по течению истории, оказались самыми умными, но ум их был низкопробный, – самыми образованными, со своим высоко развитым практическим смыслом они способствовали глубочайшей несознательности и величайшему эгоизму.
На этой точке своих размышлений, когда в объятом темнотой городе загорелись бледные огни, Кондратьев мысленно увидел перед собой искажённое судорогой лицо Стефана Штерна, которого уносили широкие крылья морской пены. «Прости меня, товарищ, – братски сказал ему Кондратьев, – я ничем не могу помочь тебе, я прекрасно тебя понимаю, и я был таким же, все мы были такими;.. И я до сих пор такой же, как ты, потому что и я, вероятно, погибну – как ты...» Он сам не ожидал такого заключения и удивился ему. Призрак Стефана, его влажный лоб, искривлённый рот, растрёпанные пряди с медным отливом, упорное пламя его взгляда, всё это смешалось, как во сне, с другим призраком – возник Бухарин, его высокий шишковатый лоб, умные синие глаза, измученное лицо, способное ещё улыбаться, когда, за несколько дней до смерти, перед микрофоном Верховного суда он рассуждал сам с собой, – а смерть была уже там, почти зримая, она стояла рядом с ним, положив одну руку ему на плечо, а в другой держа револьвер.
Это была не та смерть, которую увидел и гравировал Альбрехт Дюрер, – скелет с ухмыляющимся черепом, завёрнутый в грубую шерстяную ткань, вооружённый средневековой косой, нет, это была современная смерть, облачённая в форму сержанта секретной спецслужбы, с орденом Ленина на груди, с полными, гладко выбритыми щёками... «За какое же дело я умру?» – громко спрашивал себя Бухарин, а потом он заговорил об упадке пролетарской партии... Кондратьеву захотелось стряхнуть с себя этот кошмар.
– Бери руль, – крикнул он механику.
Сидя на задней скамье, стиснув руки на коленях, отделавшись от призраков, он почувствовал внезапную усталость и задумался. Конечно, я погиб. Сквозь эту чёрную очевидность катер летел по направлению к скале. Я погиб, как этот город, как эта революция, эта Республика, погиб, как множество товарищей... Впрочем, что ж тут удивительного? Каждый гибнет в свой черёд, каждый гибнет на свой лад. Как мог он до сих пор этого не понимать, жить с глазу на глаз с этой тайной истиной и не догадываться о ней, не слышать её, воображать, что он делает что-то – важное или незначительное, – когда, в сущности, ему уже ничего не оставалось делать?
Катер причалил к тёмному порту, в хаос развороченных камней. Кондратьев пошёл за покачивающимся фонарём к развалинам какого-то низкого строения с пробитой крышей, где милицейские играли в кости при свечах. Над ними, на клочке афиши, измождённые женщины, победившие наконец нужду, стояли на пороге будущего, которое сулила им НКТ...
В одиннадцать часов вечера Кондратьев велел шофёру ехать в правительственный особняк для бесплодного разговора с начальниками отдела боеприпасов. Слишком много боеприпасов для поражения, недостаточно для победы... Около полуночи один из членов правительства предложил ему закусить. Кондратьев выпил два больших бокала шампанского; министр каталонского правительства чокнулся с ним. От этого вина, созревшего на французской земле под весёлым и мягким солнцем, золотые искорки побежали по их векам. Придя в хорошее настроение, Кондратьев коснулся бутылки указательным пальцем и спросил, не подумав:
– А почему, сеньор, вы не приберегаете этого вина для раненых?
Тот посмотрел на него с застывшей полуулыбкой. Этот каталонский политический деятель был высок, худ, сутуловат, элегантно одет; на вид лет шестидесяти. Строгое лицо, освещённое добрым и умным взглядом; по-видимому, университетский профессор. Он пожал плечами:
– Вы совершенно правы... Вот из-за таких незначительных причин мы и умираем. Недостаток боеприпасов, избыток несправедливости...
Кондратьев откупорил ещё одну бутылку. Со стенных ковров на него смотрели охотники и их дамы в больших фетровых шляпах с перьями, гнавшиеся за затравленным оленем в лесной поросли былых веков. Старый каталонский профессор ещё раз чокнулся с ним. Между ними зародилась сближавшая их интимная связь, обезоруживающая откровенность, – точно оба оставили лицемерие в прихожей.
– Мы побеждены, – любезно сказал министр. – Сожгут мои книги, развеют мои коллекции, закроют мою школу. Если мне удастся спастись, я окажусь в Чили или в Панаме обыкновенным эмигрантом, мыслей которого никто не поймёт. С нервнобольною женою, сеньор. Вот и всё.
Он и сам не знал, как вырвался у него самый неуместный, самый чудовищный вопрос:
– Скажите, дорогой сеньор, известно ли вам что-нибудь о сеньоре Антонове-Овсеенко, которого я бесконечно уважаю?
– Нет, я ничего о нём не знаю, – ответил Кондратьев лишённым всякого выражения голосом.
– Правда ли, что его... что он... что...
Кондратьев увидел почти вплотную перед собой зелёные, смешанные с тенью полоски в зрачках симпатичного старика.
– Что его расстреляли? – спокойно докончил он. – Знаете, у нас это слово – самое обиходное. Да, это, вероятно, правда, – но я в точности ничего не знаю.
Странное молчание – потухшее, обескураживающее – возникло между ними.
– Ему случалось пить со мной шампанское в этой самой комнате, – конфиденциальным тоном сообщил каталонский министр.
– И я, вероятно, кончу так же, как он, – таким же тоном, почти весело ответил Кондратьев.
На пороге полуотворённой бело-золотой двери они горячо пожали друг другу руки, став снова официальными, но более живыми, чем обычно, лицами. Один из них твердил: «Счастливого пути, дорогой сеньор», другой, топчась на месте, всё благодарил за любезный приём. Прощание их затягивалось, оба это сознавали, но оба знали также, что в ту секунду, когда кончится рукопожатие, порвется навсегда эта незаметная хрупкая связь, подобная золотой нити.
...На другой день, спеша навстречу опасности, Кондратьев улетел из Тулузы на самолёте. Надо было приехать в Москву до присылки секретных докладов, в которых будет извращён всякий его жест, а он сам представлен заступником за троцкиста-террориста... какой это всё бред! Приехать вовремя, чтобы успеть предложить крайние меры для восстановления положения, массовую отправку орудий, чистку отделов, немедленное прекращение преступлений в тылу... Попросить аудиенцию у Вождя, прежде чем будет пущен в ход огромный, всё давящий на своём пути механизм правительственных ловушек; наедине с Вождём спокойно поставить на карту свою жизнь, рассчитывая на ненадёжные козыри: товарищеские отношения, завязавшиеся в 1906 году в холодных сибирских просторах, абсолютную лояльность, ловкую, но колючую искренность и правду – ведь существует же правда, несмотря ни на что!
На высоте тысячи пятисот метров, в залитом светом небе уже нельзя было различить на земле эту ярче всех других освещённую солнцем историческую катастрофу. Гражданская война исчезала на той именно высоте, с которой бомбардировщики готовились к бою. Земля представлялась отсюда многоцветной картой, насыщенной до краёв геологической, растительной, морской, человеческой жизнью, и, разглядывая её, Кондратьев ощутил какое-то опьянение. Поездка его свелась к переходу с одного самолёта на другой. И когда наконец, пролетев над литовскими лесами, над волнистыми тёмными мхами, которые придавали этой стране доисторический характер, он увидел советскую землю, столь отличную от всех других однообразным оттенком бескрайних колхозных полей, тревога пронизала его до мозга костей. Он испытывал жалость к смиренным, как бедные старухи, соломенным крышам, скучившимся в низинах возле вспаханной чернеющей земли или на берегах печальных рек. (И, вероятно, в тайниках души он жалел самого себя.)
Вождь принял его в тот же день: положение в Испании представлялось, по-видимому, очень серьёзным. Кондратьеву недолго пришлось ждать в просторной передней, залитой белым светом, в большие оконные проёмы которой видны были московские бульвары, трамваи, двойной ряд деревьев, люди, окна, крыши, сносимые здания, зелёные купола пощаженной церкви... «Пройдите, прошу вас...» Белая зала, пустая, как холодное небо, с высоким потолком и единственным украшением – портретом больше натуральной величины Владимира Ильича, стоявшего (кепка, руки в карманах) во дворе Кремля. Она была так велика, эта зала, что на первый взгляд показалась Кондратьеву пустой; но в глубине её, из-за стола, стоявшего в самом белом, самом пустынном углу этого абсолютного и пустого одиночества, кто-то встал, положил авторучку, вынырнул из пустоты; кто-то пересёк светло-серый, как туманный снег, ковёр; кто-то ласковым и быстрым движением схватил Кондратьева за обе руки, – он, Вождь, бывший товарищ, неужели это правда?
– Здравствуй, Иван, как поживаешь?
Действительность победила изумление. Кондратьев крепко и долго жал протянутые руки, и подлинные горячие слёзы, тут же высыхавшие, выступили у него под веками, горло его сжалось. Огромная радость пронизала его как молния.
– А ты, Иосиф? Ты... Как я рад тебя видеть... Как ты ещё молод...
Волосы, подстриженные ёжиком, подёрнутые сединой, были всё так же густы; в широком, низком лбу, перерезанном морщинами, в маленьких рыжих глазах, в пышных усах таился такой мощный жизненный заряд, что подлинный человек сводил на нет все свои бесчисленные портреты. Он улыбался, у носа и под глазами были морщинки смеха, от него исходило успокоительное тепло – да неужели он добр? – но как же не извели его эти мрачные драмы, эти процессы, страшные приговоры, утверждённые Политбюро?
– Ты тоже, Ваня, – сказал он (да, своим прежним голосом), – ты тоже не сдаёшься, не слишком постарел.
Они дружески смотрели друг на друга. Сколько лет прошло, брат! Прага, Лондон, Краков, давно это было, – а комнатка в Кракове, где всю ночь так жарко спорили о кавказских экспроприациях, а потом пошли пить доброе пиво в подвале с романскими сводами, под каким-то монастырским зданием!.. А шествия 17-го года, съезды, польская кампания, гостиницы завоёванных городков, где клопы пожирали наши измученные ревкомы! Такая куча воспоминаний встала в их памяти, что ни одно из них не казалось значительнее остальных, все они были на своих местах и все были немыми, полустёртыми: назначением их было воскресить дружбу, не нуждавшуюся в словах. Вождь нащупывал трубку в кармане своей куртки. Они вместе пошли по ковру, сквозь белизну этой залы, к высоким оконным проёмам в глубине...
– Ну, Ваня, как там обстоят дела? Говори без обиняков, ведь ты меня знаешь.
– Дела, – начал Кондратьев с печальной гримасой, отчаянно махнув рукой, – дела...
Вождь, казалось, не расслышал этого слова. Он продолжал, склонив лоб, пальцами уминая табак в носогрейке:
– Знаешь, брат, такие старики, как ты – старые партийцы, – должны мне говорить правду... всю правду... Кого же мне ещё об этом просить? А правда мне необходима, я иногда задыхаюсь... Все они врут, врут и врут! Сверху донизу все чертовски врут! Прямо тошно... Я живу на вершине здания, построенного на лжи, понимаешь? Статистика, само собой, врёт: она состоит из глупостей мелких служащих, махинаций средних администраторов, фантазии, угодничества, саботажа и неслыханной глупости наших руководящих кадров... Когда мне приносят квинтэссенцию всех этих цифр, я иногда с трудом удерживаюсь, чтобы не сказать «холера»! Планы врут, потому что в десяти случаях из десяти они основаны на ложных данных; исполнители плана врут, потому что не смеют сказать, что они могут сделать, а чего не могут; самые квалифицированные экономисты врут, потому что они живут на Луне, они – лунатики, говорю тебе. А ещё хочется мне спросить этих людей: почему, когда они молчат, их глаза лгут? Представляешь себе?
Что он, извинялся? Он яростно закурил трубку, сунул руки в карманы; весь квадратный – и голова, и тяжёлые плечи, – он твёрдо стоял на ковре в ясном свете.
Кондратьев смотрел на него с дружеским чувством, но в глубине души испытывал недоверие и колебание. Решиться или нет? Он осмелился тихо сказать:
– А, может быть, тут есть доля и твоей вины.
Вождь покачал головой; в его улыбке дрогнули тоненькие морщинки около носа и под глазами:
– Хотел бы я видеть тебя на моем месте! Наша старая Русь – трясина: чем дальше идёшь, тем ненадёжнее под тобой почва, проваливаешься в ту минуту, когда меньше всего этого ждёшь. А кроме того, люди – сволочь... Понадобятся века, чтобы переделать человеческую скотину. А в моем распоряжении веков нет. Ну, говори – последние, новости?
– Прескверные. Три фронта еле держатся, всё развалится при первом толчке... Перед самыми главными позициями даже не вырыли окопов...
– Почему?
– За неимением лопат, хлеба, планов, офицеров, боеприпасов и...
– Понимаю. Вроде как у нас в начале 18-го, верно?
– Да. На первый взгляд... Но только без партии, без Ленина и... (Кондратьев колебался не долее ничтожной части секунды, но это, наверно, было замечено) и без тебя... И это не начало – это конец... Конец.
– Эксперты уверяют: от трёх до пяти недель?
– Может продолжаться и дольше, как затянувшаяся агония. А может развалиться завтра.
– Мне надо, – сказал Вождь, – чтобы сопротивление продлилось ещё несколько недель.
Кондратьев ничего не ответил. Он .подумал: «Это жестоко. И для чего?» Вождь, казалось, угадал его мысли.
– Мы это заслужили, – продолжал он. – Ну, ладно, а сормовские танки?
– Неважные. Броня ещё туда-сюда... (Кондратьев вспомнил, что конструкторов этих танков расстреляли за саботаж; появилось ощущение неловкости.) Но моторы неудовлетворительные: в боях до 35 процентов аварий.
– Это указано в твоем письменном докладе?
– Да.
Опять ощущение неловкости. Кондратьев подумал, из-за этого возникнет новый процесс, что эти 35 процентов будут светиться фосфорическим блеском в опустошённых ночными допросами мозгах. Он продолжал:
– А главное – негодность человеческого материала.
– Мне уже об этом говорили. Как ты это объясняешь?
– Очень просто. Мы с тобой воевали в других условиях. Машина уничтожает человека. Ты ведь знаешь – я не трус. Ну вот, я захотел испытать это на себе, сел в машину № 4 с тремя замечательными парнями: барселонским анархистом...
– ...и, конечно, троцкистом...
(Говоря это, Вождь улыбался сквозь табачный дым, и сквозь узкую щёлку почти сомкнутых век рыжие глаза его смеялись.)
– Может быть, – у меня не было времени наводить справки. И ты тоже не стал бы этого делать... И ещё два крестьянина с оливковой кожей, андалузцы, чудесные стрелки, вроде наших сибиряков или латышей былых времён. Ну вот, катимся мы по прекрасной дороге, – не могу себе представить, что бы это было на ухабистой... Сидим мы там вчетвером, обливаемся потом с головы до ног, задыхаемся в темноте, в шуме, в бензинной вони, нас тошнит, мы отрезаны от всего мира – и хоть бы скорее это кончилось! От паники у нас резь в животе, и мы уже не бойцы, а несчастные психи, прижавшиеся друг к другу в чёрной, душной коробке... Вместо того чтобы ощущать себя хорошо защищёнными и могущественными, мы сведены на нет...
– Что же делать?
– Надо лучше продумать конструкцию машин, нужны особые, тренированные боевые единицы. Именно этого нам недоставало в Испании.
– А наши самолёты?
– В порядке, – кроме старых моделей. Зря мы им всучили столько старых самолётов. (Вождь решительным кивком выразил своё одобрение.) Наш Б-104 не стоит «мессершмитта», который его обгоняет.
– Саботаж со стороны конструктора.
Кондратьев не сразу решился ответить: он много об этом думал и пришёл к заключению, что несомненное понижение качества продукции объяснялось исчезновением лучших инженеров Авиационного испытательного центра.
– Может быть, и нет. Может быть, попросту немецкая техника сохранила своё превосходство.
Вождь сказал:
– Он саботировал. Это доказано: он сам сознался.
От слова «сознался» возникло между ними неловкое ощущение. Вождь так ясно это почувствовал, что отвернулся и, взяв со стола карту испанских фронтов, стал расспрашивать о деталях, которые, в сущности, никак не могли его интересовать.
В самом деле, при настоящем положении не всё ли ему было равно, достаточно артиллерийских припасов в Мадридском университетском городке или нет? Но он ничего не сказал о погрузке золотого запаса: очевидно, особый посланец его уже об этом уведомил. Кондратьев тоже не коснулся этой темы. Вождь ни словом не упомянул и о переменах персонала, которые предлагал Кондратьев в своей записке... Сквозь высокое окно Кондратьев увидел на далёких часах, что его аудиенция продолжалась уже больше часа.
Вождь ходил взад и вперёд, велел подать чаю, ответил своему секретарю: «Когда я вас позову...» Чего он ждал? Взволнованный Кондратьев тоже ждал чего-то.
Не вынимая рук из карманов, Вождь подвёл его к оконному проёму, из которого открывался вид на московские крыши. Между ними, городом и бледным небом было только это стекло.
– Ну, а у нас, в нашей великолепной и несчастной Москве, что, по-твоему, плохо? Что не ладится?
– Да ведь ты сам только что сказал: все врут, врут и врут. Одним словом, раболепствуют. Поэтому не хватает кислорода. А без кислорода как строить социализм?
– Гм... И это, по-твоему, всё?
Припёрт к стене. Кондратьев понял, что он припёрт к стене. Сказать ему? Рискнуть? Или трусливо увернуться? Из-за внутреннего напряжения ему трудно было разгадать выражение Вождя, который стоял всего в сорока сантиметрах от него. Против воли он высказался откровенно, то есть очень неловко. Он сказал веским, деланно небрежным голосом:
– Стариков осталось мало...
Вождь отстранил от себя чудовищный намёк, сделав вид, что его не заметил.
– Зато молодые растут. Они энергичны, практичны на американский лад... А старикам пора на покой.
«Со святыми упокой» – так поют на панихиде... Кондратьев, внутренне весь сжавшись, увильнул:
– Да, правда, молодёжь... Молодёжь – это наша гордость... («Мой голос звучит фальшиво – вот и я вру...»)
Вождь странно улыбался, как будто подсмеивался над кем-то отсутствующим... Потом сказал самым естественным тоном:
– Как, по-твоему, Иван, – я много наделал ошибок?
Они были одни в этой яркой белизне, перед ними расстилался город, из которого не доносилось ни единого звука. Внизу, в некотором отдалении, между приземистой церковью с полуразвалившимися колоколенками и низкой стеной красного кирпича, виден был довольно большой двор, на котором грузинские наездники проделывали упражнения с саблей: пролетая галопом через .двор, они на середине его склонялись с седла до самой земли, чтобы концом сабли подхватить на лету белую тряпку.
– Не мне тебя судить, – сказал в смятении Кондратьев. – Ты – партия (он почувствовал, что эта формула понравилась Вождю), а я что ж? Просто старый партиец (и с грустью, не без иронии): один из тех, кому пора на покой...
Вождь продолжал ждать, как беспристрастный судья или равнодушный преступник. Он был безличен и реален, как неодушевленный предмет.
– Я думаю, – сказал Кондратьев, – что ты зря «ликвидировал» Николая Ивановича[19].
Ликвидировать – словечко, которым в эпоху красного террора из стыдливости и цинизма заменяли слово расстрелять. Удар прямо в лоб Вождю; но его каменное лицо не дрогнуло.
– Он предавал нас. Он сам в этом сознался. Ты, может быть, не веришь?
Молчание. Белый свет.
– Этому трудно поверить.
Насмешливая улыбка Вождя была похожа на гримасу, его массивные плечи опустились, лицо потемнело, голос отяжелел:
– Конечно... У нас было слишком много предателей, сознательных и бессознательных... некогда было заниматься психологией.., Я не сочинитель романов. (Пауза.) Я всех их буду уничтожать, без устали, без жалости, до самого последнего... Это тяжело, но так надо. Всех... Ведь есть страна, есть будущее... Я делаю то, что надо... Как машина.
На это нечем было возразить – разве криком? Кондратьев чуть было не закричал, но Вождь предупредил его, вернувшись к разговорному тону:
– Ну а там – троцкисты по-прежнему разводят интриги?
– Меньше, чем уверяют некоторые дураки. Кстати, я хотел поговорить с тобой об одном деле, не особенно важном, но у которого могут быть последствия. Наши люди делают опасные глупости.
В четырёх фразах Кондратьев изложил дело Стефана Штерна. Он старался угадать, знал ли уже об этом Вождь. Но Вождь слушал его внимательно, с непроницаемым и естественным выражением, как будто никогда о нём не слыхал. Действительно никогда не слыхал?
– Хорошо, я посмотрю... Но что касается дела Тулаева, ты ошибаешься. Заговор действительно существует.
– А?
«Может быть, и в самом деле заговор существует?» В мыслях Кондратьев неуверенно это допускал. «Вот и я угодничаю, чёрт бы меня побрал!»
– Можно задать тебе один вопрос, Иосиф?
– Валяй.
В рыжих глазах было по-прежнему дружеское выражение.
– Скажи, Политбюро недовольно мною?
Это значило: «А ты теперь, когда я поговорил с тобой откровенно, – ты недоволен мною?»
– Как тебе сказать? – медленно начал Вождь. – Я и сам не знаю. События развиваются не особенно удачно, это верно, но что ты тут, собственно, мог поделать? Ты провёл в Барселоне всего несколько дней, следовательно, твоя ответственность невелика. Когда всё идет к чёрту, поздравлять с успехом некого, верно? Ха-ха!
Небольшой гортанный смешок, тут же резко оборвавшийся.
– Ну, а теперь – что нам с тобой делать? Какой ты хочешь работы? Хочешь поехать в Китай? У нас там есть чудесные маленькие армии, их слегка коснулась одна болезнь... (Он размышлял не торопясь.) Но тебе небось надоели войны?
– Надоели, брат. Нет, спасибо, в Китай не хочу, избавь меня, пожалуйста, от этого. Всё кровь да кровь, надоело до смерти...
Это были именно те слова, которых не следовало произносить, самые опасные слова, застрявшие у него в горле с первой же минуты встречи.
– Я тебя понимаю, – сказал Вождь, и в ясном дневном свете это прозвучало особенно мрачно. – Но тогда что же? Пост в промышленности? Дипломатия? Я об этом подумаю.
Они пересекли ковёр по диагонали: оба, казалось, дремали наяву. Вождь задержал руку Кондратьева в своей руке.
– Рад был тебя видеть, Иван.
Он был искренен. Искорка в глубине зрачков, сдержанное выражение: это был стареющий властный человек, никому не доверяющий, не знающий ни счастья, ни людской близости, живущий одиноко в лаборатории... Он прибавил:
– Отдохни, старик. Полечись. В наши годы после такой жизни, как наша, это необходимо. Ты прав – стариков осталось мало...
– Помнишь, как мы с тобой охотились на диких уток в тундре?
– Помню, брат, всё, всё помню. Поезжай-ка отдохнуть на Кавказ. Только мой тебе совет: плюнь на санатории, полазай как можно больше по горным тропинкам. Вот чего бы мне самому хотелось!
(Тут начался между ними тайный диалог, и оба отчётливо услышали каждое невысказанное слово. «А почему бы тебе туда не поехать? – предлагал Кондратьев. – Это было бы так тебе полезно, брат!» – «Ишь, соблазнитель! Мне – по укромным тропинкам? – усмехался Вождь. – Чтобы меня нашли там в один прекрасный день с проломленной головой? Я ещё с ума не сошёл – и я ещё нужен». – «Мне жаль тебя, Иосиф, – тебе грозит ещё большая опасность, чем всем нам, и у тебя ещё меньше свободы, чем у нас...» – «Не хочу, чтобы меня жалели. Запрещаю тебе жалеть меня. Ты – никто, а я Вождь».)
Они не произнесли ни одного из этих слов, но услышали их, мысленно их высказали на этом двойном свидании, явном и тайном, телесном и бесплотном.
До свиданья, до свиданья.
Посереди просторной передней Кондратьев столкнулся с небольшим человечком в роговых очках, с горбатым и толстым носом, волочившим по ковру оттягивавший его руку тяжёлый портфель: это был Рачевский, новый прокурор при Верховном суде. Они обменялись сдержанными поклонами.
Уже шесть месяцев дюжина сотрудников возилась с полуторастами отборных папок тулаевского дела. Флейшман и Зверева, назначенные «следователями по особо важным делам», неустанно следили за этим делом под непосредственным контролем заместителя народного комиссара Гордеева. И Флейшман, и Зверева были когда-то, то есть в героические времена, чекистами и могли сами по этой причине оказаться под подозрением; оба это знали, и поэтому на их усердие можно было положиться. Дело разрасталось во всех направлениях, связывалось с массой других подследственных дел, растворялось и исчезало в них, потом вновь всплывало на поверхность, подобно зловещему синему огоньку, возникающему над обуглившимися развалинами.
Перед собой эти следователи толкали кучку разных заключённых, замученных, отчаявшихся и приводивших всех в отчаяние. В прежнем юридическом смысле слова все они были невинны, но в то же время и подозрительны, и по-разному виноваты; однако, сколько бы их ни толкали перед собой следователи, все их дела вели в тупик. Здравый смысл подсказывал следователям, что не надо было бы считаться с признаниями полдюжины психопатов, которые рассказывали, как они убили великого товарища Тулаева. Какая-то американская туристка, довольно красивая и совершенно сумасшедшая, хоть и наделённая непоколебимым хладнокровием, заявляла:
– Я ничего не понимаю в политике, я ненавижу Троцкого, я террористка. С детства я мечтала сделаться террористкой. Я приехала в Москву, чтобы стать любовницей товарища Тулаева и убить его. Он был безумно ревнив, он обожал меня. Я хотела бы умереть за СССР... Я думаю, что сильные потрясения необходимы для усиления народной любви... Я убила товарища Тулаева, которого любила больше жизни, чтобы отвратить от Вождя грозившую ему опасность... От раскаяния я лишилась сна, посмотрите на мои глаза... Мною руководила любовь... Я счастлива, что выполнила своё назначение на земле... Если бы я была свободна, я написала бы мемуары для прессы... Расстреляйте меня! Расстреляйте меня!
В минуты депрессии она строчила длиннейшие послания своему консулу (которые ему, конечно, не передавали) и писала следователю: «Вы не можете меня расстрелять: я американка».
– Пьяная шлюха! – выругался Гордеев после того, как провёл три часа над изучением её дела.
Но кто знает – может быть, она симулировала сумасшествие? А что, если она действительно думала совершить покушение? Может быть, в её словах был отклик чьих-то созревших умыслов? Что делать с этой больной женщиной? Ею интересовалось посольство, на другом краю света агентства прессы печатали её фотографии и описывали пытки, которым её якобы подвергала инквизиция... Психиатры в мундирах, повинуясь прежнему ритуалу допросов, пытались путём внушения, гипноза или психоанализа убедить её в её невиновности. Она выводила их из терпения.
– Так уговорите её по крайней мере, что она убила кого-нибудь другого, всё равно кого, – предложил Флейшман. – Придумайте что-нибудь! Покажите ей фотографии убитых, расскажите ей о садистских преступлениях, и пусть идет к чёрту! Ведьма!
Но она, продолжая бредить наяву, соглашалась быть убийцей только высокопоставленных лиц. Флейшман возненавидел её, он ненавидел её голос, её акцент, её желтовато-розовые щёки... Молодой врач-следователь часами гладил руки и колени этой психопатки и заставлял её повторять: «Я невинна, я невинна...» Она повторила эти слова раз двести, после чего блаженно улыбнулась и ласково сказала ему:
– Какой вы милый! Я давно знаю, что вы в меня влюблены... Но это я, я, я убила товарища Тулаева... Он любил меня, как вы...
В тот же вечер молодой врач пришёл к Флейшману с докладом. В его взгляде и словах отражалось смятение.
– Вы действительно уверены, – сказал он под конец странно-серьёзным тоном, – что она не принимала участия в этом покушении?
Флейшман яростно раздавил папиросу в пепельнице.
– Примите-ка душ, мой милый, – сказал он, – да поскорее!
Этого молодого человека послали лечить нервы в тундру северной Печоры. Пять родов признаний были внесены в разряд «безумия». Но требовалось немало мужества, чтобы их окончательно отстранить. Гордеев отсылал этих обвиняемых к врачам, и те, в свою очередь, теряли головы от волнения. Что ж – тем хуже для них!.. Флейшман предлагал со своей вялой улыбкой: «Отправить их под конвоем в сумасшедший дом». Зверева, приглаживая тонкими пальцами свои длинные крашеные волосы, отвечала: «Я считаю их очень опасными элементами: антисоциальное безумие». Массаж лица, косметические кремы и грим создали ей маску неопределённого возраста, с расплывчатыми чертами и неясными морщинами. Жёсткий и возбуждённый взгляд её маленьких чёрных глаз вызывал тревогу. Это она известила Флейшмана, что заместитель народного комиссара Гордеев ждёт их к себе в час тридцать на важное, совещание. Она прибавила многозначительным тоном:
– Придёт и прокурор Рачевский: он был принят Хозяином...
«Значит, развязка не за горами», – подумал Флейшман.
Они совещались в кабинете Гордеева на двенадцатом этаже башни, возвышавшейся над центром города. Флейшман, выпивший рюмку коньяка, чувствовал себя недурно. Полуоблокотившись на подоконник, он глядел на муравьиную беготню пешеходов, на машины, стоявшие перед Народным комиссариатом иностранных дел, на витрины книжных магазинов и кооперативов. Побродить бы по этим улицам, зайти к букинисту, пойти, может, следом за хорошенькой двадцатилетней девушкой – как это было бы чудесно! Собачья жизнь! Даже если вам удаётся забыть о риске... Увешанный орденами, жирный, с обвислыми щеками, усталыми веками, жёлтыми пятнами под глазами, он за последнее время заметно постарел. Он подумал: «Через год или два я стану импотентом» – вероятно, потому, что взгляд его задержался на молодых людях в фуражках, с книгами под мышкой, которые, весело толкаясь, пересекали улицу, лавируя между чёрной машиной внутренней тюрьмы, сверкающим дипломатическим автомобилем «фиат» и зелёным автобусом.
Прокурор же Рачевский заинтересовался небольшим пейзажем Левитана, висевшим на стене. Синяя украинская ночь, соломенные крыши, изгиб пепельной дороги, прелесть равнины под неясными звёздами... Не отрывая взгляда от этой дороги в нездешний мир, он сказал:
– Товарищи, я думаю, что пора закончить это дело.
«Ещё бы, – недоверчиво подумал Гордеев, – давно пора! Только как закончить, скажите пожалуйста?» Ему казалось, что он отлично знал как, но он не решался высказаться вслух. В таких случаях малейшая ошибка подобна оплошности строителя небоскрёба, который на высоте ста метров укрепляет заклепками строительные леса. Упадёшь – пропадёшь! И невозможно добиться точных указаний! Ему предоставляли свободу действий, его поощряли и предостерегали, оставляя за собой право наградить его или наказать. Но в словах прокурора Рачевского был намёк на указание свыше: прокурор только что видел Самого. В глубине квартиры послышались гаммы – у Нинель был урок музыки.
– Это и моё мнение, Игнатий Игнатьевич, – сказал Гордеев с широкой и сладкой улыбкой.
Флейшман пожал плечами:
– Конечно, надо закончить следствие: не может же оно продолжаться вечно. Вопрос только – как его закончить? (Он взглянул Рачевскому прямо в лицо.) Дело явно политическое...
Он сделал небольшую паузу, не то коварную, не то небрежную, прежде чем добавил:
– ...Хотя преступление, по правде сказать...
По правде сказать – что? Не докончив фразы, Флейшман повернулся к улице – слишком плотный, с опущенными плечами, с подбородком, расплывавшимся по воротнику мундира. Зверева, никогда не решавшаяся выступить первой, недовольным тоном спросила:
– Вы, кажется, не кончили вашей фразы?
– Нет, кончил.
В кучке студентов, толпившихся внизу, на краю тротуара, стояла красивая, удивительно светловолосая девушка. Быстрыми движениями обеих рук она что-то объясняла молодым людям, и на расстоянии казалось, что её пальцы пронизывал свет; смеясь, она откидывала голову назад. Недоступная головка, далёкая, как звезда, подлинная, как звезда... Она не чувствовала на себе тяжёлого и мутного взгляда Флейшмана. Заместитель народного комиссара госбезопасности, прокурор при Верховном суде, женщина-следователь, заведовавшая особо важными делами, – все они ждали, чтобы Флейшман сказал своё слово. Угадывая их ожидание, он твёрдо заявил:
– Закончить следствие.
И повернувшись к ним вполоборота, с любезным видом склонив голову, как будто сообщил что-то очень важное, он внимательно, одного за другим, разглядел своих трёх собеседников: отталкивающие лица, отмеченные пороками и сделанные как будто из какого-то гнусного желатинного вещества. Но ведь и я некрасив, у меня зеленоватая кожа, грубый подбородок, набухшие веки... Нас всех надо уничтожать... А теперь вы не знаете, как вам быть, дорогие товарищи, потому что больше ни слова не скажу. Мотивировать или отложить это решение – дело ваше, я и так достаточно рискую... На улице больше не было ни студентов, ни автобуса, ни тюремной машины. Проходили другие прохожие, детская коляска лавировала на асфальте под мордами огромных грузовиков... Ни один человек из этой уличной толпы не знает имени Тулаева... В этом городе, этой стране с населением в сто семьдесят миллионов никто по-настоящему не помнит Тулаева. От этого толстого усатого человека, громоздкого, фамильярного, банально-красноречивого, нередко пьяного, угодливо преданного партии, стареющего, некрасивого, как все мы, остались одна лишь щепотка пепла в урне да равнодушные, незначительные воспоминания в памяти замученных, наполовину обезумевших инквизиторов. Скоро исчезнут и воспоминания и портреты... В этом деле нет ровно ничего, ни одного серьёзного указания на кого бы то ни было. Тулаев исчезал, его уносили ветер, снег, тьма, здоровый холод морозной ночи.
– Закончить следствие? – сказала вопросительным тоном Зверева.
Чуткий слух этого официального создания, её почти безошибочная интуиция помогали ей угадывать двусмысленные, тайные намерения, созревавшие где-то в высших сферах. Опершись подбородком на ладонь, опустив плечи, она со своими завитыми волосами и острым, но лукавым взглядом, казалось, вся превратилась в вопросительный знак. Флейшман зевнул, прикрыв рот рукой. Гордеев, чтобы скрыть своё смущение, вынул из шкафа бутылку коньяка и стал расставлять рюмки.
– Мартель или армянский?
Прокурор Рачевский, понимая, что все будут молчать, пока он не выскажется, начал так:
– Для этого дела, действительно явно политического, возможно лишь политическое решение. Результаты следствия как такового имеют для нас второстепенное значение... По мнению криминалистов старой школы, с которыми мы в данном случае согласны, «quid prodest»...
– Очень хорошо, – сказала Зверева.
Лицо прокурора Рачевского было, казалось, вылеплено из твёрдой, нездоровой плоти и состояло из двух неравных половинок: одна была шире другой. Всё оно было вогнутым, от выпуклого лба до круглого серого подбородка; горбатый, широкий у основания нос с чёрными волосатыми ноздрями придавал этому лицу властное выражение. Цвет лица был румяный, местами лиловатый. Карие глаза навыкате – мутные шарики – омрачали общее впечатление.
Прокурор всего несколько лет тому назад, в страшную эпоху, вынырнул на поверхность из глубины своего угрюмого существования, заполненного неприятными, тёмными и опасными делами, с которыми он справлялся с упорством рабочей скотины и без всякой для себя выгоды. Вынесенный внезапно на вершину, он перестал пить, потому что боялся в пьяном виде проговориться. Бывало, раньше, когда находило на него тёплое и облегчающее опьянение, ему случалось так выражаться о себе: «Я – рабочая кляча... Тащу за собой старую борону правосудия... Только эту свою борозду и знаю, ха-ха! Мне кричат: пошёл! И я иду. Щёлкнут языком – я остановлюсь. Я – скотина революционного долга; ну, пошёл, Сивка, ха-ха!» А потом он испытывал глубокую неприязнь к тем друзьям, которые слышали от него такие слова.
Его восхождение началось с процесса по обвинению во вредительстве (а также терроризме и измене), инсценированного в Ташкенте против людей из правительства, которые ещё накануне были его начальством. Там по приказанию свыше, не совсем, впрочем, ясному, он построил сложное сооружение из лживых гипотез и мелких фактов, покрыл вымученные показания дюжины обвиняемых сетью своей извилистой диалектики, взял на себя ответственность за безжалостный приговор, который не решились ему прямо продиктовать, задержал отправку просьб о помиловании... Этому эпизоду он был обязан своей карьерой. Потом произнёс речь в большом городском театре в присутствии трёх тысяч рабочих и работниц. В неуклюжих его фразах, нагромождённых друг на друга, скрывалась вполне отчётливая мысль. Только его вводные предложения были более или менее правильно построены. Из его голоса исходил какой-то туман, проникавший в мозги слушателей, но в тумане вырисовывались в конце концов всё те же угрожающие контуры... «Вы аргументируете, – сказал ему один из обвиняемых, – как лицемерный разбойник, который в разговоре с вами делает мягкие жесты, а вы в то же время замечаете остриё ножа в его рукаве...» – «Отвергаю с презрением ваши намёки, – спокойно ответил прокурор, – весь зал видит, что у меня узкие рукава...» Но наедине с людьми он терял уверенность в себе. Поэтому одобрение Зверевой было ему так приятно, что он ответил ей полуулыбкой, показав при этом жёлтые, крепко посаженные зубы. Он так начал свой доклад:
– Мне незачем излагать вам, товарищи, теорию заговора. В юридическом отношении это слово имеет ограниченный или экстенсивный смысл и, я сказал бы, ещё и другой, более соответствующий духу нашего революционного права, возвратившегося к своим истокам с тех пор, как мы освободили его от гибельного влияния врагов народа, которым удалось извратить его смысл и даже подчинить его отжившим формулам буржуазного права, которое опирается на констатирование фактов и исходит из этого для установления формальной вины в силу заранее предрешённых определений...
Этот поток слов лился в продолжение почти целого часа. Флейшман глядел в окно на улицу – и в нём поднималось отвращение. Что за бездарные сволочи делают карьеру в наши дни! Зверева щурилась с довольным видом, как кошка на солнце. Гордеев мысленно переводил на ясный язык эту агитационную речь, в которой, наверно, скрывалось, как куница в густом лесу, указание Самого!
– В общем и целом: мы жили, окружённые огромным, бесконечно разветвлённым заговором, который мы теперь ликвидируем. Три четверти руководителей истекших революционных периодов оказались в конце концов изменниками, продались врагу, а если и не продались, то в объективном смысле слова это сводится к тому же. Причины? Внутренние противоречия режима, жажда власти, влияние капиталистического окружения, интриги иностранных агентов, дьявольская деятельность иуды Троцкого. Но удивительная проницательность Вождя – поистине гениальная проницательность – позволила нам справиться с кознями бесчисленных врагов народа, из которых многие занимали руководящие посты. Теперь никто не может быть вне подозрений, – никто, кроме тех совершенно новых людей, которых история и гений нашего Вождя выдвинули для спасения Родины... В три года мы выиграли битву за общественное спасение, уничтожили заговор; но в тюрьмах, в концлагерях, на улицах остались ещё люди – наши последние внутренние враги, опасные именно тем, что они последние, даже если они ещё не совершили никакого преступления и в формально юридическом смысле невиновны. Поражение удвоило их ненависть, их способность притворяться; они так опасны, что способны временно укрыться в полной бездеятельности. Они невиновны в юридическом смысле слова и могут считать себя в безопасности, думать, что ускользнули от меча правосудия. Они бродят вокруг нас, «как голодные шакалы в сумерках», иногда находятся среди нас и едва выдают себя взглядом.. Из-за них, с их помощью тысячеголовый заговор может в один прекрасный день снова возродиться. Вы знаете, что происходит в деревнях, как обстоит с проблемой урожая; на Средней Волге были волнения, в Таджикистане обострился бандитизм, в Азербайджане и в Грузии совершаются политические преступления. В Монголии на религиозной почве произошли очень странные инциденты, председатель Еврейской автономной области оказался предателем; вы знаете, какую роль троцкизм сыграл в Испании: в предместьях Барселоны готовилось покушение на жизнь Вождя, мы получили по этому поводу ошеломляющие документы. Наши границы под угрозой, мы в курсе переговоров, которые ведутся между Берлином и Варшавой, японцы стягивают войска к Жэхэ, строят новые укрепления в Корее, их агенты на днях подстроили повреждение турбин в Красноярске...
Прокурор хлебнул коньяка. Зверева восторженно воскликнула:
– Игнатий Игнатьевич, да у вас тут весь материал для замечательной обвинительной речи!
Он поблагодарил её движением век.
– К тому же не надо скрывать от себя, что предыдущие большие процессы, которые в некоторых отношениях были недостаточно подготовлены, внесли известное смущение в партийные кадры. Совесть партии обращается к нам, просит объяснений: мы сможем дать их только на судебных заседаниях нового процесса, так сказать, дополнительного...
– Дополнительного, – вставила Зверева, – вот именно, я и сама так думала!
Она скромно просияла. Ответственность свалилась с плеч Гордеева. Уф!
– Совершенно с вами согласен, Игнатий Игнатьевич, – сказал он звучным голосом. – Разрешите мне на минутку удалиться – моя девчурка...
И он скрылся в белом коридоре, – и потому, что рояль Нинель замолк, и потому, что испытывал из предосторожности потребность в кратком одиночестве. Он положил свои тёплые ладони на худенькие бёдра девочки.
– Ну как, душенька, урок прошёл благополучно?
Он смотрел порой на эту темноволосую девочку, на зелёные полоски в её зрачках, как не умел больше смотреть ни на кого в мире. Учительница музыки собирала ноты; страницы их слегка щёлкнули, как захлопнутая папка.
«А теперь, – подумал Гордеев, – ловушка таится в списке обвиняемых... Придётся разыскать хоть одного подлинного бывшего троцкиста, одного настоящего шпиона... И это небезопасно...»
– Папа, – смущённо сказала Нинель, – ты только что был такой милый, а теперь вроде рассердился...
– Дела, деточка!
Он быстро поцеловал её в обе щеки, но эта чистая ласка не принесла ему радости: слишком много замученных призраков жило в нём, хотя он этого и не подозревал. Он вернулся на заседание. Флейшман комически вздохнул:
– Эх, музыка... какая музыка.
– Что вы хотите сказать? – спросила Зверева.
– Тоска по музыке... С вами этого никогда не бывает?
Зверева со слащавым выражением пробормотала что-то.
– Список обвиняемых... – начал Гордеев. Никто ему не ответил.
– Список обвиняемых, – повторил прокурор Рачевский, твёрдо решивший, что не прибавит ни слова.
Представьте себе гиппопотама из зоопарка, который вдруг плюхнулся в свой маленький цементированный бассейн. Флейшман не без удовольствия почувствовал себя таким гиппопотамом, когда объявил: «А представить такой список – это уж дело ваше, уважаемые товарищи». У каждого своя ответственность – несите-ка свою.
Ершов с горечью сознавал, что был вполне подготовлен к этому удару. Ничто его не удивляло – разве тот факт, что он не знал помещения, куда его привели. «Под моим контролем было столько тюрем, все более или менее секретные!» Бывший народный комиссар придумал для себя это оправдание для очистки совести. Всё же эта тюрьма – новая, усовершенствованная, помещавшаяся в бетонированном полуподвале – не должна была бы ускользнуть от его внимания. Он тщетно пытался припомнить какое-нибудь указание на неё в докладах начальников тюремной службы или директора стройки. «А может быть, это особая тюрьма Политбюро?» Пожав плечами, он бросил об этом думать. Температура в камере была приличная, освещение мягкое. Походная постель, простыни, подушки, кресло-качалка. И больше ничего, ничего... Даже судьба жены мучила его менее, чем он мог предполагать. «Мы – солдаты...» Это значило: «Наши жёны должны быть готовы к тому, чтобы стать вдовами...» Под этой мыслью таилась, в сущности, другая, в которой не так легко было сознаться: «Когда солдат подыхает, ему не жаль жены...» Его ум удовлетворялся такими краткими элементарными формулами: они были бесспорны, как приказы. В ожидании допроса он каждое утро занимался гимнастикой. Попросил разрешения на ежедневный душ и получил его. Ходил без устали от двери к окну – с опущенной головой, с нахмуренными бровями. Из долгих, безукоризненно логичных размышлений вновь и вновь возникало всё то же злорадное словечко, как бы навязанное ему кем-то со стороны: «расстрелять». Ему стало вдруг жаль себя, и он чуть было не ослабел. «Расстрелять». Он справился с собой без большого усилия, только сильно побледнев (чего он, конечно, не мог видеть). «Ну что ж, мы – солдаты...» Его отдохнувшее тело требовало женщины, и он тосковал по Вале. Но о ней ли он вспоминал или о своей телесной жизни, которой пришёл конец? Если бы тлеющий папиросный окурок, который давит чей-то каблук, мог думать и чувствовать, он испытал бы именно такую тоску. Что же сделать, чтобы всё это поскорее кончилось?
Шли недели, а ему не позволяли взглянуть хотя бы на кусочек неба. Потом допросы стали следовать один за другим: они происходили в соседней камере; тридцать шагов по подземному коридору – и в нём нельзя было найти никаких указаний на тюрьму.
Незнакомые ему военные в высоких чинах допрашивали его почтительным и вместе дерзким тоном:
– Проверили ли вы употребление суммы в 340 000 рублей, отпущенной на перестройку помещения рыбинской тюремной администрации?
– Нет, – ответил изумлённый Ершов.
Впалые щёки офицера сморщились от улыбки, не то саркастической, не то сострадательной; этот очкарик похож был на морскую рыбу. Это было всё – на этот раз... А на следующий:
– Когда вы подписывали назначение начальника лагеря Ильенкова, известно ли вам было прошлое этого врага народа?
– Какого Ильенкова?
Это имя фигурировало, вероятно, в представленном ему длинном списке.
– Но это нелепо. Товарищ, я...
– Нелепо? – сказал тот угрожающим тоном. – Нет, это очень серьёзно, это – преступление против госбезопасности, совершённое высокопоставленным, ответственным работником при исполнении служебных обязанностей; согласно статье... Уголовного кодекса оно карается высшей мерой наказания.
Этот следователь был рыжий, старообразный человек с красными пятнами на лице; взгляд его прятался за серыми стёклами.
– Итак, вы утверждаете, обвиняемый Ершов, что вы этого не знали? ,
– Да, не знал.
– Как вам угодно... Но вам известно, что признание в ошибках и преступлениях всегда выгоднее сопротивления... Для вас это не новость...
Другой допрос касался отправленного в Китай тайного агента, который оказался изменником. Ершов с живостью возразил, что это назначение состоялось по указанию Оргбюро ЦК. Худой инквизитор, лицо которого было, как крестом, перерезано длинным носом и чёрным ртом, ответил:
– Вы напрасно стараетесь уклониться от ответственности...
Ещё говорилось на допросах о стоимости Валиных мехов, о духах, взятых для неё из запасов контрабанды, о расстреле несомненного контрреволюционера, бывшего офицера врангелевской армии.
– И вы будто бы не знали – конечно, вы станете это утверждать, – что это был один из наших преданнейших агентов?
– Нет, не знал, – ответил Ершов, который действительно ничего не помнил об этом деле.
Это следствие, лишённое всякого смысла, вернуло ему тень надежды – его как будто обвиняли лишь в незначительных проступках – и в то же время его не покидало сознание растущей опасности. «Во всяком случае, меня, вероятно, расстреляют...» Одна фраза, услышанная когда-то на лекции в Военной академии, не выходила у него из головы: «В районе взрыва человек уничтожается немедленно и полностью». Мы солдаты. Он худел, у него начали дрожать руки. Написать Вождю? Нет, нет, нет...
Заключённые в одиночной камере постепенно тонут в пустом времени, и когда их будит внезапно какое-нибудь событие, оно представляется им в резком свете, как сон. Ершов увидел себя входящим в Бюро ЦК.
Он подошёл колеблющейся походкой к столу, покрытому красным сукном, за которым сидело шесть человек. Сюда доходил странно заглушенный уличный шум. Ершов не узнал ни одного лица. Вон тот, что сидит справа, плохо выбритый, с профилем жирного грызуна, – может быть, новый прокурор Рачевский. Шесть официальных лиц, абстрактных и безличных, два мундира. «Как я ослабел, мне страшно, мне безумно страшно... Что сказать им? На что решиться? Я всё узнаю, это будет ужасно... Не может быть, чтобы меня расстреляли...» Чья-то массивная голова как будто приблизилась к нему: слегка лунообразное, слегка лоснившееся лицо, крошечные чёрные зрачки, крошечный круглый носик, комичный маленький рот. Рот раскрылся, послышался голос евнуха, сказавший почти любезным тоном:
– Садитесь, Ершов.
Ершов повиновался. Один стул за столом был пуст. «Что это, суд?» Шесть пар глаз рассматривали его с чрезвычайной строгостью.
Измождённый, побледневший, в кителе, с которого были спороты знаки отличия, он почувствовал себя грязным.
– Ершов, вы были членом партии. Постарайтесь понять меня: здесь всякое сопротивление бесполезно... Говорите... Сознавайтесь... Признайтесь во всём, – нам уже всё известно. Преклоните колени перед партией. В этом ваше спасение, Ершов, только в этом... Мы вас слушаем...
Человек с лунообразным лицом и голосом евнуха подчеркнул жестом своё приглашение говорить. В течение нескольких секунд Ершов растерянно смотрел на него, потом встал и сказал:
– Товарищи!
Ему надо было бы кричать о своей невиновности, но он чувствовал, что не может кричать, что смутно сознаёт себя виновным и заранее справедливо осуждённым, сам не зная за что; одинаково невозможно было и в чём-то признаться, и защищаться. Он мог ответить этим шести неизвестным судьям только потоком слов, которые ему самому показались жалкими и беспорядочными.
– Я честно служил партии и Вождю... Я готов умереть... Я совершил ошибки и сознаюсь в них... 334 000 рублей для рыбинской тюрьмы... назначение Ильенкова... да, я это признаю... Верьте мне, товарищи... я живу только для партии...
Не слушая его больше, все шестеро встали разом, как один человек. Ершов тоже вытянулся. Вошёл Вождь, молчаливый, весь серый, с суровым и грустным выражением; не взглянув на него, сел, склонил голову над каким-то листком, внимательно прочёл его. Все шестеро сели разом, как один человек. Настала минута полнейшей тишины; тишина стояла и над городом.
– Продолжайте, – сказал голос евнуха, – расскажите нам о вашем участии в заговоре, который стоил жизни товарищу Тулаеву.
– Но это совершенная нелепость, – воскликнул Ершов, – это безумие, нет, нет, я хочу сказать – это я схожу с ума... Дайте мне стакан воды, я задыхаюсь...
Тогда Вождь поднял голову – прекрасную и чудовищную голову, сошедшую с бесчисленных портретов, – и сказал именно то, что сказал бы Ершов на его месте и что Ершов в отчаянии думал о себе.
– Ершов, вы солдат, а не истеричная женщина... Мы просим вас сказать нам правду... Объективную правду... Драмам здесь не место.
Голос Вождя был так похож на его собственный внутренний голос, что он вернул Ершову ясность ума и даже какую-то уверенность в себе. Впоследствии он вспоминал, что хладнокровно приводил доводы, перебрал все главные элементы тулаевского дела, процитировал по памяти документы... И в то же время он сознавал, что всё это ни к чему не приведёт. Другие, давно исчезнувшие обвиняемые так же спорили с ним когда-то, – и он знал, что именно скрывают от него эти негодяи, или же знал, почему все их фразы совершенно лишние. Вождь перебил его на полуслове:
– Довольно! Мы только теряем время с этим циничным предателем. Так ты, значит, нас обвиняешь, мерзавец? Вон отсюда!
Его увели. Он только мельком увидел гневную вспышку рыжих глаз и движение разрезного ножа на столе – как нож гильотины. Всю эту ночь Ершов ходил взад и вперёд по своей камере; у него был горький вкус во рту, стеснённое дыхание... Невозможно повеситься, невозможно вскрыть себе вены, нелепо биться головой о стену, невозможно уморить себя голодом – его стали бы кормить насильно, через зонд: он сам не раз подписывал инструкции для такого рода случаев. Восточные люди утверждают, что человек может умереть, если захочет: убивает не пистолет, а воля. Мистика. Литература. Материалисты прекрасно умеют убивать, но не умеют умирать по своей воле. Бедные мы подлецы! Ершову теперь всё было ясно.
Сколько прошло недель – четыре, пять или шесть? Но что общего между измерением вращения земного шара в пространстве и смятением в мозгу человека, запертого среди бетонированных стен в эпоху переустройства мира? Ершов стойко переносил двадцатичасовые допросы. Среди целого ряда, по-видимому, никак друг с другом не связанных вопросов постоянно выплывали всё те же: «Что вы сделали, чтобы помешать аресту вашего сообщника Кирилла Рублёва? Что вы сделали, чтобы скрыть преступное прошлое троцкиста Кондратьева накануне его командировки в Испанию? Что именно вы поручили ему передать испанским троцкистам?» Ершов объяснял, что Политбюро передало ему личное дело Кондратьева в самую последнюю минуту; что в этом деле не было ничего особенного; что его отдел представил ему удовлетворительные справки о Кондратьеве; что он сам видел его всего десять минут, единственно для того, чтобы рекомендовать ему надёжных агентов... «Да, но каких именно надёжных агентов?» Возвращаясь с допросов, он засыпал, как оглушённое ударом животное, но и во сне ещё говорил, так как допросы продолжались во сне...
На шестнадцатом часу (но это мог быть и сотый час, ум Ершова тащился сквозь усталость, как замученное животное по грязи) седьмого или десятого допроса произошло нечто фантастическое. Дверь отворилась. Вошёл Риччиотти – вошёл просто, с протянутой рукой.
– Здравствуй, Максимка.
– Что это? Что это? Я так устал, чёрт меня побери, что не знаю, во сне это или наяву. Откуда ты взялся, брат?
– Двадцать часов крепкого сна, Максимка, и всё станет ясно, уверяю тебя. Я тебе это устрою. – Риччиотти повернулся к двум следователям, сидевшим за большим столом, и сказал, как будто был их начальством: – А теперь оставьте нас, товарищи... Прошу вас: чаю, папирос, немного водки...
Ершов видел, что у него бескровное лицо заключённого, что в его растрёпанных кудрях .немало седых прядей, что его лиловые губы неприятно потрескались, а одежда помята. Искорка остроумия вспыхивала ещё в его глазах, но как бы сквозь туман. Риччиотти с усилием улыбался.
– Садись, времени у нас достаточно. Замучили небось?
Он объяснил:
– Моя камера, вероятно, недалеко от твоей. Только для меня этих небольших формальностей больше не существует. Я сплю вволю, гуляю, получаю ежедневно к обеду и ужину стакан компота, даже читаю газеты... (Он заморгал, щёлкнул пальцами.) Паршивые газеты... Удивительно, у панегириков совсем другой вид, когда читаешь их в подземной тюрьме. Мы идём ко дну, как судно, которое... (Он справился с собой.) Я отдыхаю, понимаешь? Меня арестовали дней через десять после тебя.
Принесли чаю, папирос, водки. Риччиотти широко раздвинул оконные портьеры: большой квадратный двор в дневном освещении. Напротив в бюро, за окнами, проходили машинистки; молодые женщины, стоя, вероятно, на площадке лестницы, оживленно болтали; можно было отчётливо разглядеть даже их накрашенные ногти.
– Как странно, – сказал Ершов вполголоса. Он жадно выпил стакан горячего чая, потом отхлебнул водки. Он был похож на человека, начинающегося выбираться из тумана.
– У меня был такой холод внутри... Ты понимаешь, что тут происходит, Риччиотти?
– Всё, брат, понимаю. Я тебе объясню. Это ясно, как шахматная партия для начинающих. Шах и мат.
Его пальцы негромко и убедительно щёлкнули по краю стола.
– Я дважды кончал самоубийством, Максимка. В момент твоего ареста у меня был превосходный канадский паспорт, с которым я мог бы уехать. Я узнал, что произошло с тобой, я этого ждал и говорил себе, что за мной придут через десять дней – в чём не ошибся. Я начал укладывать чемодан. Но что мне было делать в Европе, в Америке, в Стамбуле? Писать статьи для их гнусной прессы? Пожимать руки массе идиотских буржуев, прятаться в маленьких грязноватых гостиницах или в роскошных отелях и в конце концов быть пристреленным при выходе из уборной? Видишь ли, я ненавижу Запад и наш мир, вот этот, ненавижу тоже, но и люблю его, больше люблю, чем ненавижу... я верю в него, его яд у меня в крови... И я устал, больше не могу... Я вернул разведке канадский паспорт. Мне странно было, что я ещё гуляю на свободе, как живой, по московским улицам. Я смотрел на всё окружающее и говорил себе, что это – в последний раз. Я прощался с незнакомыми женщинами, мне вдруг хотелось целовать детей, я находил удивительную прелесть в тротуарных плитах, нарисованных мелом для игры в классы, я с любопытством останавливался перед окнами. У меня была бессонница, я спал с проститутками, я напивался до потери сознания. «А что, если они не придут за мной? – говорил я себе. – Что же со мной тогда будет? Я больше никуда не гожусь». Я внезапно просыпался после сна или пьянки, начинал строить самые несуразные планы и с полчаса упивался ими. Уехать в Вятку, поступить под вымышленным именем мастером на лесопильный завод... Стать Кузьмой, лесорубом, неграмотным, беспартийным, не записанным в профсоюз – подумай только! И ведь это не было совершенно невозможно, только я сам, в сущности, этому не верил, сам этого не хотел... Второе моё самоубийство произошло на собрании партийной ячейки. Оратор, командированный ЦК, должен был, само собой, говорить о тебе... Переполненный зал; все в формах, и у всех зелёные лица, представляешь? Зелёные от страха, и все молчат, только в зале покашливают да сморкаются... И мне тоже было страшно и в то же время хотелось заорать: «Трусы вы, трусы, и не стыдно вам так дрожать за вашу подлую шкуру?» Оратор был осторожен, разглагольствовал как-то неопределённо и только в самом конце своей речи упомянул о тебе; о «чрезвычайно важных профессиональных ошибках, подающих повод к самым серьёзным подозрениям». Мы не смели взглянуть друг на друга, и я чувствовал, что у всех влажные лбы, поледеневшие спины... И ведь не тебя же щадили, когда говорили о тебе! Ведь и твоя жена... Ещё не закончились аресты. И ведь двадцать пять человек твоих самых доверенных подчинённых сидели там, и у каждого был револьвер, и каждый понимал, что именно здесь происходит... Когда оратор замолчал, мы все провалились в яму молчания. И оратор от ЦК – туда же вместе с нами. Те, что сидели в первом ряду, на глазах у членов бюро, первые, конечно, опомнились, и тут грянули аплодисменты – бешеные аплодисменты. «Сколько мертвецов аплодируют тут своему расстрелу?» – подумал я, но, чтобы не отличаться от других, я тоже стал аплодировать, все мы аплодировали на глазах друг у друга... Ты, кажется, засыпаешь?
– Да... Нет, ничего, я проснулся. Продолжай.
– И те, которые были тебе больше других обязаны и которым грозила поэтому наибольшая опасность, особенно гнусно говорили о тебе... Им казалось, что оратор из ЦК, чего-то не договоривший, расставлял им ловушку, – на них жаль было смотреть. Я тоже вслед за другими поднялся на эстраду и тоже, как другие, начал с пустых фраз о партийной бдительности. Сотня задыхавшихся людей смотрела на меня снизу вверх, разинув рты, они казались мне одновременно липкими и иссохшими, равнодушными и злобными. Бюро дремало, всё, что я мог сказать, чтобы очернить тебя, никого не интересовало, заранее всем известная песня – и всё это не могло меня спасти; каждый думал только о себе. На меня нашло вдруг полнейшее спокойствие, и мне страшно захотелось пошутить; я почувствовал, что мой голос зазвучал увереннее, и увидел, что эти желатинные физиономии слегка зашевелились; я разбудил в них тревогу. Я же начал спокойно говорить неслыханные вещи, от которых похолодели и зал, и бюро, и парень из ЦК (он что-то быстро записывал, ему хотелось провалиться сквозь землю). Я сказал, что при нашей напряжённой работе ошибки неизбежны, что я знаю тебя уже двенадцать лет, что ты лоялен, что ты жил только для партии, что, впрочем, всем известно, что у нас мало таких людей, как ты, и много сволочей... Меня окружил полярный холод. Из глубины зала чей-то придушенный голос бросил: «Позор!» Этот голос разбудил помирающих от страха червяков: «Позор!» «Это вам позор, – сказал я, спускаясь с эстрады, и прибавил: – Все вы дураки, если воображаете, что ваше положение лучше моего». Я пересёк зал во всю его длину. Каждый боялся, что я сяду рядом с ним, и все они – все эти коллеги – сплющивались на своих местах при моем приближении. Я вошёл в буфет покурить и поухаживать за официанткой... Я был доволен, я дрожал всем телом... На следующее утро меня арестовали.
– Да, да, – рассеянно сказал Ершов, – что хотел сказать о моей жене?
– Вале? Она написала в бюро ячейки, что разводится с тобой... Просила снять с неё незаслуженное бесчестие: сама того не зная, она была женой врага народа. И так далее, известные тебе формулы. Что ж, она, может, и права: ей хочется жить, твоей Вале.
– Это неважно.
Ершов прибавил, понизив голос:
– Она, может быть, правильно поступила. А что с ней стало?
Риччиотти сделал неопределённый жест:
– Не знаю... Она, вероятно, на Камчатке. Или на Алтае...
– Ну, а дальше что?
Они смотрели друг на друга в белёсом свете сквозь изнеможение, угрюмое удивление, простое и опустошающее спокойствие.
– А дальше, – ответил Риччиотти, – придётся тебе, Максимка, уступить. Сопротивление бесполезно, ты это знаешь лучше всякого другого. Ты обречёшь себя на невероятные страдания, а конец будет один, к тому же – никому не нужный. Уступи, говорю тебе.
– Уступить в чём? Сознаться, что я – враг народа, убийца Тулаева, предатель, ещё что? Повторять эти нелепые измышления пьяных эпилептиков?
– Сознайся, брат. В этом или в чём-нибудь другом. В чём они захотят. Во-первых, ты сможешь выспаться, а потом у тебя будет маленькая возможность... Очень маленькая, по моему мнению – почти несуществующая, но тут уж ничто не поделаешь... Максимка, ты умнее меня, но, согласись, я правильнее тебя сужу о политике. Уверяю тебя – это так. Это им нужно, это заказ – как приказ на разрушение какой-нибудь турбины. Ни инженеры, ни рабочие не обсуждают приказа, и никто не думает о том, сколько при этом погибнет народа... Я раньше никогда об этом не думал... Последние процессы не принесли той политической пользы, которой от них ожидали; они считают, что нужны новые свидетельства, новая чистка... Ты ведь сам понимаешь, что стариков нельзя больше оставлять на местах. Не нам решать, ошибается Политбюро или нет...
– Страшно ошибается, – сказал Ершов.
– Молчи, не говори об этом. Ни один член партии не имеет права так говорить. Если бы тебя послали во главе дивизии против японских танков, ты не стал бы рассуждать, ты повёл бы дивизию, зная, что никто не останется в живых. Тулаев – просто случай или предлог. Я лично даже уверен, представь себе, что за этим убийством нет ровно ничего, что его убили случайно. Но согласись, что партия не может признаться в своём бессилии, когда стреляют неизвестно откуда – может быть, из глубины народной души... Вождь уже давно в тупике. Может быть, он сходит с ума. А может быть, он дальновиднее всех нас. Я не считаю его гениальным, скорее, ограниченным, но нам некем его заменить, и он должен думать только о себе. Мы убили – позволили убить – всех других, у нас больше не осталось никого, он один ещё существует. Он знает, что когда стреляют в Тулаева, несомненно целят в него, – иначе не может быть, только его могут и должны ненавидеть...
– Ты думаешь?..
Риччиотти пошутил:
– По Гегелю, только разумное действительно.
– Я не могу, – с трудом выговорил Ершов, – это выше моих сил...
– Пустые слова. У нас нет больше сил, ни у тебя, ни у меня. Что же из этого следует?
В доме, который они видели в окно, половина бюро уже опустела. Направо в окнах зажигался свет: эти этажи будут работать всю ночь... Зелёный отблеск абажуров смягчал сумерки. Ершов и Риччиотти наслаждались своей странной свободой: они пошли в умывальную комнату освежить лицо холодной водой; им принесли приличный ужин и уйму папирос; они увидели почти приветливые лица... Ершов растянулся на диване, Риччиотти покружил по комнате, потом сел верхом на стул.
– Я знаю всё, что ты думаешь, я и сам так думал – думаю так и теперь. Но, во-первых, брат, иного выхода нет. Во-вторых, мы оставляем себе шанс, очень маленький, скажем, в полпроцента. В-третьих, я предпочитаю погибнуть за страну, чем против неё... Скажу тебе откровенно, я больше не верю в партию, но верю в Родину. Этот мир – наш, и мы принадлежим ему, несмотря на все его нелепости и гнусности. Но, может, всё это не так уж нелепо и гнусно, как кажется, – скорее, дико и неуклюже. У нас хирургические операции делают топором. Наше правительство не сдаётся, несмотря на катастрофическое положение, и жертвует своими лучшими дивизиями: иначе действовать не умеет. Теперь пришёл наш черёд.
Ершов закрыл лицо руками.
– Замолчи, я не знаю, что мне и думать.
Как бы отрезвившись, он поднял голову, злобно скривил рот:
– А ты сам веришь хоть пятой части того, что говоришь? Сколько тебе заплатили, чтобы уговорить меня?
В ярости и отчаянии они стояли друг против друга, и каждый увидел другого вблизи: неделю не бритая, бескровная кожа, увядшие веки, осунувшееся лицо. Риччиотти ответил с внешним спокойствием:
– Ничего мне не заплатили, дурак. Но я не хочу подыхать зря, понимаешь? Хочу воспользоваться этим шансом в полпроцента на сто или на тысячу, да, даже на тысячу! Понимаешь? Хочу попытаться выжить во что бы то ни стало – а на остальное мне наплевать! Я – человеческое животное, которое хочет жить, любить женщин, работать, воевать в Китае... Посмей-ка сказать, что ты не такой же, как я. Я просто пытаюсь тебя спасти, понимаешь? Я логичен. Мы поступали так с другими, теперь то же самое делают с нами. Честная игра. Всё это выше нашего разумения, но мы должны идти до конца. Мы созданы для того, чтобы служить этому строю, мы его дети, его гнусные дети, и всё это – не случайно, понимаешь ли ты наконец? А я – верен. И ты тоже, Максимка, ты тоже верен. (Его голос оборвался, в нём послышался оттенок нежности.) Вот и всё, Максимка. Зря ты меня оскорбляешь. Подумай.
Он взял Ершова за плечи, толкнул его, и тот бессильно упал на диван.
Была уже ночь. Звук чьих-то шагов в коридоре смешивался с далёким треском пишущей машинки.
Ершов всё ещё продолжал возмущаться:
– Сознаться, что я всё предал, что я участвовал в преступлении, против которого боролся изо всех моих сил! Убирайся к чёрту – ты бредишь!
Голос товарища доходил до него издалека. Между ними были ледяные пространства, где медленно вращались чёрные планеты... Между ними были только стол из красного дерева, пустые чайные стаканы, бутылка из-под водки – тоже пустая – да полтора метра пыльного ковра.
– Другие, которые были лучше нас с тобой, так поступили; после нас будут другие, которые поступят так же. Никто не может устоять против этой машины. Никто не должен, не может сопротивляться партии, не перейдя при этом к врагу. А мы с тобой никогда не изменим... Если же ты считаешь себя невиновным, ты глубоко ошибаешься. Мы с тобой – невинны? Над кем ты смеешься. Или ты забыл, какое у нас ремесло? Товарищ народный комиссар госбезопасности ни в чём не повинен? Великий инквизитор чист, как ягнёнок. Только он один на всём свете не заслужил пули в затылок, к которой сам присуждал, штемпелем и подписью, до семисот человек в месяц, – и это по официальным, заведомо ложным данным? Ведь подлинных цифр никто никогда и не узнает.
– Да замолчи ты наконец! – воскликнул Ершов вне себя. – Скажи, чтобы меня отвели обратно в камеру. Я был солдат, я исполнял приказания. Довольно! Ты подвергаешь меня нелепой пытке...
– Нет. Пытка только ещё начинается. Пытка ещё впереди. Я хочу тебя от неё избавить. Я пробую тебя спасти... Спасти, понимаешь?
– Они тебе что-нибудь обещали?
– Они так крепко держат нас в руках, что им незачем давать нам обещания... И мы знаем, чего эти обещания стоят... у меня был Попов, – ты знаешь эту старую калошу, эту мямлю?.. Как я обрадуюсь – даже на том свете, – когда придёт его черёд! Он сказал мне: «Партия требует от вас многого, партия никому ничего не обещает. Политбюро оценит вашу услугу в зависимости от политической обстановки. Партия может и расстрелять вас без суда». Решайся, Максимка, я так же устал, как и ты.
– Это невозможно, – сказал Ершов.
Он, казалось, плакал, охватив голову руками, пригнувшись к коленям, и дышал с трудом, как астматик. Проходили опустошающие минуты.
– Хорошо бы пустить себе пулю в лоб, – пробормотал Ершов.
– Ещё бы.
Проходят смертельные, бесцветные минуты, а за ними пустота... Заснуть бы.
– Один шанс из тысячи, – пробормотал Ершов, – ну что ж. Ты прав, брат. Сыграем в их игру.
Риччиотти яростно надавил на кнопку звонка. Где-то вдалеке отозвался этот повелительный зов. Молодой солдат специального батальона приоткрыл дверь.
– Чаю, бутербродов, коньяку. Да поживее.
Голубое утро притупило свет в окнах Секретного отдела, который в этот единственный час пустовал. Прежде чем расстаться, Ершов и Риччиотти обнялись. Их окружили улыбающиеся лица. Кто-то сказал Ершову:
– Ваша жена здорова. Она в Вятке, работает в тамошней администрации...
К своему радостному удивлению, Ершов нашёл на столе камеры газеты. Он уже месяцами ничего не читал, его мозг работал впустую, и это временами было очень тяжело. Он бросился в изнеможении на постель, развернул номер «Правды», увидел благосклонное лицо Вождя и долго, усиленно его разглядывал, будто стараясь что-то понять. Он так и уснул, прикрыв лицо этим портретом.
Телефоны передавали друг другу важную новость. В 6.27 утра Зверева, которую разбудила секретарша, сообщила товарищу Попову по прямому проводу: «Ершов сознался...» Зверева, лежавшая в большой постели из золотистой карельской берёзы, положила телефонную трубку на ночной столик. Косо повешенное над нею зеркало отразило её облик, которым она никогда не уставала любоваться. Её лицо было до подбородка окружено, как чёрной овальной рамкой, волной её крашеных, длинных и гладких волос. «У меня трагический рот», – подумала она, глядя на желтоватую складку у губ, выдававшую стыд и злопамятность. В её бледно-восковом лице единственной человеческой чертой были глаза – чёрные, как сажа, лишённые бровей и ресниц. В повседневной жизни эти непроницаемые глаза выражали только упорную скрытность, но наедине с зеркалом – совершенное безумие. Зверева внезапно откинула одеяло. Чтобы поддерживать обвислую грудь, она всегда спала в лифчике из чёрного кружева. В зеркале отразилось её длинное тело, гибкое и смуглое, сохранившее ещё чистоту линий, похожее на тело стройной китаянки. «Китайской рабыни, какие бывают в харбинских домах терпимости...» Она провела сухими ладонями по изгибу бёдер... «Ах, когда же у меня будет...» Затрещал телефон. Послышалось вялое пришептывание старика Попова:
– По-по-поздравляю... Следствие сделало большой шаг вперёд. А теперь, товарищ Зверева, при-приготовьте мне дело Рублёва...
– Сегодня же утром, товарищ Попов.
Почти десять лет прошли для Макеева под знаком унижения, которому он подвергал других, которому подвергался сам. Для него управлять – значило отвечать на малейший протест унижением или репрессией. Вначале, глядя, как какой-нибудь товарищ мучается на трибуне под ироническими взглядами собрания, признаётся в своих ошибках, отрекается от товарищей, друзей, от собственных убеждений, Макеев чувствовал себя не в своей тарелке. «Сукин сын, – думал он, – уж лучше бы ты дал переломать себе ребра». Но после дискуссий 1927-1928 годов он стал с насмешливым презрением обличать старых революционеров, которые отрекались от самих себя, лишь бы их не исключили из партии. У него было смутное предчувствие, что ему суждено получить часть их наследия. Его тяжеловесные насмешки настраивали собрание против партийца 18-го года, который на глазах у всех лишался своего ореола, своей власти и унижался перед партией, – на самом же деле, перед кучкой посредственностей, которые пришли на собрание исключительно дисциплины ради. Багровея, Макеев кричал: «Нет, этого недостаточно! Поменьше фраз! Расскажите-ка лучше о преступной агитации, которую вы вели на фабрике вместе с другими!» Путь к власти открылся ему отчасти именно благодаря этим беспощадным окрикам. Он и шёл по этому пути тем же способом, преследуя побеждённых революционеров, требуя, чтобы они без конца, во всё более грубых и унизительных выражениях отрекались от себя...
Он заставлял своих подчинённых принимать на себя ответственность за его ошибки (ведь он, Макеев, был нужнее партии, чем они), – и сам поспешно унижался, когда этого требовало начальство.
В тюрьме им овладело животное отчаяние. В своей тесной камере с низким потолком он стал похож на быка, которого не уложил ещё на месте молот живодера. Его крепкие мускулы ослабли, волосатая грудь опала, лицо заросло до самых глаз бородой цвета выгоревшей соломы; он вдруг превратился в высокого сутуловатого мужика с печальным и боязливым взглядом. Время шло. О Макееве, казалось, забыли, на его уверения в преданности не отвечали. Он не смел слишком настаивать на своей невиновности, хоть и был в ней уверен: это казалось ему небезопасным. Внешний мир стал для него нереальным; он не мог больше конкретно представить себе свою жену...
Начало допросов оказалось для него величайшим благом. Всё сразу выяснилось: правда, его карьера была разбита, это могло ему стоить нескольких лет в концлагере Севера – но не больше. А ведь и там можно проявить усердие, организаторские способности, получить поощрение; и там можно найти женщину...
Ему велели сознаться в том, что он переборщил, проводя в жизнь майские директивы, но зато намеренно пренебрёг сентябрьскими; что он ответствен за уменьшение посевной площади в области; что он назначил в Управление сельского хозяйства сотрудников, вскоре после того осуждённых за контрреволюционную деятельность (он же на них и донес); что он израсходовал на личные нужды (заказав для себя мебель) сумму, отпущенную на оборудование дома отдыха сельскохозяйственных работников. Об этом можно было бы поспорить, но он не спорил, он соглашался, всё это было, могло быть, должно было быть, видите, товарищ, если партия требует, я охотно всё беру на себя... Благоприятный знак: ни одно из этих обвинений не влекло за собой высшей меры наказания. Ему позволили читать старые иллюстрированные журналы.
Но однажды ночью, когда он крепко спал, его разбудили, повели непривычным путём – лифты, дворы, ярко освещённые подвалы, – и он внезапно столкнулся с опасностью совсем иного рода. В особой жёсткости тона крылось объяснение всех загадок.
– Макеев, вы признаёте, что в области, управление которой вам было вверено Центральным Комитетом, вы были организатором голода?
Макеев утвердительно кивнул, хотя эта формулировка была чрезвычайно опасной, напоминала недавние процессы... Но в чём же ему ещё оставалось сознаваться? В Кургане никто не усомнится в его виновности. И с Политбюро будет снята ответственность.
– Настало время для окончательного, полного признания. Вы от нас многое скрыли: это показывает, каким непримиримым врагом вы стали для партии. Нам всё известно, Макеев! Всё доказано самым неопровержимым образом. Ваши сообщники сознались. Расскажите, какое участие вы принимали в заговоре, стоившем жизни товарищу Тулаеву?
Макеев опустил голову – или, точнее, голова его бессильно упала на грудь, плечи согнулись, как будто от этих слов тело его внезапно лишилось плотности. Чёрная дыра была перед ним, чёрная дыра, подвал, яма – нечего больше ответить. Он потерял дар слова и жеста и бессмысленно глядел на паркет.
– Обвиняемый Макеев, отвечайте! Вам дурно?
От него и побоями ничего бы не добились. Его большое тело стало вдруг дряблым, как набитый тряпками мешок. Его увели, за ним ухаживали, побрили его, вернули ему подобие обычного вида. Он не переставал говорить сам с собою. Его голова стала напоминать череп, высокий, конической формы череп, с выступающими челюстями, с хищно оскаленными зубами. Оправившись от первого нервного шока, он в ближайшую ночь вновь пошёл на допрос. Он шёл безвольным шагом, у него болело сердце, и, приближаясь к кабинету следователя, он терял последние силы.
– Макеев, в деле Тулаева у нас имеется против вас уничтожающее показание – показание вашей жены.
– Этого не может быть!
Странно ирреальный образ его жены – в другой, исчезнувшей жизни бывший реальным – вернул ему проблеск твёрдости. Его зубы злобно блеснули.
– Этого не может быть! Или же она врёт, потому что вы её пытали.
– Не вам обвинять нас, преступник Макеев. Вы продолжаете отрицать?
– Да.
– Так слушайте же! Узнав об убийстве товарища Тулаева, вы воскликнули, что ожидали этого, что он этого заслужил, что это он, а не вы, организовал голод в области... Передо мной ваши подлинные слова, прочитать их вам? Это правда или нет?
– Это ложь, – вполголоса ответил Макеев.
Из внутренней тьмы таинственно выплыло воспоминание: Аля, её жалкое, опухшее от слёз лицо... Она держала в дрожащих пальцах бубновую даму и кричала, – но сиплый, ослабевший звук её голоса едва доходил до него: «А тебя, изменник и врун, тебя когда убьют?» Что она задумала, что ей, несчастной дурёхе, внушили? Зачем она на него донесла – чтобы спасти его или погубить? Бездумная...
– Это правда, – сказал он, – но я должен вам объяснить, что в этом больше лжи, чем правды, лжи, лжи...
– Это совершенно лишнее, Макеев. Ваш единственный шанс на спасение – если такой шанс вообще имеется – в полном и откровенном признании...
Воспоминание о жене вернуло ему силы. Он стал похож на самого себя, саркастически бросил:
– Вроде как для всех других, верно?
– На что вы намекаете, Макеев? Что вы позволили себе подумать, контрреволюционер Макеев, изменник партии, убийца партии?
– Ничего.
Он вновь ослабел.
– Очень возможно, что это – ваш последний допрос. Последний день вашей жизни. Решение может быть вынесено сегодня же вечером. Вы меня поняли, Макеев? Уведите обвиняемого.
...В Кургане лёгкий грузовой автомобиль приезжал за осуждёнными в тюрьму. Иногда им объявляли приговор, иногда же позволяли ещё надеяться, и это было предпочтительнее, потому что порой приходилось поддерживать, связывать, тащить, затыкать рты тем, у кого больше не оставалось сомнений. А другие шли, как испорченные автоматы, но всё же шли... В нескольких километрах от вокзала, в том месте, где -рельсы, изгибаясь, блестят под звёздами, машина останавливается. Человека ведут в кустарники... Макеев присутствовал однажды при расстреле четырёх железнодорожников, воровавших почтовые посылки. Эти кражи вносили дезорганизацию в грузооборот, и Макеев потребовал на собрании райкома высшей меры наказания для этих проворовавшихся пролетариев. Сволочи! Он злился на них за то, что они вынуждали его прибегнуть к такой безобразно суровой мере. Железнодорожники надеялись ещё, что их просто куда-нибудь вышлют... «Не посмеют они расстреливать рабочих за такие пустяки» – всего-то было товара на семь тысяч рублей. Но последняя их надежда исчезла в кустарниках, под мрачной жёлтой луной, больной свет которой пронизывал хилую листву. Макеев, остановившись на повороте тропинки, смотрел на осуждённых. Первый шёл к вырытой яме решительным шагом, с высоко поднятой головой («из таких выходят революционеры...») Второй спотыкался о корни, подскакивал, втягивал голову в плечи, казалось, был погружён в глубокое раздумье – и только вблизи Макеев увидел, что этот пятидесятилетний человек неслышно плачет. У третьего был вид пьяницы, он то замедлял шаг, то пускался бежать... Они шли гуськом, за ними следовало несколько солдат с ружьями... Последнего, двадцатилетнего парня пришлось поддерживать под руки; узнав Макеева, он упал на колени, закричал: «Товарищ Макеев! отец родной, прости нас, помилуй нас, мы рабочие...» Макеев отскочил назад, ударился о корень и ушиб ногу; солдаты молча потащили мальчишку дальше. В эту минуту первый из четверых повернул голову и сказал спокойным и очень отчётливым в лунной тишине голосом: «Молчи, Саша, это ж не люди, а гиены... Им бы в морду плюнуть!..» Когда Макеев был уже в своей машине, до него донеслись, один за другим, четыре выстрела. Луна зашла за облака, шофёр чуть не заехал в канаву. Вернувшись домой, Макеев немедленно лёг в постель, крепко обнял спящую жену и долго лежал так с открытыми в темноте глазами. Тепло, исходившее от Али, и её ровное дыхание подействовали на него успокоительно. Он умел убегать от самого себя: ему нетрудно было ни о чём не думать. Прочтя на другой день в газете краткое сообщение о расстреле, он почувствовал даже некоторое удовлетворение: проявил себя «железным большевиком»...
Макеев не жил воспоминаниями, – скорее, воспоминания жили в нём скрытой и навязчивой жизнью. На освещённом экране сознания встаёт теперь другое воспоминание (а тем временем обвиняемого ведут обратно в камеру...). И это воспоминание мучительно связывается с другим. В ту пору Макеев чувствовал себя человеком другой породы, чем те, которых ночью ведут такой вот тропинкой в жёлтом лунном свете к яме, вырытой солдатами особого батальона. Казалось немыслимым, чтобы с вершины власти что-нибудь могло его низвергнуть в одну кучу с такими бедолагами. Даже попав в немилость, он остался бы в списках членов ЦК. Разве что исключили бы из партии – но и это было невозможно. Он был предан ей до глубины души, обладал нужной гибкостью, знал, что ЦК всегда прав, что Политбюро всегда право, что Хозяин всегда прав, потому что право – это сила; даже ошибка власти внушает к себе уважение, превращается в истину; стоит только уплатить накладные расходы, и неправильное решение становится правильным...
В тесной кабинке лифта (решётчатая клетка) сержант лет сорока своим могучим торсом прижал Макеева к стенке: этот сержант походил на прежнего Макеева формой черепа и подбородка, раздутыми ноздрями, упрямым взглядом, крепким сложением (но ни тот, ни другой не отдавали себе отчёта в этом сходстве). Он уставился на Макеева безличным взглядом. Человек-клещи, человек-револьвер, человек-приказ, человек-власть, – и Макеев был теперь во власти этих людей, принадлежавших к иной, чем он, породе. Мысленно он брёл по подлеску, в свете жёлтой луны, и за ним следовали опущенные ружья... Этот же человек поджидал его на повороте тропинки, он был в кожаной куртке, руки в карманах... И когда не будет больше Макеева, этот человек спокойно вернётся домой, ляжет в большую тёплую постель рядом со спящей женой... Этот же человек – или другой, с таким же безличным взглядом – придёт за Макеевым, может быть, нынешней же ночью.
Другая тёмная картина выплыла из забвения. В партийном клубе показывали как-то новый фильм, «Аэроград», прославляющий советскую авиацию. В глухом лесу, на Дальнем Востоке, бородатые мужики, бывшие красные партизаны, давали отпор японским агентам. Было там два старых охотника, похожих друг на друга, как родные братья, и один из них узнал, что другой – изменник. Они стояли друг против друга под высокими деревьями в шелестящей тайге, и патриот обезоружил предателя. «Иди вперёд!» И тот шёл, согнувшись вдвое, зная, что он осуждён. На экране поочередно появлялись два почти одинаковых лица: одно старое, бородатое, искажённое ужасом, и другое, на него похожее, – лицо товарища, его осудившего. Он кричал: «Приготовься! Во имя советского народа!» – и поднимал ружьё. Вокруг них – бескрайний лес, и нет выхода. Крупным планом: огромное лицо осуждённого, который выл перед смертью, как собака... Облегчающий грохот выстрела заглушил этот вой. По знаку Макеева все зааплодировали.
...Лифт остановился. Макееву хотелось по-собачьи завыть. Всё же он шёл, держась довольно прямо. В камере он попросил, чтобы ему дали лист бумаги. И написал:
«Перестаю сопротивляться партии. Готов подписать полное и искреннее признание».
Подписался: Макеев. Большая буква была выписана довольно твёрдо, остальные казались раздавленными.
Кирилл Рублёв отказался отвечать во время допросов. («Если я им нужен, они уступят. Если же они решили попросту избавиться от меня – сократим формальности».) Какой-то ответственный сотрудник пришёл справиться о его желаниях.
– Я хочу, чтобы в социалистической тюрьме со мной обращались не хуже, чем на старорежимной каторге. (При этом он подумал: «Невольная ирония... Интегральный юмор...») Прошу дать мне книги и бумагу.
Ему принесли книги из тюремной библиотеки и тетрадь с нумерованными страницами.
– А теперь оставьте меня в покое на три недели.
Этот срок был ему нужен, чтобы внести ясность в собственные мысли. Когда всё потеряно, появляется чувство странной свободы. Можно, наконец, мыслить со строгой объективностью, надо только преодолеть страх, эту силу, властвующую, как и половой инстинкт, над человеческим существом. Со страхом и половым инстинктом бороться трудно, но всё это – вопрос внутренней дисциплины. Терять ему было нечего. По утрам, голый, нескладный, остроносый, он проделывал несколько гимнастических упражнений; особенно нравилось ему гибкое движение косца, с силой бросающего своё туловище и руки вперёд и в сторону. Затем он прохаживался по камере, размышлял и наконец садился писать. Иногда останавливался и думал о смерти, с точки зрения естественных наук, единственно рациональной: думал о поле, поросшем маками. Часто – слишком часто – мысль о Доре его мучила. «Мы так давно были готовы к этому, Дора». В течение всей их жизни – настоящей, совместной жизни, семнадцать лет! – в эпоху сурового революционного энтузиазма в Доре под видом беспомощной кротости, щепетильности, неуверенности в себе всегда таился сильный человек. Так, в иных хрупких растениях под тонкой листвой столько жизненной зарядки, что их не сломит никакая гроза. Кирилл говорил теперь с Дорой, как будто она была рядом с ним. Они так хорошо знали друг друга, столько общих мыслей связывало их, что иногда, когда Кирилл писал, Дора угадывала конец фразы или то, что будет на следующей странице. «Я так и думала, что ты именно это напишешь», – говорила, бывало, прежняя Дора – хорошенькая, бледная, с открытым лбом, с зачесанными на виски волосами. «И ведь верно, – восхищался Кирилл, – как ты хорошо меня знаешь, Дорочка!» И от радости, что между ними такое согласие, они целовались над рукописями. Это было в годы тифа, голода, террора, постоянно прорванных – но никогда до конца – фронтов, в эпоху Ленина и Троцкого, в счастливые времена. «Ведь правда, Дора, нам повезло бы, если бы мы тогда умерли вместе?» Это они говорили лет пятнадцать спустя, когда вместе мучились в кошмаре, как мучаются от удушья в шахте... «Мы даже прозевали один подходящий момент, – помнишь, когда у тебя был тиф, а надо мной, на стене, пули описали правильный полукруг?» – «Я была в бреду, – сказала Дора, – но я всё видела, всё понимала, у меня был ключ ко всему, одним движением руки я отстраняла пули от твоей головы, гладила твои волосы кончиками пальцев, и всё это представлялось мне реальностью. А потом на меня нашло сомнение: на что же я гожусь, если не умею отвести от тебя пули? Какое у меня право любить тебя больше, чем революцию? Я ведь сознавала, что люблю тебя больше всего на свете и что если бы тебя не стало, я не смогла бы больше жить – даже для революции... А ты бранил меня, когда я это говорила, и ты всё так замечательно мне объяснял, пока я лежала в бреду, что я только тогда тебя по-настоящему и узнала...» Кирилл положил руки на её бёдра, посмотрел в глаза: оба они были бледны, подавлены, оба сильно постарели, умели улыбаться только глазами... «А что, я очень изменился с тех пор?» – спросил он помолодевшим внезапно голосом. «Совсем не изменился, – ответила Дора, гладя его по волосам, – это прямо удивительно... Мне всегда казалось, что ты непременно должен жить, потому что мир обеднел бы, если бы тебя не стало. Но теперь я жалею, что мы не воспользовались тогда этой возможностью, не умерли вместе: бывают эпохи, когда людям известного склада не стоит жить». Кирилл медленно ответил: «Ты говоришь, бывают эпохи... Ты права. Но при современном состоянии науки никто не может предвидеть ни продолжительности, ни последовательности таких эпох. Каждый обязан быть на своём месте в ту минуту, когда его позовёт история». Он мог бы выразиться так и на своих лекциях о «чартизме и развитии капитализма в Англии».
Рублёв стоял в углу камеры, прижавшись к стене, повернувшись к окну своим профилем – профилем Ивана Грозного, – и старался увидеть хоть кусочек неба величиной в десять квадратных сантиметров. Он бормотал про себя: «Ну что ж, Дора, ну что ж, Дора, – вот и пришёл конец!»
Рукопись его росла. Быстрым почерком, слегка дрожащим в начале каждого абзаца, укреплявшимся к двадцатой строке, без лишних слов, в сжатом стиле экономиста, он рассказывал историю последних пятнадцати лет, приводил цифры секретной (подлинной) статистики, анализировал политику правительства. Во всём этом была беспощадная объективность. Он писал о спорах по поводу демократизации партии, о первых схватках в Коммунистической академии из-за индустриализации, приводил подлинные цифры нехватки товаров, стоимости рубля, зарплаты, говорил о растущем напряжении между крестьянством, зарождающейся промышленностью и властью, кризисе нэпа, о влиянии мирового кризиса на советскую экономику, запертую в собственных границах, о кризисе золота, о решениях, навязанных стране властью. Власть была одновременно и предусмотрительной, так как отдавала себе отчёт о грозившей ей опасности, и ослеплённой инстинктом самосохранения. Он писал о вырождении партии, о гибели интеллектуальной жизни, о начале единовластия, о коллективизации (в которой руководящая группа видела для себя спасение), о голоде, распространявшемся по стране как проказа...
Рублёву знакомы были протоколы Политбюро, он цитировал запретные тексты (теперь, вероятно, уничтоженные) и объяснял, как Генсек постепенно, шаг за шагом, забирал в свои руки всё больше власти. Он описывал закулисные интриги ЦК, на фоне которых всё отчётливей вырисовывался облик Вождя, и бурную сцену, в конце которой два члена Политбюро, оба одинаково бледные, стояли друг против друга среди опрокинутых стульев. Один из них сказал: «Я покончу с собой, чтобы мой труп стал уликой против тебя! Тебя же мужики когда-нибудь разорвут на части, и на это мне наплевать, – но что будет с нашей страной, что будет с революцией?» А другой – у него было замкнутое, неподвижное лицо, – пробормотал: «Успокойся, Николай Иванович; я готов уйти, если вы все согласны...» Но другие не согласились: некем было больше его заменить.
Исписав, таким образом, целые страницы – совершенно свободно, как он уже десять лет не писал, – Кирилл Рублёв принимался расхаживать по камере, куря папиросы. «Ну, что скажешь, Дора?» Невидимая Дора перелистывала исписанные страницы. «Хорошо, – говорила она. – Ясно и твёрдо. По-твоему. Продолжай, Кирилл».
Он переходил тогда к размышлениям о поле, покрытом маками.
На отлогом холме расстилается поле, а на нём волны алых цветов, ослепительно-ярких и таких хрупких, что их лепестки разлетаются во все стороны от малейшего прикосновения. Сколько их, этих цветков? Невозможно сосчитать. Каждую секунду один из них осыпается, другой расцветает.
Если сбить головки самых крупных, тех, что выросли из отборных семян или нашли в почве какие-нибудь особенные удобрения, от этого не изменится ни общий вид, ни природа, ни будущее поля... «Мне, положим, кажется, что каждый цветок существует сам по себе, что он чем-то отличается от всех других, что он неповторим. Так мне кажется – но верно ли это? Ведь каждую секунду данный цветок изменяется, перестает быть самим собой, что-то в нём умирает и возрождается. В эту секунду он уже не тот, каким только что был. И, может быть, изменяясь, он больше походит на соседний цветок, чем на тот, каким он был час тому назад, каким станет через час?» Так в результате его логических рассуждений стирались границы между отрезками времени, между особью и видом, конкретным и отвлечённым, жизнью и смертью. Смерть растворялась без остатка в чудесном поле, покрытом маками, которые, может быть, выросли на братской могиле, питались чьей-то разлагающейся плотью. Перед ним возникала новая, ещё более значительная проблема: может быть, если хорошенько над этим поразмыслить, исчезнут и различия между отдельными видами? Но это было бы ненаучно, говорил себе Рублёв, считавший, что вне синтеза, основанного на опыте, философия не существует или же сводится «к теоретической маске идеализма теологического происхождения».
Этому мужественному, лирически настроенному, утомлённому жизнью человеку маки помогали примириться с мыслью о близкой смерти, – смерти стольких товарищей, что она не казалась ему ни непонятной, ни слишком страшной. К тому же он знал, что до окончания следствия людей редко расстреливают: угроза или ожидание смерти были ещё впереди. Вот когда придётся лечь спать с мыслью, что тебя разбудят, чтобы повести на расстрел, нервам придётся тяжело. (Но говорят, что иногда расстреливают и среди бела дня?) Зверева вызвала его наконец на допрос, который она решила вести в фамильярно-разговорном тоне:
– Всё пишете, товарищ Рублёв?
– Пишу.
– Наверно, обращение в ЦК?
– Не совсем. Да я и не знаю, есть ли у нас ещё ЦК – в том смысле, в каком мы его понимали в нашей старой партии.
Зверева удивилась. Из того, что было известно о Рублёве, заключали, что он верен генеральной линии, послушен и – несмотря на внутреннее несогласие – дисциплинирован; внутреннее несогласие не мешает принимать реалистические решения. Следствию грозил провал.
– Я вас не совсем понимаю, товарищ Рублёв. Вы, конечно, знаете, что партия ждёт от вас.
Тюрьма не наложила на него такого отпечатка, как на других, – ведь он и раньше носил бороду. Он не казался подавленным, просто утомлённым: у него были круги под глазами. Лицо могучего святого с большим костистым носом, какие встречаются на иконах новгородской школы. Зверева старалась его разгадать. Он спокойно ответил:
– Партия... Да, я приблизительно знаю, чего она от меня ждёт. Но какая партия? То, что теперь называют партией, до того изменилось... Вы, конечно, не можете меня понять...
– Почему вы думаете, товарищ Рублёв, что я не могу вас понять? Напротив, я...
– Довольно, – отрезал Рублёв. – У вас уже готова официальная, ровно ничего не значащая фраза... Я хочу сказать, что мы с вами принадлежим, вероятно, к разным породам. Поверьте, я это говорю без всякого враждебного чувства.
Объективный тон и вежливый взгляд смягчал оскорбительный смысл его слов.
– Можно спросить вас, товарищ Рублёв, что именно вы пишете, кому и с какой целью?
Рублёв с улыбкой покачал головой, – точно какая-то студентка нарочно задала ему каверзный вопрос:
– Товарищ следователь, я собираюсь написать очерк о рабочем движении в Англии в начале XIX века, о тех, что ломали машины... Не удивляйтесь, я об этом серьёзно подумываю...
Он ждал отклика на свою шутку. Зверева с любезным видом присматривалась к нему своими хитрыми глазками.
– Я пишу для будущего. Когда-нибудь откроются архивы. Может быть, найдут там мою записку. Она облегчит работу историков, которые будут изучать нашу эпоху. Я считаю, что это гораздо существеннее всего того, что партия поручила вам потребовать от меня. А теперь, гражданка, позвольте мне в свою очередь задать вам вопрос: в чём меня, собственно, обвиняют?
– Скоро узнаете. Вы довольны тюремным режимом? Едой?
– Более или менее. Иногда в компоте слишком мало сахара. Но сколько советских пролетариев, которых ни в чём не обвиняют, питаются хуже нас с вами, гражданка!
Зверева сухо сказала:
– Допрос окончен.
Кирилл Рублёв вернулся в свою камеру в отличном настроении. «Я прогнал эту противную кошку, Дора. С такими, как она, объясняться – этого ещё не хватало! Пусть дадут мне кого-нибудь почище или пусть расстреляют без всяких объяснений». Поле, усеянное маками, привиделось ему на дальних склонах, сквозь завесу дождя. «Бедная моя Дора! Я подорвал им их хитроумное сооружение?» Дора была бы довольна. Она сказала бы: «Я уверена, что ненадолго переживу тебя, Кирилл. Продолжай!»
Обычно Рублёв не оборачивался, когда отворяли дверь его камеры. На этот раз дверь отчётливо закрылась за кем-то, и он ощутил чьё-то присутствие за своей спиной. Он продолжал писать, чтобы не стать игрушкой своих нервов.
– Здравствуйте, Рублёв, – сказал тягучий голос.
Это был Попов. Серая кепка, старое пальто, бесформенный портфель под мышкой – он был такой же, как всегда. Они уже несколько лет не встречались.
– Здравствуйте, Попов, садитесь.
Рублёв уступил ему свой стул, захлопнул тетрадь на столе, а сам растянулся на постели. Попов разглядывал камеру – голую, жёлтую, душную, окружённую молчанием. Вид её, по-видимому, неприятно его поразил.
– Так вот оно что, – сказал Рублёв, – тебя, значит, тоже посадили! Добро пожаловать, брат. Поделом тебе!
Он тихонько, от всего сердца, смеялся. Попов бросил кепку на стол, скинул пальто, сплюнул в свой серый носовой платок.
– Зубы болят... Чёрт бы их... Но вы ошибаетесь, Рублёв, я ещё не арестован.
Рублёв задрал вверх свои длинные ноги, задрыгал ими в приливе восторга и сказал сам себе, задыхаясь от смеха:
– Он сказал ещё нет, наш старик Попов! Ещё нет! Фрейд дал бы три рубля не торгуясь за такой lapsus linguae[20]. Нет, серьёзно, Попов, вы слышали, что вы сказали: ещё нет?
– Я сказал «ещё нет»? – забормотал Попов. – Ну и что ж? Не всё ли равно? Чего это вы прицепились к слову? «Ещё нет»... что?
– Не арестован, не арестован, ещё не арестован! – закричал Рублёв, и в его глазах, в рыжих кустистых бровях, во взъерошенной бороде сверкала насмешка.
Попов тупо глядел перед собой: стена, окно с матовыми стёклами, за которыми была решётка. Этот ни на что не похожий приём сбил его с толку. Он нарочно затянул молчание, пока оно не стало почти тягостным. Рублёв сцепил пальцы на затылке.
– Рублёв, я пришёл, чтобы вместе с вами решить вашу судьбу. Мы ждём от вас многого. Мы знаем, что у вас чрезвычайно критический ум... но что вы верны партии... Такие, как я, старики хорошо вас знают... Я принёс вам документы... Прочтите их. Мы вам доверяем... Только, если вам всё равно, поменяемся местами... Я предпочитаю лечь... Здоровье, знаете... ревматизм, миокардит, полиневрит и прочее... Вам повезло, Рублёв, что вы такой крепкий...
Когда проливаешь на землю воду, препятствия, которые она встречает на своём пути, создают ей определённые контуры. Преимущество было теперь на стороне Попова. Они поменялись местами. Попов лёг на койку, и у него действительно был вид больного старика: серые зубы, увядшая кожа, комически взъерошенные пряди редких грязно-седых волос.
– Передайте мне, пожалуйста, мой портфель. Курить можно? Он вынул из портфеля бумаги.
– Вот, читайте. Не торопитесь, времени у нас довольно. Всё это серьёзно, очень серьёзно...
Все его коротенькие фразы заканчивались покашливанием. Рублёв принялся читать: Сводка докладов военных агентов в ... Доклад о постройке стратегических дорог в Польше... Запасы горючего... Лондонские переговоры... Прошло довольно много времени.
– Это – война, – сказал наконец Рублёв, ставший очень серьёзным.
– По всей вероятности, да, война... в будущем году... мм... Вы видели контрольные цифры транспорта?
– Да.
– У нас есть ещё слабая возможность переключить войну на Запад...
– Но ненадолго.
– Ненадолго...
Они говорили об угрозе войны, как будто были в гостях. А сроки мобилизации? Армия прикрытия? На Дальнем Востоке необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод; надо в срочном порядке развить сеть дорог в районе Комсомольска. Новый железнодорожный путь в Якутии действительно закончен? А как он перенёс испытание морозом?
– Нам приходится считаться с возможностью значительных потерь вооружённых сил... – сказал, откашлявшись, Попов. «Вся наша молодёжь», – подумал Рублёв, который любил смотреть на шествия спортсменов, а на улицах часто провожал взглядом крепких юношей, порождённых русской землёй: сибиряков с широкими носами и удлинёнными глазами под упрямым лбом; плосколицых азиатов, монголов; у некоторых из них, потомков цивилизованных рас, культура которых гораздо древнее культуры белой расы, были удивительно тонкие черты лица... Их сопровождали молодые девушки, все они шагали рядом, плечом к плечу... (Этот образ был, быть может, навеян кинофильмами.) «И все они, шли сквозь рушащиеся города, над ними проносились самолёты, наши новые квадратные железобетонные здания, построенные голодными пролетариями, превращались в пылающие остовы, – и все эти юноши, все эти девушки, миллионы молодых, в конце концов оказывались в страшных ямах, в санитарных поездах, в полевых госпиталях, где стоял запах гангрены и хлороформа... и, конечно, у нас не хватит анестезирующих средств, и в наших госпиталях они будут медленно превращаться в трупы...»
– Нельзя думать образами, – сказал он вслух, – это невыносимо.
– Да, правда, невыносимо, – подтвердил Попов.
Рублёв чуть не воскликнул: «Как, вы ещё тут? Чего вы тут торчите?» – но Попов его предупредил:
– В течение первого года могут быть потери в несколько миллионов человек... мы должны с этим считаться. Поэтому... М-м... Политбюро приняло малопопулярную меру: запрещение абортов. От этого страдают миллионы женщин. Мы теперь ведём счёт только на миллионы. Нам нужны миллионы детей, теперь же, какая бы ни была в стране нужда, чтобы возместить потери миллионов молодых людей... M-м... А вы тем временем чего-то тут пишете... к чёрту ваши писания, Рублёв, ваша мелочная борьба с партией... И колено, и челюсть – всё сразу...
– Какая челюсть?
– Верхняя... Тут болит, там болит... Рублёв, партия вас просит... партия приказывает... партия, не я...
– О чём просит? Что приказывает?
– Вы это знаете не хуже меня... Не моё дело входить в подробности... Уж вы там сговоритесь со следователями... Они сценарий . знают... им за то и платят... M-м... Есть и такие, что сами этому верят – молодые, глупые. Не завидую обвиняемым, которые попадают им в лапы. M-м... Вы всё ещё не согласны? Вас посадят в зал, набитый народом, там будут дипломаты, официальные шпионы, иностранные корреспонденты, те, которым мы платим, и те, которые получают деньги с двух или с трёх сторон, всё это – сволочь, падкая на такие дела... Вас посадят перед микрофоном, и вы скажете, например, что несёте моральную ответственность за убийство Тулаева... или что-нибудь другое, уж я не знаю... И вы это скажете, потому что прокурор Рачевский заставит вас повторить это слово в слово, и не один раз, а десять... M-м... Он терпелив, Рачевский, как мул... паршивый мул... Вы скажете то, что вам прикажут, потому что вы сами знаете – у вас нет выбора: или повиноваться, или предать партию. Иначе вам придётся перед тем же микрофоном опозорить и Верховный суд, и партию, и Вождя, и СССР – словом, всё и вся, чтобы заявить, что вы невиновны... ах, чёрт, – моё колено... – и хороша она будет в эту минуту, ваша невиновность...
Рублёв молча ходил взад и вперёд по потемневшей камере. Этот голос, то преодолевавший бормотание, то вновь тонувший в нём, осыпал его тёмными словечками, не все они доходили до него, но у него было впечатление, что он идет по плевкам, на него дождём сыпались серые плевки, и ему нечего было ответить Попову – ответ ни к чему бы не привёл: «Значит, накануне войны, перед лицом такой опасности, вы уничтожили кадры, обезглавили армию, партию, промышленность – идиоты вы и преступники?»
Но если б он это прокричал, Попов ответил бы: «Ох, моё колено... M-м... Да, вы, может быть, правы, но разве вам от этого легче? Мы – власть, но и мы ничего тут поделать не можем... И ведь вы не повторите того, что только что сказали, перед мировой буржуазией? Ведь верно? Даже чтобы отомстить за вашу драгоценную голову, которую скоро расколют, как орех?..» Гнусный тип, но как выбраться из этого заколдованного круга, как?
На Попове была старая куртка и помятые брюки. Сложив руки на груди, он продолжал говорить, перемежая речь короткими паузами. Рублёв остановился перед ним, будто впервые его увидел. И он обратился к нему на «ты», не без грусти в голосе:
– Ты, брат Попов, похож на Ленина. Это поразительно... Не двигайся, не меняй положения рук... Только не на живого Ильича, совсем нет. Ты похож на его мумию... (Он разглядывал Попова с задумчивым, но напряжённым вниманием.) Да, ты похож на него, только ты сделан из заплесневевшего камня... ты вроде мокрицы... Твой шишковатый лоб, несчастная твоя бородёнка... бедный, бедный старик!
Искренняя жалость прозвучала в его голосе. Попов тоже смотрел на него с острым вниманием. У него был затуманенный, но и проницательный – опасный – взгляд.
– ...Несчастная ты сволочь, старая тряпка... Циничный и зловонный ты – эх!
Рублёв отвернулся с выражением отчаяния и отвращения и опять пошёл к двери. Камера показалась ему слишком тесной. Он подумал вслух:
– И вот этот червяк принёс мне весть о войне!
За его спиной послышалось недружелюбное шепелявое бормотание:
– Ильич говорил, что и тряпка всегда в хозяйстве пригодится... M-м... Немножко грязная тряпка, конечно, – это в её природе... Мне что, я не возражаю... M-м... Я не индивидуалист... В Библии сказано, что живая собака лучше мёртвого льва.
Встав, Попов начал укладывать бумаги в портфель, потом не без труда натянул пальто. Рублёв не вынимал рук из карманов, не помогал ему. Он пробормотал про себя:
– Живая собака или издыхающая зачумленная крыса?
Попову пришлось пройти перед ним, чтобы ему открыли дверь. Они не попрощались. Прежде чем переступить через порог, Попов нахлобучил кепку, лихо заломил её, поднял козырек, так, семнадцати лет, на пороге своих первых тюрем, в эпоху революционного энтузиазма, он любил придавать себе хулиганский вид. Стоя в обрамлении металлической двери, грудью касаясь квадратного зубчатого запора, он обернулся, поглядел прямо заблестевшими, ещё выразительными глазами:
– До свиданья, Рублёв. Мне вашего ответа не надо. Я и так знаю, что хотел узнать. M-м.,. В сущности, мы с вами во всём согласны. (Он понизил голос из-за надзирателей, стоявших за дверью.) Конечно, это тяжело... M-м... И для меня тоже... Но... партия вам доверяет.
– Убирайся ко всем чертям!
Попов сделал два шага по направлению к Рублёву и сказал уже без всякого бормотания, как будто рассеялся вдруг унылый туман, нависший над его жизнью:
– Что мне передать от тебя ЦК?
И Рублёв, в свою очередь выпрямившись, твёрдо ответил:
– Что я всегда жил только для партии, – даже больной и опустившийся. Что вне её у меня нет ни помыслов, ни сознания. Что я верен партии, какая бы она ни была, как бы ни поступала. Что если я должен погибнуть от руки моей партии – я на это соглашаюсь. Но я предупреждаю убивающих нас, что они убивают партию.
– До свидания, товарищ Рублёв.
Дверь за ним закрылась, хорошо смазанный запор мягко скользнул в задвижку. Стало почти совсем темно. Рублёв изо всей силы ударил кулаком в дверь этого склепа. В коридоре послышались поспешные приглушённые шаги, открылось окошечко:
– В чём дело, гражданин?
Рублёву казалось, что он кричит громовым голосом, на самом же деле у него вырвался лишь раздражённый шёпот:
– Дайте свет!
– Шш... Тсс... Сейчас, гражданин.
Зажглась электрическая лампочка.
Рублёв встряхнул подушку, на которой от головы посетителя осталось углубление. «Он низок, Дора, он гнусный тип, я бы охотно столкнул его в пропасть, чтобы он там навеки исчез, чтобы никогда не выплыли на поверхность ни его кепка, ни портфель с секретными бумагами... А потом я ушёл бы с облегчённой душой, и ночной воздух показался бы мне чище... Дора, Дора...» Но Рублёв сознавал, что вялые руки Попова тихонько подталкивали к пропасти его самого. «Диалектика взаимоотношений общественных сил в эпоху реакции...»
Для многих отделов Гепеу ссыльный Рыжик был неразрешимой загадкой. Что прикажете думать о машинисте, который вышел невредимым из тридцати железнодорожных крушений? Из товарищей, боровшихся вместе с ним, ни одного не осталось в живых. Для него уже десять лет, с 1928 года, тюрьма была надёжной защитой. Целый ряд случайностей (так иногда из уничтоженного батальона выживает один-единственный солдат) спас его от больших процессов, от секретных инструкций, даже от «заговора тюрем». В ту эпоху, когда открылся этот заговор, Рыжик жил в полном одиночестве, под неусыпным надзором, в каком-то колхозе на среднем Енисее; во время следствия, когда он мог оказаться одним из опаснейших политических свидетелей, из тех, которые немедленно попадают в обвиняемые из-за их несомненной моральной солидарности с прочими, он находился в совершенно секретном беломорском изоляторе.
В его деле было столько подозрительных элементов, что поведение руководителей чисток казалось необъяснимым, – но Рыжика спасала самая исключительность его положения: власти предпочитали не трогать его во избежание большой ответственности. В конце концов к этому странному «делу» привыкли; у некоторых начальников отделов появилось даже смутное убеждение, что этот старый троцкист находится под чьей-то тайной и высокой протекцией. О таких прецедентах ходили неопределённые слухи.
Прокурор Рачевский, заместитель народного комиссара госбезопасности Гордеев и Попов, делегированный ЦК в контрольную следственную комиссию по особо важным делам, приказали подчинённым отделам прибавить к делу Ершова, Макеева и Рублёва (убийство тов. Тулаева) дело какого-нибудь влиятельного, то есть подлинного троцкиста, независимо от его политической позиции. Вопреки мнению Флейшмана, Рачевский считал, что на этот раз можно было бы позволить обвиняемому публично отрицать свою вину: процесс показался бы за границей более убедительным. Прокурор был уверен, что изобличит обвиняемого с помощью свидетельств, которые нетрудно будет подготовить. Попов небрежно заметил, что при составлении приговора можно будет, если Политбюро найдёт это нужным, учесть протест обвиняемого: произведёт хорошее впечатление. Зверева вызвалась подобрать свидетельства, которые уничтожили бы все отрицания никому ещё не ведомого преступника. «У нас такая масса материала, – сказала она, – а заговор так разветвлён, что о сопротивлении не может быть и речи. Индивидуальной невиновности не существует. Вина всех этих контрреволюционных паразитов – коллективная». После долгих поисков в картотеке обнаружили несколько карточек, из которых одна в совершенстве отвечала намеченной цели: это была карточка Рыжика. Попов изучил его «дело» с осторожностью эксперта, оказавшегося перед взрывчатым веществом неизвестного происхождения. Случайности, объяснявшие, каким образом выжил этот старый оппозиционер, представились ему в их строгой последовательности. Рыжик: бывший рабочий трубопрокатного завода Гендриксона на Васильевском острове в С.-Петербурге; член партии с 1906 года, сослан на Лену в 1914 году, вернулся из Сибири в апреле 1917-го, после Апрельской конференции несколько раз говорил с Лениным, во время гражданской войны – член Петроградского комитета, в 1920-м выступил в защиту рабочей оппозиции, но не голосовал за неё. Комиссар дивизии во время похода на Варшаву, работал со Смилгой (членом ЦК), с Раковским, членом украинского правительства, с командармом Тухачевским – с тремя врагами народа, которых слишком поздно (в 1937-м) ликвидировали... Исключён из партии в 1927-м, арестован в 1928-м, сослан в Минусинск, приговорён Особым совещанием при НКВД к трёхлетнему заключению, направлен затем в тобольский изолятор. Стал там во главе так называемых «непримиримых», выпустивших рукописный журнал «Ленинец» (при сём прилагаются четыре номера). В 1932-м Особое совещание увеличило его срок на три года, на что он ответил: «По мне, хоть на десять: я очень сомневаюсь, что вы продержитесь у власти больше шести месяцев». Написал «Открытое письмо о голоде и терроре», адресованное ЦК. Отрицал теорию государственного капитализма, поддерживал теорию советского бонапартизма. Освобождён в тридцать четвёртом году после восемнадцатидневной голодовки. Сослан в Чёрное, там арестован («дело троцкистского Центра ссыльных»). Привезён в Москву, в Бутырки, на допросах отказался отвечать, дважды объявлял голодовку; переведён в больницу (сердечная недостаточность). «Сослать в самые отдалённые места... Запретить переписку...» На 224 страницах его дела упоминалось около сотни имён, и всё это были страшные имена людей, которых покарал меч партии. Теперь Рыжику было шестьдесят пять лет. Опасный возраст: воля в последний раз напрягается или же внезапно сдаёт. Попов решил:
– Привезти его в Москву. Поездку обставить прилично.
Рачевский и Гордеев ответили:
– Ну, ясно!
Для Рыжика, жившего в глубине равнодушной пустыни, настали удивительные дни. Из пяти домов, составлявших поселок по имени Дыра, он занимал самый последний, построенный, как и другие, из нетёсаного сплавного леса. Там, где стоял поселок, сливались две ледяные, затерявшиеся в пространстве речки. Пейзаж был бескрайний, однообразный. В начале ссылки, когда он писал ещё письма, Рыжик называл это место «Берегом небытия». Он ощущал себя там на границе человеческого мира, на краю огромной могилы. Большая часть его писем никуда, конечно, не доходила, и ответов он ниоткуда не получал. Писать отсюда – было всё равно что кричать в пустыне. Рыжик и кричал порой, чтобы услышать звук собственного голоса: на него находила тогда такая отчаянная тоска, что он принимался крыть громкой руганью торжествующую контрреволюцию: «Подлецы! Пролетарскую кровь пьете, термидорианцы!» Каменистая пустошь отзывалась на его крик слабым эхом, и только незамеченные Рыжиком вспугнутые птицы разом взлетали; их испуг передавался другим стаям, они заполняли вдруг ожившее небо, – и тогда нелепый гнев Рыжика утихал; размахивая руками, он мелкими шажками бежал вперёд, пока не останавливала его одышка: сердце билось слишком сильно, и на глазах выступали слёзы.
Пять семейств рыбаков-раскольников, родом из России, но уже целиком усвоивших навыки остяков, жило там однообразной жизнью. Мужчины были коренасты и бородаты; у женщин-коротышек были плоские лица, испорченные зубы и маленькие живые глазки под тяжёлыми веками. Они редко разговаривали между собой, редко смеялись; от них пахло рыбьим жиром. Работали они неторопливо: чистили сети, привезённые сюда ещё их дедами во времена царя Александра, сушили рыбу, заготовляли безвкусную пищу на зиму, чинили свою одежду, сшитую из выцветшего старого сукна. Уже в конце сентября унылая белизна заволакивала плоский горизонт.
Рыжик жил у одной бездетной четы, не любившей его за то, что он никогда не крестился (делал вид, что не замечает иконы). У них были потухшие глаза, они никогда с ним не говорили, – казалось, от них исходит молчание бесплодной земли.
Они проводили дни в дыму разваливающейся печурки, топили её тощими ветками. Рыжик занимал в этом доме чулан с окошечком, на три четверти заткнутым тряпками. Главным богатством Рыжика была небольшая чугунная печка, доставшаяся ему от другого ссыльного, его предшественника; труба её выходила в верхний угол окошечка. Рыжик мог топить свой угол, только нужно было самому ходить за топливом в кустарники, по ту сторону речки Бездольной, в пяти километрах вверх по течению. Другим завидным богатством Рыжика были стенные часы, на которые приходили иногда взглянуть соседи. Когда какой-нибудь охотник-ненец проходил этой равниной, ему рассказывали, что тут живёт человек, наказанный властью, и что у него есть машина, которая поёт, никогда не останавливаясь, о невидимом времени. Ходики действительно упорно и неустанно грызли вечное молчание. Рыжик любил их, потому что почти целый год прожил без часов, в абсолютном времени, в неподвижном безумии.
Из своего молчаливого дома Рыжик уходил иногда бродить по пустоши. Там белёсые скалы пробивались на поверхность земли; взгляд Рыжика жадно цеплялся за хилые редкие кусты ржавого или ядовито-зелёного оттенка. Рыжик кричал: «Времени нет! Ничего нет!», но пространство поглощало слабый звук его голоса.
Группе енисейских ссыльных удалось как-то прислать ему по случаю годовщины Октябрьской революции несколько подарков, среди которых он нашёл спрятанное послание: «Тебе, вернейшему из верных, тебе, пережившему почти всю старую гвардию, тебе, отдавшему жизнь делу всемирного пролетариата...» В коробке оказались неслыханные богатства: сто граммов чая и эти ходики (такие продавались в городских кооперативах за десять рублей). Не важно было, что они за сутки уходили на час вперёд, если забывали подвесить к гире перочинный нож. Рыжику и Пахомову никогда не надоедало обмениваться такой шуткой.
– Который час?
– Четыре.
– С ножиком или без?
Хозяин дома и его жена пришли как-то к нему полюбоваться чудом. Хозяин поглаживал свою жёсткую бороду, жена его стояла, сцепив руки в рукавах вязаной кофты. Глядя на чудо, они произнесли одно-единственное, но полное значения слово, шедшее, казалось, из самой глубины их душ (и откуда они его знали?).
– Красиво, – сказал он, покачивая головой.
– Красиво, – повторила за ним жена.
– Когда обе стрелки встречаются вот тут, – объяснил Рыжик, – то днём это полдень, а ночью – полночь.
– Слава Богу, – сказал муж.
– Слава Богу, – сказала жена.
И, перекрестившись, они ушли тяжёлой походкой пингвинов.
Пахомов, сотрудник госбезопасности, жил в километре от Рыжика и занимал самую удобную (реквизированную) комнату в самом лучшем доме, перед которым росли три единственные в поселке сосны.
Представитель власти в этом крае, по величине равном некоторым европейским странам, Пахомов обладал немалыми богатствами: кушеткой, самоваром, шахматной доской, гармонью, разрозненными томами Ленина, газетами за прошлый месяц, водкой, табаком. Чего ещё человеку надо? Лев Николаевич Толстой, хоть и дворянин и мистик, то есть отсталый гражданин, правильно высчитал, сколько жадному человеку земли нужно: 180 см в длину да ,40 см в ширину да около метра в глубину – для приличной могилы... «Ведь верно?» – спрашивал Пахомов, не сомневаясь в вашем ответе. Он не лишён был горького, не беззлобного юмора.
Ему ведено было надзирать за Рыжиком, а он питал к своему ссыльному сдержанную, но тёплую симпатию, от которой в его пытливых глазах загорался робкий огонёк. Он говорил Рыжику:
– Приказ, брат, есть приказ, мы народ подневольный, больше ничего. Понимания от нас не требуется, наше дело – повиноваться. А я что ж? Я человек маленький. Партия – это партия, не мне вас судить. У меня и совесть есть, тоже маленькая, потому человек – животное с совестью. Я ведь вижу, что ты чист. И вижу, что ты подыхаешь за мировую революцию. Ну, а если ты ошибся, если она не придёт, если надо строить социализм в одной стране, на наших косточках, тогда, ясно, ты – опасный человек, Тебя надо изолировать. Ничего не поделаешь. У каждого из нас свой долг и в этой дыре, и на полюсе... А я всё-таки рад, что ты тут со мной.
Он никогда не напивался допьяна, может быть, потому, что боялся за свою бдительность, а может быть, из уважения к Рыжику, который пил очень мало, только чтобы душу согреть, и опасался атеросклероза. Он так и объяснил Пахомову:
– Хочу ещё сохранить на некоторое время способность мыслить.
– Совершенно верно, – сказал Пахомов.
Когда Рыжику надоедали голые стены его чулана, он приходил к своему надзирателю. На лице Пахомова, в его губах и морщинах застыла смиренно-недоверчивая гримаса; казалось, ему хотелось плакать, но он удерживался. У него была обветренная кожа, рыжие глаза, вздёрнутый нос; в скупой улыбке он показывал рыжеватые обломки зубов.
– Музыку хочешь? – спрашивал он Рыжика, растянувшегося на кушетке в натопленной комнате.
– Дай-ка мне стаканчик.
Прежде чем выпить, Рыжик закусывал солёным огурцом.
– Ну, играй!
Из своей гармони Пахомов вытягивал и душераздирающие жалобы, и весёлые нотки – иногда хотелось пуститься в пляс.
– Вот послушай – это я играю для девок из нашей деревни. Ну-ка, спляшите ещё, девчата! Марфа, Надька, Танька, Варька, Василиса! Пляшите, ясноглазые! Эй – гоп!
Комната наполнялась движением, радостью, тоской... А за стеной, в вечной полутьме, сгорбившаяся старуха одеревеневшими пальцами распутывала рыбачьи сети, молодая женщина с желтоватым круглым и кротким лицом возилась у огня; девочки бросали работу и, неловко обнявшись, принимались кружиться на месте, между столом и печкой. Чёрный бородатый лик святого Василия, освещённый снизу огарком, со строгим осуждением смотрел на это странное, хоть и невинное веселье. В жилах старухи, в жилах молодой женщины билась ожившая кровь, но ни та, ни другая не произносили ни слова: казалось, эта музыка их пугала. Олени в загороженном закутке тоже поднимали головы, тревога зарождалась в их стеклянных глазах, и они вдруг принимались бегать от одной ели к другой. Волшебные звуки растворялись в белом пространстве. Рыжик слушал музыку с лёгкой улыбкой. Пахомов старался выжать из своего инструмента самые яркие ноты, как будто хотел бросить в пустоту последний пронзительный крик – ещё и ещё! – и, добившись своего, бросал гармонь на постель.
Тотчас же беспощадная тишина обрушивалась, как тяжкий груз, на оленей, на дом, на женщин и детей. Старуха, разбиравшая на своих коленях порванные сети, думала: уж не от лукавого ли эта музыка? – и её губы ещё долго шевелились, она бормотала заклинания, сама уже не помня почему.
– Хорошо будет жить на земле лет через сто, – сказал как-то Пахомов в такую минуту.
– Через сто лет? – Рыжик мысленно взвесил эти слова. – Я не уверен. Этого, пожалуй, мало.
Иногда они брали ружья и шли на охоту по ту сторону речки Бездольной. Пейзаж там был удивительно простой: круглые, белые скалы вздымались до самого горизонта, очертаниями напоминая окаменевших, оледеневших великанов, застигнутых потопом. Кусты протягивали вперёд хрупкие сплетения своих ветвей.
После часа ходьбы и лазанья по скалам здесь нетрудно было и заблудиться. Звери попадались им редко, они чуяли опасность и не давали захватить себя врасплох; приходилось их выслеживать, часами поджидать в снегу. Охотники передавали друг другу фляжку с водкой. Рыжик восхищался лёгкой голубизной неба. Ему случалось говорить своему спутнику странные вещи:
– Посмотри-ка на небо, приятель: на нём будут чёрные звёзды.
И такие слова, сказанные после долгого молчания, сближали их, и Пахомов им не удивлялся.
– Да, брат, – отвечал он, – Большая Медведица и Полярная будут чёрные. Да, я видел это во сне...
После утомительного дня, совершенно окоченевшие, они пристрелили наконец огненно-рыжую остромордую лисицу. Вид мёртвого животного, лежавшего на снегу, особенно его оскаленных зубов, вызвал у обоих неприятное ощущение, но они не сказали этого вслух. Потом, не испытывая особого удовлетворения, они пустились в обратный путь. Два часа спустя, когда они в бледных сумерках скользили на лыжах по белым склонам навстречу алому солнцу, Пахомов остановился, поджидая Рыжика. Видно было, что он хочет что-то сказать.
– Человек – злое животное, брат, – пробормотал он.
Рыжик, не отвечая, перегнал его. Лыжи несли его сквозь волшебный пейзаж. Прошло ещё несколько часов. У Рыжика от холода заболела поясница, ему чуть не стало дурно. Подождав, в свою очередь, Пахомова, он сказал:
– А всё-таки, брат... – У него пресеклось дыхание, но он собрался с силами и докончил: – ...мы переделаем человека.
В ту же минуту он подумал, что это – его последняя охота. Слишком стар. Прощайте, звери, которых я не убью! Один из последних, жестоких и обольстительных ликов жизни уходит от меня. Другие закончат начатое нами... Прощайте!
После этого Рыжик несколько дней пролежал на своей шубе у тёплой печки под грызущими время ходиками. Пахомов приходил его навещать. Они играли в карты, в несложную игру, сводившуюся к надувательству. Большей частью выигрывал Пахомов.
– Понятное дело, – говорил он, – я ведь немножко жулик.
Так проходила их жизнь в долгой полярной ночи. Почту привозили на санях раз в месяц; Пахомов заранее готовил доклад о своём ссыльном.
– Скажи, брат, что мне о тебе написать-то?
– Напиши, – говорил Рыжик, – что я их бюрократическую контрреволюцию посылаю ко всем чертям.
– Они это и сами знают, – говорил Пахомов. – Только ты зря мне такое говоришь. Я человек подневольный. Незачем тебе меня обижать.
Всегда наступает день, когда что-то кончается. Предугадать его никому не дано, хотя каждый знает, что день этот неизбежен. Тишина, белизна, вечный Север будут длиться всегда, то есть до конца света, а может быть, и дольше, кто знает? Но в один прекрасный день Пахомов вошёл в чулан, где Рыжик перечитывал старые газеты, полные ужасов, рассеянных по их столбцам как туман. Сотрудник госбезопасности казался более, чем обычно, рыжим, бородка его скосилась, глаза поблескивали:
– Мы с тобой уезжаем, брат. Распрощаемся с этой паршивой дырой. Собирай-ка своё барахлишко! Велено мне отвезти тебя в город.
Рыжик устремил на него застывший взгляд холодных глаз.
– Чего это ты? – посочувствовал Пахомов. – Или не рад?
Рыжик пожал плечами. Рад? Рад умереть? Здесь или в другом месте? Он почувствовал, что у него больше не оставалось сил – ни для перемен, ни для борьбы, ни даже для мысли о борьбе, что он не знал больше ни страха, ни надежды, что он был ещё смел по инерции...
В тот день лёгкие серебристые отблески прорезывали низкое небо; из пяти домов вышли люди проводить их. На руках у матерей были закутанные в меха маленькие дети. Тридцать небольших фигурок собралось вокруг саней на матовой снежной белизне. Мужчины давали уезжающим советы и проверяли упряжь оленей. В час отъезда Пахомов и Рыжик приобретали в глазах провожающих реальность, которой у них не было накануне, и люди сознавали это не без волнения. Они уезжали в неизвестное, всё равно что на смерть, один из них сторожил другого, вез его не то на волю, не то в тюрьму, – один Бог знал куда. Наконец Эйно, приехавший за мехом и рыбой, увозил их в своих санях. Одетый в волчьи шкуры, тёмноголовый, с косым разрезом глаз и редкой растительностью на лице, он был похож на монгольского Христа. Его унты, рукавицы и шапка были украшены зелёными и красными лентами. Он засунул в ворот редкую жёлтую бородку, внимательным взглядом обвел бескрайнее небо и землю, щёлкнул на оленей языком. Закутавшись в шкуры, Пахомов и Рыжик улеглись рядом в санях. Они везли с собой сухари, сушёную рыбу, водку, спички, концентрат алкоголя для спиртовки.
Олени подпрыгнули на месте и стали неподвижно.
– Ну, с Богом, – сказал кто-то.
– Нам без него сподручнее, – ответил, смеясь, Пахомов.
Рыжик пожал протянувшиеся к нему, руки. Среди них были и старые – мозолистые, заскорузлые, – и сильные, молодые, и совсем маленькие, изящной формы.
– Прощайте, прощайте, товарищи.
Мужчины и женщины, ещё вчера не любившие его, ответили:
– Прощай, товарищ Рыжик, счастливого пути, – и ласково на него смотрели.
Их взгляды проводили сани до самого горизонта.
Олени, разбежавшись, летели вперёд. Вдалеке показался дремучий лес; издали можно было различить его фиолетовые тона. Над ним светилось небо в серебряных кружевах. Эйно правил оленями, наклонившись вперёд. Радуга снежной пыли окружала сани.
– Вот хорошо, что уехали, – радостно повторял Пахомов, – надоела мне эта Дыра до чёрта, скорей бы в город!
Рыжик подумал, что обитатели Дыры, наверно, никогда и никуда не уедут, а сам он никогда не вернётся ни сюда, ни в Чёрное, ни в знакомые ему города, а главное – никогда не вернётся эпоха могущества и победы. Бывают в жизни минуты, когда даже после полного поражения не теряешь надежды. Живёшь за решёткой тюрьмы и знаешь, что революция настанет, стоишь под виселицей и знаешь, что перед тобой весь мир. Будущее безгранично. Но если у человека нет больше будущего, тогда каждый отъезд – последний. Сопоставляя факты и сведения, Рыжик догадывался о цели этой поездки. Впрочем, его решение было принято давно, и он чувствовал себя внутренне свободным. От холода у него заломило поясницу. Рыжик выпил глоток водки, прикрыл лицо мехом и незаметно для себя крепко заснул.
Когда он проснулся, стояла глубокая ночь. Сани быстро скользили по снежной пустыне. Ночь была прозрачно-зелёная, мерцали бледные звёзды, и их блеск, голубой, как молния, отливал в леденисто-зелёный. Бесчисленные звёзды, несмотря на их видимую неподвижность, казалось, вот-вот сорвутся вниз, вспыхнут на земле огромным пожаром. В мельчайших снежных кристалликах отражался чуть видимый, но непобедимый звёздный свет. Только там, в звёздах, была единственная, абсолютная истина.
Эйно сидел впереди, сгорбившись, но не спал. В движении его плеч был ритм летящих саней, ритм вращающейся земли. За его плечами то исчезали, то вновь являлись целые созвездия.
Рыжик увидел, что и его спутник не спит. Глаза его были открыты шире обычного, зрачки золотились; он вдыхал в себя светящуюся прелесть ночи.
– Ну как, Пахомов?
– Ничего. Мне хорошо. Ни о чём не жалею. Чудесно!
– Чудесно!
Скольжение саней убаюкивало их; оба пригрелись. Лёгкий мороз пощипывал их губы и ноздри. Они плыли в сияющую ночь, ощущая себя невесомыми, оставив за собой скуку, усталость, кошмары, освободившись от самих себя. Каждая, самая далёкая, почти неразличимая звезда была совершенством, была единственной, хотя в этом бескрайнем сиянии у неё не было ни имени, ни очертания.
– Я как пьяный, – пробормотал Пахомов.
– А у меня в уме всё ясно, – ответил Рыжик, – но это то же самое. – И подумал: «Это вселенная ясна».
Это состояние длилось несколько минут или несколько часов.
Вокруг самых ярких звёзд, когда они смотрели на них не отрывая глаз, возникал широкий, лучистый ореол.
– Мы – за пределами материи, – сказал один.
– За пределами радости, – пробормотал другой.
Олени весело бежали по снежной глади навстречу далёким звёздам, к самому горизонту. Сани с головокружительной быстротой слетали вниз по склонам, потом с разбега поднимались вверх, и в этом движении был песенный ритм. Пахомов и Рыжик задремали, но чудо продолжалось и во сне, чудо продолжалось и наяву, когда они проснулись на заре: до зенита поднимались световые перламутровые колонны.
Рыжик вспомнил: ему приснилось, что он умирал. Это не было ни страшно, ни горько, но просто, как конец ночи: сияние вселенной, сияние звёзд и солнц, далёкое сияние любви без конца лилось на мир, – и, в сущности, ничего не было потеряно.
Пахомов повернулся к нему со странными словами:
– Рыжик, ведь существуют города... Просто невероятно!
Рыжик ответил:
– Существуют и палачи. – И как раз в эту минуту удивительные краски разгорелись на небе.
– Что ж ты меня обижаешь? – сказал Пахомов с упреком после долгого молчания.
Теперь вокруг них всё стало совершенно белым.
– Да я не о тебе думал, брат, а о правде, – сказал Рыжик.
Ему показалось, что Пахомов плачет без слёз и что лицо его почернело, хотя сани неслись сквозь необыкновенную белизну.
«Если это твоя чёрная душа хлынула тебе в лицо, бедняга Пахомов, – ну что ж, пусть она пострадает на утреннем холоде, а если подохнет – туда и тебе дорога. Тебе нечего терять».
Они сделали привал под высоким красным солнцем, чтобы напиться чаю, размять ноги, позволить оленям поискать мох под снегом. Когда чайник запел на спиртовке, Пахомов выпрямился, точно готовясь к бою. Рыжик стоял перед ним, расставив ноги, засунув руки в карманы: он был счастлив без слов.
– Откуда ты знаешь, товарищ Рыжик, про жёлтый конверт?
– Какой жёлтый конверт?
Они стояли и глядели друг другу в глаза. Слышно было, как шагах в тридцати Эйно дружески разговаривал со своими оленями, может быть, напевал что-то...
– Так ты не знаешь? – сказал поражённый Пахомов.
– Ты что, приятель, бредишь?
Они пили чай маленькими глотками, и это жидкое солнце наполняло всё их существо. Пахомов заговорил отяжелевшим голосом:
– Жёлтый конверт секретного отдела... Он у меня в куртке зашит. Я её, когда спать ложился, под себя клал. Никогда с ней не расставался. Тут он, жёлтый конверт, у меня на груди. Что в нём – мне не сказали, и я без приказа, письменного или зашифрованного, не имею права его открывать... Только я всё равно знаю, что в нём: приказ тебя расстрелять. Понимаешь, в случае мобилизации или контрреволюции, если власть решит, что тебе больше не жить... Он мне часто спать не давал, этот конверт. Я о нём думал, когда мы вместе выпивали... Когда я видел, как ты ходил за дровами к Бездольной... Когда я тебе цыганские песни играл... А когда показывалась чёрная точка на горизонте, думал про себя: что-то мне, маленькому человеку, принесёт эта проклятая почта? Ведь я, понимаешь, человек долга. Вот и всё.
– Вот оно что, – сказал Рыжик. – Я об этом и не подумал. А мог бы сам догадаться.
Они сыграли оригинальную партию в шахматы. Шахматная доска покрылась белой пылью из тонко вырезанных кристалликов. Рыжик и Пахомов после каждого хода большими шагами шли к скале, на которой лежал тонкий слой снега; отпечаток их подошв был похож на круглые следы огромных животных. Они переставляли фигуры и вновь уходили, не то раздумывая, не то мечтая о чём-то; казалось, далёкий горизонт влек их к себе. Эйно, присев на корточки рядом с доской, мысленно разыгрывал обе партии; на лице его было сосредоточенное выражение, губы беззвучно шевелились. Даже олени неторопливо вернулись к саням, – и они тоже смотрели большими непроницаемыми глазами на таинственную доску, которую поземка совсем занесла снегом. Белые и чёрные квадраты превратились в абстракцию, но и в этом абстрактном мире логические силы разума продолжали вести между собой борьбу.
Пахомов, которого восхищала остроумная стратегия Рыжика, как обычно, остался в проигрыше.
– Я не виноват, что выиграл, – сказал Рыжик, – тебе придётся ещё не один раз проиграть – пока поймёшь.
Пахомов промолчал.
Ослепительная дорога привела их в край, где росли тощие кусты, где пласты жёлтой травы местами выбивались из-под снега. Одинаковое волнение охватило всех троих, когда они увидели следы колёс на дороге. Эйно пробормотал про себя заклинание против дурного глаза. Олени побежали ещё быстрей. Над ними висело серое гнетущее небо. Рыжик почувствовал, что его вновь одолевает тоска, которая составляла основу его жизни – и которую он презирал.
Эйно простился с ними в колхозе, где они сменили оленей на лошадей. Жизнь тут, вероятно, была тускло-однообразной, хотя её освещали зори, проливавшие на землю лазурь.
Местные крестьяне пахали землю молча: они были от природы недоверчивы. И, только напившись водки, оживлялись и принимались распевать бесконечные песни.
Минута расставания настала для Рыжика и Пахомова на единственной улице крупного села, застроенной большими чёрными домами, на пороге Дома Советов (он же и Дом госбезопасности), здания из дерева и кирпича, с широким навесом.
– Ну что ж, – сказал Пахомов, – тут нашему с тобой совместному пути пришёл конец. Мне велено сдать тебя отделению госбезопасности. До железной дороги отсюда недалеко: километров сто. Удачи тебе, брат! Не поминай лихом.
Чтобы не услышать последних слов, Рыжик сделал вид, что разглядывает улицу. Они обменялись долгим рукопожатием.
– Прощай, товарищ Пахомов, желаю тебе понять – хоть это и опасно.
В комнате отделения госбезопасности двое парней в форме играли в домино на грязном столе. Из потухшей печки несло, казалось, холодом. Один из солдат прочёл бумаги, протянутые ему Пахомовым.
– Государственный преступник, – сказал он товарищу, и оба сурово посмотрели на Рыжика.
Тот почувствовал, что седые пряди на его висках чуть взъерошились, и сказал, показывая в вызывающей улыбке лиловые дёсны:
– Вы, надо думать, читать умеете? Это значит: старый большевик, преданный делу Ленина.
– Знакомая песня. Сколько врагов народа за этим пряталось! Пошли, гражданин.
Не добавив ни слова, они повели Рыжика длинным коридором в тёмный чулан и заперли за ним дверь на замок. Тут пахло кошачьей мочой, воздух был пропитан плесенью, но за перегородкой звучали детские, голоса, и Рыжик с наслаждением прислушался к ним. Он устроился, как мог, на полу: прислонился к перегородке, удобно вытянул ноги. Но его измученное тело невольно застонало: ему хотелось бы растянуться на свежей соломе. По ту сторону мира голос девочки, свежий, как струйка воды на таежных скалах, читал вслух – вероятно, другим детям – «Власа»:
Полон скорбью неутешной,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешной
По селеньям, городам.
Нет ему пути далёкого,
Был у матушки-Москвы,
И у Каспия широкого,
И у царственной Невы.
Ходит с образом и книгою,
Сам с собою говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит...
«И я тоже всё это видел, – подумал Рыжик, – что ж, иди, старик Влас, иди, наш с тобой путь ещё не кончен. Только книги у нас разные...»
В полутьме, измученный усталостью и отвращением, он вспомнил другие стихи Некрасова:
И русский взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...
Как изнурителен был переход с места на место! За Полярным кругом тюрем нет: они появляются одновременно с цивилизацией. Иногда местный Совет использует для этой цели покинутый дом, где никто не хочет жить, потому ли, что он принёс обитателям несчастье, или потому, что требуется слишком большой ремонт. Окна в таких домах заколочены досками, на которых ещё можно прочесть: «Табактрест», в щели хлещет ветер, стужа, сырость, влетает гнус-кровопийца. В надписи мелом на двери «Сельская тюрьма» всегда можно найти одну или две орфографические ошибки. Иногда эта лачуга окружена колючей проволокой. Если там сидит взаперти убийца, или беглый очкарик, пойманный в лесу, или конокрад, или колхозный администратор, которого ищет начальство, к двери приставляют коммуниста лет семнадцати, обычно ни на что другое не годного, и вешают ему на плечо старое ружьё, тоже, конечно, никуда не годное... Зато нет недостатка в старых товарных вагонах, окованных железом и большими гвоздями; вид у этих вагонов гнусный и мрачный: они похожи на старые, выкопанные из-под земли гробы. Но удивительнее всего, что оттуда всегда доносится оханье больных, слабые стоны и даже пение. Эти вагоны, кажется, никогда не пустуют и никогда не доезжают до места назначения. Чтобы их уничтожить, нужны лесные пожары, падение метеоров, разрушение городов...
Два охранника с саблями наголо повели Рыжика по зелёной тропе, по обеим сторонам которой, казалось, весело улыбались белые берёзки, к одному из таких вагонов, стоявшему поодаль между ёлками. Рыжик с трудом подтянулся на подножку; шаткую дверь заперли за ним на замок. От усилия сердце его сильно забилось; он задохнулся в полумраке, в вони звериной норы, стоявшей там, споткнулся о чьи-то тела, нащупал, протянув руки, противоположную стенку вагона, увидел в щель мирный пейзаж и голубеющие ели; потом пристроил свой мешок на полу и сел на мягкую солому. Перед ним в полутьме двигалось десятка два полуголых, худых, как скелеты, тел; он различил несколько измождённых молодых лиц.
– А! – сказал он, справившись с дыханием, – привет, шпана! Привет, товарищи проходимцы!
И он первым делом обратился к этим бездомным мальчишкам, из которых старшему было не больше шестнадцати лет, с хитроумной принципиальной декларацией:
– Если что пропадет из моего мешка – набью морду первым двум, которые попадутся мне под руку. Так или иначе, у меня с собой три кило сушеного хлеба, три банки консервов, две селедки и сахар: казённый паёк. Всё разделим по-братски, но дисциплинированно. Будем сознательны!
Две дюжины оборванных ребят весело защелкали языками, потом все вместе прокричали жиденькое «ура». «Моя последняя овация, – подумал Рыжик, – да по крайней мере – искренняя...» Бритые головы этих мальчишек напоминали ещё не оперившиеся птичьи головки. У некоторых виднелись шрамы на самых костях черепа, и все они тряслись, будто в лихорадке.
Они степенно уселись в кружок, чтобы поболтать с этим загадочным стариком. Некоторые тут же принялись искать вшей. Они щёлкали их на киргизский манер, приговаривая: «Ты меня жрешь, и я тебя жру». Это, говорят, полезно для здоровья. Их отправляли в областной суд за ограбление продовольственного ларька исправительно-трудовой колонии. Они уже двенадцать дней были в пути, причём первые шесть дней – не выходя из вагона; а кормили их девять раз.
– Под дверь ходили, дяденька! Но в Славянске пришёл инспектор, так ему наши ребята подали жалобу во имя гигиены и новой жизни, – и теперь нас выпускают по два раза в день. Из этой глухомани всё равно никуда не сбежишь – ты её видел?
Тот же инспектор – вот молодчага! – велел их немедленно накормить.
– Кабы не он – многие подохли бы, факт. Он, видно, сам через это прошёл, на то похоже было, – иначе никак невозможно...
Они ждали тюрьмы как спасения, но до неё раньше недели не доберёшься: приходится пропускать вперёд поезда со снарядами. А тюрьма образцовая, тёплая, там и одежду дадут, там и радио есть, и кино, баня два раза в месяц – так гласила легенда. Это стоит поездки – а самых старших после суда, может, там и оставят...
Сквозь щель в крыше вагона проник лунный луч, свет его упал на костлявые плечи, отразился в глазах, похожих на глаза диких кошек. Рыжик распределил между всеми сухари и разделил две селедки на семнадцать кусочков. Он слышал, как они жевали, пуская слюни. От весёлого пиршественного настроения луч луны показался ещё прекраснее.
– Вот здорово! – воскликнул тот, которого прозвали Евангелистом, потому что крестьяне-баптисты, или меннониты, его на время приютили, – пока их самих не сослали. Растянувшись во весь рост на полу, он мурлыкал от удовольствия. Пепельный свет ложился на его высокий лоб; под ним Рыжик видел блеск его маленьких, тёмных зрачков. Евангелист рассказал занятную историю: Гришка-сифилитик, парень из Тюмени, вдруг взял да и помер в вагоне, свернувшись клубочком в углу. Товарищи его забеспокоились, только когда от него пошёл сильный дух, – но решили как можно дольше скрывать это обстоятельство, чтобы поделить между собой Гришкину пайку. На четвёртый день не стало сил терпеть; зато они всё же съели лишний кусок. Вот повезло-то!
Кот Мурлыка (он был курносый, в открытом рту блестели маленькие зубки хищника) долго с благосклонным вниманием разглядывал Рыжика – и почти угадал:
– Ты, дяденька, кто будешь: инженер или враг народа?
– А что такое, по-твоему, враг народа?
После смущённого молчания послышались ответы:
– Это которые устраивают железнодорожные крушения... Агенты микадо... Которые в Донецкой области разводят огонь под землёй... Которые Кирова убили... Отравили Максима Горького...
– Я знал одного такого – председателем был колхоза... Он лошадей заговаривал, морил их... Засуху наводил, знал такое слово...
– Я тоже знал одного – вот сволочь был! – начальника исправительной колонии, так он наши пайки продавал на базаре!
– И я тоже, и я тоже...
Все они знавали таких подлецов, во всём виноватых, врагов народа, воров, мучителей, организаторов голода, грабивших осуждённых, – и правильно, что их расстреливают, да мало их расстрелять, им бы прежде глаза выколоть...
– Я б им дырку проделал в животе, вон тут, видишь, Мурлыка, схватил бы кишки и вытянул их, как катушку размотал – их целые метры, – подвесил бы кишки к потолку...
Увлекшись описанием пыток, они оживились и забыли о Рыжике, бледном старике с квадратной челюстью, который слушал их с посуровевшим лицом.
– Братцы, – сказал он наконец, – я старый партизан гражданской войны, и я скажу вам так: много было пролито невинной крови...
– Невинной – это да, верно, верно...
Каждый из них встречал ещё больше жертв, чем подлецов. Да и подлецы иногда оказывались жертвами, – как тут разберёшься?
Они спорили об этом до позднего часа, когда лунный луч исчез в чистой ночи, спорили больше между собой, потому что Рыжик лёг, подложив свой мешок под голову, и уснул. Костлявые тела прижались к нему:
– Ты большой, на тебе одежа, с тобой теплее...
Из заснувшего лунного леса сошло, наконец, на этого старого человека, на этих ребят полнейшее спокойствие, способное, казалось, победить любое зло.
Рыжика везли из тюрьмы в тюрьму, и он был до того утомлён, что потерял способность думать. «Я – камень, который уносит грязным потоком...» Где кончалась в нём воля, где начиналось безразличие? Бывали у него чёрные минуты, когда хотелось плакать от слабости: вот это и есть старость, силы уходят, ум не светит уже, а только мерцает, как те жёлтые фонари, с которыми железнодорожники проходят по путям неизвестной станции. У него болели челюсти – признак начинающейся цинги, – болели все суставы, и после краткого отдыха он с трудом разгибал своё одеревеневшее большое тело, а после десятиминутной ходьбы выбивался из сил. Его заперли в большом бараке вместе с полсотней человеческих отбросов – с крестьянами из так называемых «особых колонистов» и рецидивистами, – и он почти обрадовался, когда у него украли меховую шапку и дорожный мешок. В мешке были ходики, которые он увез с «Берега небытия». Рыжик вышел из барака с непокрытой головой, засунул руки в карманы, выпрямившись. Может быть, ждал только минуты, когда в последний раз выкажет презрение этим анонимным мелким мучителям, которые, в сущности, и того не стоили. Может быть, он сознавал, что возмущаться теперь бесполезно? Все эти охранники, тюремщики, следователи, ответственные работники, новоявленные карьеристы, неучи, головы которых набиты газетными фразами, – что они вообще знали о революции? С этим сбродом у него не было общего языка. Всё написанное нами исчезнет в архивах, которые откроются, только когда недра земли всколыхнутся и разверзнутся под правительственными дворцами. Кому ещё нужен последний крик последнего оппозиционера, раздавленного этой махиной, как заяц – танком? Он мечтал о постели с простынями, с периной, с подушкой, которую можно подложить под затылок, – ведь всё это существует! Наша цивилизация ничего лучше пока не выдумала, и даже социализм не усовершенствует постели. Растянуться бы, заснуть, не просыпаться больше... Ведь все товарищи умерли! Все до единого! Сколько времени понадобится нашей стране, чтобы вырастить новый сознательный пролетариат? Ведь нельзя насильно ускорить процесс созревания, прорастания зёрен в земле, зато можно уничтожить самые зёрна. Но – и в этой уверенности было утешение – уничтожить все зерна, повсюду, навсегда – никому не удастся.
Его изводили вши. В окнах вагонов ему случалось видеть своё отражение: старый, на вид ещё крепкий бродяга... В купе третьего класса его как-то окружили сержант и несколько солдат в тяжёлых сапогах.
Он рад был увидеть людей, но они не обращали на него внимания: мало ли возят заключённых? Судя по конвою, этот старик был опасный преступник, но на преступника вроде и не похож: может, верующий или арестованный священник? Какая-то баба с ребёнком на руках попросила у сержанта разрешения дать арестанту молока и яиц: он на вид совсем больной.
– Христа ради хочу ему подать, гражданин...
– Не разрешается, гражданка, – ответил тот, – отойдите, не то высажу вас из поезда.
– От души благодарю вас, товарищ, – сказал Рыжик бабе таким глубоким и полнозвучным голосом, что все головы в коридоре повернулись к нему.
Сержант, побагровев, вмешался:
– Гражданин, вам строжайше воспрещено обращаться к посторонним с разговорами...
– А мне на это плевать, – мирно ответил Рыжик.
– Молчать!
Один из солдат, лежавший на верхней полке, сбросил на Рыжика одеяло. Началась возня, и, когда Рыжик высвободил голову, он увидел, что коридор опустел. Три солдата загораживали вход в купе и смотрели на Рыжика с ненавистью и страхом. Рядом стоял сержант, следивший за каждым движением арестованного, готовый броситься на него, заткнуть ему рот, связать его, может быть, убить, чтобы он больше ни слова не сказал.
– Дурак, – сказал ему Рыжик прямо в лицо, без гнева, и ему было и смешно, и тошно.
Спокойно облокотившись на окно, он смотрел, как пролетали мимо поля; на первый взгляд они казались серыми и бесплодными, но, всмотревшись, легко можно было различить на них первые зелёные хлебные всходы: эти равнины до самого горизонта были засеяны золотистыми семенами, хилыми и непобедимыми. К вечеру вдалеке показались фабричные трубы под чёрными клубами дыма: поезд шёл теперь по промышленному району Урала. Рыжик узнал очертания гор. «В 1921-м я проезжал здесь верхом, тогда это была пустыня. Нам есть чем гордиться!..»
Маленькая местная тюрьма, куда его привезли, оказалась чистой и светлой, внутри она была, как больница, выкрашена в светло-зелёную краску. Рыжик помылся там в бане, получил смену чистого белья, сигареты, горячий, вполне приличный ужин... Его тело независимо от духа оценило эти маленькие радости: приятно было съесть горячий суп, уловить в нём вкус лука, очиститься от насекомых, удобно растянуться на новом соломенном тюфяке. «Ну, ладно, – шептал ум, – вот мы и в Европе: это последний этап». Но тут его ждал удивительный сюрприз.
В скупо освещённой камере, куда его привели, были две койки, на одной из них кто-то спал... Шум отодвигаемого засова разбудил спящего.
– Добро пожаловать! – приветливо сказал он. Рыжик присел на другую койку. В полумраке оба разглядывали друг друга с внезапно возникшей симпатией.
– Политический? – спросил Рыжик.
– Как и вы, уважаемый товарищ, – ответил тот. – Ведь я угадал? У меня на эти дела развился безошибочный нюх. Верхнеуральский изолятор – или тобольский, а может быть, суздальский, ярославский? Во всяком случае, один из четырёх, в этом я уверен, – а потом, конечно, Крайний Север?
Это был маленький бородатый человек со сморщенным, похожим на печёное яблоко лицом, которое освещали добрые совиные глаза.
Рыжик утвердительно кивнул, не решаясь ещё вполне ему довериться.
– Чёрт побери! Как это вы ещё живы?
– Я и сам не знаю, – сказал Рыжик, – но думаю, что ненадолго. Бородач стал напевать:
Быстры, как волны,
Дни нашей жизни...
Налей, налей, товарищ...
– По правде говоря, не так уж быстро проходит эта неприятная история... Позвольте представиться: Макаренко, Богуслав Петрович, профессор агрохимии Харьковского университета, член партии с 1922 года, исключён в 1934-м за украинский уклон (самоубийство Скрыпника и прочее)...
Рыжик в свою очередь представился:
– ...Бывший член Петроградского комитета, бывший кандидат в члены ЦК... левая оппозиция...
Одеяла бородача взлетели, как крылья, он соскочил с койки в одной рубашке, – у него было воскового оттенка тело, волосатые ноги. Смех и слёзы исказили его комичную физиономию. Жестикулируя, он обнял Рыжика, оторвался от него, опять обнял, остановился наконец посреди тесной камеры, весь, как паяц, подёргиваясь.
– Вы! Это феноменально! В прошлом году во всех тюрьмах обсуждали вашу смерть от голодовки... Обсуждали и ваше политическое завещание... Я его прочёл: очень неплохо, хотя... Вы! Ах, чёрт возьми! Ну, поздравляю: это замечательно!
– Я действительно объявил было голодовку, – сказал Рыжик, – но в предпоследний час передумал: мне казалось, что близится кризис режима... И я не собирался дезертировать...
– Ну, ясно. Это великолепно! Феноменально.
У Макаренки увлажнились глаза, он закурил, вдохнув дым папиросы, закашлялся, прошёл босиком по цементному полу.
– У меня только раз, в канской тюрьме, была такая же замечательная встреча с одним старым троцкистом, которого привезли из секретного изолятора и который, можете себе-представить, понятия не имел ни о процессах, ни о расстрелах. Он стал расспрашивать меня о Зиновьеве, Каменеве, Бухарине... «Ну, как они – пишут? Позволяют им сотрудничать в прессе?» Я сначала отвечал: «Да, да», не решался его сразу огорошить.
«О чём же они пишут?» Я изобразил дурака – теория, знаете, не по моей части. А он в конце концов сказал: «Возьмите себя в руки, дорогой товарищ, и не думайте, что я сумасшедший, – они все умерли, все расстреляны, все – от первого до последнего, – и все они сознались». – «Да в чём же они могли сознаться?» Он обозвал меня лгуном и провокатором, чуть в горло мне не вцепился – ах ты Боже мой, вот была история! Но через несколько дней пришла телеграмма из Центра и его самого, к счастью, расстреляли. Я до сих пор ещё испытываю за него облегчение, когда вспоминаю об этом. Но вы! Это феноменально!
– Феноменально, – повторил Рыжик, прислонившись к стене и ощущая внезапную тяжесть в голове. Его пробирала дрожь.
Макаренко закутался в одеяло, его длинные пальцы поигрывали в воздухе.
– Наша встреча – неслыханное явление. Невообразимая оплошность охраны, фантастическая удача, которой мы обязаны созвездием, утерявшим равновесие. Мы переживаем апокалипсис социализма, товарищ Рыжик. Хотелось бы прожить ещё сто лет, чтобы наконец понять.
– Я-то понимаю, – сказал Рыжик.
– Ну да, конечно – левые тезисы... Я тоже марксист. Но закройте на минуту глаза, прислушайтесь к земле, прислушайтесь к вашим нервам... Вы думаете, я говорю глупости?
– Нет.
Рыжик умел безошибочно расшифровывать (и, может быть, он один на всём свете был на это способен) иероглифы, выжженные калёным железом на теле страны. Он знал почти наизусть фальсифицированные протоколы трёх больших процессов, знал все подробности других процессов, состоявшихся в Харькове, Свердловске, Ташкенте, Красноярске, о которых мир не знал ничего. По сотням тысяч печатных строк, полных бесчисленных выдумок, он различал другие иероглифы, тоже налитые кровью, но беспощадно ясные. И за каждым из них было чьё-то имя, выражение лица, голос – вся история последних двадцати пяти лет. Ответ Зиновьева на процессе в августе 1936 года был связан с фразой, сказанной им во дворе изолятора в 1932 году, а эта фраза – с речью, произнесённой в 1926 году на заседании ЦК, – речью, полной намёков и обдуманных выражений угодливой преданности; и речь, в свою очередь, связывалась с заявлением председателя Коминтерна в 1925 году, с застольной беседой 1923 года, когда впервые обсуждался вопрос о демократизации диктатуры... Нити всего этого уходили в прошлое, к XII съезду партии, к дискуссиям в 1920 году о роли профсоюзов, к теории военного коммунизма, обсуждавшейся в ЦК в эпоху первого голода в стране, к разногласиям, возникшим накануне и после восстания, к небольшим статьям, в которых обсуждались тезисы Розы Люксембург, к возражениям Юлия Мартова, к ереси Богданова...
Если бы Рыжик обладал поэтическим чутьем, его привёл бы в восторг образ мощного коллективного ума, впитавшего в себя тысячи отдельных умов, чтобы за четверть века проделать такую огромную работу. Но, как бы рикошетом собственной победы, этот ум был за несколько лет уничтожен и, быть может, отражался теперь, как в тысячегранном зеркале, только в памяти Рыжика. Угасли могучие умы, изуродованы, окровавлены лица... Даже идеи корчились теперь, как в пляске смерти, тексты приобрели вдруг обратный смысл, безумие уносило безвозвратно людей, книги, даже историю, считавшуюся законченной и зачем-то нелепо искажённую. Один бил себя в грудь и кричал: «Я был подкуплен Японией», другой с горячыо признавался: «Я хотел убить Вождя, перед которым преклоняюсь», но третий, презрительно пожимая плечами, говорил: «Ну, полно!» – и, казалось, в задыхающемся мире разом, растворялась сотня окон.
Рыжик мог бы составить подробный список (анекдотический, биографический, библиографический, идеологический), с приложением дополнительных документов и моментальных снимков пятисот расстрелянных, трёхсот бесследно пропавших. Что мог прибавить Макаренко к такой исчерпывающей картине? Но пока у Рыжика была ещё слабая надежда – выжить для пользы дела, – он продолжал собирать сведения. И теперь он по привычке стал расспрашивать товарища:
– Что происходило в тюрьмах? С кем вы встречались? Рассказывайте!
– ...Постепенно, в течение этих чёрных лет, тюрьмы перестали праздновать Седьмое ноября и Первое мая. Всё осветилось смертельно ясным светом – вроде отблеска выстрела на заре. Ты, конечно, слыхал о самоубийствах, о голодовках, о последних предательствах, которые тоже были своего рода самоубийством. Гвоздями вскрывали себе вены, глотали толчёное стекло, бросались на надзирателей, ища смерти, – ты всё это знаешь. Существовал обычай: устраивать во внутреннем дворе изоляторов перекличку мёртвых. Накануне великих годовщин, на прогулке, товарищи становились в круг; чей-то голос, хриплый, вызывающий, отчаянный, выкликал имена, сначала вожаков, потом всех остальных в алфавитном порядке – были имена на все буквы алфавита. Товарищи отвечали поочередно: «Умер за революцию». Потом все начинали петь хором «Вы жертвою пали...», но редко удавалось допеть эту песню: налетали, как бешеные собаки, предупреждённые кем-то надзиратели, заключённые сцеплялись, взявшись под руки, и, несмотря на ругань, на удары и – порой – ледяную струю из пожарного шланга, продолжали скандировать: «Слава им! Слава!»
– Хватит, – сказал Рыжик, – продолжение и так понятно.
– За восемнадцать месяцев эти манифестации постепенно прекратились, хотя тюрьмы были переполнены как никогда. Те, что хранили верность старым традициям, исчезли в могилах или были отправлены на Камчатку – точно никто ничего не знает; те, что выжили, растворились в толпах новоприбывших. Бывали даже манифестации противоположного характера: заключённые кричали: «Да здравствует партия, да здравствует наш Вождь, да здравствует Отец отечества!» Их тоже обливали ледяной водой; они этим ничего не выиграли.
– А теперь тюрьмы молчат?
– Тюрьмы размышляют, товарищ Рыжик.
Рыжик так сформулировал свои теоретические заключения: главное – не терять головы, не допускать, чтобы этот кошмар исказил нашу марксистскую объективность.
– Само собой, – сказал Макаренко далеко не уверенным тоном.
– Во-первых, несмотря на регресс внутри страны, наше государство продолжает быть фактором мирового прогресса, так как наша экономическая организация выше капиталистической. Во-вторых, я утверждаю, что, как бы ни была страшна видимость, нельзя приравнивать наш строй к фашистскому. Для определения природы режима одного террора недостаточно, самое главное – вопрос собственности. Бюрократия, которая находится во власти созданной ею политической полиции, вынуждена сохранять экономический режим, введённый Октябрьской революцией. В-третьих, старый революционный пролетариат умирает вместе с нами. На смену ему вырастает на заводах новый пролетариат из крестьянской среды. Чтобы стать сознательным и преодолеть путём опыта тоталитарное воспитание, ему понадобится немалый срок. Можно опасаться, что война прервет его развитие и пробудит в нём контрреволюционные инстинкты, свойственные крестьянству. Ты согласен со мной, Макаренко?
Макаренко лежал на койке, нервно теребя свою бородёнку. Его зрачки – зрачки ночной птицы – блестели в полутьме.
– Конечно, – сказал он, – в общем и целом да. Честное слово, Рыжик, я тебя никогда не забуду. Послушай, постарайся хоть на несколько часов вздремнуть...
Рыжика разбудили на заре, и он едва успел попрощаться со своим случайным товарищем. Они поцеловались в губы. Наряд конвойных войск плотно окружил Рыжика на платформе грузовика, чтобы прохожие не могли его увидеть: но прохожих на шоссе и не было. На вокзале его ожидал отличный вагон для перевозки заключённых. Он догадался, что находится на прямой линии в Москву. В корзинке с провиантом, стоявшей рядом на скамье вагона, были роскошные, давно забытые продукты – колбаса, творог... Они смутили Рыжика; и хоть он был очень голоден и чувствовал, что силы его таяли, но решил всё же есть как можно меньше, только чтобы поддержать организм, и полакомиться лишь самыми вкусными и редкими продуктами. Лежа на деревянной скамье, он смаковал их под ритмичный грохот экспресса и думал о близкой смерти без малейшего страха, скорее, с облегчением. Эта поездка была для него отдыхом. В ночной Москве он только мельком увидел какую-то товарную станцию; дуговые лампы освещали узел рельсов вдалеке, смутное багровое сияние стояло над городом. Тюремная машина покатила по дремлющим улицам, и до слуха Рыжика доходили только гудение мотора, вялый спор каких-то пьяниц да волшебный звон часов, бросивших в тишину несколько музыкальных, за душу хватающих нот. Три часа. Он узнал двор Бутырской тюрьмы по неопределимой его атмосфере. Его повели к небольшому, заново отремонтированному зданию, потом в камеру, до высоты человеческого роста покрашенную в серый цвет, как при царском режиме. На койке были простыни, в потолке горела слабым светом электрическая лампочка. Вот это и есть настоящий «Берег небытия»...
Когда на следующее утро его повели на допрос, ему пришлось пройти всего несколько шагов по коридору. Двери соседних камер были настежь открыты: здание, оказывается, пустовало. В одной из камер (где стояли стол да три стула) Рыжик немедленно узнал Звереву, с которой был знаком двадцать с лишним лет, со времён петроградской Чека, битвы при Пулкове, коммерческих дел начала нэпа. Выходит, эта истеричка, сотканная из хитрости и неудовлетворённых вожделений, пережила множество замечательных людей? «Что ж, это в порядке вещей, – подумал Рыжик, – нормально, чёрт бы их побрал!» Он странно улыбнулся и не поздоровался с ней. Рядом со Зверевой он увидел круглую напомаженную голову с тщательно выведенным пробором. «Молодой прохвост-бюрократ, который следит за тобой, старая шлюха?» Ни слова не сказав, он сел и спокойно поглядел на них.
– Вы меня, кажется, узнали, – мягко, с оттенком грусти сказала Зверева.
Он пожал плечами.
– Надеюсь, что ваш перевод в Москву прошёл в удовлетворительных условиях... Я распорядилась на этот счёт... Политбюро не забыло ваших заслуг...
Он снова, ещё равнодушнее, пожал плечами.
– Мы считаем срок вашей ссылки оконченным.
Он не шелохнулся; на лице его было ироническое выражение.
– Партия рассчитывает на ваше мужество, – в этом и ваше спасение...
– Как вам не стыдно? – сказал он с отвращением. – Посмотрите сегодня вечером на себя в зеркало, я уверен, что вас стошнит. Если бы от тошноты можно было умереть, вы бы умерли...
Он говорил очень тихо, замогильным голосом. Бледный, лохматый, он казался и бессильным, как тяжело больной, и вместе несокрушимым, как поражённое молнией старое дерево. Он только искоса взглянул на напомаженную голову и румяные щёки ответственного сотрудника, и ноздри его презрительно дрогнули.
– Но я зря вспылил – вы того не стоите. Вы стоите только пули пролетариата, который вас в один прекрасный день расстреляет, если ваши хозяева не ликвидируют вас ещё раньше, например завтра.
– В ваших же интересах, гражданин, советую вам умерить ваши выражения. Ваши нападки и оскорбления здесь ни к чему не приведут. Я только исполняю свой долг. Над вами тяготеет очень серьёзное обвинение, и я даю вам возможность оправдаться...
– Довольно. Отметьте, пожалуйста, следующее: я бесповоротно решил не вступать с вами ни в какие разговоры и не отвечать ни на какие вопросы. Это моё последнее слово.
И он посмотрел вверх, в потолок, в пустоту. Зверева поправила причёску. Гордеев вытащил из кармана красивый лакированный портсигар, на крышке которого была нарисована летящая по снегу тройка, и протянул его Рыжику:
– Вы много страдали, товарищ Рыжик, мы вас понимаем...
Тот ответил ему такой презрительной гримасой, что Гордеев смутился, сунул портсигар в карман, обменялся взглядом с растерянной Зверевой. Рыжик чуть улыбался спокойно и дерзко.
– Мы умеем заставить самых закоренелых преступников...
Рыжик тяжело сплюнул на пол, встал и пробормотал как бы про себя, но достаточно громко: «Что за гнусные паразиты!» Потом повернулся к ним спиной, открыл дверь и сказал трём поджидавшим агентам спецслужбы:
– В камеру!
После его ухода Гордеев немедленно перешёл в наступление:
– Вы должны были лучше обдумать этот допрос, товарищ Зверева!
Он заранее отклонял от себя ответственность за неудачу. Зверева тупо глядела на свои лакированные ногти. Неужели процесс наполовину провалится?
– Я с ним справлюсь, с вашего позволения, – сказала она. – В его виновности не может быть сомнения. Уж одно его поведение доказывает.
Этими словами она перекладывала ответственность на Гордеева.
– Но если вы не предоставите мне свободы действий, тогда вы провалите процесс.
– Там видно будет, – уклончиво пробормотал Гордеев.
Рыжик бросился на постель. Он дрожал всем телом и чувствовал, как его сердце тяжёлым камнем ворочается в груди. В голове его вертелись обрывки мыслей, но ему незачем было приводить их в порядок: всё было измерено, взвешено, решено, – кончено. Эта внутренняя буря поднялась в нём против его воли, но она улеглась, когда он увидел на столе свой суточный паёк: чёрный хлеб, котелок с супом, два куска сахара... Его мучил голод, и ему захотелось встать, хоть понюхать суп – верно, кислые щи с рыбой, – но он справился с собой, поборол соблазн... Поесть в последний раз – в последний раз, – как это было бы чудесно! Нет. Нельзя терять времени. Усилие воли помогло ему овладеть собой и принять окончательное решение.
Камень скользит по наклонной плоскости, катится к пропасти и летит вниз. Какое соотношение между изначальным лёгким толчком и падением в глубокую пропасть?
Успокоившись, Рыжик закрыл глаза и стал размышлять. Пройдёт, вероятно, немало дней, пока выяснятся намерения этих прохвостов. Сколько дней я продержусь? В тридцать пять лет можно ещё между 15-м и 18-м днём голодовки проявить известную активность, – если выпивать ежедневно несколько стаканов воды. Но в шестьдесят шесть лет, при моем теперешнем состоянии – хроническое недоедание, истощение организма, склонность к непротивлению, – я уже через неделю сдам окончательно... Если совсем не пить, голодовка через шесть-десять дней окажется смертельной – но из-за галлюцинаций, чрезвычайно мучительных, Рыжик решил всё же пить, чтобы меньше страдать и сохранить ясность ума, но пить как можно меньше: пусть скорее настанет конец. Труднее всего будет ускользнуть от бдительности тюремщиков, уничтожая продукты. И надо во что бы то ни стало избежать отвратительной процедуры питания через зонд.
Спуск воды в уборной действовал нормально; раскрошить хлеб было нетрудно, но это же всё требовало немало времени: запах ржаного хлеба щекотал ноздри, в пальцах и нервах было ощущение этой мякоти – источника жизни. Пройдёт всего несколько дней, и для моих обессилевших пальцев, для сдавших нервов это будет ещё мучительнее. Но когда Рыжик подумал, что этого не предвидели ни гнусная Зверева, ни подлец с прилизанными волосами, он радостно фыркнул. (И дежурный надзиратель, которому велено было каждые десять минут смотреть в глазок, увидел бескровное лицо Рыжика, просиявшее широкой улыбкой, и немедленно доложил помначальнику корпуса № 11: «Заключённый № 4 лежит на койке, говорит и смеётся с собой».)
Обычно во время голодовки лежат на спине, чтобы не тратить сил на движения. Рыжик решил как можно больше ходить по камере.
На свежевыкрашенных стенах не было ни одной надписи. Он позвал помначальника корпуса и попросил, чтобы ему принесли книги.
– Сейчас, гражданин, – ответил тот.
Потом он вернулся и сказал:
– Вы должны подать просьбу о книгах следователю на ближайшем допросе.
«Значит, я больше не буду читать», – подумал Рыжик и сам удивился, что так равнодушно прощается с книгами.
В наши дни нужны сверкающие книги, полные неопровержимой исторической алгебры, безжалостных обвинительных актов; в каждой строке, напечатанной огненными буквами, должен отражаться беспощадный ум. Такие книги появятся в своё время.
Рыжику захотелось вспомнить о книгах, с которыми было связано для него ощущение жизни. От сероватой газетной бумаги и вялого переливания из пустого в порожнее у него оставалось лишь воспоминание скуки. Из далёкого прошлого выплыл отчётливый образ молодого человека, который задыхался в тюремной камере, подтягивался к оконной решётке и видел три ряда зарешечённых окон на жёлтом фасаде дома, двор, где другие заключённые пилили дрова, и манящее к себе небо, которое ему хотелось выпить. Этим заключённым был я сам (и я больше не знаю, живо ли ещё это «я» или умерло, оно мне кажется более чуждым, чем многие товарищи, расстрелянные в прошлом году), и как-то я получил книги, которые заставили меня забыть о влекущем к себе небе. Это были «История цивилизации» Бокля и мудрые «Народные сказки», которые я сначала перелистал с раздражением. Но в середине книги шрифт изменился – и это был «Исторический материализм» Г. В. Плеханова. До той минуты, казалось Рыжику, этот молодой заключённый весь состоял из элементарной силы, крепких мускулов, жаждавших усилия, и инстинкта; он был похож на жеребёнка, скачущего по лугу; грязная улица, мастерская, нужда, дырявые подмётки, тюрьма – всё это держало его на привязи, как животное. Теперь он впервые открыл возможность жить по-иному, жизнью, совершенно непохожей на то, что обычно так зовется.
Перечитывая всё те же страницы, он всё понимал, быстро расхаживал по камере и так был счастлив, что ему хотелось кричать от радости, и он написал Тане: «Прости меня, но мне хочется остаться здесь, пока я не прочту этих книг. Теперь я знаю наконец, почему я тебя люблю...»
Что такое сознание? Может быть, оно возникает в нас, как звезда в белом сумеречном небе? Ещё накануне он жил в тумане, а теперь увидел истину. «Вот это и есть встреча с истиной...» Истина была проста и доступна, как молодая женщина, которую обнимаешь, и называешь «милой», и видишь, что у неё ясные глаза... Теперь он овладел истиной навсегда.
В ноябре 17-го года другой Рыжик – или тот же самый? – отправился с несколькими красногвардейцами реквизировать от имени партии большую типографию на Васильевском острове. Увидев мощные машины, создающие газеты и книги, он воскликнул: «Ну, товарищи, пришёл конец вранью! Теперь будем печатать только правду!»
Владелец типографии, толстый бледный господин с желтоватыми губами, ехидно заметил: «Вряд ли, господа, вам это удастся». Рыжику захотелось убить его на месте, – но ведь мы не варвары, мы положим предел войнам и убийствам, мы несём с собой пролетарскую справедливость. «Посмотрим, гражданин, – во всяком случае запомните, что господ больше нет... Тогда ему было уже за сорок – трудный возраст для рабочего человека, – но он ощущал себя подростком: «Захват власти, – говорил он, – омолодил нас всех на двадцать лет».
Первые три дня голодовки он почти не страдал. Может быть, слишком много пил? Голод мучителен только для внутренних органов, а к этому Рыжик относился равнодушно. Из-за мигрени ему часто приходилось ложиться, потом мигрень проходила, но когда он начинал расхаживать по камере, головокружение заставляло его прислоняться к стене. В ушах стоял гул – шум моря в раковине. Он больше мечтал, чем думал, о смерти же не думал и не мечтал – разве мимоходом, с насмешкой: «Чисто отрицательное понятие, минусовый знак: существует только жизнь». Это было очевидно и в то же время головокружительно неверно. Всё чепуха – и очевидность, и головокружение. Ему стало холодно, хотя он лежал под одеялом и зимним пальто: «Это жизненное тепло меня покидает».
На него нашла дрожь, он дрожал, как лист в грозу, – нет, электрической дрожью – дзйнь, дзинь, дзинь... Перед глазами возникали разноцветные отблески, вроде северного сияния, он видел тёмный свет, окружённый огненной каймой: молнии, диски, потухшие планеты... Может быть, человеку дано увидеть много таинственного, когда его мозг начинает распадаться? Ведь мозг создан из того же вещества, что и миры.
Потом чудесное тепло проникало в его тело, он вставал, осторожно экономя движения, и крошил чёрный хлеб в пальцах, суставы которых начали болеть, – хлеб этот обязательно надо уничтожить, товарищ, несмотря на его опьяняющий запах.
Настал день, когда у него не было больше сил подняться. Что-то происходило с челюстями, они скоро лопнут, как нарыв, тогда станет легче, лопнут, как большой пузырь, как прозрачный мыльный пузырь, в котором он видел своё отражение, гримасы комичного солнца... Он смеялся. Под ушами распухали железки, это было мучительно, как зубная боль... Вошла сиделка, ласково назвала его по имени, и он приподнялся было, чтобы прогнать её, но вдруг узнал: «Это ты, это ты! Ты так давно умерла и вот – вернулась! А теперь я умираю, милая, потому что так надо. Хочешь, пойдём погуляем?» Белой ночью они шли по невским набережным к Летнему саду. «Я хочу пить, милая, хочу пить, невероятно хочу пить... У меня бред, тем лучше, только бы они ничего не заметили. Милая, дай мне большой стакан пива! Скорее!» Его протянувшаяся за стаканом рука так дрожала, что стакан прокатился по паркету, мягко, колокольчиком звеня, и красивые коровы в голубых и золотых пятнах, с прозрачными, широко расставленными рогами пошли по карельскому лугу, там росли берёзы, они вырастали с каждой секундой, их листва трепетала и делала ему знаки, будто рукой, даже ещё яснее, – а вот река, вот чистый источник, пейте, прекрасные животные! Рыжик ложился ничком на траву и пил, пил, пил...
– Заключённый, вы больны? Что с вами?
Старший надзиратель положил ему руку на лоб, прохладную, благотворную руку, огромную руку из облаков и снега... Нетронутый паёк на полу, остатки хлеба в унитазе уборной, большие сверкающие глаза в глубине пестрых орбит, и дрожь большого тела, сообщавшаяся постели, и зловонное дыхание заключённого... Старший надзиратель моментально всё понял (и понял, что погиб: преступная небрежность при исполнении служебных обязанностей!).
– Архипов!
Архипов, солдат особого подразделения, вошёл тяжёлым шагом, отдавшимся в голове Рыжика шумом земли, брошенной на его могилу, – оказывается, быть мёртвым очень просто – но где же кометы?..
– Архипов, налей ему осторожненько воды в рот...
Старший надзиратель сообщил по телефону: «Товарищ начальник, докладываю: заключённый номер 4 умирает».
Из телефона в телефон весть о смерти заключённого номер 4 (ещё живого) облетела всю Москву, сея панику на своём пути; она гудела в кремлёвском приёмнике, звенела тонким голоском в аппаратах Дома правительства, ЦК, Наркомвнутдела, притворно уверенным мужским голосом заявляла о себе на даче, стоявшей среди московских лесов в идиллической тишине; её шёпот покрывал другие голоса, сообщавшие о перестрелке на китайско-монгольской границе или о серьёзной аварии на Челябинском заводе.
– Рыжик умирает? – сказал Вождь низким голосом, в котором звучал сдержанный гнев. – Приказываю его спасти!
Рыжик утолял жажду чудесной водой – ледяной и солнечной. Он шёл воздушной походкой по снегу. «Вместе, вместе», – радостно твердил он, потому что товарищи – старые товарищи, энергичные, волевые, – взявшись под руки, как бывало прежде на похоронах революционеров, увлекали его за собой на льдину... Вдруг перед ними открылась во льду зигзагообразная, как молния, трещина; в глубине её плескалась чёрная, гладкая, звёздная вода... Рыжик закричал: «Осторожно, товарищи!» Острая боль, тоже зигзагообразная, как молния, бродила у него в груди. Он услышал краткие взрывы под льдиной...
Архипов, солдат особого подразделения, увидел, что улыбка заключённого судорожно застыла, что его зубы перестали стучать о край стакана, что его бредовый взгляд затуманился.
– Заключённый! Заключённый!
Ничто не шевелилось больше в тяжёлом лице, покрытом седой щетиной. Архипов медленно поставил стакан на стол, отступил на шаг, встал навытяжку, замер в страхе и жалости.
Никто не обратил на него внимания, когда сбежались важные лица – врач в белом халате, высокопоставленный военный с надушенными волосами, маленькая женщина в форме, смертельно бледная, с поджатыми губами, старичок в потёртом пальто, с которым даже военный, несмотря на генеральские звёздочки, говорил, почтительно склонившись...
Врач небрежно махнул стетоскопом:
– Извините, товарищи, но наука тут бессильна.
И прибавил с подчёркнуто недовольным видом, так как знал, что его-то упрекнуть не в чем:
– Отчего меня раньше не позвали?
Никто не знал, что ему ответить, Архипов вспомнил, что в церкви, на панихиде, умоляющие голоса поют: «Господи помилуй». Он был атеист, как и полагается в наше время, и упрекнул себя за такое воспоминание, но церковное пение помимо его воли продолжало звучать в его памяти: «Что ж тут худого? Да ведь никто не узнает... Господи помилуй, Господи помилуй нас...»
На минуту тюремная тишина сгустилась вокруг всей группы. Каждый мысленно взвешивал последствия этой смерти: выяснить, на ком лежит ответственность, начать следствие с другого конца, уведомить Вождя, – и к чему теперь прицепить дело Тулаева?
– Кому был поручен обвиняемый? – спросил Попов, ни на кого не глядя, так как и сам это отлично знал.
– Товарищу Зверевой, – ответил временно исполняющий должность народного комиссара госбезопасности Гордеев.
– Товарищ Зверева, вы приказали подвергнуть его медицинскому осмотру по приезде? Получали ежедневные доклады о его состоянии и поведении?
– Я думала, что... Нет.
Попов дал волю своему негодованию:
– Слышите, Гордеев, слышите?
Разгневавшись, он первым выскочил из камеры. Он почти бежал и, хоть был тщедушен и похож на большого паяца, тащил, казалось, за собой, точно на невидимой нити, внушительного Гордеева. Зверева вышла последней. Проходя мимо солдата Архипова, она почувствовала, что тот смотрит на неё с ненавистью.
С тех пор как Кондратьев вернулся из Испании, он жил в странной пустоте. Его комната, находившаяся на четырнадцатом этаже Дома правительства, казалась необитаемой. На небольшом столе громоздились одна на другой открытые книги. Диван был завален развёрнутыми газетами. Кондратьев бросался на этот диван и смотрел в потолок с ощущением пустоты в мозгу и паники в груди. Его постель всегда казалась неубранной, но, странное дело, не походила на постель живого человека. Кондратьеву не хотелось её видеть, не хотелось раздеваться, ложиться спать, зная, что завтра опять придётся проснуться, увидеть потолок и обои этого апартамента, похожего на довольно роскошную гостиницу, пепельницу, полную недокуренных, после первой же затяжки брошенных папирос, фотографии, когда-то дорогие, а теперь потерявшие всякое значение... Странно – даже родные образы исчезают. Он любил только окно, в которое видел строительные участки большого Дворца Советов, изгиб Москвы-реки, возвышавшиеся друг над другом башни и здания Кремля, квадратные казармы последнего (перед советским) деспотического строя, купола старых церквей, белую колокольню Ивана Великого... Люди спешили куда-то по набережной. Неужели эти муравьи воображают, что у них какие-то спешные дела, что есть какой-то смысл в их маленькой жизни?
Но что это со мной, почему у меня такие странные мысли? Ведь я всегда жил сознательно, был твёрд... Что я, в истерику впадаю? Он знал, что не впадает в истерику, но чувство тревоги, которое зарождалось в нём в этой комнате, проходило, только когда он стоял у окна. Суровый облик остроконечных каменных башен, бесконечное небо, огромный город действовали на него успокаивающе. Ничто никогда не кончится – что за важность, если приходит конец человеку?
Он выходил на улицу, садился в трамвай, ехал до конечной остановки в пригород, куда никогда не заглядывали люди его положения, бродил по бедным улицам, окаймлённым пустырями и деревянными домишками с голубыми и зелёными ставнями. На перекрёстках были водокачки. Он замедлил шаг перед окнами, за которыми, казалось ему, жилось очень уютно, – потому что там висели чистенькие занавески, а на подоконниках, между цветочными горшками, стояли выставленные на холодок кастрюли. Если бы он посмел, то остановился бы перед окнами, чтобы посмотреть, как живут эти люди: странно – они живут просто, не зная пустоты, не подозревая даже, что рядом с ними, но в ином мире существует пустота. Да встряхнись, ведь ты этак заболеешь!
Он заставлял себя заходить в Топливный трест, – считалось, что он там контролирует выполнение особых планов Главного управления тыла. На самом деле его работу делали другие – но почему эти другие смотрели на него так странно, – правда, с привычным уважением, но как будто со страхом?
Его секретарша Тамара Леонтьевна неслышно входила в его застеклённый кабинет, не разжимала слишком накрашенных губ, глядела на него боязливо – и почему, отвечая ему, она понижала голос, почему никогда больше не улыбалась? Ему пришло в голову, что, может быть, он сам в этом виноват, что выражение его лица, его холодность, его страх (потому что это был именно страх) сразу всем бросаются в глаза. Может быть, я заражаю их своим смятением?
Он пошёл в умывальную комнату посмотреть на себя в зеркало и долго стоял неподвижно перед своим отражением, опустошённый, ни о чём не думал. В сущности, нелепо, что мы так заняты собой. Неужели этот утомлённый человек с жёлтым лицом, с желтовато-серыми губами – это я? Я – этот чужой облик, облечённый плотью призрак? Только глаза напоминали о других, исчезнувших Кондратьевых, – но он о них не жалел. Прожить долгую жизнь и так кончить – до чего это нелепо! Изменюсь ли я, когда буду мёртв? Вероятно, они не дают себе труда закрывать глаза расстрелянным. Этот взгляд останется у меня навсегда, то есть на короткий срок, пока я не истлею или пока меня не сожгут. Он пожал плечами, вымыл руки, старательно и слишком долго их намыливая, пригладил волосы, закурил папиросу, забылся. Что я тут, собственно, делаю? Он вернулся в свой кабинет.
Тамара Леонтьевна ждала его, делая вид, – что просматривает утреннюю почту.
– Подпишите, пожалуйста.
Почему она не называла его больше «товарищ» или ещё проще: Иван Николаевич? Она избегала его взгляда и, казалось ему, прятала от него под бумаги свои руки, простые тонкие руки с ненакрашенными ногтями. Не так ли избегают взгляда умирающего?
– Да не прячьте вы рук, Тамара Леонтьевна, – сказал он с досадой и тут же извинился, нахмурив брови: – То есть я хочу сказать, мне всё равно, прячьте их, если хотите, – извините меня. Но это письмо нельзя послать в таком виде. Малашевские шахты, я ведь совсем не то вам продиктовал.
И, не дослушав объяснений секретарши, он с облегчением сказал:
– Ну да, совершенно верно, так и напишите, переделайте письмо.
Удивление, отразившееся в карих, таких близких глазах – в них был вопрос или испуг, – слегка смутило его, и он подписал письмо с непринужденным видом:
– В общем вы правы, сойдет и так... Завтра я не приду...
– Хорошо, Иван Николаевич, – сказала секретарша естественным приятным голосом.
– Хорошо, Тамара Леонтьевна, – весело передразнил он и отпустил её дружеским кивком, по крайней мере, так ему показалось – на самом же деле лицо его выражало глубокую грусть. Оставшись один, он закурил и долго, внимательно глядел на догоравшую в его пальцах папиросу. Старшие директора его избегали, а он избегал начальников отделов, вечно занятых какими-нибудь пустяками. Председатель треста вышел из своего кабинета в ту самую минуту, когда Кондратьев вызвал лифт, так что им пришлось спуститься вместе в этой коробке из стекла и красного дерева, в зеркалах которой многократно отражались их тяжёлые фигуры. Они поговорили почти как обычно, но председатель не предложил ему места в своей машине, сам поспешно в неё сел и попрощался с ним быстрым рукопожатием, от которого осталось такое неприятное впечатление, что Кондратьев потом долго потирал руки. Как этому толстяку с поросячьей шеей удалось что-то угадать? А самому Кондратьеву? На этот вопрос не было разумного ответа, – но он знал, и другие, все, кого он встречал, тоже знали.
На конференции Сельскохозяйственного института докладчик, молодой, очень способный парень и большой карьерист, которого прочили в помощники директора треста забайкальской лесопромышленности, тихонько ускользнул через заднюю дверь, очевидно, чтобы увильнуть от разговора с Кондратьевым, который ему покровительствовал.
Кондратьев занял место в углу залы, и никто не сел рядом с ним; чтобы не видеть быстрых, смущённых кивков своих коллег, он задержался у выхода со студентками: только эти девочки, по-видимому, ничего ещё не знали: они смотрели на него приветливо, как всегда, для них он всё ещё был важным лицом, старым партийцем; они даже восхищались им, потому что, по слухам, он лично знал Вождя, был командирован в Испанию, принадлежал к особой расе – бывших каторжников, героев гражданской войны; на нём был помятый костюм, небрежно повязанный галстук, у него усталые, но добрые глаза (и вообще, по правде говоря, он очень недурен собою) , – но почему эта девчонка из Политехнического, которую мы недавно видели с ним в Большом, от него ушла?
Две девочки обсуждали этот вопрос, пока он медленно удалялся своей тяжёлой походкой, опустив квадратные плечи.
– У него, верно, плохой характер, – сказала одна из них, – ты заметила, какие у него морщины на лбу и как он хмурится? Бог знает, что у него в голове...
У него в голове было только одно: «Откуда они знают, откуда я сам знаю, – и что я, собственно, знаю? Может быть, они просто видят отражение нервного страха на моем лице?»
Автобус, переполненный людьми, которых он не замечал, увез его в Сокольники, в парк. Он долго бродил там один в ночи, под большими деревьями, потом зашёл в пивнушку, где рабочие, похожие на хулиганов, и хулиганы, похожие на рабочих, пили пиво и курили в громком гуле затянувшегося спора.
– Ты, брат, сволочь, и мне даже странно, что ты не соглашаешься. Да ты не обижайся, ведь и я сволочь, я ведь не спорю...
С другого конца залы молодой голос крикнул:
– Что верно, то верно, гражданин! – и пьяный ответил:
– Ещё бы не верно – все мы сволочи...
И он поднялся – грязный рыжий человек с лоснящимся лбом, в тёплой, не по сезону, спецодежде, – увлекая за собой пошатывающегося товарища:
– Ну, пошли. Ведь и мы христиане – я сегодня морду никому не набью. А если они не знают, что они сволочи, не стоит им говорить, зачем людей обижать...
Он увидел Кондратьева, видно, задумчивого иностранца в европейском костюме, который сидел, облокотившись на мокрый стол, и глядел куда-то перед собой. Пьяный в недоумении остановился перед ним и спросил самого себя:
– А этот как – тоже сволочь? Сразу не скажешь. Вы извините, гражданин, – я, значит, правду ищу...
Кондратьев обнажил зубы в невесёлой полуулыбке:
– И я почти такой же, как ты, гражданин, только судить об этом трудно...
Он сказал это серьёзным тоном, который произвел в пивнушке впечатление. Почувствовав, что на него слишком внимательно смотрят, Кондратьев вышел. В ночной темноте какой-то подозрительный тип в кепке навел на него луч карманного фонаря и потребовал документы. Увидев пропуск ЦК, он отступил, точно хотел исчезнуть в потёмках:
– Извините, гражданин, – служба моя такая...
– Убирайся ко всем чертям, – проворчал Кондратьев, – да поживее!
Стоя на пороге совершенной темноты, подозрительный тип отдал по-военному честь, приложив руку к потерявшей всякую форму кепке. А Кондратьев легко пошёл по чёрной аллее: теперь он был уверен в двух неоспоримых вещах: что сомневаться уже невозможно и незачем повторять себе доказательства – и что он будет бороться.
Он знал (как и все, с кем он общался, потому что это знание исходило от него самого), что дело КОНДРАТЬЕВА И. Н. путешествовало из одного ведомства в другое, в секретнейшей сфере, оставляя повсюду за собой ощущение неопределённой тревоги. Доверенные курьеры клали запечатанный конверт на стол секретного отдела Генерального секретариата, осторожные руки брали его, вскрывали, снабжали примечаниями новый документ, приложенный Народным комиссариатом госбезопасности; вскрытый конверт проходил в двери, похожие на все двери в мире, и попадал в особую сферу, где все секреты обнажались, становились немыми и смертельными, смертельно простыми. Вождь быстро пробегал эти бумаги, и у него, наверно, было стареющее, с посеревшей кожей лицо, прорезанный морщинами низкий лоб, маленькие рыжие глаза с острым взглядом, – суровым взглядом всеми покинутого человека.
«Ты одинок, брат, совершенно одинок среди этих отравленных бумаг, которые ты сам породил. Куда они тебя заведут? Ты утонешь в конце пути, и мне тебя жаль. Настанут грозные дни, и ты будешь одинок среди миллионов лживых лиц, среди твоих огромных портретов на фасадах домов, среди призраков с простреленными головами, ты будешь одинок на вершине пирамиды, сложенной из костей, одинок в стране, самой себе изменившей, преданной тобою, хоть ты и верен, как все мы... Ты обезумел от верности, от подозрений, от зависти, которую таил в себе всю жизнь... Черна была твоя жизнь, и только ты сам себя по-настоящему знал: знал, что ты слаб, слаб, слаб, что проблемы сводят тебя с ума... Ты был слаб и верен – и зол, потому что под бронёй, в которой умрёшь, ты был всё-таки немощен и ничтожен. И в этом твоя драма.
Тебе хотелось бы разбить все зеркала в мире, чтобы не видеть в них своего отражения, а наши глаза – твои зеркала, и ты уничтожаешь нас, сносишь нам головы, чтобы не видеть этих глаз... Посмотри-ка мне прямо в лицо, брось эти бумаги, сфабрикованные нашей машиной, уничтожающей человека. Я тебя ни в чём не упрекаю, я взвесил твою вину, но вижу и твоё одиночество – и я думаю о завтрашнем дне. Никому не дано воскресить мёртвых, спасти погубленное и гибнущее, мы не можем удержать машину, скользящую к пропасти. Я не знаю ни ненависти, ни страха; я боюсь только за тебя – из-за нашей страны. Ты не умён и не велик, но силён и предан стране – как все те, кто был лучше тебя и кого ты погубил.
История сыграла с нами злую шутку – у нас никого не осталось, кроме тебя. Вот что говорят тебе мои глаза; ты можешь меня убить, тогда ты окажешься ещё более одиноким, более слабым и ничтожным, и, может быть, ты не забудешь меня, как не забыл и других. И когда ты всех нас убьёшь – ты будешь последним, последним для самого себя, и ложь, опасность, тяжесть созданной тобою машины тебя раздавят...»
Вождь медленно поднял голову – все его движения были тяжёлыми – в нём не было ничего страшного, он был стар, волосы его седели, веки опухли, он просто спросил своим тяжёлым голосом:
– Что же делать?
– Что делать? – громко повторил Кондратьев, один среди прохладной ночи. Он шёл большими шагами к маленькой, слабо колыхавшейся красной точке посреди шоссе. Над кирпичными зданиями площади Спартака поднимались звёзды; направо виднелись хилые деревья.
«Что делать, брат? Я не прошу тебя во всём признаться. Если бы ты вздумал признаваться, всё бы вокруг нас развалилось. Только этим ты держишь мир в своих руках: молчанием...»
В нескольких шагах от красного фонарика, в котле из-под асфальта, наверно ещё тёплом, всклокоченные головы прижимались одна к другой, вспыхивали золотистые огоньки папирос; оттуда доносился возбуждённый шёпот. Сунув руки в карманы, опустив голову, Кондратьев, поглощённый своей проблемой, остановился, оттого что канат преграждал ему дорогу, а фонарь указывал на земляные работы. Он всё прекрасно видел, но смотрел только в глубь самого себя – и ещё дальше.
Из тёплого котла высунулись головы и повернулись к этому прохожему: на милиционера будто не похож, да и всякий знает, что этих бездельников после трёх часов ночи на улице не увидишь. Значит, пьяный, можно ему карманы обчистить. «Эй, Ерёмка, это по твоей части, ты в этих делах спец, только смотри берегись, он на вид здоровенный!..» Ерёмка вытянулся во весь рост, он был тонок, как девушка, крепок, как сталь, в лохмотьях, за поясом у него был спрятан нож, – и он разглядывал в полутьме этого человека лет пятидесяти пяти на вид, хорошо одетого, широкоплечего, с квадратным подбородком, который тихо говорил сам с собою.
– Эй, дяденька, – сказал Ерёмка свистящим шёпотом, когда нужно слышным, – чего ты тут делаешь, дядя? Пьян, что ли?
Кондратьев увидел группу детей и радостно бросил:
– Привет! Что, не замёрзли?
Не пьян, приветлив, говорит уверенным тоном: опасный человек. Ерёмка медленно вылез из котла и подошёл, чуть прихрамывая (это был его трюк, чтобы казаться потщедушнее; точно из проволоки сделанный, бескостный, вроде сломанного паяца с металлическими членами – таким он представлялся на первый взгляд). Между ними был только канат и красный фонарь, и они в полном молчании почти вплотную разглядывали друг друга. «Вот наши дети, наши беспризорные дети, Иосиф, позволь представить тебе наших детей, – думал Кондратьев, и на его чёрных губах появилась чёрная улыбка. – В их завшивевших лохмотьях спрятан нож – ничего другого мы не сумели им дать. Я знаю, что это не наша вина. И ты тоже, несмотря на свои спецвойска, на револьверы, на все наши богатства, которые оказались у тебя в руках, – ты тоже ничего не сумел им дать...»
Ерёмка внимательно разглядывал его сверху донизу; у него были глаза опасной девчонки.
– Уходи-ка, дядя, чего ты здесь не видал? У нас совещание районных ребят, понимаешь? Мы заняты, проваливай лучше.
– Ладно, – ответил Кондратьев. – Я пошёл. Привет конференции.
– Чудак какой-то, – объяснил Ерёмка товарищам, кружком сплотившимся в котле, – не страшный. Ну, валяй дальше, Тимошка...
Кондратьев шёл к вышкам трёх вокзалов – Ленинградского, Ярославского и Казанского – вокзала Революции, вокзала города, где мы разом потеряли восемнадцать расстрелянных, триста пятьдесят побеждённых, и Казанского, где с Троцким и Раскольниковым мы брандером подожгли белогвардейский флот... Удивительно, мы были и остались победителями, и в то же время мы побеждены и всеми покинуты (при упоминании о Ярославле думаешь только о секретной тюрьме), мы похожи на этих малолетних хулиганов, которые, верно, совещаются теперь о каком-нибудь преступлении или о правильной организации нищенства и воровства, но они живут в борьбе, и правильно, что они просят милостыню, грабят, убивают, совещаются – это их борьба... Кондратьев с жаром говорил сам с собой и при этом жестикулировал, точно находился на эстраде.
Когда он вернулся домой, где-то на дальних дворах уже пели петухи, – может быть, на тех провинциального вида улицах, где стояли деревянные и кирпичные домишки, где в скромных садиках росли деревья, а по углам валялись кучи отбросов, где в каждой комнате уютно спали люди: в ногах родительской постели спали дети под пестрыми лоскутными одеялами; в углу под потолком висели иконы; к пожелтевшим обоям кнопками были прикреплены ученические рисунки; на подоконниках стояла скудная еда. Кондратьев позавидовал этим мирно спавшим людям...
Его комната была прохладна, чиста и пуста: пепельница, почтовая бумага, календарь, телефон, книги из Планового института – и всё это казалось ненужным. Со смешанным чувством грусти и страха он посмотрел на свою постель. Лечь опять на эту простыню, бороться с лишними, бессильными мыслями и знать, что придёт чёрный час, когда всё станет ясно и пусто, когда жизнь утратит всякий смысл, – и если она сводится к безысходной тоске, к сознанию бессмысленности всего существующего – как убежать от самого себя?
На секунду взгляд Кондратьева задержался на браунинге, лежавшем на ночном столике, и он ощутил что-то вроде облегчения... Почему иногда, без всякой видимой причины, мы вдруг обнаруживаем в себе внутреннюю твёрдость?
Заря занималась над Москвой, набережная была ещё пуста, между зубцами дозорной Кремлёвской стены мелькал штык часового, бледно-золотой мазок коснулся золочёного купола колокольни Ивана Великого, блеснул едва заметный, но уже торжествующий свет, небо заалело, розовеющее утро сливалось в одно с синеющей уходящей ночью, с её последними догорающими звёздами. «Эти звёзды – самые яркие, и они потухнут, потому что ослеплены светом...» Небесный и земной пейзажи дышали удивительной свежестью, впечатление безграничного могущества исходило от камней, тротуаров, стен, строительных участков, даже от телег, которые появились откуда-то и медленно подвигались вперёд вдоль розово-голубой воды. Скоро миллионы стойких, терпеливых, неутомимых людей, стряхнув с себя сон, пойдут миллионами дорог, – и все они ведут в будущее. «Ну что ж, товарищи, – сказал этим людям Кондратьев, – моё решение принято. Я буду бороться. Революции нужно ясное сознание». Тут отчаяние чуть было не овладело им: человеческое сознание – его собственное, бессильное, парализованное, – на что оно нужно? Но ясный день прояснил его мысли: «Пусть я одинок, пусть я – последний, я могу ещё отдать свою жизнь, и я отдаю её, говоря НЕТ. Слишком много людей умерло во лжи и безумии, надо спасти дух нашей партии, то, что от неё осталось... НЕТ. Есть на земле неизвестные молодые люди, надо попробовать спасти их зарождающееся сознание. Когда думаешь отчётливо, всё становится ясным, как утреннее небо». Он разделся перед окном, несмотря на предрассветную свежесть, чтобы видеть, как зарождается день. «Я не смогу заснуть...» Это было его последней сознательной мыслью: он уже засыпал.
Во сне он увидел огромные звёзды из чистого огня, одни были медного, другие – прозрачно-голубого или красноватого оттенка. Они таинственно двигались, вернее, покачивались, и из слабо светящейся тьмы выделилась бриллиантовая спираль, стала расти – смотри, смотри на вечные миры – кому он это говорил? Он ощущал чьё-то присутствие рядом с собой,-- но чьё? Туман заволок всё небо, перелился на землю, превратился в огромный сияющий подсолнечник... и в каком-то дворике, за закрытым окном, рука Тамары Леонтьевны сделала ему знак, и вдруг появилась широкая лестница, они поднялись на неё бегом; в противоположном направлении струился янтарный поток, и в нём прыгали большие рыбы – как сёмга, когда она плывёт против течения...
Когда Кондратьев брился в полдень, ему вспомнились отрывки этого сна, и они подействовали на него успокоительно. Женщины, наверно, сказали бы... А что сказали бы психоаналитики? Но мне на них наплевать.
Повестка парткома его ничуть не обеспокоила – и в самом деле, это были пустяки, сообщение о незначительной командировке: он должен был председательствовать на празднике в Серпухове: рабочие завода имени Ильича вручали знамя местному танковому батальону.
– В этом танковом батальоне замечательные парни, Иван Николаевич, – сказал ему секретарь Комитета, – но у них там были какие-то истории, попытка самоубийства, политрук ни к чёрту не годится – надо сказать им хорошую речь... Упомяните о Вожде, скажите, что вы его видели.
Во избежание недоразумений ему передали конспект тезисов.
– Насчёт речи можете на меня положиться, – сказал Кондратьев, – а этому неудачливому самоубийце я скажу пару тёплых слов.
Он думал об этом неизвестном молодом человеке и с нежностью, и с гневом. Кончать с собой в двадцать пять лет, когда ты можешь служить стране, – ты что, парень, рехнулся? Он пошёл в буфет и купил пачку самых дорогих сигарет – роскошь, которую редко себе позволял. Делегация замоскворецких работниц распивала там чай в компании представительниц женотдела и какого-то кадровика. Было сдвинуто вместе несколько столов. На скатерти ярко-красными пятнами выделялись горшки герани, а над ними – ещё ярче – красные платочки на женских головах. Несколько лиц повернулось к Кондратьеву- – пожилому человеку, вскрывавшему пачку сигарет. Руководительница группы успела шепнуть другим: «Это Кондратьев из ЦК»: Слова «Центральный Комитет» облетели стол. Пожилой человек был символом власти, прошлого, преданности, тайны... Шум голосов затих, потом кадровик крикнул приветливо и грубовато:
– Эй, Кондратьев, иди чай пить с подрастающим поколением Замоскворечья!
В эту минуту появился Попов в своей неизменной кепке на седых прядях, старческой походкой подошёл к Кондратьеву, положил ему обе руки на плечи:
– Ну, дружище, сколько лет, сколько зим! Как живёшь?
– Да ничего. А ты? Здоровье как?
– Неважно. Переутомился. Чёрт бы побрал Биологический институт: до сих пор ничего не придумали, чтобы нас омолодить.
Они дружески улыбались, глядя друг другу в глаза. Потом вместе сели за большой стол рядом с текстильщицами. Весело и шумно задвигались стулья. На женских блузках красовались значки. Кондратьев заметил несколько прелестных лиц, широкоглазых, широкоскулых, приветливых. Одна молодая женщина тотчас же обратилась к ним:
– Вот, рассудите нас, товарищи. Мы всё спорим насчёт производительности. Я считаю, что рационализацию не провели до конца!
Её этот вопрос, видимо, так волновал, что она подняла руки, вся раскраснелась и со своим нежным цветом лица, большим ртом, зеленовато-серыми глазами, красной повязкой на выпуклом лбу показалась почти красивой, хотя на самом деле у неё была банальная внешность деревенской девушки, ставшей фабричной работницей и влюбившейся в машины и цифры.
– Я вас слушаю, товарищ, – сказал Кондратьев,, которого это и забавляло, и радовало.
– А вы её не слушайте, – вмешалась другая, у которой было тонкое, строгое лицо и туго заплетённые косы.
– Вечно ты преувеличиваешь, Ефремовна: мы задание выполнили на 104 процента, а если были неудачи, так это из-за поломок ткацких станков.
Лица пожилых работниц, на блузках которых красовались медали, вдруг оживились: нет, нет, и не в этом вовсе дело! Попов поднял землистые, как у крестьянина, руки и попросил слова: объяснил, что старые партийцы... ммм... в вопросах текстильной промышленности не разбираются, это вы, молодёжь, компетентны, вы да инженеры... ммм... только директивы Госплана требуют от вас усердия... ммм... и решимости... мы должны стать железной страной, с железной волей... ммм...
«Верно, верно», – сказали молодые и старые голоса, и тихий хор повторил: «С железной волей, с железной волей». Кондратьев внимательно вглядывался в лица, стараясь угадать, что в этих словах было искренне, а что официально, – но искренность, несомненно, перевешивала, да и сама эта шаблонная фраза была по существу искренней. Да – с железной волей. Он сурово поглядел на профиль Попова: «Ну посмотрим!»
Минуту спустя Попов и Кондратьев очутились в чьём-то кабинете, в широких кожаных креслах.
– Поболтаем, Кондратьев, хочешь?
– Конечно.
Разговор был вялый. В Кондратьеве проснулось подозрение. Чего он, собственно, добивался, этот старик, куда гнул, говоря о всякой всячине? Он пользуется доверием Политбюро, выполняет всякого рода поручения... Действительно простой случай свел нас здесь? В конце концов, поговорив об агенте, стоявшем во главе Французской компартии, – оказался не на высоте, его, кажется, собираются заменить другим, – Попов спросил:
– А какое, по-твоему, впечатление произвели процессы за границей?
«А, вот ты куда гнул?» – подумал Кондратьев. Он чувствовал себя таким же спокойным и уверенным, как ночью в своей комнате, полной предрассветной прохлады, когда браунинг был в тридцати сантиметрах от его сильной и смелой головы, когда в розовом сиянии гасли последние звёзды, самые яркие, ставшие белыми точками, почти растаявшие в облаках... Странный вопрос, опасный вопрос – его никогда никому не задавали. А ты мне его задаешь? Ты, может, для того меня и поджидал здесь? А потом, старый прохвост, ты сочинишь обо мне доклад? И значит, отвечая тебе, я рискую головой? Ну что ж – ладно!
– Какое впечатление? Прескверное, в высшей степени деморализующее. Никто ничего не понял. Никто ничему не поверил... Даже агенты, которых мы оплачиваем дороже других, ничему не поверили...
В маленьких глазках Попова отразился испуг.
– Шшш... Говори тише... Нет, не может этого быть...
– И как ещё может! Если ваши агенты пишут вам другое, то они глупо и гнусно врут. Я собираюсь написать об этом записку Генеральному секретариату, в дополнение к той, в которой я указал на несколько нелепых преступлений, совершённых в Испании...
На тебе, съешь, старик Попов! Теперь ты знаешь, что я об этом думаю. Со мной вы ничего не поделаете, то есть, конечно, можете меня убить – но только и всего. Я не сдамся. Пусть моё дело путешествует из одного ведомства в другое, – я не сдамся, это вопрос решённый. Попов услышал невысказанную мысль Кондратьева благодаря его тону, твёрдой челюсти, прямому взгляду. Тихонько потирая руки, Попов глядел на паркет.
– Ммм... но тогда... тогда... это очень важно, то, что ты мне сказал. Ты лучше записки не пиши... Я... ммм... поговорю об этом сам. (Пауза.) Тебя посылают в Серпухов, на праздник?
– Вот именно – на праздник!
Ответ был такой саркастический, что Попов с трудом подавил гримасу.
– Я б и сам охотно туда съездил... Проклятый ревматизм...
Попов лучше других – посвящённых – был знаком с делом Кондратьева, которое за несколько дней до того обогатилось, новыми, довольно смущающими документами. Среди них был доклад врача, прикомандированного к одесскому отделу секретной службы. о неком арестованном Н. (при сём фотография), умершем на «Кубани» за два дня до прибытия этого судна в порт, от кровоизлияния в мозг, которое, по-видимому, было вызвано общей слабостью телосложения, нервным переутомлением и, быть может, волнением. В других документах была попытка опознать личность арестованного, дважды засекреченную, так что в конце концов неизвестно было даже, действительно ли это троцкист Стефан Штерн; правда, это утверждали два барселонских агента, но в их показаниях позволительно было усомниться, так как оба были явно напуганы и доносили друг на друга. Стефан Штерн исчезал в этих сомнительных бумагах так же бесследно, как в мертвецкой одесского отдела ГПУ, где служащий военного госпиталя препарировал для экспорта «мужской скелет в превосходном состоянии, переданный нам отделом вскрытия под номером А-427».
Какой дурак присоединил этот документ к делу К.? Доклад агента венгерского происхождения (подозрительного типа, так как он знал когда-то Белу Куна) опровергал доклад Юванова о троцкистском заговоре в Барселоне, роли С. Штерна и возможной измене К.: венгру удалось установить личность капитана авиации, с которым у Штерна было два тайных свидания, – Юванов же спутал этого капитана с «Рудиным» (К.). Из дополнительного документа, присоединённого к делу по ошибке, но весьма ценного, выяснилось, что агент Юванов, заболевший на судне, самовольно высадился, в Марселе и с тех пор отлёживался в какой-то клинике в Эксе (Прованс).
Таким образом, записка К., направленная против Юванова, приобретала особую ценность, и, может быть, именно на это указывал штрих синим карандашом на полях осторожной заметки, составленной Гордеевым, в которой намечались два возможных ареста, – причём один исключал другой.
И наконец, из двух протоколов вытекало, что в 1927 году К. вовсе не голосовал за оппозицию на заседании партячейки отдела Торгпредства: секретный отдел архивных документов допустил в этом случае грубейшую ошибку, спутав Кондратьева Ивана Николаевича с Кондратенко Аполлоном Николаевичем... (Дополнительный документ, продиктованный самим Вождём: «Немедленно выяснить, как могло произойти это преступное смешение имён?» Из этого можно было заключить, что Вождь?..) Но Вождь, передавая Попову дело К., не сказал ему ни слова, у него был нахмуренный, изрезанный морщинами лоб, ничего не выражающий взгляд; он вроде сам колебался. Всё же ему, вероятно, нужен был процесс, доказывающий связь испанских троцкистов с убийцами Тулаева. Отчёты об этом процессе можно будет перевести на несколько языков, снабдить их блестящими предисловиями иностранных юристов, которые способны доказать вам всё, что угодно, и даже лишних денег за это не просят.
Сквозь сеть этих документов проходила линия жизни Ивана Кондратьева – твёрдая линия, которую не сломали ни орловская тюрьма, ни ссылка в Якутию, ни тюремное заключение в Берлине за хранение взрывчатых веществ; но незадолго до революции эта линия исчезла в тумане частной жизни: женившись и поселившись где-то в Центральной Сибири, агроном К. лишь изредка переписывался с Комитетом партии. «Пока нет революции – нет и революционеров», – говорил он, весело пожимая плечами. «Из нас, может, так ничего и не выйдет, и я кончу жизнь, отбирая семена для осенних посевов и печатая монографии о кормовых паразитах. Но если настанет революция, – увидите, изменился ли я!»
И это все увидели: на коне, во главе партизан Среднего Енисея, вооружённых старыми охотничьими ружьями, он доскакал до самого Туркестана, преследуя националистические и империалистические банды, потом поднялся вверх к Байкалу, напал на поезд, шедший под флагом трёх держав, взял в плен японских, британских и чешских офицеров, выиграл у них несколько шахматных партий, чуть не отрезал отступление адмиралу Колчаку...
– Недавно мне попался старый номер одного журнала, – сказал Попов, – и я перечитал твои воспоминания...
– Какие воспоминания? Я никогда ничего не писал.
– Ну как же? А дело архидиакона в 19-м или. в 20-м году?
– Ах да, верно! Эти номера «Красного архива» теперь, конечно, недоступны читателям?
– Конечно.
Он отвечал ударом на удар. За этим чувствовалась затаённая злоба или какое-то решение...
Дело архидиакона Архангельского в девятнадцатом или двадцатом году... Архидиакон попал в плен во время отступления белых, которых он благословлял перед боями. У этого толстого, волосатого и бородатого старика, хитреца и румяного мистика, в солдатской сумке был пакет непристойных открыток, Евангелие, носившее отпечатки протабаченных пальцев, и Откровение Иоанна с такими пометками на полях: «Помилуй нас, Боже! Хоть бы ураган очистил нашу землю от всякия скверны. Господи, спаси меня».
Кондратьев воспротивился его расстрелу на заседании ревтрибунала: «Все они таковы... В этой области народ верующий – незачем ожесточать людей. И нам нужны заложники для обмена». Он увел архидиакона вместе с семьюдесятью партизанами (среди которых был с десяток женщин) на берег, потом они спустились вниз по реке, между густыми лесами, откуда на голубой заре или в сумерках вылетали чрезвычайно меткие пули. Приходилось плыть ночью, а днём укрываться возле островков или в мелководье. Раненые лежали друг возле друга в трюме, они исходили кровью, стонали, ругались, молились, жаловались на голод: люди жевали разваренные кусочки кожаных поясов. По ночам удили, но рыб попадалось мало, и их приходилось уступать самым слабым, которые пожирали их сырыми на глазах у других голодных.
Приближались к речным порогам, там их ждал бой, но они не в состоянии были драться. Им казалось, что они уже много дней плывут в смердящем гробу. Никто не смел выглянуть из трюма. Кондратьев через дыры глядел на берега; на фиолетовых, медных и золотистых скалах вставали непроходимые леса, небо было белое, вода студёная – это был беспощадный, смертоносный мир. Ночная свежесть и звёзды приносили им облегчение, – но всё труднее становилось подниматься по ступенькам из трюма.
Тогда начались тайные совещания, и Кондратьев знал, о чём на них говорилось: «Надо сдаться, выдать большевика, пусть его расстреляют, – что за беда? одним человеком меньше... Надо сдаться, не то мы все подохнем, как те трое, что на корме...» Ночью, во время стоянки, когда было уже недалеко до порогов, на палубе щёлкнул выстрел, как удар хлыста, потом услышали, как упало в неглубокую воду тяжёлое тело. Никто не двинулся с места. Кондратьев спустился в трюм, зажёг факел и сказал: «Товарищи, завтра на заре мы дадим последний бой. Иннокентьевка в четырёх верстах, в Иннокентьевке найдём и хлеб, и скотину...» – «Какой ещё бой? – проворчал кто-то, – не видишь, что ли, дурак, что мы – трупы?» У Кондратьева кружилась голова, постукивали зубы, но он был полон решимости. Сделав вид, что не слышал возражения, он разрядился трёхэтажным матом, самым грубым и длинным, какой только знал. Пена выступила у него на губах: «Во имя восставшего народа я расстрелял этого прохвоста в рясе, распутника, бородатого сатану, и пусть его чёрная душа отправится прямёхонько к его хозяину!..» Эти живые мертвецы мгновенно поняли, что на прощение им рассчитывать больше не приходится. Несколько секунд длилось гробовое молчание, потом стоны заглушили тихую ругань, обезумевшие люди, как тени, окружили Кондратьева; он думал, что они раздавят его, но нет: чьё-то огромное покачивающееся тело мягко свалилось на него, он увидел вплотную лихорадочно блестящие зрачки; костлявые, но до странного сильные руки его крепко обняли, и он почувствовал на своём лице горячее дыхание: «Правильно, браток, сделал! Правильно! Всех этих паршивых собак перестрелять надо, всех, говорю тебе, всех!» Кондратьев созвал верных людей на «штабное совещание», чтобы подготовить завтрашнюю операцию. Вытащил из-под тюфяка последний мешок с хлебом и сам раздал на удивление щедрый паёк (он хранил этот запас на крайний случай): дал каждому по два ломтя величиной с ладонь. Даже умирающие потребовали своей доли – а жаль, потерянный кусок... Пока начальники совещались при свете факела, слышалось только, как ослабевшие челюсти жевали эти сухие корки.
Об этом эпизоде из далёкого прошлого у Кондратьева и Попова оставалось теперь лишь письменное воспоминание. Кондратьев сказал:
– Я почти позабыл об этой истории... Тогда я не подозревал, что через двадцать лет после нашей победы человеческая жизнь так обесценится.
Замечание было не вызывающее, но било в цель. Попов это ясно почувствовал. Кондратьев улыбался.
– Да... А потом, на заре, мы долго шли по мокрому песку... Заря была молчаливая, зелёная. Мы чувствовали себя удивительно сильными – сильными, как смерть, думалось мне, – но драться нам не пришлось. Настал день. Мы жевали на ходу горькие листья, были чертовски счастливы. Да, брат...
«А теперь, когда тебе перевалило за пятьдесят, – подумал Попов, – что осталось от твоей силы?»
...После этого Кондратьев заведовал речным транспортом – в ту эпоху, когда брошенные баржи гнили у берегов, – отчитывал молчаливых рыбаков, организовывал молодёжь, производил семнадцатилетних в капитаны и поручал им команду над плотами, создал Школу речного судоходства, где учили главным образом политической экономии, стал крупным организатором целой области, поссорился с Плановым комитетом, попросил, чтобы ему поручили руководство отделом пушнины Крайнего Севера, был командирован в Китай...
Устойчивый человек, и психология у него скорее солдата, чем идеолога. Идеологи, разбирающиеся в гибкой и сложной диалектике наших дней, легче сдают позиции, чем военные: тех, когда завязывается «дело», приходится в семи случаях из десяти расстреливать без долгих разговоров. Даже когда они обещают вести себя как полагается перед судом и публикой, положиться на них нельзя – так что же с ними делать? Пока Попов мысленно взвешивал невесомое, в памяти его пролетели законченные процессы, возможные процессы, тайная инквизиция, бесчисленные «дела» и много разных подробностей, бесформенных, спутанных, но иногда, когда бывает нужно, удивительно точных.
Кондратьев не подводил итоги своей прошлой жизни, но догадывался о мыслях Попова; на его губах застыла холодная, почти дерзкая полуулыбка, и он удобнее расположился в кресле. Попов почувствовал, что он настроен воинственно. Из-за неожиданной смерти Рыжика процесс уже наполовину провалился; Кондратьев – в теории идеальный обвиняемый – грозил провалом другой половине. Что же теперь сказать Хозяину? А ничего не сказать – нельзя.
Разве свалить ответственность на прокурора Рачевского? Этот мул, привыкший тащить за собой тележки с осуждёнными, наделал бы кучу оплошностей, но даже если бы его самого потом ликвидировали – легче бы от этого не стало.
Почувствовав, что молчание затянулось на несколько лишних секунд, Попов поднял голову – и получил удар прямо в лоб.
– Ты меня, надеюсь, понял? – спросил Кондратьев, не повышая голоса. – Я, кажется, в немногих словах сказал тебе многое... И, как тебе известно, я от своих слов никогда не отказываюсь...
Почему он на этом настаивал? Неужели он знал?.. Но откуда? Нет, не мог он знать!
– Ну, конечно, ясно, – забормотал Попов, – я... мы тебя знаем, Иван Николаевич. Мы... тебя ценим...
– Я прямо в восторге, – сказал ставший совершенно невыносимым Кондратьев. И Попов опять отчётливо услышал невысказанную его мысль: «И я вас знаю».
– Ты, значит, едешь в Серпухов?
– Завтра, на машине.
Попову нечего было больше сказать. На губах его застыла сердечнейшая и фалыпивейщая улыбка, лицо его посерело, и даже душонка сморщилась. Телефонный звонок положил конец неприятному положению.
– До свиданья, Кондратьев. Я спешу. А жаль... Надо бы почаще встречаться... Собачья жизнь... ммм... Приятно хоть немного поговорить по душам...
– Замечательно приятно!
Кондратьев тяжёлым взглядом проводил его до двери. «Скажи им, что я буду орать, буду орать за всех тех, которые орать не посмели, буду орать и под землёй, – и мне наплевать на пулю в затылок, наплевать на тебя и на меня самого, – надо же, чтобы кто-нибудь заорал под конец, не то всё пойдет к чёрту. Но что со мной, откуда взялась у меня такая энергия? Что это, воспоминания молодости, зари в Иннокентьевке, Испании? Но всё равно – я буду орать!»
День в Серпухове прошёл в особой атмосфере: явь как бы смешивалась со сном. Откуда у Кондратьева была уверенность, что его не арестуют ни этой ночью, ни на другой день, по дороге в Серпухов, в машине ЦК, которую вёл шофёр из госбезопасности? Он знал это, но продолжал спокойно курить, любоваться берёзками и рыже-серым оттенком полей под пролетавшими в высоком небе облаками. Он не пошёл в местный профсоюзный комитет до начала праздника, хоть это и полагалось, – ему не хотелось глядеть на физиономии бюрократов, хотя между провинциалами, верно, есть ещё порядочные типы. Отпустив удивлённого шофёра посреди улицы, он остановился перед окнами продовольственного и писчебумажного кооператива и тотчас же заметил бумажки с надписями: «Образцы», «Пустые коробки» (на коробках с печеньем), «Тетрадей нет». Прочёл газету, вывешенную у входа в Управление местной промышленности, похожую на все районные газеты, составленную из ежедневных циркуляров отдела печати при обкоме.
Кондратьев пробежал только местную хронику, так как содержание первых двух страниц знал заранее, и сразу же напал там на занятные вещи. Редактор сельской хроники писал, что «тов. председатель колхоза «Торжество социализма», несмотря на неоднократные предупреждения, упорствует в своём вредном антикоровьем идеологическом уклоне, который противоречит указаниям Нар. коммиссариата». Антикоровьем! Замечательное словосочетание, чёрт возьми! От этой безграмотной писанины ему стало и досадно, и грустно. «Тов. Андрюшенко не позволил запрячь коров в плуг для запашки. Неужто надо напоминать ему решение последней конференции, единогласно принятое после убедительного доклада ветеринара Трошкина?..» Кондратьеву вспомнилось, как где-то в степи, под бескрайним небом, он увидел однажды корову, запряжённую в телегу; на телеге стоял белый гроб, усыпанный бумажными цветами; баба и двое малышей шли позади. Если корова способна тащить на далёкое кладбище гроб какого-то бедолаги, почему ж ей не обрабатывать поля? А потом можно будет отдать под суд заведующего молочной фермой за невыполнение плана молочной продукции. За время коллективизации мы потеряли шестнадцать или семнадцать миллионов лошадей, от 50 до 52 процентов всех у нас имевшихся, – так пусть изворачивается, как знает, корова земли русской, раз нельзя запрячь в плуг членов ЦК.
Николай I велел своим архитекторам нарисовать модели церквей и школ, обязательные для всех строителей империи. А мы создали эту прессу в мундире, в которой трудятся борзописцы, изобретатели «антикоровьего идеологического уклона».
Как медленно растёт народ, особенно когда на плечи ему взваливают непосильный груз и связывают его по рукам и ногам... Кондратьев думал о сложных взаимоотношениях традиций и ошибок, в которых мы сами виноваты...
Высокий молодой человек в чёрной кожаной форме танкового училища быстро вышел из магазина, обернулся, оказался вдруг лицом к лицу с Кондратьевым, – и враждебное удивление отразилось на его безбородом лице и в холодных глазах. («Эти глаза твёрдо решили молчать».)
– Это ты, Саша! – мягко воскликнул Кондратьев и почувствовал, что и ему лучше говорить поменьше.
– Да, я, Иван Николаевич, – сказал молодой человек и так смутился, что даже немного покраснел.
Кондратьев чуть не сказал: «Правда, хорошая погода?», но тут же осознал, что так изворачиваться нельзя... У Саши было правильное, мужественное лицо, высокий лоб, широкие ноздри. Кожаный шлем ему очень шёл.
– Из тебя получился воин хоть куда, Саша. Ну, как учеба?
Саша сделал первый шаг, заговорив с удивительным спокойствием, как будто речь шла о самом банальном предмете:
– Когда арестовали отца, я думал, что меня выгонят из школы. Но нет, не выгнали. Может, оттого, что я один из лучших учеников, а может, есть такая директива: не исключать сыновей расстрелянных из специальных школ? Вы как думаете, Иван Николаич?
– Не знаю, – сказал Кондратьев, потупившись.
К кончикам его сапог пристала грязь. Кровоточащий, наполовину раздавленный червяк пробирался между двумя плитами тротуара. На плите Кондратьев заметил булавку и в нескольких сантиметрах от неё – плевок. Он поднял глаза и посмотрел Саше прямо в лицо.
– А ты сам как думаешь?
– Я сначала сказал себе так: ведь все знают, что мой отец ни в чём не виноват. Но это, конечно, в счёт не идет. Между прочим, политрук советовал мне переменить фамилию. Но я отказался.
– Напрасно, Саша. Это тебе в дальнейшем очень помешает. Больше им нечего было сказать друг другу.
– А что, война будет? – спросил Саша таким же ровным голосом.
– Вероятно.
Сашино лицо чуть осветилось внутренней улыбкой. Кондратьев же откровенно улыбнулся. И подумал: «Молчи, брат, я тебя понял. Прежде всего – разбить врага!»
– Правильно, – сухо сказал Саша. – Да, Иван Николаич. Хотелось бы достать немецкие книги о тактике танкового боя. Нам придётся иметь дело с тактикой, которая выше нашей.
– Зато у нас дух будет выше...
– Правильно, – сухо сказал Саша.
– Постараюсь раздобыть для тебя эти книги. Желаю удачи, Саша...
– И я вам тоже, – ответил тот.
Показалось Кондратьеву – или действительно в Сашиных глазах мелькнула странная искорка, в его интонации был затаённый смысл, в рукопожатии – сдержанный порыв? «Он мог бы ненавидеть, презирать меня, и всё же он меня понимает, знает, что я тоже...» Какая-то девушка поджидала Сашу у восковых голов парикмахерской «Шехерезада» («перманент за тридцать рублей» – треть месячного жалованья работницы).
Кондратьев мысленно произвел ещё более сложный подсчёт: согласно уже устаревшей статистике бюллетеней ЦК, мы менее чем за три года вывели из строя от 62 до 70 процентов коммунистов – служащих, руководящий состав, офицеров, то есть из примерно двухсот тысяч партийных кадров – не то сто двадцать четыре, не то сто сорок тысяч большевиков. По этим данным нельзя установить, какой процент из них был расстрелян, какой – отправлен в концлагеря, но если судить по нашему собственному опыту... Правда и то, что среди руководящих кадров процент расстрелянных особенно велик, и это влияет, вероятно, на мои расчёты...
За несколько минут до своего выступления Кондратьев оказался под белыми колоннами Дома Красной Армии. Взволнованные секретари выбежали ему навстречу – секретарь Исполкома, секретарь штаба, командующий округом и ещё другие, все в новеньких блестящих формах из жёлтой кожи, с блестящими кобурами; даже лица их лоснились. Они заискивающе жали ему руку, внушительной свитой пошли за ним по широкой мраморной лестнице; молодые офицеры приветствовали его, выпятив грудь и сохраняя скульптурную неподвижность.
– Через сколько минут мне выступать? – спросил он.
Ему ответили в один голос два секретаря, почтительно склонив гладко выбритые лица:
– Через семь минут, товарищ Кондратьев. Чей-то охрипший от почтительности голос осмелился предложить:
– Не угодно ли стакан вина? – и прибавил небрежно и робко: – У нас есть заме-ча-тельное цинандали.
Кондратьев кивнул головой, напряжённо улыбаясь. Ему казалось, что его окружают прекрасно сделанные манекены. Вся группа вошла в буфет. По обеим сторонам буфета на кремового цвета стенах висело два портрета. Один изображал Климента Ефремовича Ворошилова на вздыбленном коне; концом сабли он указывал на тёмную точку вдали; за ним, под чёрными тучами, вставали красные знамёна, окружённые массой штыков. Конь был выписан чрезвычайно старательно, его ноздри и глаз со световым бликом удались художнику ещё лучше, чем подробности седла. У всадника была круглая голова – как на лубочной картинке, – на его вороте ярко блестели золотые звёздочки. На другом портрете был изображен Вождь в белой куртке, выступающий с трибуны, и он весь был сделан из крашеного дерева, его улыбка была похожа на гримасу, трибуна – на пустой, буфет, а сам оратор напоминал официанта из кавказского духана. Он будто говорил со своим смешным акцентом: «Ничэго больше не осталось, гражданын...»
Зато настоящий буфет сверкал белизной скатерти и обилием яств: икра, волжская стерлядь, копченая сёмга, золотистые угри, жареная птица, фрукты из Крыма и Туркестана.
– Дары родной земли, – пошутил Кондратьев, подходя к столу и принимая из рук взволнованной пышной блондинки стакан цинандали.
В ответ на его шутку, в которой никто не услышал горечи, послышались подобострастные смешки – не слишком громкие, так как неизвестно было, можно ли смеяться в присутствии такого важного лица. За спиной блондинки, удостоенной чести прислуживать ему (фотогеничная, перманент за пятьдесят рублей и к тому же награждена орденом Трудового Красного Знамени), Кондратьев увидел широкую красную ленту, гирляндой окружавшую небольшую фотографию: его собственную. На ленте золотыми буквами было выведено: «Добро пожаловать, товарищ Кондратьев!» Откуда, чёрт побери, эти подлизы выкопали его старую фотографию? Кондратьев медленно допил стакан вина, строгим жестом отстранил улыбки и бутерброды и вспомнил при этом, что только мельком проглядел печатные тезисы речи.
– Позвольте, товарищи...
Пока он вытаскивал из кармана брюк смятые бумажки, свита отступила на три шага. Огромная белоглазая стерлядь ощерила на него свои маленькие хищные зубки. В напечатанной речи говорилось о международном положении, о борьбе с врагами народа, о технической подготовке, о непобедимой армии, о патриотизме, о верности гениальному Вождю народов, несравненному стратегу. Вот дураки! Они дали мне стандартную речь для начальников отделов. «Вождь нашей великой партии и нашей непобедимой армии, преисполненный железной энергии для борьбы с врагами Родины и воодушевлённый великой любовью к трудящимся и ко всем лояльным гражданам... «Человека не забывайте...» Он произнёс эти незабвенные слова на съезде партии, и они должны огненными буквами запечатлеться в сознании каждого командира, каждого политработника, каждого...» Кондратьев сунул эти мёртвые листки в карман брюк и, нахмурясь, поискал кого-то глазами. Дюжина лиц с готовностью, с услужливыми улыбками повернулась к нему: мы в вашем распоряжении, товарищ! Он спросил:
– У вас были случаи самоубийств?
Какой-то бритоголовый офицер поспешно ответил:
– Только одно, по причинам личного характера.. Двое покушались на самоубийство, но оба признали свою ошибку, и оба на хорошем счету.
Всё это казалось ирреальным, происходило в бесплотном мире, похоже было на снимок с самолёта. Но вдруг появилась реальность: деревянная крашеная трибуна, на которую Кондратьев положил свою крепкую, в голубых жилках, покрытую короткими волосками руку. Он поглядел с секунду на неё, потом на деревянную плиту, отметил малейшие особенности дерева, и у него внезапно возникло желание спокойно встретить эту реальность – взглянуть на триста незнакомых лиц, вместе и похожих, и разных, без слов утверждавших свою индивидуальность. Чего они от него ждали, эти внимательные анонимные лица? Какую существенную правду им сказать? В ту же минуту он услышал собственный голос, – и услышал его с неудовольствием, потому что он говорил ненужные слова, вычитанные в конспектах Агитпропа, заранее всем известные, тысячу раз прочитанные в передовых статьях, слова, о которых Троцкий как-то сказал, что их выговариваешь – точно вату жуешь. Зачем я пришёл сюда? А они зачем пришли? Потому что нас приучили повиноваться и мы ни на что другое больше не способны. Они не знают ещё, не догадываются, что в моем повиновении – смертельная опасность, что из-за него всё, что я говорю, даже если это чистая правда, – превращается в ложь. Я говорю речь, они меня слушают, некоторые из них стараются меня понять, но мы не существуем – мы повинуемся. Повиновение превратило нас в цифры и машины.
Он продолжал излагать тезисы. Перед собой он видел бритоголовых русских парней: крепкая раса, которую мы создали, освободив её от рабства, а потом уничтожив её волю... В одном из первых рядов какой-то монгол, с небольшой, прямо посаженной головой, строго смотрел Кондратьеву в глаза, судил, казалось, каждое его слово, – и тому послышалось: «Не то, не то, товарищ! Всё, что вы говорите, никому не нужно. Найдите другие слова или замолчите. Ведь мы как-никак живые люди...» И Кондратьев ответил ему так уверенно, что самый звук его голоса изменился. За его спиной всполошился президиум, состоявший из секретарей и начальника гарнизона: эти люди не узнавали привычных на таких торжествах слов и испытывали физическую тревогу, как на учении при ошибке командования: линия танков внезапно поддается, ломается, и в общем переполохе на командиров находит бессильный гнев. Политрук танковой школы, изо всех сил стараясь скрыть своё волнение, вытащил авторучку и стал что-то записывать, с такой быстротой, что буквы наезжали одна на другую... Он не успевал схватить на лету фразы докладчика из ЦК – из ЦК! Но ведь это невероятно? Докладчик говорил:
– ...Мы погрязли в преступлениях и ошибках, да, мы забыли о самом главном, живём лишь сегодняшним днём, – и всё же мы правы перед миром, перед будущим, перед нашей чудесной и несчастной Родиной, не СССР, не Россией, а Революцией... слышите, Революцией, не знающей территориальных границ... измученной... всемирной... человечной... Знайте, что завтра, на войне, почти вся кадровая армия погибнет в первые же три месяца. Кадровая армия – это вы, и вы должны знать, за что вы погибнете... Мир расколется надвое...
Может, надо его перебить? Может, преступно позволять ему говорить такое? Политрук отвечает за всё, что говорится с трибуны училища, но имеет ли он право перебивать оратора из ЦК? Начальник горнизона, известный болван, конечно, ни черта не поймёт, уловит только обрывки фраз... Начальник училища, побагровев, сосредоточил всё своё внимание на пепельнице.
Оратор продолжал говорить (и политрук схватывал лишь отдельные фразы, не умея связать их в одно целое).
– ...Все старики моего поколения погибли, и большинство их погибло в смятении... в отчаянии... по ошибке... Но они подняли мир на своих плечах, все они служили истине... Не забывайте этого никогда... Социализм... Революция... завтра начнётся борьба за Европу, охваченную мировым кризисом. А вчера, в Барселоне, было начало, но мы опоздали... мы забыли о мировом пролетариате, о человеке... мы опоздали, это наша вина.
Он говорил об Арагонском фронте, куда вооружение не доставлялось вовремя, – почему? Он вызывающе кричал «почему?», не давая объяснения. На что он намекал? Говорил о «героизме анархистов». И сказал (потрясённый политрук не мог отвести от него взгляда):
– Мне, может, никогда больше не придётся выступать, товарищи. Я пришёл сюда не для того, чтобы от имени ЦК нашей великой партии, нашей железной когорты...
«Железной когорты»? Да ведь это как будто выражение предателя Бухарина, врага народа, агента Интеллидженс Сервис?
– ...вызубренные наизусть фразы, которые Ленин называл нашим коммунистическим враньем, комвраньем. Я прошу вас взглянуть на реальность прямо, со свойственной молодёжи смелостью, даже если эта реальность смущает вас, кажется вам низкой; я прошу вас строго осудить нас, стариков, в глубине вашего сознания за то, что мы не сумели добиться лучшего, и, осудив, – перегнать нас. Призываю вас быть под бронёй дисциплины свободными людьми, обо всём судить и мыслить самостоятельно. Социализм – не механизация человека, социализм – организация смелых, сознательных и волевых людей, которые умеют ждать, отступать, когда надо, и идти вперёд. Тогда вы поймёте, что мы все велики, и мы – последние, а вы – первые люди завтрашнего дня... Живите будущим... Среди вас были такие, что собирались дезертировать, потому что повеситься или застрелиться – значит стать дезертиром. Я их прекрасно понимаю, я и сам иногда об этом думал, иначе не имел бы права об этом говорить... Им я советую взглянуть на нашу огромную страну, увидеть будущее... Жалок тот, кто думает только о своей жизни, о своей смерти – он, значит, ничего не понял... тогда пусть уйдёт, ничего другого ему не остается, – пусть уйдёт, и мы пожалеем его...
Оратор продолжал свою бессвязную, но такую убедительную речь, что политрук на минуту потерял самообладание; оно вернулось к нему, когда Кондратьев в очень странных выражениях заговорил о Вожде:
– ...Из всех нас самый одинокий, ни от кого не ждущий помощи, изнемогающий под бременем своей сверхчеловеческой задачи и наших общих ошибок... в нашей отсталой стране, где новое самосознание ещё тщедушно и слабо... отравлено подозрениями...
Но он закончил знакомыми успокоительными формулами о «гениальном Вожде», «непоколебимой руке пилота», «продолжателе дела Ленина»... А когда он замолчал, весь зал с минуту мучительно колебался. Президиум не подал сигнал к рукоплесканиям; триста слушателей ждали продолжения. Молодой монгол приподнялся и страстно захлопал в ладоши, и, как бы по его знаку, послышались шумные и неровные, точно электризующие, аплодисменты, – но среди них были и островки молчания. В глубине зала Кондратьев заметил Сашу, растрёпанного, вытянувшегося во весь рост, но не аплодировавшего. Политрук, повернувшись к кулисам, подал кому-то знак, оркестр грянул «Если завтра война», весь зал подхватил мужественный припев; три орденоносных работницы в форме Осоавиахима появились на краю зстрады, причём в руках одной из них было новое знамя училища из огненно-красного, богато расшитого золотом шёлка.
Когда начался бал, военные в новёхоньких формах с принужденными улыбками окружили Кондратьева. Начальник гарнизона, ни слова из речи не понявший, но слегка подвыпивший и находившийся поэтому в приятном настроении, ухаживал за Кондратьевым с ловкостью наевшегося сластей медведя. Он в удивительно нежных, можно сказать, влюблённых выражениях предлагал ему бутерброды, за которыми сам сходил в буфет. «Вот эту икорочку попробуйте, товарищ дорогой, – эхма, жисть наша...» Когда он с подносом в руке проходил, сияя, сквозь толпу танцующих в сапогах, до такого блеска начищенных, что в них отражалось мелькание шёлковых платьев, казалось, что он сейчас поскользнется и грохнется на пол, – но он шёл дальше с удивительной лёгкостью, несмотря на свою полноту.
Начальник училища, бульдог с тёмно-багровым лицом и маленькими голубыми, остро-холодными глазками, сидел не шевелясь, не говоря ни слова, рядом с делегатом ЦК, с застывшей на лице, похожей на гримасу улыбкой и размышлял над отрывками непонятных фраз, может, ужасных – это он сознавал, – таивших в себе неопределённую угрозу против него самого, хоть он и был вполне лоялен. «Мы погрязли в преступлениях, и всё же мы правы перед миром... Почти все старики погибли, рабски, рабски...» Это было до того невероятно, что он перестал размышлять и сбоку осторожно покосился на Кондратьева, – да полно, действительно ли он из ЦК? Может, враг народа, вкравшийся в доверие организаций, подделавший официальные документы с помощью иностранных агентов, чтобы внести смуту в самое сердце Красной Армии? Это подозрение так его ущемило, что он встал и мелкими шажками направился к буфету, чтобы разглядеть вблизи фотографию товарища, обрамленную красными лентами. Это он, – сомнения не могло быть, но хитростям врага нет предела: заговоры, процессы, предательство маршалов это достаточно доказали. Может, этот самозванец был загримирован: шпионские организации умеют искусно использовать малейшее случайное сходство. А может, фотография – фальшивка? И товарищ Булкин, недавно произведённый в полковники и видевший, как за последние три года исчезли три его начальника (вероятно, были расстреляны), чуть с ума не сошёл от страха. Первой мыслью его было: велеть охранять выходы и предупредить госбезопасность. Что за тяжёлая ответственность! У него вспотел лоб.
Пробираясь сквозь толпу, танцевавшую танго, он заметил начальника городского отдела госбезопасности, очень серьёзно разговаривавшего с Кондратьевым, – может, он уже обо всём догадался и незаметно допрашивал оратора? Полковник Булкин, лоб которого был изрезан продольными морщинами – признак напряжённой умственной деятельности, – долго бродил по залам в поисках политрука и наконец нашёл его (тоже, видимо, озабоченного) – у двери телефонной будки: звонил по прямому проводу в Москву.
– Друг Савельев, – сказал Булкин, взяв под руку, – не понимаю, что тут творится... Прямо не смею подумать... Вы уверены, что он действительно докладчик из ЦК?
– Что вы говорите, Филипп Платонович!
Но это был не ответ, а восклицание. Они боязливо пошептались между собой, потом обошли большой зал, чтобы ещё раз поглядеть на Кондратьева, который сидел, высоко закинув одну ногу на другую, курил и, видимо, чувствовал себя как нельзя лучше: он смотрел на танцоров, среди которых были красивые девушки и симпатичные парни. При виде его оба сотрудника почтительно застыли на месте. Булкин, который был поглупее, глубоко вздохнул и конфиденциальным шёпотом спросил:
– А вы не думаете, товарищ Савельев, что это означает перемену политики ЦК? Указывает на новую линию политического воспитания младшего состава?
Политруку Савельеву пришло вдруг в голову, что он, может, сделал величайшую глупость, сообщив по телефону в ЦК (правда, в очень осторожных выражениях) содержание речи Кондратьева. Во всяком случае, прощаясь с товарищем делегатом ЦК, надо будет сказать ему, что «драгоценные указания его замечательно интересного доклада завтра же лягут в основу нашей воспитательной работы». Вслух он заключил:
– Всё может быть, Филипп Платонович. Но, по-моему, надо подождать дополнительных инструкций.
Кондратьев собрался уходить: ему не терпелось вырваться из окружения подобострастных офицеров. Но он только на минуту случайно оказался один у выхода из большого зала, где гремела музыка. Из толпы танцующих выплыло два лица: одно – прелестное, с весенним смехом в глазах, другое – с чёткими чертами и как бы изнутри освещённое: это был Саша. Он задержал свою даму, и они стали кружиться на месте; молодой человек наклонился к Кондратьеву:
– Спасибо, Иван Николаич, за то, что вы нам сказали.
Танцевальный ритм приблизил к Кондратьеву девичью головку, обвитую каштановыми косами, с золотистыми бровями на гладком лбу; ещё одно движение – и перед ним опять был Саша с его бледными губами, настойчивым и затуманенным взглядом. Под гром оркестра Саша тихо, без признака волнения, сказал:
– Иван Николаич, я думаю, что вас скоро арестуют...
– Я тоже так думаю, – просто ответил Кондратьев и дружески помахал им рукой.
Ему хотелось поскорее уйти из этого раздражавшего его мира, от тупых, раскормленных физиономий, знаков отличия, слишком тщательно причёсанных, в слишком яркие шелка разодетых женщин, от этих молодых людей, против воли взволнованных, но не способных думать самостоятельно – потому что это им в училище запрещалось, – готовых почти с радостью пожертвовать жизнью в ближайшем будущем, сами не зная, во имя чего...
В этом большом, ярко освещённом зале в то время, как оркестр играл вальс, Кондратьеву вдруг вспомнилось одно утро на фронте Эбро, который он инспектировал. Инспекция, как и все предыдущие, не имела никакого смысла: штабы никак не могли уже спасти положения. Штабные офицеры с видом знатоков разглядывали неприятельские позиции на холмах, испещрённых кустами, как шкура пантеры – пятнами. Стояло прохладное, непорочное утро, обрывки голубоватого тумана цеплялись за склоны Сьерры, с каждой секундой разгоралось небесное сияние, в нём вставали солнечные лучи и разворачивались веером над сверкающим изгибом реки: по обе стороны её стояли вражеские армии. Кондратьев знал, что приказы невыполнимы и что те, кто отдает их – все эти полковники, из которых одни были похожи на измученных бессонными ночами механиков, а другие – на элегантных сеньоров, приехавших из своих министерств, чтобы провести конец недели на фронте и готовых смыться в Париж, в самолёте или спальном вагоне, с секретными командировками, – что все эти командиры поражения, героические и жалкие, никаких иллюзий на свой счёт больше не питали... Он повернулся к ним спиной и полез по козьей тропинке, усеянной белыми камешками, к укрытию командира батальона. На повороте тропинки лёгкий глухой и ритмический шум привлек его внимание. Он подошёл к ближайшей вершине: там, на сухой земле, топорщился одинокий, колючий чертополох, и его крепкие ветки, пощаженные бомбёжкой, врезались в небо. Под этим крошечным пустынным пейзажем группа бойцов в полном молчании засыпала землёй большую могилу, в которой лежали рядышком убитые бойцы. На живых и на мёртвых была одинаковая одежда, и все они были похожи: у мёртвых были землистые лица, не страшные, а скорее жалкие, с полуоткрытыми ртами, опухшими губами (и странно, нигде не было видно следов крови), а у живых – сосредоточенные, худые, склонившиеся к земле, лоснившиеся от пота. Ни на что не глядя, не видя утреннего света, они работали быстро и дружно, их лопаты одновременно бросали комья земли в могилу, и слышался негромкий, глухой шум. Никто ими не командовал. Ни один из них не повернулся к Кондратьеву, ни один, вероятно, не заметил его присутствия. Кондратьеву стало неловко стоять за ними, ничего не делая, и он спустился вниз, ступая особенно осторожно, чтобы камешки не скользили из-под ног.
И теперь он точно так же, украдкой, уходил с бала, и никто не оглянулся на него: для танцевавших солдат он был таким же чужим, как тогда – для бойцов-могильщиков. И так же, как тогда, здесь, на мраморной лестнице, его догнали штабные офицеры, предлагая свои услуги, домогаясь его мнения.
Он спустился по лестнице, окружённый секретарями и командирами, отклоняя по дороге одно за другим все их приглашения. Те, что были в самых высоких чинах, предлагали ему переночевать у них, чтобы завтра присутствовать на учении, осмотреть мастерские, школу, казармы, библиотеки, бассейн, штрафное отделение, моторизованную кавалерию, образцовый госпиталь, походную типографию... Он улыбался, благодарил, обращался к незнакомым на «ты», даже шутил, хотя ему хотелось крикнуть: «Довольно! Замолчите вы наконец! Я не из штабной породы, неужели это у меня на лице не написано?» Эти марионетки и не подозревали, что он через несколько дней будет арестован; он всё ещё представлялся им в ореоле Центрального Комитета.
Он заснул в «линкольне» ЦК. Незадолго до рассвета где-то на дороге его разбудил толчок. Пейзаж понемногу вырисовывался из темноты: он различил чёрные поля под бледными звёздами. И то же выражение безысходной грусти он увидел через несколько часов на лице Тамары Леонтьевны, пришедшей в его кабинет с докладом. Он был в хорошем настроении и с улыбкой фамильярным жестом взял её за руку – но тотчас же ощущение смутного страха сообщилось и ему.
– Ну вот, всё прекрасно улажено, – это дело донецкого профсоюза будет закончено через сутки... но что с вами, Тамара Леонтьевна, вы больны? Не надо было приходить сегодня, если вы себя плохо чувствуете.
– Я пришла бы во всяком случае, – пробормотала Тамара Леонтьевна бескровными губами, – простите меня, но я должна, я должна вас предупредить...
Она, по-видимому, была в отчаянии, не находила слов.
– Уходите отсюда, Иван Николаевич, уходите сейчас же и больше не возвращайтесь. Я нечаянно подслушала телефонный разговор между директором и... не знаю кем... не хочу знать, не должна знать и не имею права вам это говорить... Ах, боже мой, что я делаю!
Кондратьев ласково взял её за руки: они были ледяные.
– Полно, полно, я и сам знаю, Тамара Леонтьевна, успокойтесь... Вы думаете, что меня арестуют? Она утвердительно моргнула.
– Уходите отсюда, скорее, скорее!..
– Да нет же, – сказал он, – вовсе нет.
Он отошёл от неё, превратился снова в недоступного заместителя начальника по проверке спецпланов.
– Благодарю вас, Тамара Леонтьевна. Прошу вас закончить к двум часам дело угольных копей Юзовки. А пока что позвоните Генеральному секретарю, настаивайте от моего имени, постарайтесь дозвониться до кабинета Генсека... Немедленно, пожалуйста!
Неужели этот свет – свет последнего дня? Добиться аудиенции у Генсека? Один шанс на тысячу... А дальше что? Красивая морская рыба, вся, как кирасой, покрытая чешуей, бьётся в удушливых сетях, и в каждой чешуйке отражается блеск всего мира... Но я готов.... Он яростно курил одну папиросу за другой, бросал каждую после двух затяжек, давил её на краю стола, кидал на пол и немедленно закуривал другую. Челюсти его сжались, он забывал обо всём на минуту в своём директорском кресле, в этом нелепом рабочем кабинете, преддверии невообразимых пыток. Тамара Леонтьевна вошла опять, не постучавшись.
– Я вас не звал, – сердито сказал он, – оставьте меня в покое. Ах да, вы соедините меня по телефону, когда получите сообщение...
Может, действительно надо бежать, может, существует ещё какая-то возможность?
– Ну, в чём дело? Угольные копи Горловки?..
– Нет, нет, – сказала Тамара Леонтьевна, – я попросила для вас аудиенцию. Он примет вас ровно в три в Центральном Комитете...
– Что, что? Вы это сделали? Да кто вам позволил? Вы с ума сошли – это неправда! Я вам говорю, – вы с ума сошли...
– Я слышала ЕГО голос, – продолжала Тамара Леонтьевна, – ОН САМ подошёл к телефону, уверяю вас...
Она говорила о нём с благоговейным ужасом. Кондратьев окаменел: большая морская рыба начинает задыхаться...
– Хорошо, – сухо сказал он, – займитесь докладом о Донецкой области, Горловке и прочем. А если у вас болит голова, примите аспирин.
...Без десяти минут три; большая приёмная Генерального секретариата. Два председателя союзных республик тихо беседовали между собой. Говаривали, что иные председатели республик бесследно исчезали по выходе из этой приёмной. Три часа. Пустота. Шаги в пустоте.
– Пройдите, пожалуйста...
Пройдите в пустоту.
Вождь стоял в неяркой белизне своего просторного кабинета. Он встретил Кондратьева неласково; рыжие его глаза были непроницаемы. «Привет», – равнодушно пробормотал он. Кондратьев не испытывал ни малейшего страха и сам удивлялся своему спокойствию. «Ну вот, мы с тобой стоим лицом к лицу: ты – Вождь, а я? Я и сам, по правде сказать, не знаю, жив ли я ещё или мёртв, – если не считать отрезка времени второстепенного значения. Что же дальше?»
Вождь сделал несколько шагов по направлению к нему, но не протянул ему руки. Осмотрел его с головы до ног – медленно, сурово. Кондратьев уловил страшный, не высказанный вслух вопрос: «Ты – мой враг?» – и ответил так же, не разжимая губ: «Я враг? Ты что, с ума сошёл?»
Вождь спокойно спросил:
– Ты, значит, тоже изменяешь?
И так же спокойно, из глубины абсолютной уверенности, Кондратьев ответил:
– Нет. Я тоже не изменяю.
Каждое слово этой страшной фразы – как ледяная глыба. От таких слов отказаться невозможно. Ещё несколько секунд, и всё будет кончено. За такие слова вас уничтожают тут же, на месте. Но Кондратьев твёрдо закончил:
– И ты сам это знаешь.
Сейчас он кого-то позовёт, приглушённым от гнева голосом отдаст приказ. Его руки сделали несколько несвязных движений, – может быть, искали кнопку звонка? Уведите этого мерзавца, арестуйте, уничтожьте его: то, что он сказал, в тысячу раз хуже предательства. И Кондратьев опять заговорил со спокойной решимостью:
– Не сердись. Это ни к чему не приведёт. Всё это мне очень тяжело... Выслушай меня... Ты можешь мне верить или не верить, мне это почти безразлично: правда останется правдой. И правда – вот она: несмотря на всё...
Несмотря на всё?
– ...Я тебе верен. Многого я не понимаю. Многое понимаю слишком хорошо. И мне страшно. Я думаю о нашей стране, о революции, о тебе – и думаю о них. Скажу тебе откровенно: больше всего думаю о них. И не могу не жалеть до глубины души, что они погибли: что это были за люди! Что за люди! Истории нужны тысячелетия, чтобы создать таких. Неподкупных, умных, сложившихся в течение тридцати – сорока решающих лет – и чистых, чистых!.. Позволь мне высказать это, ты ведь знаешь, что я прав. Ты похож на них, в этом твоя основная заслуга.
(Так Каин и Авель вышли из одной утробы, родились под теми же звёздами...)
Вождь обеими руками отстранил невидимые препятствия. Сказал без тени волнения, глядя в сторону с безразличным видом:
– Ни слова больше об этом, Кондратьев. Это было необходимо. Партия и страна меня поддержали... И не тебе об этом судить. Ты – интеллигент (на его невыразительном лице мелькнула недоброжелательная улыбка), а я, сам знаешь, никогда интеллигентом не был...
Кондратьев пожал плечами.
– Не всё ли равно? Не время сейчас спорить о недостатках интеллигенции. И признайся, она всё же оказала немалые услуги... Скоро настанет война... Тогда сведутся счёты – все старые, грязные счёты, – ты это знаешь лучше меня... Может быть, мы все погибнем и увлечем тебя за собой. В самом лучшем случае ты будешь последним из последних. Благодаря нам, на наших костях, ты продержишься на час дольше нас. России недостаёт людей, знающих то, что знаем мы с тобой и что знали они... Людей, изучивших Маркса, лично знавших Ленина, создавших Октябрь, свершивших всё остальное – лучшее и худшее. Сколько нас осталось? Тебе это лучше знать, ведь и ты один из нас... И земля задрожит, как бывает, когда все вулканы пробуждаются разом на всех континентах. В этот чёрный час мы будем под землёй, а ты останешься один. Вот и всё.
Он продолжал тем же грустно-убедительным тоном:
– Ты останешься один над лавиной, и за тобой будет погибающая в страданиях страна, а вокруг тебя – куча врагов. Никто не простит нам, что мы начали строить социализм таким бессмысленно-варварским способом... У тебя крепкие плечи, я в этом не сомневаюсь, – крепкие, как наши, которые тебя вынесли. Место личности в истории невелико, особенно когда личность оказалась в одиночестве на вершине власти... Надеюсь, твои портреты – каждый величиной с дом – тебя не обольщают?
Действие этих простых слов было чудесным. Они пошли рядом по белому ковру. Который из них вёл за собой другого? Остановились перед картой полушарий: океаны, континенты, границы, промышленность, зелёные пространства, наша шестая часть света, отсталая и могущественная, стоящая под угрозой... Широкая красная черта в полярной области обозначала Великий Северный путь. Вождь залюбовался рельефом Урала: Магнитогорск, наша новая гордость, где доменные печи оборудованы лучше, чем в Питсбурге. Вот это – самое главное. Вождь наполовину повернулся к Кондратьеву; жесты его стали определённее, голос мягче, взгляд яснее:
– Ах ты, литератор! Тебе бы психологией заниматься.
Движением пальца он весело иллюстрировал это слово – как будто сматывал и разматывал невидимый клубок. Потом улыбнулся:
– В наши дни, брат, Чехов и Толстой попали бы в заправские контрреволюционеры... Я, впрочем, люблю литераторов, хоть и нет у меня времени читать. Среди них есть полезные типы.. Случается, на одном романе они больше зарабатывают, чем многие пролетарии за всю свою жизнь. Справедливо это или нет? Не знаю – но нам это нужно... А твоя психология, Кондратьев, мне ни к чему.
Настала странная пауза. Вождь набивал трубку, Кондратьев разглядывал карту полушарий. Мёртвые не могут набивать трубку, гордиться Магнитогорском, который они построили. К сказанному нечего было добавить, всё было уточнено с объективной ясностью, в которой не было места ни хитрости, ни страху. А последствия этих слов будут, само собой, бесповоротными.
Вождь сказал:
– Ты знаешь, что на тебя был донос? Что тебя обвиняют в измене?
– Ещё бы! Как же этим прохвостам на меня не донести? Это их хлеб насущный. Жрут доносы с утра до вечера...
– То, что они о тебе говорят, довольно правдоподобно.
– Ну как же! Они на этом деле собаку съели. Чего проще – в наше время? Но какую бы гнусную чепуху они тебе ни написали...
– Знаю. Я внимательно просмотрел это дело. Какая-то идиотская испанская история... Ты зря в неё впутался, это факт. Я сам лучше всех знаю, что там наделали много гадостей и глупостей. Этот дурак прокурор хотел тебя арестовать. Им только дай волю, они всю Москву арестуют. Придётся нам от этой скотины избавиться... Какой-то маньяк... Но оставим это. Вот моё решение: ты едешь в Восточную Сибирь, завтра утром тебе принесут назначение. Не теряй ни минуты... Золотая Долина – знаешь что это такое? Наш Клондайк, где продукция ежегодно увеличивается на 40-50 процентов. Там у нас замечательные специалисты, но было и несколько саботажников, как полагается...
Довольный собой, он засмеялся; шутка ему не удавалась, звучала вызывающе. Он хотел казаться весёлым, но его смех всегда был несколько деланным.
– Нам нужен там человек с сильным характером, с крепкими нервами, с марксистским инстинктом золота...
– Я ненавижу золото, – с горячностью отозвался Кондратьев.
...Изгнание в белые сибирские чащи, в никому не ведомые золотые россыпи? Всем своим существом Кондратьев ожидал катастрофы, был готов к ней, даже смутно с горечью желал конца, – так человек, у которого на краю пропасти закружилась голова, сознаёт, что в нём самом таинственный двойник жаждет падения, как избавления. Что это значит? Ты меня помиловал, несмотря на всё, что я тебе наговорил? Ты что, издеваешься надо мной? Может, выйдя отсюда, я исчезну на первом же углу? Мы тебе больше не доверяем – поздно, слишком многих из нас ты погубил, а я не верю тебе, не хочу твоих командировок, которые оборачиваются ловушками. Ты не забудешь того, что я тебе сказал: сегодня ты меня пощадил, а через полгода велишь арестовать: от раскаяния и подозрения у тебя помутится в голове...
...Нет, Иосиф, спасибо, что даришь мне жизнь. Я ещё верю в тебя, я пришёл сюда за спасением... ты всё же велик, хоть и наносишь нам слепые удары, хоть и коварен, и разъедает тебя мучительная зависть, – ты всё ещё Вождь Революции, другого у нас нет. Спасибо тебе.
Но Кондратьев не высказал вслух ни благодарности, ни протеста. Паузы не было. Вождь опять засмеялся.
– Я же тебе говорю – ты литератор. На золото и мне наплевать... Но ты извини, у меня сегодня приёмный день. Возьмешь в секретариате папку с документами о Золотой Долине. Изучи их. Доклады будешь посылать мне лично. Я на тебя полагаюсь. Счастливого пути, брат.
– Ладно! Будь здоров. До свиданья.
Аудиенция продолжалась четырнадцать минут.
Кондратьев получил из рук секретаря кожаный портфель, на котором золотыми буквами были вытиснены волшебные слова: Золототрест Восточной Сибири. Он прошёл мимо синих форм, не замечая их. Дневной свет показался ему прозрачным. С минуту он шёл среди прохожих, ни о чём не думая; в нём поднималась физическая радость, и в то же время он испытывал грусть, как бы от сознания своей ненужности. Он присел на скамью в сквере, где росли тощие деревья и бледно-зелёный газон. Дети лепили пирожки из грязи под наблюдением бабушки. Невдалеке проходили длинные жёлтые трамваи, и их железный лязг отдавался в стене недавно выстроенного из стекла, стали и железобетона высотного здания. Восемь этажей, сто сорок кабинетов, и в каждом те же портреты Вождя, те же счёты, те же стаканы чая на столах начальников отделов и бухгалтеров, те же хлопотливые жизни... Прошла нищенка, таща за собой кучу ребятишек. «Подайте, Христа ради», – сказала она, протянув красивую, тонкую и смуглую руку. Кондратьев высыпал ей на ладонь горсть мелочи, и ему вспомнилось, что на каждой из них можно прочесть: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Он провёл рукой по лбу. Неужели кошмар кончился? Да, его маленький личный кошмар – по крайней мере на некоторое время, но не кончилось всё остальное, ничего не выяснилось, заря не встаёт над могилами, нет никакой определённой надежды на будущее, и нам долго ещё придётся брести сквозь тьму, лёд и огонь...
Стефан Штерн, наверно, умер – тем лучше для него. Кирилл Рублёв исчез, и с ним угас род наших теоретиков великой эпохи. Теперь в наших высших школах остались одни лишь раболепные канальи, которые преподают там на три четверти выдохшуюся инквизиционную диалектику. Как обычно, имена и лица теснились в его памяти.
...Но, конечно, товарищи, надо продолжать борьбу. Промывать золотоносный песок. Кондратьев открыл портфель с бумагами Золототреста. Больше всего его привлекали карты, из-за присущего им волшебства, – алгебраического отражения земли. Развернув на колене карту Витимского плоскогорья, он разглядывал штрихи, обозначавшие высоты, зелёные пятна лесов, голубые линии рек... Деревень не видно, всюду царит строгое одиночество, в холодных водах отражаются небо и камни, на скалах расстилаются яркие мхи, под равнодушным небом пробивается малорослая и упорная таёжная растительность. Среди скупых богатств земли человек обречён на ледяную свободу, лишённую человеческого смысла. Сверкают ночи, они тоже бесчеловечны, порой под их мерцанием усталый человек засыпает навсегда. Бодайбо, наверно, просто административное местечко, окружённое выкорчеванными участками, расположенное среди непроходимых лесов, под металлическим блеском северного сияния. «Я увезу с собой Тамару Леонтьевну, – подумал Кондратьев... – Она согласится. Я скажу ей: ты стройна, как берёзки на этих горах, молода, и ты нужна мне – хочешь, будем вместе бороться за золото?» Взгляд Кондратьева оторвался от карты, мысленно устремился в будущее. И вдруг рядом с собой он заметил изношенные ботинки, зашнурованные верёвками, и пыльную кромку брюк. Единственный носок этого человека свисал грязной тряпкой на ботинок. В этих ногах было выражение и буйной силы, и покорности, и упорства – человек, верно, с упорством бродил по городу, как по джунглям, в поисках еды, знания, идей, которые завтра помогут ему жить, и не замечал огромных звёзд, теснимых световыми рекламами. Кондратьев медленно повернул голову, чтобы разглядеть соседа, – молодого человека, цепко державшего в руках исписанную уравнениями открытую тетрадь. Но он не читал – его серые глаза осматривали сквер с острым и бесцельным вниманием. Чего он искал с таким отчаянным ожесточением? «И скучно и грустно, и некому руку подать», – сказал поэт, но Максим Горький переделал этот стих по-своему: «и некому морду набить...». Высокий лоб под лихо заломленным верхом фуражки, неправильные черты лица – в них сочетание сдержанной силы и малокровия – бледная кожа. Глаза ясные: не алкоголик. Если бы он лежал на голой сибирской земле, мерцание звёзд не усыпило бы его навеки: упорная страсть не дала бы ему уснуть... Кондратьев на минуту забыл о нём.
...Такими, вероятно, бывают бродяги, пробирающиеся сквозь тайгу или вдоль берегов Верхней Ангары, Витима, Чары, недалеко от золотых россыпей... Они идут по следам зверей, чувствуют приближение грозы, побаиваются медведя и разговаривают с ним вежливо, как со старшим братом, которого следует уважать. Они несут в конторы, затерянные в глуши, серебристые шкуры зверей и туго набитые золотыми крупинками кожаные кошельки – для военной казны Социалистической Республики. Мелкий служащий, в одиночестве разучившийся говорить, живёт в этой глуши, в избе, сложенной из толстых почерневших бревен, со своей женой, собакой, ружьём и птицами небесными. Он взвешивает золото на весах, продает посетителю водку, спички, порох, табак, драгоценную пустую бутылку и вносит отметку в трудовую книжку члена кооператива золотоискателей. Опрокинув с улыбкой стаканчик водки, он производит подсчёт и говорит человеку из тайги: «Товарищ, у тебя тут нехватка. Ты только на 92 процента выполнил норму. Этак не годится. Постарайся нагнать, не то я тебе водки больше не продам». Он говорит это чуть слышным голосом и прибавляет: «Пальмира, принеси нам чаю». Пальмирой зовут его жену, но он и не подозревает, что это – чудесное имя города, исчезнувшего в другом мире, под песками, пальмами и солнцем...
Все эти охотники, искатели, золотопромыватели, молодые геологи, инженеры – якуты, буряты, тунгусы, великороссы, приехавшие из столицы, – молодые коммунисты, члены партии, научившиеся колдовскому искусству шаманов, приказчики, наполовину свихнувшиеся от одиночества, их жёны, маленькие якутки, которые в тёмном углу юрты продаются за пачку папирос, инспектора трестов, которых на глухих тропинках подстерегают обрезы, инженеры, которым знакомы и последние статистические данные Трансвааля, и новейшие методы гидравлического бурения глубоких золотоносных слоев земли, – все они живут чудесной жизнью под двойным знаком Плана и сверкающих ночей, в авангарде революции, с глазу на глаз с Млечным Путём.
В предисловии к докладу «О социалистическом соревновании и саботаже в россыпях Золотой Долины» были также строки: «Как сказал недавно наш великий товарищ Тулаев, предательски убитый троцкистско-фашистской бандой, подкупленной мировым империализмом, труженики золотого фронта – ударный батальон социалистической армии. Орудием самого капитализма они побеждают Уолл-стрит и Сити...» Эх, Тулаев, толстый болван... переливание из пустого в порожнее раболепных прокуроров... Всё же, хоть это и плоско выражено, – насчёт золота сказано правильно...
Ледяные северные ветры гонят в этот край лиловатые тучи, отягощенные снегом, белый покров ложится на этот ирреальный мир. А впереди туч летят птичьи стаи, и их такое множество, что они заполняют всё небо. На закате белые стаи медленно разворачиваются в облаках лёгким золотистым узором. План должен быть выполнен до начала зимы.
Кондратьев вновь заметил зашнурованные верёвками ботинки своего бедолаги соседа.
– Студент?
– Технолог, на третьем курсе.
Кондратьев думал одновременно о слишком многом: о зиме, о Тамаре Леонтьевне, которая придёт к нему, о новой жизни, о заключённых во внутренней тюрьме, где и для него самого мог закончиться этот день, об умерших, о Москве, о Золотой Долине. Не глядя на молодого человека – какое ему было, в сущности, дело до этого худого, с горьким выражением лица? – он сказал:
– Хочешь бороться с зимой, с пустыней, с одиночеством, с землёй, с ночами? Бороться – понимаешь? Я – начальник предприятия. Предлагаю тебе работу в сибирской тайге.
Студент ответил, не дав себе времени подумать:
– Если это серьёзно, я согласен. Мне терять нечего.
– Мне тоже, – весело пробормотал Кондратьев.
9. ЧИСТОТА ОБОРАЧИВАЕТСЯ ИЗМЕНОЙ
Прокурор Рачевский нашёл на своём столе иностранную газету, в которой сообщалось (заметка, как полагается, была обведена красным карандашом) о предстоящем процессе убийц тов. Тулаева. «В хорошо осведомленных кругах говорят о... главные обвиняемые – бывший народный комиссар госбезопасности Ершов, историк Кирилл Рублёв, бывший член ЦК, секретарь Курганского обкома А. Макеев и один агент Троцкого, имя которого ещё хранится в тайне, – как сообщают, во всём сознались... здесь надеются, что этот процесс прольёт яркий свет на некоторые оставшиеся невыясненными вопросы предыдущих процессов...» В сопроводительной записке отдел прессы Наркоминдела просил указать на происхождение этой информации. Но ведь она исходила из Верховного суда и была официозно сообщена этим же самым отделом? Неприятная история.
Незадолго до полудня прокурор узнал, что ему назначена аудиенция, которой он добивался уже несколько дней. Вождь принял его в тесной передней, как бы мимоходом, сидя за пустым столом. Аудиенция продолжалась ровно три минуты сорок пять секунд. Вождь казался рассеянным.
– Здравствуйте. Садитесь. Ну что?
Сквозь выпуклые стёкла своих очков Рачевский неясно видел Вождя: его образ распадался на ряд отдельных деталей – морщинки в углах глаз, чёрные, тронутые сединой густые брови. Слегка наклонившись вперёд, обеими руками опираясь о край стола, не смея сделать лишнего жеста, Рачевский начал свой доклад.
Он и сам не знал, что говорит, но, благодаря профессиональному автоматизму, ему удалось быть кратким и точным.
Во-первых, признания главных обвиняемых. Во-вторых, неожиданная смерть тов. Рыжика, который, по-видимому, был душой заговора; эту смерть следует приписать преступной небрежности следователя Зверевой. В-третьих, имеются серьёзные подозрения на Кондратьева, виновность которого, если она будет доказана, тем самым обнаружит связь обвиняемых с заграничными агентами. В принципе, пока Кондратьев ещё не подлежит следствию, виновность его не установлена. Но всё же... Вождь резко его оборвал:
– В этом деле я сам разобрался. Оно вас больше не касается.
Прокурор поклонился, чувствуя, что у него пресеклось дыхание.
– А, тем лучше! Благодарю вас.
За что он благодарил? Ему казалось, что он стремглав летит вниз с высотного здания какого-то невообразимого города, мимо квадратных-квадратных окон, с пятисотого этажа...
– Дальше?
Что же дальше? Прокурор как бы ощупью вернулся к началу своего доклада: главные обвиняемые во всём сознались...
– Действительно во всём сознались? У вас не осталось никаких сомнений?
Тысяча этажей, внизу асфальт. Голова летит с быстротой метеорита, шмякнется об асфальт...
– Нет, – сказал он.
– Ну так примените советский закон. Вы – прокурор.
Вождь встал, сунув руки в карманы.
– До свидания, товарищ прокурор.
Рачевский вышел, как автомат. Он не задавал себе никаких вопросов. В машине им овладело оцепенение, как будто его сразили ударом на месте.
– Никого не принимать, – сказал он своему секретарю. – Прошу оставить меня в покое.
Он сел за свой стол. В его просторном кабинете взгляду не за что было уцепиться (портрет Хозяина в натуральную величину висел у него за спиной). «До чего ж я измотался, – сказал он себе, подперев голову ладонями. – В общем, мне одно только и осталось – пуля в лоб». Эта мысль зародилась в его мозгу совершенно естественно и просто. Затрещал телефон: прямой провод Наркомвнудела. Снимая трубку, Рачевский почувствовал безмерную усталость во всех членах. В нём жила одна только мысль, – безличная, бесспорная, явная, не вызывавшая ни волнения, ни каких бы то ни было образов. «Алло...» Звонил Гордеев по поводу этой «злосчастной информации,, появившейся в некоторых иностранных газетах, о ходящих якобы слухах... Что вам известно об этом, Игнатий Игнатьевич?». Он был преувеличенно вежлив, товарищ Гордеев, выражался уклончиво, для того, очевидно, чтобы не сказать прямо: «Я веду по этому делу следствие...» Рачевский сначала забормотал:
– Какая информация? Как вы сказали? Английские газеты? Но все сообщения такого рода проходят через пресс-бюро Наркоминдела...
Гордеев настаивал:
– Боюсь, что вы меня не поняли, уважаемый Игнатий Игнатьевич. Разрешите прочесть вам эту заметку: «От нашего специального корреспондента...»
Прокурор живо перебил его:
– Ах да, теперь знаю... Это мой секретарь передал им устное сообщение... по указанию товарища Попова.
Неожиданная чёткость ответа, видимо, смутила Гордеева:
– Очень хорошо, – сказал он, понизив голос, – но дело в том, что... (Его голос внезапно поднялся на октаву: может, кто-нибудь стоял рядом с ним? Может, этот разговор был зарегистрирован?) У вас есть письменное указание товарища Попова?
– Нет, но я уверен, что он прекрасно помнит...
– Ну, спасибо. Вы меня извините, Игнатий Игнатьевич.
Когда Рачевский был завален работой, ему случалось ночевать в Доме правительства. В его распоряжении была маленькая, очень скромная квартирка, заваленная папками. Он много работал один, не умея пользоваться секретарями и никому не доверяя. Шестьдесят папок (саботаж, предательство, шпионаж), которые он должен был пересмотреть перед сном, валялись на столах и стульях. Самые секретные дела хранились в небольшом сейфе над изголовьем его постели. Рачевский остановился перед сейфом и, стараясь преодолеть своё оцепенение, принялся медленно протирать очки. «Ну, ясно, ясно...» Ему принесли обычный скромный ужин, который он торопливо съел, стоя перед окном, не видя городского пейзажа, в котором загорались бесчисленные золотые точки. «Остается только одно. Только одно!» Об этом единственном выходе он, в сущности, почти не думал. Мысль эта укоренилась в нём с удивительной лёгкостью. Пулю в лоб: чего проще? Никто даже не подозревает, до чего это просто.
Рачевский был простым существом и не боялся ни боли, ни смерти: ему случалось присутствовать при расстрелах. Вероятно, никакой особой боли и не испытываешь: просто толчок, который длится кратчайшую долю секунды. А небытия мы, материалисты, не боимся. Сон и ночь влекли его к себе: это самый точный образ небытия – которого не существует. Оставьте меня в покое, оставьте меня в покое. Предсмертной записки он писать не станет; это лучше для детей. В ту минуту, когда он вспомнил о своих детях, Сеня позвонил ему по телефону:
– Папа, ты сегодня вечером не вернешься домой?
– Нет.
– Папа, я получил очень хорошо по истории. А Тёпка здорово повредил себе палец: вырезал переводные картинки. Нюра сделала ему перевязку по главе из учебника: «Первая помощь раненым». А у мамы голова больше не болит. На внутреннем фронте всё в порядке, товарищ папа-прокурор. Спокойной ночи!
– Спокойной ночи, мои дорогие, – ответил прокурор.
Ах, чёрт возьми! Он открыл нижний ящик небольшого шкафчика, вытащил оттуда бутылку и хлебнул коньяку прямо из горлышка. Глаза его расширились, по всему телу разлилось тепло – очень приятное ощущение. Поставил бутылку перед собой на стол с такой силой, что она качнулась и продолжала покачиваться. Упадет или нет? Не упала. Он изо всех сил стукнул по столу и подставил руку, чтобы подхватить бутылку на лету, если ей вздумается упасть... «Не упадет, каналья, хе-хе-хе...» Он захлебывался от смеха. «Пулю в лоб, хе-хе-хе! И в бу-тылку, фью, фью, фью!» Потом всей своей тяжестью склонился на бок и попытался кончиками пальцев схватить синюю папку с соседнего столика; даже закряхтел от усилия. «Уж я тебя поймаю, сволочь, сволочь...» Поймал уголок папки, ловко подтянул, подхватил её на лету (причём несколько листков посыпалось на ковёр), положил на стол. Потом бросил свои очки через плечо – ну их к чёрту! – и, водя по строчкам толстым обслюнявленным пальцем, стал читать по складам: «Вре-ди-тель-ство в химиче-ской про-мыш-ленно-сти, де-ло Ак-мо-лин-ска». Буквы наезжали одна на другую, бежали друг за дружкой, и каждая из них, выведенная с нажимом чёрными чернилами, была окаймлена зелёным огнем. Он пытался ловить их, но они вырывались, как мыши, как крысы, как маленькие туркестанские ящерицы, которых он когда-то, когда ему было лет двенадцать, ловил петлёй-удавкой, сделанной из травинки. Ха-ха-ха! Я по части удавок всегда был спецом! Он разорвал папку на четыре части. «Иди-ка сюда, каналья бутылка!.. Ура!» И напился до потери дыхания, смеха, сознания...
Когда на другой день после обеда он пришёл в свой прокурорский кабинет, Попов уже ждал его с начальниками отделов, которых он отпустил движением руки. У Попова был болезненно-жёлтый цвет лица и недовольный вид. Прокурор уселся под большим портретом Вождя, любезно улыбнулся, – но мигрень давила ему на веки, у него был дурной вкус во рту и стеснённое дыхание.
– Плохую ночь провёл, товарищ Попов: припадок астмы, сердце пошаливает, ещё что-то – некогда было посоветоваться с врачом... К вашим услугам.
Попов мягко спросил:
– Вы читали сегодняшние газеты, Игнатий Игнатьевич?
– Не успел.
Он и утренней почты не успел просмотреть: на столе лежали нераспечатанные конверты.
– Ладно, ладно... Ну вот, товарищ Рачевский, пожалуй, лучше будет, если я сам вам сообщу новость...
Но это, по-видимому, было не так просто, потому что он полез в карман за газетой, развернул её, нашёл, наконец, на третьей странице нужный текст.
– Вот, прочтите, Игнатий Игнатьевич. Впрочем, всё уже устроено, я сам сегодня утром обо всём позаботился...
«Решением... и т. д. ...тов. Рачевский И. И., Генеральный прокурор СССР, освобождается от своих обязанностей в связи с переводом на другую работу...»
– Ну, ясно... очевидно... – сказал Рачевский без особого волнения, потому что видел перед собой совсем другую очевидность. И он обеими руками вяло толкнул свой тяжёлый портфель в сторону Попова.
– Вот...
Потирая руки, покашливая, приятно и неопределённо улыбаясь. Попов продолжал говорить – и всё это не имело никакого значения.
– Вы, конечно, сами понимаете, Игнатий Игнатьевич... вам пришлось выполнить... сверхчеловеческую работу... ошибки неизбежны... Мы нашли для вас должность, которая даст вам возможность немного отдохнуть. (Несмотря на полное своё оцепенение, Рачевский навострил уши.) Вы назначаетесь... назначаетесь директором отдела туризма... с предварительным двухмесячным отпуском, который я дружески советую вам провести в Сочи... или в Сууксу, там наши лучшие дома отдыха... Синее море, цветы, Алупка, Алушта, что за места. Игнатий Игнатьевич! Вы вернётесь к нам с новыми силами... на десять лет помолодеете... А туризм, как вам известно, занимает не последнее место в нашем плане...
Бывший прокурор Рачевский вдруг как будто проснулся. Он стал жестикулировать. Толстые стёкла его очков метали молнии... Смех разрезал пополам его вогнутую физиономию.
– Я в восторге! Туризм – мечта моей жизни! Птички в лесу! Вишни в цвету! Великая Сванетская дорога! Ялта! Наша Ривьера! Спасибо, спасибо!
Его узловатые и волосатые руки стиснули вялые руки Попова, который слегка отодвинулся, с испугом в глазах, с деланой улыбкой...
Мелкие служащие видели потом, как они вышли под руку – пара добрых старых приятелей. Рачевский улыбался всеми своими жёлтыми зубами, а Попов, видно, рассказывал ему занятную историю. Они сели в машину ЦК. Рачевский велел шофёру остановиться у большого продовольственного магазина на улице Горького. Когда он вышел оттуда с пакетом в руках, вид у него опять был очень серьёзный. Он осторожно положил свой пакет Попову на колени:
Из оберточной бумаги торчало горлышко откупоренной бутылки.
– Пей, браток, тебе начинать, – дружески сказал он, обнимая тщедушные плечи Попова.
– Благодарю вас, – холодно ответил тот, – да, впрочем, и вам советую...
Рачевский расхохотался:
– Вы мне советуете – ах, как это мило!
Он жадно хлебнул из горлышка, запрокинув голову, крепко держа бутылку в сжатом кулаке, потом облизал губы.
– Да здравствует туризм, товарищ Попов! Знаете, о чём я жалею? Что начал жизнь, вешая ящериц.
После этого он ни слова больше не сказал, но сорвал бумагу с бутылки, чтобы увидеть, сколько в ней ещё осталось вина. Попов проводил его до дальнего пригорка, где тот жил.
– Как поживает ваша семья, Игнатий Игнатьевич?
– Ол райт, вери уэл. Она будет безумно счастлива. А ваша, товарищ Попов? (Что он, издевался, что ли?)
– Моя дочь в Париже, – сказал Попов с оттенком тревоги в голосе. Он смотрел, как бывший прокурор СССР вылез из машины перед дачей, окружённой чахлыми кустарниками, и сразу обеими ногами плюхнулся в грязную лужу, после чего начал, смеясь, чертыхаться. Из кармана его пальто торчала бутылка, и он то и дело притрагивался к ней рукой.
– До свиданья, друг, – крикнул он радостно – или злобно? – и побежал к садовой решётке.
«Конченый человек, – подумал Попов. – Ну и что ж? Он и всегда недорого стоил».
Париж не походил ни на одно из смутных представлений, созданных воображением Ксении. Она лишь случайно находила там мимолётное сходство с двойным обликом представлявшейся ей столицы, – столицы разлагающегося мира, столицы рабочих восстаний. Всё здесь было построено так много веков тому назад, и столько солнца, дождей, ночей, жизни запечатлелось на старых камнях, что возникало впечатление единственной в своём роде законченности. Мутная, но голубеющая Сена текла под разбросанными там и сям деревьями, между каменными набережными неопределённого оттенка. Эти камни, казалось, давно утратили былую твёрдость, загрязненная вода большого города не могла быть ни горькой, ни опасной для здоровья – и, верно, нигде в мире не проливали таких беспечных слёз над утонувшими. Всё, что было в Париже трагического, облекалось извечной славой. И какое было наслаждение останавливаться у лавки букиниста, под полувысохшим деревом, одним взглядом охватывать и доживающие свой век книги, хранившие на полях отпечатки неизвестных пальцев, и камни Лувра, и, на другом берегу, вывеску «Прекрасной садовницы»[21], ещё дальше, у вибрирующего шумного перекрёстка, – конную статую Генриха IV на горбатом Новом мосту, под мостом – тёмный узорчатый шпиль Святой часовни. Старые, грязные кварталы, как проказой, отмеченные пороками цивилизации, и привлекали и пугали Ксению: их надо было взорвать динамитом, чтобы на их месте выстроить большие дома, куда свободно вольются воздух и свет.
И всё же хотелось бы там жить, даже скудной жизнью скромных отелей или в маленьких квартирках, выкроенных в толстейших старинных стенах; туда надо было взбираться по тёмным лестницам – но цветы, примостившиеся на подоконниках, были трогательны, как улыбка большого ребёнка.
Ксения, любившая бродить там в предвечерние часы, испытывала странную нежность к этим нищенским, жалким кварталам – городкам, жившим в стороне от огромного города с его широкими улицами, великолепными набережными, благородной архитектурой, триумфальными арками, пышными бульварами... Вечерний свет сосредоточивался на белых куполах храма Святого сердца, встававшего в конце отлого поднимавшихся улочек. Обычно некрасивые и бездушные, эти купола нежно золотились.
На этих улицах, обойденных и христианским и атеистическим милосердием, можно было видеть женщин, поджидавших клиентов в дверях или за тусклыми окнами, в подозрительной полутьме. В своих облегающих свитерах или в капотах, со скрещенными на груди руками, они издали, с противоположного тротуара, казались хорошенькими; вблизи же у всех были измождённые, грубо и ярко накрашенные лица. «Это – женщины, и я тоже женщина». Ксении трудно было усвоить эту истину. «Какое между нами сходство, какое различие?» Было бы очень легко на это ответить: «Я – дочь народа, свершившего социалистическую революцию, а они – жертвы исконной капиталистической эксплуатации», – так легко, что этот ответ казался штампованной фразой. Ведь и у нас в Москве на иных улицах можно увидеть таких же женщин. Какой же сделать вывод?
Любопытные взгляды провожали иностранку в белой кофточке и в белом берете, поднимавшуюся вверх по улице. «Чего ей надо в нашем квартале? Не за счастьем, видать, пришла и не за делом, не за клиентом, так для чего ж? Чего-нибудь особенного ищет? А девчонка ничего, гляди, какие у неё лодыжки, – подумать, что и у меня в семнадцать лет были такие!»
Ксении попался навстречу мрачный араб, похожий на крымского татарина, искоса заглядывавший в окна и внутренние коридоры домов, и она поняла, что его толкает тот голод, который настойчивее и унизительнее всякого другого голода. В витринах самых жалких лавчонок, соседствовавших с притонами, были выставлены шоколад, предоставленный на съедение мухам, рис «Ля руа» в синих пакетах, разные сыры, заморские фрукты. Ксении вспомнились убогие кооперативы московских предместий. Как это объяснить? Неужели они так богаты, что даже их нищие ни в чём не нуждаются? Эти подонки общества живут в страшном болоте, но их окружает жирный, отвратительный комфорт: обильная еда, ликёры, хорошенькие тряпки, сентиментальная любовь и острый эротизм.
Ксения возвращалась на левый берег Сены. Торговый город с его неумолчной вибрацией кончался у площади Шатле. Башня Св. Иакова – никому не нужная каменная поэма – была окружена убогим оазисом из листвы и стульями, отдававшимися напрокат за два су. («Пережиток теократической эпохи, – думала Ксения, – а этот город живёт в меркантильную эпоху...») Только перейти мост – и окажешься в эпохе административной: Префектура, Консьержери, Дворец правосудия. Тюрьмам по семисот лет, но в очертаниях их башен, глядящихся в Сену, столько благородства, что забываешь о камерах пыток былых времён. Целое племя писарей питалось там процессами; но рядом был Цветочный рынок.
Перейти ещё один мост через ту же реку – и перед вами книги, выставленные в витринах; идут с тетрадями под мышкой простоволосые молодые люди; мимоходом, на террасах кафе, видишь лица, склонившиеся над «Пандектами» Юстиниана и над «Комментариями» Юлия Цезаря, а может быть, над «Толкованием сновидений» 3. Фрейда, над сюрреалистическими поэмами. С террас кафе жизнь текла по направлению к Люксембургскому саду с его мирными аллеями, а сад кончался у буржуазных домов бронзовым земным шаром, который поддерживали человеческие фигуры: символ мысли, прикреплённой к земле, металлической, но прозрачной, земной, но гордо сопротивляющейся.
Ксения любила возвращаться домой именно этим путём: тут небо казалось просторнее, чем где бы то ни было. Совещания о выборе набивных тканей для Иваново-Вознесенского комбината происходили только раз в неделю. В остальное время она могла жить как хотела. И это было легко, хоть и казалось вначале непостижимым.
Остановиться перед воротами XVI столетия на улице Сент-Онорэ и сказать себе, что перед этим самым домом провезли в тележке Робеспьера и Сен-Жюста... Увидеть рядом в витрине ткани Ближнего Востока, прицениться к флакончику духов... Побродить по садам, окружающим Эйфелеву башню... Красива она или нет, эта железная арматура, вздымающаяся в парижское небо? Во всяком случае, в ней есть что-то лирическое, трогательное, единственное в мире. Какой эстетической эмоцией объяснить своё чувство, когда с Менильмонтанского холма видишь эту башню на горизонте города? Сухов сказал ей, что наш Дворец Советов воздвигнет в московском небе стальную статую Вождя выше их башни и что это будет гораздо величественнее и символичнее. Что уж представляет собой эта маленькая башня, образчик давно превзойдённой техники конца прошлого века? Смешно об этом и говорить. Что вы нашли в ней интересного? (Слово «трогательного» для него не существовало.) «Хоть вы и поэт, – сказала Ксения, – интуиции у вас меньше, чем у растений». И так как он ровно ничего не понял, то продолжал смеяться над ней и был уверен в своём превосходстве. Поэтому Ксения предпочитала гулять одна.
Встав поздно, часам к девяти, умывшись и одевшись, она открыла окно, выходившее на перекрёсток двух бульваров, Распай и Монпарнас, и, радуясь жизни, смотрела на городской пейзаж: дом, кафе с опрокинутыми ещё на столы стульями, асфальт. Станция метро Вавэн. Закрытый ларёк торговца устрицами и морскими раковинами. Продавщица газет раскрывала свой складной стул... Изо дня в день здесь всё оставалось по-прежнему. По утрам Ксения завтракала в кафе отеля; и это были приятные минуты. От утреннего ритуала этого заведения на неё веяло покоем и безопасностью. Но как эти люди могли жить, не зная смятения, не мечтая о будущем, не думая со страхом, жалостью, беспощадностью ни о самих себе, ни о других? И почему, несмотря на пустоту, их жизнь казалась полной? Едва Ксения успевала сесть за свой обычный столик (она начинала уже поддаваться власти привычки) перед занавесками, за которыми бульвар жил своей беспечной будничной жизнью, как в зал неслышно, подобно толстой важной кошке, вплывала мадам Делапорт. Она уже двадцать три года была кассиршей этого кафе-ресторана и чувствовала себя там главой королевства, не знающего никаких тревог, – чем-то вроде королевы Вильгельмины, царящей над полями тюльпанов. Даже неоплаченные счета некоторых посетителей внушали мадам Делапорт доверие. Мы отпускаем в долг, месье, почему бы и нет? Вот доктор Пуаврие, домовладелец, к тому же акционер универмага «Бон марше», должен нам пятьсот франков, – ну и что ж? Это всё равно что иметь эти деньги в банке. Мадам Делапорт считала свою почтенную и регулярную клиентуру делом своих рук. Вот, скажем, Леонардо да Винчи нарисовал Джоконду, – а мадам Делапорт создала эту клиентуру. Другим женщинам не так повезло – у них взрослые дети, они разводятся, дети их болеют, дела приходят в упадок – словом, неприятностей не оберёшься. «А у меня, месье, – это заведение, это мой дом, и пока я жива, дела будут идти». «Дела будут идти» – мадам Делапорт произносила эти слова со скромной уверенностью, которая сообщалась и слушателям.
Первым делом она открывала ящик кассы, потом клала рядом на стол своё вязанье, очки, книгу из библиотеки, иллюстрированный журнал; в свободные минуты она читала с растроганной и скептической полуулыбкой советы тетушки Соланж, письма в редакцию – «Ландыша, 18 лет, лионской Блондиночки, встревоженной Розы»: «Как вы думаете, он действительно меня любит?» Кончиками пальцев мадам Делапорт ощупывала свою причёску: каждая седая прядь должна быть на своём месте. Только тогда она бросила взгляд на кафе. Всё было в неизменном порядке. Месье Мартен, официант, расставлял пепельницы по столикам, потом принимался старательно оттирать контуры сырого пятна на столе. Он улыбался Ксении, мадам Делапорт тоже ей улыбалась, в один голос они дружески желали ей доброго утра. «У вас всё слава Богу, мадемуазель?» Казалось, эту фразу говорят ей сами предметы, довольные своим существованием и по природе общительные.
Между десятью и десятью с четвертью утра в кафе входил первый посетитель из постоянных – месье Тайандье, который облокачивался на стойку и заказывал кофе с рюмочкой кирша. Кассирша и посетитель обменивались всегда одними и теми же фразами, и Ксении казалось, что она знает их наизусть. Мадам Делапорт уже лет двенадцать страдала желудком – вздутие, кислая отрыжка... Месье Тайандье болел артритом и был весьма озабочен своей диетой. «Вот, мадам, кофе и кирш мне запрещены, но, как видите, я себе в них не отказываю, нет, нет, докторов не всегда надо слушаться, я больше полагаюсь на свой инстинкт... Например, когда я в 24-году отбывал воинскую повинность...» – «А я, месье, – и тут начинался балет её длинных вязальных спиц, – я перепробовала самые дорогие лекарства, ходила к лучшим врачам, не жалея расходов, да, месье, – ну, а теперь вернулась к домашним средствам, – один торговец лекарственными травами из квартала Марэ приготовляет для меня настойку, которая больше всего мне помогает, – и, как видите, я не так уж плохо выгляжу...» Тут появлялся элегантный месье Жэмбр, большой специалист по части скачек: «Смело ставьте на Наутилуса II, потом на Клеопатру!» В этих вопросах он не допускал возражений. Иногда, если находил другого спорщика, пускался в политику: строго осуждал чехословаков (делая даже вид, что путает их с курдосирийцами) и называл точную сумму, которую Леон Блюм заплатил за свои замки. Ксения смотрела на него поверх газеты: её раздражали его самоуверенность и низость его рассуждений. «Зачем живёт такой человек?» Мадам Делапорт тактично переводила разговор на другую тему: «А вы всё разъезжаете по Нормандии, месье Тайандье?» – и все принимались обсуждать нормандское кулинарное искусство. «Ах да», – вздыхала почему-то кассирша. Месье Тайандье уходил, месье Жэмбр запирался в телефонной будке, месье Мартен, официант, становился в открытых дверях, чтобы украдкой наблюдать за модистками магазина «У Моники», по ту сторону бульвара. Старый серый кот, страшный эгоист, пробирался под столиками, не удостаивая никого взглядом. Мадам Делапорт тихонько манила его: «Ксь, ксь, Митрон!» Но Митрон, хоть и польщённый, верно, её вниманием, шёл своей дорогой. «Неблагодарный толстяк, – бормотала мадам Делапорт и, если Ксения поднимала глаза в эту минуту, продолжала: – Животные так же неблагодарны, как люди, мадемуазель. Запомните мой совет, не доверяйте ни тем, ни другим».
Это был крошечный, спокойный мир, и люди там жили, не обсуждая контрольных цифр плана, не боясь чисток, не отдавая себя целиком мечте о будущем, не размышляя о проблемах социализма.
В то утро мадам Делапорт собиралась произнести один из своих обычных афоризмов, когда вдруг отложила вязанье, слезла со своего высокого табурета, сделала знак гарсону, выразив при этом на лице изумление, и направилась к столику, за которым перед чашкой кофе с молоком, круасанами и газетой сидела Ксения.
Странной казалась её неподвижность: подбородок на ладони, сама «белая как полотно» (подумала мадам Делапорт), брови дугой, застывший взгляд: казалось, она должна была бы видеть приближающуюся кассиршу – но не видела её, не заметила, как та быстрыми шажками пошла обратно, не слышала её приказания:
– Скорее, скорее, Мартен, принесите аперитив Мари Бризар, нет, лучше анисовку, – да не копайтесь вы. Боже мой, ей дурно!.. Мадам Делапорт сама принесла стакан анисовки и поставила его на стол перед по-прежнему неподвижной Ксенией.
– Мадемуазель, деточка, что с вами?
Рука, мягко коснувшаяся её белого берета и волос, вернула Ксению к действительности. Она посмотрела на мадам Делапорт, мигая сквозь слёзы, прикусила губу, сказала что-то по-русски. («Что делать?») С языка мадам Делапорт чуть не сорвался ласковый вопрос: «Разочарование в любви, милая, он нехороший, он изменил вам?» Но это лицо, как бы вылепленное из твёрдого воска, растерянное и вместе сосредоточенное – нет, тут не любовная история, а что-то похуже, что-то непознаваемое, непостижимое, с этими русскими разве знаешь?
– Спасибо, – сказала Ксения.
Безумная улыбка исказила её полудетское лицо. Она проглотила анисовку, вскочила, вытерев глаза и не подумав напудриться, выбежала из кафе, пересекла бульвар, лавируя между автобусами, исчезла на лестнице метро. Развёрнутая газета, нетронутые кофе и круасаны свидетельствовали о её смятении. Месье Мартен и мадам Делапорт вместе наклонились над газетой.
– Я без очков ничего не разбираю, – посмотрите-ка, Мартен, что там случилось, – несчастный случай или какая-нибудь драма? Мартен ответил не сразу:
– Я вижу только сообщение о московском процессе... Вы знаете, мадам Делапорт, они там расстреливают людей почём зря, ни за что ни про что...
– Процесс? – недоверчиво переспросила мадам Делапорт, – вы правда так думаете? Ну всё равно, мне жаль эту бедную барышню... Мне даже самой стало нехорошо. Дайте-ка мне анисовки, или нет, лучше Мари Бризар... Точно встало передо мной какое-то несчастье...
В сознании Ксении выделялись только две ясные мысли: «Нельзя допустить, чтобы расстреляли Кирилла Рублёва» и «У нас, может, осталась только неделя, только неделя, чтобы спасти его...».
Вагон метро унёс её куда-то, толпы людей увлекли за собой в подземные коридоры станции Сен-Лазар, она читала незнакомые названия остановок. Всё та же навязчивая мысль владела ею. Вдруг на стене одной станции возникла перед ней большая чудовищная афиша, изображавшая голову чёрного быка с широко расставленными рогами: один глаз его был живой, а другой продырявлен огромной квадратной раной, из которой лилась огненного цвета кровь. Расстрелянное животное – страшно было на него смотреть...
Убегая от этой афиши, повторявшейся на стенах всех станций, Ксения оказалась на тротуаре универмага «Трёх кварталов» против церкви Мадлен. Она всё ещё не знала, на что решиться, и говорила сама с собой. Что делать?
Какой-то господин снял перед ней шляпу; у него были золотые зубы, он что-то невнятно бормотал медовым голосом. Он сказал «очень милая», а Ксения услышала «помиловать». Надо немедленно написать, телеграфировать, просить, чтобы помиловали Кирилла Рублёва!
Увидев просиявшее полудетское лицо, пожилой господин изобразил было на своей физиономии блаженство, но тут Ксения заметила его: жидкие волосы, расчёсанные на пробор, свиные глазки; она топнула ногой и, как бывало в детстве, когда находил на неё страшный гнев, плюнула прямо перед собой. Господин смылся, а Ксения вошла в шумный бар, где продавали и табачные изделия.
– Дайте мне, пожалуйста, почтовой бумаги... Да, и кофе – поскорее!
Ей принесли жёлтый конверт и листок разграфлённой в клетку бумаги.
Написать Вождю: он один может спасти Рублёва. «Дорогой, великий, справедливый, наш любимый Вождь... Товарищ!» Вдохновение её сразу иссякло. Дорогой? Но разве, начав писать это письмо, ей не пришлось преодолеть что-то вроде ненависти? Ужасно было об этом и подумать... «Великий»? Но чего он только не допускал! «Справедливый»? Но они собирались судить Рублёва, и, конечно, все решения о таких процессах принимались Политбюро. Ксения задумалась. Чтобы спасти Рублёва, стоит и солгать, и унизиться. Но письмо не дойдёт вовремя, а если и дойдёт – прочтёт ли Он его? Ведь Он получает тысячи писем в день, их фильтрует секретариат.
Кого попросить вступиться? Генерального консула, Никифора Антоныча, невозмутимого толстяка, труса, у которого души и в помине никогда не было? Или Вилли, первого секретаря посольства, который учил её игре в бридж, возил в кабаре «Табарен» и видел в ней только дочь Попова? Он шпионил за послом, был законченным карьеристом и тоже родился бездушным. Ей представились другие лица и внезапно показались отвратительными.
Сегодня же вечером, как только придёт подтверждение газетной заметки, будет созвано собрание ячейки. Секретарь предложит протелеграфировать единогласную резолюцию: «Требуем высшей меры наказания для Рублёва, Ершова, Макеева, предателей, убийц, врагов народа, подонков человечества». Вилли проголосует за, Никифор Антоныч проголосует за, остальные тоже. «Подлецы! Пусть моя рука отсохнет, если она поднимается вместе с вашими!»
Некого умолять, не с кем говорить, никого нет. Рублёвы гибнут в полном одиночестве. Что делать?
Ксения вспомнила: отец! Отец, помоги мне. Ты знаешь Рублёва с молодых лет, отец, ты можешь его спасти, ты спасёшь его. Ты пойдёшь к Вождю, скажешь ему... Она закурила сигарету; пламя спички чуть обожгло ей кончики пальцев: хорошая примета.
В почтовом отделении она принялась составлять телеграмму. Но после первого же слова уверенность покинула её. Она разорвала бланк и почувствовала, что её лицо застыло от напряжения. Над конторкой висела афиша: «Вносите 50 франков в год в течение 25 лет, и вы обеспечите себе спокойную старость». Ксения громко расхохоталась. В её авторучке не было больше чернил. Она машинально поискала вокруг себя; чья-то рука протянула ей жёлтую авторучку с золотым ободком. Ксения решительно принялась писать.
Отец надо спасти Кирилла тчк Ты знаешь Кирилла двадцать лет – тчк Это святой тчк Невинный тчк Невинный тчк Если ты его не спасёшь мы окажемся преступниками тчк Отец ты его спасёшь.
Откуда взялась у неё эта дурацкая яично-жёлтая ручка? Ксения не знала, что с ней делать, но чья-то рука приняла у неё авторучку, какой-то господин (она заметила только его усики, вроде как у Чарли Чаплина) сказал ей любезные слова, которых она не разобрала. Идите вы ко всем чертям!
Служащая почты, сидевшая за своим окошечком (молодая женщина с большим, слишком ярко накрашенным ртом), сосчитала слова телеграммы, потом посмотрела Ксении прямо в глаза и сказала:
– Желаю вам успеха, мадемуазель.
Ксения, чувствуя комок в горле, ответила:
– Это почти безнадёжно.
Карие, с золотистыми точками, глаза посмотрели на неё с испугом. Ксения поняла их выражение и спохватилась:
– Нет, всё возможно. Спасибо, спасибо!
Бульвар Осман весь вибрировал под лёгким солнцем. На углу бульвара толпились прохожие, любуясь стройными манекенами, которые, чуть покачивая бёдрами и плечами, прохаживались в новомодных платьях за стеклом витрины...
Ксения знала, что в кафе Марбёф встретит Сухова. У неё было к нему невольное доверие – физическое доверие молодой женщины, которая чувствует, что нравится мужчине. Поэт, председатель секции поэзии, Сухов печатал в газетах свои плоские стихи, сухие, как передовые статьи, а потом Госиздат издавал их отдельными сборничками: «Барабан», «Шагом марш», «Охраняем границы»... Он повторял слова Маяковского: «Нотр-Дам? Отличное вышло бы кино». Сотрудник госбезопасности, он посещал комнатки молодых служащих, командированных за границу, чтобы тёплым и мужественным голосом декламировать там свои стихи, а потом сочинял доклады о поведении этих граждан в капиталистической среде.
Когда они вдвоём гуляли в каком-нибудь саду, Сухов целовал Ксению. Трава и запах земли, говорила Ксения, возбуждали в нём чувство влюблённости и желание бегать и прыгать. Но его ухаживание было ей приятно, хоть она и твердила, что любит его только как товарища, «и если ты вздумаешь мне писать, – пиши прозой, ладно?». Он, впрочем, никогда ей не писал. Она не позволяла ему целовать её в губы, отказывалась идти с ним в отель у Золотых ворот, «чтобы начать там роман во французском стиле, – может быть, Ксенечка, я ударюсь тогда в лирику, как старик Пушкин! Ты должна полюбить меня из любви к поэзии». Сухов поцеловал ей обе руки.
– Ты с каждым днём хорошеешь, Ксенечка, у тебя появился стиль Елисейских полей, с ума сойти можно... Но ты что-то плохо выглядишь... Садись-ка поближе.
Он зажал её в угол дивана, колени к коленям, обнял за талию, оглядел с головы до ног жадными глазами, – но после первых же слов Ксении весь похолодел, отодвинулся и строго сказал:
– Главное, Ксенюшка, не делай глупостей. Не впутывайся ты в эту историю. Если Рублёва арестовали, значит, он виноват. Если он во всём сознался, ты не можешь за него отрицать вину. Вот моя точка зрения, – другой нет!
Ксения мысленно искала уже другого союзника.
Сухов взял её за руку. От этого прикосновения её охватило отвращение, с которым она справилась с трудом. «Я, видно, с ума сошла, когда думала, что эта лошадиная морда может спасти такого человека, как Рублёв?»
– Ты уже уходишь, Ксенечка? Ты на меня рассердилась?
– Ну что ты! Я спешу. Нет, не провожай меня.
«Ты просто сволочь, Сухов, и только на то и годишься, чтобы фабриковать стихи для ротационных машин. Твой вязаный жилет в стиле краснокожих – верх пошлости, на твои двойные микропористые подошвы противно смотреть...» Раздражение как будто бы облегчило Ксению.
– Такси! Везите меня куда-нибудь... в Булонский лес... Нет, на Холм Шомон!
Холм Шомон плыл куда-то в зелёном тумане. Ясными летними утрами в Петергофском парке такая же зелень. Ксения разглядывала листья вплотную. «Листья, успокойте меня». Наклонившись над прудом, она увидела следы слёз на своём лице. Смешные утята спешили ей навстречу... Какой-то нелепый кошмар, – ничего не было в этой проклятой газете, это совершенно невозможно... Она напудрилась, накрасила губы, глубоко вздохнула. Какой ужасный сон! Минуту спустя страх опять охватил её, но тут ей вспомнилось одно имя: Пасро. Как это я раньше о нём не подумала? Пасро – большой человек, Пасро был принят Вождём, отец и Пасро вместе спасут Кирилла Рублёва.
Около трёх часов Ксения попросила доложить о себе профессору Пасро, известному в обоих полушариях, председателю Конгресса защиты культуры, у которого сам Попов не отказывался останавливаться, когда приезжал для инспекции в Париж.
Дверь провинциального салона, увешанного акварелями, немедленно отворилась, и профессор Пасро ласково взял Ксению за плечи.
– Мадемуазель, как я рад вас видеть! Вы приехали в Париж на некоторое время? Знаете, что вы просто очаровательны? Дочь моего старого друга простит мне этот комплимент.
Он взял её под руку и усадил на диван в своём кабинете, он улыбался ей всем лицом – лицом старого седовласого офицера. Сюда не проникал городской шум. В углах комнаты стояли под стеклом точные измерительные приборы. Букет из веток почти заслонял дверь, ведущую в сад. Большой портрет в золочёной раме привлек к себе внимание Ксении.
– Это граф Монтессю де Баллор, – объяснил профессор, – гениальный учёный, расшифровавший загадку подземных толчков.
– Но ведь и вы, – с жаром сказала Ксения, – вы тоже...
– О, для меня это было гораздо проще. Когда путь в науке проложен, остается только идти им дальше.
Ксения охотно давала отвлечь себя от своей трудной проблемы.
– Ваша наука – чудесная и таинственная, правда? Профессор засмеялся:
– Чудесная? Пожалуй, как всякая другая наука. Но ничего таинственного в ней нет. Мы раскрываем её тайны, и она не умеет защищаться.
Он раскрыл картонную папку:
– Смотрите: вот координаты мессинского землетрясения 1908 года. Когда я продемонстрировал их на конгрессе в Токио...
Тут он заметил, что у Ксении дрожат губы.
– Мадемуазель! Что с вами? Вы получили плохие известия о вашем отце? Или у вас какое-нибудь большое огорчение? Расскажите мне всё...
– Кирилл Рублёв... – пробормотала Ксения.
– Рублёв, историк? Члец Коммунистической академии? Я слыхал о нём и даже, кажется, встретился с ним на одном банкете... Он друг вашего отца, не правда ли?
Ксении стыдно было слёз, которые она глотала, стыдно было нелепого чувства унижения и того, что должно было сейчас произойти. У неё пересохло в горле; в этом доме она почувствовала себя врагом.
– Кирилл Рублёв будет расстрелян через неделю, даже меньше, – если мы немедленно не заступимся за него.
Профессор Пасро весь съёжился в своём кресле, и она увидела, что у него острый животик, старомодные брелоки на часовой цепочке, старомодного покроя, жилет...
– Ах! – сказал он. – Какое ужасное известие...
Ксения рассказала ему об информации, полученной из Москвы и напечатанной в газетах, о гнусной фразе («обвиняемые во всём сознались»), об убийстве Тулаева год тому назад. Профессор Пасро подчеркнул этот пункт:
– Значит, было убийство?
– Да, но обвинять в нём Рублёва – это так же нелепо, как...
– Понимаю, понимаю...
Ей больше нечего было сказать. В наступившей тишине особенно заметно было механическое устройство сейсмографов, их блестящие странные формы. Земля нигде не дрожала.
– Верьте моему искреннему сочувствию, мадемуазель... уверяю вас... это ужасно! Революции пожирают своих детей, – мы, французы, давно это знаем, со времён жирондистов, Дантона, Эбера, Робеспьера, Бабёфа... Эта безжалостная поступь истории...
Ксения слышала лишь отрывки его фраз, но мысленно извлекала из них «самое существенное», и слова профессора приобретали для неё совсем другой смысл.
– ...В этом – что-то роковое, мадемуазель... Я старый материалист, но эти процессы напоминают мне роль рока в античных драмах... («Короче, короче!» – сурово подумала Ксения.) И перед роком мы бессильны. Впрочем, вы действительно уверены, что политические страсти и склонность к заговорам не завлекли слишком далеко этого старого революционера?.. которого я, как и вы, глубоко уважаю... о котором думаю с тревогой...
Профессор упомянул о «Бесах» Достоевского. («Если он заговорит о «славянской душе», я устрою скандал», – подумала Ксения. «А ваша душа где, мандарин?» Её отчаяние переходило в ненависть. «Запустить бы булыжником в эти идиотские сейсмографы, ударить бы по ним кузнечным молотом или попросту мужицким топором!»)
– И наконец, мадемуазель, по-моему, надежда ещё не вовсе потеряна. Если Рублёв не виноват, Верховный суд его оправдает...
– Вы действительно в это верите?
Профессор Пасро сорвал вчерашний листок календаря. Эта девушка в белом, с её криво надетым беретом, враждебным ртом, острым взглядом, беспокойными движениями рук, смутно казалась ему опасным существом; какой-то ураган занес её в его мирный кабинет. Если бы профессор Пасро обладал поэтическим воображением, он сравнил бы её с буревестником. В её присутствии ему было не по себе.
– Вы должны немедленно телеграфировать в Москву, – решительно сказала Ксения. – Пусть ваша Лига тоже пошлет телеграмму, сегодня же вечером. Скажите им, что вы отвечаете за Рублёва, что вы ручаетесь за него: Рублёв принадлежит науке.
Профессор Пасро тяжело вздохнул. Дверь приоткрылась, ему передали визитную карточку на подносе. Он поглядел на свои часы и сказал:
– Попросите этого господина подождать минутку.
Какие бы драмы ни переживала их далёкая революция, – у нас наши ежедневные обязанности. Вторжение визитной карточки вернуло профессору красноречие.
– Вы не сомневаетесь, надеюсь, что я.... Не могу вам сказать, до чего я взволнован!.. Но заметьте, что я видел Рублёва – которого я глубоко уважаю – только раз в жизни, на каком-то приёме. Как я могу ручаться за него при таких сложных обстоятельствах? Конечно, я не сомневаюсь в том, что он – выдающийся учёный, и от всей души надеюсь – как и вы, – что его сохранят для науки... Но я преклоняюсь перед правосудием вашей страны... и я верю в доброту человека, даже в наше время... Если бы Рублёв был хоть отчасти виноват (заметьте, это простая гипотеза), великодушный Вождь вашей партии оставил бы ему шанс на спасение... Что касается меня, то, верьте мне, я разделяю ваше волнение, от всей души желаю, чтобы всё кончилось для Рублёва благополучно, но, право, не вижу, чем я могу ему помочь... Я поставил себе за правило никогда не вмешиваться во внутренние дела вашей страны – это для меня вопрос совести. Комитет нашей Лиги собирается лишь раз в месяц, следующее собрание состоится через три недели, 27-го, и я не уполномочен созвать его раньше: ведь я только вице-председатель... Кроме того, цель нашей Лиги – борьба с фашизмом; предложение, даже исходящее от меня, но противоречащее нашему уставу, рискует вызвать горячие возражения и может даже привести к расколу Лиги – организации, которая преследует благороднейшую цель... Это значило бы нанести ущерб кампании, которую мы ведём в защиту Луиса Карлоса Престеса, Тельмана, преследуемых евреев... Вы понимаете меня, мадемуазель?
– Как не понять, – грубо ответила Ксения, – значит, вы ничего не хотите сделать?
– Поверьте, я в отчаянии, но, право, вы преувеличиваете моё влияние... Ну, подумайте сами, что я смогу сделать?
Большие светлые глаза Ксении холодно смотрели на него:
– Расстрел Рублёва не помешает вам спать, верно?
Профессор Пасро грустно ответил:
– Вы очень несправедливы ко мне, мадемуазель, но я старый человек и понимаю вас...
Она больше не взглянула на него, не протянула ему руки, вышла с окаменевшим лицом на тротуар этой буржуазной улицы, на которой не было прохожих. «Его наука – гнусная, гнусны его аппараты и коричневые обои его кабинета. А Кирилл Рублёв погиб, все наши погибли, нет больше выхода, нет выхода!»
В редакции еженедельного, почти «крайне левого» журнала другой профессор, лет тридцати пяти, выслушал её с таким видом, как будто она была вестницей его личного горя. Казалось, сейчас он станет рвать на себе волосы, ломать руки. Нет, ничего подобного. Имени Рублёва он никогда не слыхал, но эти русские драмы преследовали его денно и нощно...
– Это – трагедии Шекспира... Я разразился криком негодования на страницах нашего журнала, я закричал: «Пощады! Во имя нашей любви к русской революции, нашей преданности!.. Но меня не захотели услышать, – я вызвал реакцию вполне, впрочем, понятную, я сказал нашему редакционному комитету, что готов уйти... А при теперешней политической обстановке такая статья вообще бы не прошла. Мы выражаем мнение читателей, связанных с различными партиями; министерский кризис, о котором газеты пока умалчивают, ставит под вопрос все достижения последних лет... В данный момент конфликт с коммунистами мог бы иметь самые нежелательные последствия. И разве мы этим спасли бы Дублёва?
– Рублёва, – поправила Ксения.
– Ну да, Рублёва, – разве нам удалось бы его спасти? Мой печальный опыт убеждает меня в противном... Я, право, не знаю, что мне предпринять... Разве пойти сейчас к вашему послу и сказать ему, как это дело меня тревожит...
– Да, сделайте хотя бы это, – безнадёжно пробормотала Ксения и тут же подумала: «Они ничего не сделают, никто ничего не сделает, они даже неспособны понять...»
Ей хотелось биться головой о стену.
Она побывала ещё в нескольких редакциях, но так спешила, испытывала при этом такое мучительное страдание, что об этих посещениях у неё осталось только смутное воспоминание. Какой-то пожилой интеллигент с грязным галстуком ответил на её настойчивые просьбы почти грубо:
– Ну что ж, идите к троцкистам, они вам помогут! У нас достаточно сведений, мы составили себе обо всём этом определённое мнение. Все революции порождают предателей, которые могут казаться и даже лично быть замечательными людьми. Все революции в отдельных случаях могут быть несправедливы. Их надо принимать целиком.
Он с яростным видом вырезал что-то из утренней газеты.
– У нас здесь только одна задача – бороться с фашизмом!
В другой редакции какая-то пожилая, небрежно напудренная дама так растрогалась, что назвала Ксению «милой девочкой».
– Если бы у меня в этом журнале был какой-нибудь вес, то, поверьте, милая девочка, я... Впрочем, я всё же постараюсь напечатать заметку о значении научных трудов вашего друга, как его, Уплёв, Рублёв? Запишите, пожалуйста, его имя на этой бумажке... Вы сказали – композитор! Ах, историк, ну хорошо, историк...
Старая дама кутала шею в выцветший шёлковый шарфик...
– В какое время мы живём, милая девочка! Прямо страшно подумать.
Она склонилась к Ксении с искренним волнением:
– Скажите, милая, – это нескромный вопрос, но ведь мы с вами женщины, – вы его любите, этого Кирилла Рублёва? Кирилл, какое красивое имя...
– Нет, нет, я его не люблю, – ответила Ксения, подавляя слёзы и раздражение.
Сама не зная для чего, она остановилась перед витриной американского книжного магазина на авеню Оперы. Маленькие голые красавицы принимали изящные позы над пепельницами, – по соседству с картой расчленённой Чехословакии. Среди роскошно изданных книг были и серьёзные, и дурацкие: «Тайна безлунной ночи», «Незнакомка в маске», «Пожалейте женщин». Создавалось впечатление ненужной роскоши, созданной для перекормленных, чисто вымытых, надушенных людей, которым хочется испытать лёгкую дрожь от страха или жалости, перед тем как уснуть на шёлковых простынях. Неужели в наше страшное время они так и не узнают – на собственной плоти, на собственных нервах, – что такое жалость и страх?
В другой витрине, белой с золотом, морские коньки в аквариуме сулили счастье покупателям драгоценностей. Удача в любви, удача в делах благодаря нашим брошкам, кольцам, новомодным ожерельям. Скорее бежать отсюда...
Ксения вздохнула на другом конце Парижа, на скамье, в сером пейзаже, под окнами госпиталя, у его меловой стены. Каждую минуту чудовищный железный грохот пролетавших по мосту вагонов метро до основания потрясал её нервы.
Откуда она вернулась, совершенно измученная, когда настала ночь? Как могла она заснуть? На другое утро она оделась, преодолевая тошноту, дрожащими пальцами нарумянила щёки, спустилась в кафе, где была уже мадам Делапорт, села за свой столик, не замечая соболезнующих или любопытствующих взглядов, оперлась подбородком на ладонь, взглянула на бульвар Распай... Мадам Делапорт сама подошла к ней и дотронулась до её плеча:
– Вас просят к телефону... Ну, как дела? Не лучше?
– Нет, ничего, – сказала Ксения, – это всё пустяки... В телефонной будке уверенный и бархатный мужской голос заговорил по-русски:
– С вами говорит Кранц. Я узнал о ваших неосторожных и преступных хлопотах... Советую вам немедленно их прекратить. Вы меня поняли? Последствия могут быть очень серьёзные – и не только для вас.
Не отвечая, Ксения повесила трубку. В эту минуту в кафе вошёл Вилли, первый секретарь посольства, красивый малый английского типа, в сером пальто покроя реглан, в фетровой шляпе; подарить бы ему пепельницу с изображением голой дамы, журнал «Эсквайр», перчатки из жёлтой кожи, бросить бы ему всё это в физиономию! Карьерист! Лжеджентльмен, лжекоммунист, лжедипломат! Всё в нём ложь.
Он снял шляпу, поклонился:
– Ксения Васильевна, у меня для вас телеграмма.
Пока она вскрывала голубой конвертик, он с острейшим вниманием её разглядывал; измучена, нервна, на всё решилась. Надо действовать осторожно.
Попов телеграфировал:
«Мать больна просим немедленно вернуться».
– Я зарезервировал для вас место в самолёте на среду...
– Я не еду, – сказала Ксения.
Не дожидаясь приглашения, он сел на стул против неё. Они склонились друг к другу, похожи были на поссорившихся и мирящихся влюблённых, тихо разговаривающих между собой, Мадам Делапорт теперь всё было ясно.
– Кранц поручил мне сказать вам, что вы должны вернуться домой. Вы вели себя очень неосторожно, Ксения Васильевна, позвольте мне вам это сказать... Все мы принадлежим партии.
Надо было сказать это по-другому. Вилли начал сначала.
– Кранц очень порядочный человек... Он беспокоится за вас. Беспокоится за вашего отца, которого вы серьёзно компрометируете... А ведь ваш отец старик! И вы здесь ничего не добьётесь. Здесь пусто.
Вот это было сказано удачнее. Выражение её бескровно-белого лица чуть смягчилось.
– Между нами говоря, я думаю, что вас по приезде арестуют. Но это не страшно, Кранц за вас заступится, он мне обещал... Ваш отец поручится за вас. Вам нечего бояться...
Намёк на страх был очень ловко пущен. Ксения сказала:
– Вы думаете, я боюсь?
– Вовсе нет! Я говорю с вами как товарищ, как друг... Я...
– Я уеду, когда закончу то, что должна сделать. Скажите это Кранцу. И можете сказать ему, что если Рублёва расстреляют, я буду кричать об этом на всех перекрёстках, напишу во все газеты...
– Процесса не будет, Ксения Васильевна, мы получили об этом информацию. И мы не посылаем опровержения в газеты, чтобы поскорее забыли об этой несчастной заметке. Кранц не знает даже, арестован ли Рублёв. Во всяком случае, если он арестован, шумиха, которую вы здесь поднимете, может ему только повредить. Ваши слова меня пугают. Я вас прямо не узнаю!
Что бы ни случилось, вы не в силах изменить что-либо и вы не станете кричать на улицах, – да и к кому вы обратитесь? К окружающему нас враждебному миру? К буржуазному Парижу, к фашистским газетам, которые на нас клевещут? К троцкистам, агентам фашизма? Чего вы добьётесь? Небольшого контрреволюционного скандала, на радость фашистской прессе? Ксения Васильевна, обещаю вам забыть всё, что вы мне только что сказали. Вот вам билет на самолёт: в среду к 9.45, с аэродрома Бурже. Я там буду. У вас деньги есть?
– Да.
Но Ксения знала, что это неправда, – и вопрос о деньгах её беспокоил. Когда она заплатит по счёту в отеле, у неё почти ничего не останется. Она оттолкнула от себя книжечку с билетом на самолёт.
– Возьмите ваш билет, если не хотите, чтоб я его разорвала у вас на глазах.
Вилли спокойно спрятал билет в бумажник.
– Подумайте ещё, Ксения Васильевна! Я зайду к вам завтра утром.
Мадам Делапорт была разочарована: они попрощались холодно. «Верно, она здорово ревнивая, эта русская девочка, – когда на них такое находит – чистые тигрицы! Тигрицы или распутницы: эти народы не знают меры».
Сквозь занавеску Ксения увидела, что Вилли, прежде чем сесть в свою машину «крайслер», повернул голову к перекрёстку бульвара, где маячила фигура в бежевом плаще. За ней уже следили. Они заставят меня уехать. На всё способны. Но мне наплевать. Хотя...
Она сосчитала оставшиеся у неё деньги. Триста франков. Зайти во Внешторг? Но там ей аванс не дадут – и, пожалуй, не выпустят. Продать ручные часы, «лейку»? Она уложила чемодан, сунула в портфель пижаму, всякую мелочь и пошла не оглядываясь, зная, что за ней слежка, по улице Вавэн. В Люксембургском саду, в пятидесяти метрах за собой, она заметила плащ. «Значит, и я теперь стала предательницей, вроде Рублёва. И мой отец предатель, потому что я его дочь». Как справиться с потоком мыслей, со стыдом, возмущением, яростью? Это можно было сравнить с ледоходом на Неве: огромные льдины, похожие на расколовшиеся звёзды, сталкиваются, борются, уничтожают друг друга, пока не исчезнут под спокойными морскими струями. Чтобы преодолеть эту мысль, надо было додумать её до конца, проследить её извилины, дойти до той неизвестной, но неизбежной минуты, когда так или иначе всё будет кончено. Эта минута наступит... Неужели она придёт? Неужели не придёт? Ксении казалось, что её мучениям не будет конца. Что же кончится? Моя жизнь? Меня расстреляют? За что? Что я сделала? А что сделал Рублёв? Страшно об этом думать... Остаться здесь? Без денег? Искать работы? Какой работы? С кем жить? Для чего жить?
Дети пускали кораблики в большом круглом бассейне. В здешнем мире жизнь спокойна и бесцветна, как детские игры. Каждый живёт только для себя. Жить для себя? Какая нелепость!
Если меня выгонят из партии, я не посмею взглянуть рабочему в лицо, ничего не смогу объяснить, никто меня не поймёт. Этот подлец Вилли только что сказал: «Ну да, может быть, это действительно преступления, но нам ничего неизвестно, наш долг – слепо верить партии, ничего другого нам с вами не остается. Обвинять, протестовать – значит служить врагу. Я предпочитаю, чтобы меня самого расстреляли по ошибке. Несмотря на преступления и ошибки – долг остается долгом». И это верно. В устах карьериста это, конечно, заученные фразы, и сам-то он изловчится, чтобы ничем никогда не рискнуть, – но по существу это верно. А что бы сказал Рублёв? Он не допустил бы и тени измены...
На станции метро Сен-Мишель Ксения потеряла из виду плащ шпиона. Она продолжала бродить по Парижу, изредка заглядывая в зеркала больших магазинов: у неё был вид потерпевшей кораблекрушение, измятая жакетка, глубоко запавшие глаза, но она себя не жалела, напротив: «Я хочу быть некрасивой, я должна быть некрасивой!» Проходившие женщины – занятые только собой, холёные, с нелепыми безделушками в петлицах кофточек или на блузках – казались ей беспечными человеческими животными; глядя на них, не хотелось больше жить.
Когда наступила ночь, Ксения, совершенно измученная ходьбой, очутилась на сверкавшей всеми своими огнями площади. Потоки электрического света струились по монументальному куполу кино и окружали ослепительным сиянием два огромных, до тошноты блаженных лица, слившихся в дурацком поцелуе. На другом конце площади, горевшей пурпурно-золотым светом, летел в ночь, под аккомпанемент пронзительных вскриков и дробного стука каблуков по доскам, исступлённый голос громкоговорителя, распевавший любовный романс. Для слуха Ксении всё это было протяжным, назойливым мяуканьем. Мужчины и женщины, пившие у стойки, казались ей странными, беспощадными друг к другу насекомыми, запертыми в жарко натопленном вивариуме. Между этими двумя заревами – кино и кафе – уходила в ночь широкая улица, вся в ярких вывесках, как в звёздах: ОТЕЛЬ, ОТЕЛЬ, ОТЕЛЬ.
Ксения направилась туда, вошла в первую же дверь и попросила комнату на ночь. Маленький старичок в пенсне, которого она потревожила, был, казалось, неотделим от ящика с ключами и конторки, между которыми ютилась его протабаченная фигурка.
– Пятнадцать франков, – сказал он, кладя пенсне с тусклыми стёклами на газету, которую читал. Его кроличьи глазки заморгали:
– Что-то я вас не признаю, милая. Вы не Поля будете, из пассажа Клиши? Ведь вы всегда останавливаетесь в отеле «Мор-биган»? Ах, иностранка? Ну, повремените минутку.
Он наклонился, исчез, потом вынырнул из-под доски, рядом с Ксенией, опять исчез в глубине коридора; а потом появился сам хозяин с засученными рукавами на толстых, как у скотобойца, руках. Он внимательно рассмотрел Ксению, будто собирался её продавать, поискал что-то под конторкой и наконец сказал:
– Ну ладно, заполните карточку. А документ есть? Ксения протянула ему свой дипломатический паспорт.
– Вы без кавалера? Хорошо. Я дам вам одиннадцатый номер: тридцать франков, ванная под боком...
Он подымался перед нею по лестнице – огромный, с бычьей шеей, помахивая зажатой в толстых пальцах связкой ключей. При виде комнаты номер одиннадцатый – холодной, скупо освещённой двумя лампочками под абажурами на ночных столиках – Ксении вспомнился какой-то детективный роман. Вот в этом углу стоял железом окованный сундук, в котором нашли разрезанный на куски труп девушки. Из угла несло карболовой кислотой. Когда Ксения потушила свет, вся комната, от зеркала до потолка, озарилась световыми арабесками, отблесками уличных неоновых ламп. Ксения тотчас нашла среди них с детства знакомые образы: вот волк, а вот рыба, прялка, профиль Ивана Грозного... Она так устала от мыслей и хождения по городу, что немедленно уснула. Убитая девушка робко приподняла крышку сундука, вышла наружу, потянулась всем своим израненным телом. «Не бойтесь, – сказала ей Ксения, – я знаю, что мы с вами ни в чём не виновны». У убитой девушки были русалочьи волосы и ласковые глаза, похожие на полевые маргаритки. «Мы вместе прочтём «Сказку о золотой рыбке»... Слушайте эту музыку... Ксения положила девушку рядом на кровать, чтобы согреть её. Внизу, в швейцарской, владелец отеля «Двух лун» говорил по телефону с господином Ламбером, помощником полицейского комиссара.
С каждым пробуждением жизнь начинается сначала. Ксения была слишком молода, чтобы предаваться отчаянию. Ей показалось, что кошмар, наконец, рассеялся. Если процесса не будет, Рублёв не погибнет. Да и не может быть, чтобы его убили: он такой большой человек, такой простой и верный! Попов это знает, Вождь не может не знать. Она почувствовала себя лёгкой, как пёрышко, оделась, увидела в зеркале, что она сегодня хорошенькая. Но где же мне почудился сундук с убитой? Она была довольна собой: не испугалась.
В дверь тихонько постучали: она отворила и в полутьме коридора увидела кого-то – широкоплечего, с широким и грустным лицом. Ни знакомый, ни незнакомый: неопределённые тяжёлые черты. Посетитель представился густым бархатным голосом:
– Кранц.
Он вошёл, оглядел комнату, всё как бы взвесил. Ксения прикрыла неубранную постель.
– Ксения Васильевна, я пришёл за вами по поручению вашего отца. Машина ждёт нас внизу. Пойдёмте.
– А если я не хочу!
– Даю вам слово, что вы поступите, как вам будет угодно. Вы не изменили, вы никогда не будете изменницей, и я не собираюсь увозить вас силком. Партия доверяет вам, – как и мы. Идёмте.
Уже сидя в машине, Ксения вдруг взбунтовалась. Кранц, повернувшийся к ней вполоборота и сделавший вид, что очень занят своей трубкой, почувствовал приближение грозы. Машина ехала по улице Риволи. Жанна д'Арк, всё ещё красивая, хотя и потерявшая свою позолоту, размахивала детским мечом на своём маленьком, окружённом решёткой пьедестале.
– Я хочу здесь выйти, – твёрдо сказала Ксения и привстала.
Схватив её за руку, Кранц заставил её снова сесть.
– Вы выйдете, когда захотите, Ксения Васильевна, но это будет не так просто.
Он опустил окно машины со стороны Ксении. Вандомская колонна исчезала в бледном свете, на фоне арок.
– Прошу вас, не будьте импульсивной. Поступайте смело, как знаете. На нашем пути немало полицейских. Мы едем медленно. Вы можете обращаться к ним, я вам не помешаю. И вы, советская гражданка, окажетесь под защитой французской полиции! У меня потребуют документ, вы же можете уйти. В три часа специальные выпуски газет известят мир о вашем бегстве, то есть о вашей измене. Я один улечу на самолёте в среду, и я заплачу за вас, – я и ваш отец. Вы знаете закон: близких родственников ссылают – в лучшем случае – в самые отдалённые области Союза.
Слегка отодвинувшись от неё, он полюбовался белой русалкой на своей красивой пенковой трубке, открыл кисет и обратился к шофёру:
– Будь так добр, Федя, замедли ход, когда будешь проезжать мимо полицейских.
– Слушаюсь, товарищ начальник.
Руки Ксении болезненно сжались. Она с ненавистью смотрела на короткие пелерины полицейских. Наконец сказала:
– Как вы сильны, товарищ Кранц, – и какой вы презренный человек!
– Не такой уж сильный, как вам кажется, – и не такой презренный. Просто я верен. И вы тоже, Ксения Васильевна, вы должны быть верны, что бы ни случилось.
В среду они вместе улетели на самолёте с аэродрома Бурже. Эйфелева башня, прилепившаяся к земле, уменьшилась в размере, вокруг чётко обозначился классический рисунок садов. Триумфальная арка на миг представилась прямоугольным камнем в центре звездой расходившихся улиц. Чудесный Париж исчез под облаками, и Ксения пожалела, что лишь коснулась этого мира, что не поняла его и, может быть, никогда не поймёт.
«Я ничего не смогла сделать, чтобы спасти Рублёва, но я буду бороться за него в Москве – только бы приехать вовремя!.. Я заставлю отца хлопотать, попрошу, чтобы Вождь меня принял. Он столько лет нас знает, он не откажет выслушать меня, а если выслушает – Рублёв спасён». Мысленно она представляла себе свидание с Вождём. «Надо быть бесстрашной и доверчивой, не унижаться перед ним, но помнить, что – никто, а он – олицетворение партии, для которой мы все должны жить и умереть, надо быть искренней и краткой, потому что его минуты драгоценны. Ему приходится ежедневно разрешать все проблемы шестой части света... Надо будет говорить с ним от полноты души, чтобы в несколько минут его убедить...» Предупредительный Кранц не мешал ей думать; сам он то листал глупые иллюстрированные журналы, то читал военные сборники на разных языках. Над пролетающей землёй разворачивалась поэма облаков; реки, спускавшиеся со склонов, радовали взгляд.
Они почти весело пообедали в Варшаве. В этом городе элегантность и роскошь ещё больше бросались в глаза, чем в Париже, но с высоты неба видно было, что он окружён скудной и мрачной землёй. Вскоре сквозь прорывы в облаках показались необозримые тёмные леса.
– Мы приближаемся, – пробормотала Ксения, и такая щемящая радость овладела ею, что она в невольном порьюе повернулась к спутнику.
Кранц наклонился к иллюминатору – у него было усталое выражение, и он сказал с грустным удовлетворением:
– Это уже колхозные земли, видите? Маленькие участки исчезли.
Бесконечные поля неопределённого оттенка – жёлтого и коричнево-сероватого.
– Через двадцать минут мы будем в Минске.
Из-под «Журнала французской пехоты» он вытащил «Vogue» и стал перелистывать лоснящиеся страницы.
– Ксения Васильевна, прошу вас простить меня. У меня определённые инструкции. Вы должны считать себя арестованной. Начиная с Минска нашей дальнейшей поездкой займется госбезопасность... Всё же не надо слишком тревожиться: я надеюсь, что всё закончится благополучно.
На обложке журнала были нарисованы изящные женские головки – в шляпах, но без глаз, – и у них были разных оттенков губы, под стать цвету лица. В пятистах метрах под ними, между свежевспаханными участками, крестьяне в отрепьях землистого цвета шли за тяжело нагруженной телегой. Видно было, как они понукали замученную лошадёнку, как старались вызволить колёса из колеи.
«Значит, я ничем не смогу помочь Рублёву», – подумала ошеломленная Ксения.
Эти мужики с их завязшей в грязи телегой тоже не могли помочь никому на свете – и никто на свете не мог помочь им.
Плавно приближалась голая земля.
С того дня, как товарищ Попов получил преступно-безумную телеграмму дочери, он беспрестанно переходил от тревоги к унынию; к тому же его не на шутку мучил ревматизм. Вокруг него сгущался несомненный холодок. Аткин, новый прокурор при Верховном суде, который вёл следствие о деятельности своего предшественника, дважды с почти нескрываемой дерзостью отказался принять Попова или зайти к нему. Попов сунулся было в Генеральный секретариат, чтобы пронюхать, какое там настроение, но наткнулся на рассеянные физиономии, которые показались ему лицемерными. Никто не поспешил ему навстречу.
Гордеев, обычно советовавшийся с ним о текущих делах, уже несколько дней и носу не показывал. Всё же, узнав, что Попов болен и не выходит, он приехал к нему на четвёртый день, часов в шесть. Поповы жили на даче ЦК в Быкове.
Гордеев явился в форме. Попов принял его в халате; он расхаживал по комнате, опираясь на палку. Для начала Гордеев справился о его здоровье, предложил прислать ему доктора, по слухам замечательного, особенно, впрочем, на этом не настаивал; согласился выпить рюмку коньяка. Мебель, ковры – всё в этой комнате, тихой и с виду пыльной (хотя там не было ни пылинки), было старомодным. Гордеев кашлянул, чтобы прочистить горло.
– Я привез вам известия о вашей дочери. Она здорова... Она... она арестована. Вела себя в Париже очень неосторожно, вы в курсе?
– Да, да, – сказал поражённый Попов, – я догадываюсь... да, это возможно... Я получил от неё телеграмму... Скажите, как, по-вашему, это очень серьёзно?
Мысленно он задавал себе трусливый вопрос: серьёзно ли это для него?
Гордеев с озадаченным видом посмотрел на свои ногти, потом на комнату, выдержанную в полутонах, на чёрные ели в окне.
– Как вам сказать? Я и сам ещё не знаю. Всё будет зависеть от следствия. С формальной точки зрения это представляется серьёзным: попытка дезертирства во время заграничной командировки, поступки, вредящие интересам Советского Союза. Это – термины кодекса, но я надеюсь, что на практике всё это сводится к неосторожности или, скажем, к необдуманным поступкам, которые заслуживают скорее выговора, чем наказания.
Попов зябко съёжился в кресле и показался очень старым, почти бесплотным.
– Самое неприятное, товарищ Попов, это... Я, право, не знаю, как вам объяснить... Помогите мне... («Ещё помогать ему – вот сволочь!»)
– Для вас, товарищ Попов, положение получается очень... нелрвкое. Не говоря уже о том, что статья кодекса предвидит... меры, касающиеся близких родственников виновных (меры, которые мы, конечно, не станем применять во всей их строгости, пока не получим приказа свыше), – как вам, вероятно, известно, товарищ Аткин ведёт следствие, пока ещё секретное, о деятельности Рачевского. Мы констатировали – невероятно, но факт! – что Рачевский уничтожил папку с делом о саботаже в Актюбинске. Мы доискиваемся происхождения этой в высшей степени неуместной заметки о предстоящем процессе, появившейся в иностранной прессе. Мы даже думали, что это – проделка иностранных агентов. Рачевский, с которым трудно разговаривать, потому что он постоянно пьян, признаётся, что он сам велел составить это коммюнике, но уверяет, что действовал согласно вашей устной инструкции... Как только он будет арестован, я его лично допрошу и, будьте спокойны, не позволю ему уклоняться от ответственности... Как бы то ни было, совпадение этого инцидента с обвинением, тяготеющим над вашей дочерью, для вас – как бы сказать? – очень... досадно.
Попов ничего не ответил. Острая боль пронизывала все его члены. Гордеев мысленно попытался решить: что он – конченый человек или хитрая старая лиса, способная ещё выпутаться из положения? Трудно сказать наверняка, но первая гипотеза казалась ему более вероятной.
Так как Попов продолжал молчать, Гордеев решил перейти к заключению. Его собеседник смотрел на него острым взглядом зверя, затравленного в собственной норе.
– Вы, надеюсь, не сомневаетесь в моих чувствах, товарищ Попов...
Тот не шелохнулся. Может, он сомневался или ему было наплевать, а может, он был так болен, что чувства Гордеева не имели для него никакого значения. Да и какие, собственно, чувства? Гордеев не потрудился их уточнить.
– Пока что решено просить вас не выходить из вашей комнаты и воздерживаться от телефонных разговоров.
– Но с Вождём партии?..
– Мне очень неприятно настаивать на этом: ни с кем. Впрочем, возможно, что ваш телефон будет выключен.
После ухода Гордеева Попов не двинулся с места. В комнате стемнело. На сосны пошёл дождь. Фигура Попова, сидевшего неподвижно в кресле, сливалась с тёмными предметами. Вошла его жена: седая, сгорбленная, неслышно ступающая, она тоже была похожа на тень.
– Зажечь свет, Василий? Как ты себя чувствуешь?
Старик Попов ответил очень тихо:
– Хорошо. Ксения арестована. Мы с тобой арестованы. Я страшно устал. Не зажигай света.
Жизнь колхоза «Путь в будущее» напоминала скачки с препятствиями. Колхоз был основан в 1931 году, после двух чисток села, закончившихся высылкой (Бог знает в какие места!) нескольких кулацких семей и нескольких бедняцких – за непокорный дух. В следующем году колхозу стало недоставать скота и лошадей, потому что мужики предпочитали убивать животных, чем сдавать их в коллективное хозяйство. Нехватка корма, разгильдяйство и эпизоотии доконали последних лошадей как раз к тому времени, когда в Молчанске организована была наконец МТС. Арест районного ветеринара (вероятно, виновного, потому что он принадлежал к секте баптистов) не улучшил положения. Дорожное сообщение с райцентром было плохое, и с самого начала в МТС обнаружилась нехватка горючего и запчастей. Старое село Подгорелое, названное так в память прежних пожаров, отстояло дальше других от МТС и поэтому обслуживалось в последнюю очередь.
Тягловой силы не было, и мужики без особого усердия пахали землю (которую уже не считали своей) под наблюдением председателя колхоза – коммуниста, бывшего рабочего пензенского велосипедного завода, мобилизованного партией и присланного из райцентра. Мужики наперёд знали, что государство заберёт себе почти весь урожай. Три раза подряд земля рожала скупо. Всё ближе подступал голод. Группа крестьян укрылась в лесу; их кормили семьи: власти на этот раз не решились их выслать. От голода поумирали маленькие дети, половина стариков и даже несколько взрослых. Какого-то председателя колхоза утопили в речке Сероглазой, привязав ему камень на шею.
Новые, неоднократно переработанные директивы ЦК привели наконец к временному соглашению: крестьянам отведены были в коллективном хозяйстве личные участки. В колхоз приехал толковый агроном, получены были отборные семена и химические удобрения, лето выдалось на редкость жаркое и сырое, и, несмотря на распри и взаимную ненависть, уродилась великолепная рожь; но для уборки полей не хватило рабочих рук, и часть урожая сгнила на корню. Рабочего велозавода обвинили в неумении осуществлять руководство, в бесхозяйственности, в превышении власти, и он получил три года принудительных работ. «Желаю моему преемнику много удовольствия», – просто сказал он. Председателем колхоза был выбран некто Ванюшкин, коммунист, родом из этого же села, незадолго до того демобилизованный. В 1934-1935 годах, пережив голод, колхоз стал медленно выздоравливать – благодаря новым директивам, обилию снега и дождей, энергии комсомольцев и, по мнению старух и двух-трёх крепко верующих бородатых мужиков, возвращению отца Герасима, амнистированного после трёхлетней ссылки. Хоть и бывали ещё иногда тяжёлые моменты, всё же нельзя было отрицать, что план посевных работ, отборные семена и использование техники немало способствовали урожайности.
Чтобы «окончательно» укрепить положение, были присланы в село агроном Костюкин, незаурядная личность, и командированный обкомом комсомолец-активист, которого все запросто звали Костей.
Незадолго до осенних посевных агроном Костюкин заметил, что какие-то паразиты завелись в семенах (часть которых до того разворовали) . Вместо двух обещанных тракторов (из трёх, признанных необходимыми) МТС доставила только один, и для него не хватало горючего. Когда же привезли горючее, поломался мотор.
Пахать начали с запозданием, на рабочих лошадях, – и оказалось, что теперь не на чем ездить в райкооператив: колхоз остался без промышленных товаров. Из-за недостатка горючего половина грузовиков застряла на местах. Бабы начали шептаться: скоро, мол, опять будет голод за наши грехи, и поделом нам...
Места здесь равнинные, чуть холмистые: глядя на облака, ясно можно различить, как гонятся друг за другом, от одного горизонта к другому, толпы белых архангелов. До райцентра, Молчанска, по размытым, утопающим в грязи или пыли – в зависимости от сезона – дорогам километров шестьдесят, оттуда до железной дороги ещё пятнадцать. Ближайший большой город, областной центр, – в ста семидесяти километрах. В общем, в смысле сообщения положение села неплохое.
Шестьдесят пять изб (из которых многие пусты), бревенчатых или дощатых, крытых выгоревшей соломой, стоят полукругом на холме, над изгибом реки. Их окна глядят на облака, на спокойные серые воды, на поля по ту сторону реки, на далёкую лиловатую линию лесов. По тропинкам идут к реке за водой молодые бабы и ребятишки; на плечах у них коромысла с ведрами. В ведро бросают плоский деревянный круг, чтобы вода не проливалась на землю.
Полдень. Рыжие поля греются на солнце. Они жаждут семян. Нельзя не почувствовать этого, взглянув на них. Дайте нам семян, не то будете голодать. Торопитесь, ясные дни уходят, торопитесь, земля ждёт... Хлопья белых облаков плывут по равнодушному небу. Слышно, как за домом два механика обмениваются советами и ругательствами над выбывшим из строя трактором.
Председатель Ванюшкин яростно зевает. Он страдает оттого, что поля заждались семян; мысль о плане его мучает, он ночей не спит – и даже выпить нельзя: водка кончилась. Все, кого он посылает в район, возвращаются усталые, запылённые и смущённые и привозят с собой только клочок бумаги, исписанный карандашом: «Держись, тов. Ванюшкин, первый свободный грузовик – тебе! С ком. приветом Петриков».
Это ровно ничего не значит. Поди-ка проверь, кому он, сволочь, даст первый свободный грузовик: ведь, поди, все колхозы пристают к нему с той же просьбой. Да и будет ли у него когда свободный грузовик?
В правлении колхоза стоял один только стол, заваленный пожелтевшими, как осенние листья, бумагами. В открытые окна виднелась сплошная масса полей. В глубине комнаты – портрет Вождя, писанный тусклыми красками, смотрел на закопчённый самовар, стоявший на печи. Перед печью распластались мешки, один на другом, как замученные животные. Ни в одном из них не было положенного количества семян, и Костя, проверявший вес, отмечал, посмеиваясь, это обстоятельство.
– Не стоит и проверять, как нас обжулили, Ефим Богданыч. Ты думаешь, мужики ничего не заметят, потому что у них весов нет? Ты этого народа не знаешь, они тебе взвесят мешок на глаз и так заорут, что моё почтенье, вот увидишь.
Ванюшкин жевал потухшую папиросу.
– А что же делать, скажи-ка, умник? Ну, придётся съездить в район, в суд, а дальше что?!
Они увидели, как прыгающей походкой, размахивая длинными руками, точно веслами, приближается полем агроном Костюкин.
– Его только не хватало?
– Хочешь, Ефим Богданыч, я тебе наперёд скажу, что он нам сейчас объявит?
– Заткнись!
Вошёл Костюкин. Соломенно-жёлтая кепка спускалась ему на глаза, капли пота выступили на конце его длинного красного носа, соломинки застряли в бороде. Не успел он войти, как сразу пустился в свои истерии. Уже на пять дней отстали от плана! Нет грузовиков, не на чем привезти семена. МТС всё только обещает, да обманывает.
– Вы видали когда, чтоб эти парни сдержали своё обещание?
МТС получит запчасти для самых срочных починок дней через десять, не раньше, оттого что на железной дороге затор, – уж это я, поверьте, знаю. Так вот! План посевных идет к чёрту – а что я вам говорил? В лучшем случае будет 40 процентов дефицита, а если начнутся заморозки – 50 процентов, не то и все 60 процентов...
Рыжеватое лицо Ванюшкина, похожее на сплющенный кулачок, сморщилось. Он с ненавистью поглядел на агронома, точно хотел сказать: «А ты и рад?» Агроном Костюкин яростно размахивал руками, будто мух ловил. Его влажные глаза слишком ярко блестели, жидкий голосок всё понижался, но в ту минуту, когда казалось, что вот-вот совсем замрёт, – вдруг поднимался до хриплого крика. Колхозная администрация немного побаивалась агронома, потому что он вечно скандалил, пророчил беду и редко ошибался: вроде сам её накликал. Не знали, что о нём и думать: он недавно вернулся из концлагеря; это был раскаявшийся вредитель, осуждённый за то, что погубил на корню целый урожай, – будто бы, уверял он, из-за недостатка рабочих рук для уборки. Освободили его до срока, потому что на фермах тюремной администрации он провёл образцовую работу; даже в газетах писали о его опыте применения новых методов корчевания в холодном крае; его наградили орденом Трудового Красного Знамени за остроумную систему ирригации, использованную в колхозах вотяков во время засухи. Одним словом, знающий специалист, может, тайный контрреволюционер, а может, и взаправду раскаявшийся. Во всяком случае, с ним надо было держать ухо востро, но приходилось и считаться: он заслуживал уважения. Ванюшкин (бывший каменщик, бывший пехотинец) окончил только краткосрочные курсы для руководителей коллективных хозяйств и теперь решительно не знал, что ему делать. Костюкин продолжал:
– Мужики всё видят: «Работаем, а зимой опять с голода подыхать!» Кто же саботирует? Они собрались написать в райцентр, жаловаться. Надо созвать собрание, объяснить им...
Костя молча грыз ногти. Потом спросил:
– А сколько отсюда до района?
– Равниной – пятьдесят пять километров.
Агроном и Костя мгновенно поняли друг друга: одна и та же мысль поразила обоих. Почему бы не принести на собственных спинах всё это добро, – семена, продукты, спички, ситец, обещанный женщинам? Если мобилизовать всех – и здоровых женщин, и шестнадцатилетних мальчишек, способных сменя'ть мужчин, – можно будет всё обделать в три-четыре дня. За эти дни и ночи труда надо будет заплатить вдвое, обещать особую выдачу мыла, папирос, ниток из кооператива. А если в кооперативе заартачатся, Ванюшкин, – я сам пойду в партком и скажу им так: «Даешь продукты, не то весь план пойдет к чёрту! Не могут они отказать, у них есть запасы. Я знаю, что их приберегают для парткадров, инженеров и прочих, это нормально, – но тут уж придётся им уступить; мы пойдём к ним всей толпой. Пусть и иголок нам дадут – ведь получили, только скрывают.
Агроном и Костя обменивались решительными фразами, будто запускали друг в друга камнями. Костя взял агронома за локти. Они стояли друг против друга: у одного был энергичный молодой профиль; у другого – старое лицо с острым носом, потрескавшимися губами, щербатыми зубами.
– Надо созвать собрание. Можно будет мобилизовать до ста пятидесяти человек, если придёт народ из Изюмки.
– Может, позвать попа, чтобы он поговорил с людьми? – предложил Ванюшкин.
– По мне, хоть чёрта рогатого, пусть только скажет хорошую агитационную речь, – воскликнул Костя. – Увидят его раздвоенные копыта, запахнет серой, мелькнёт его высунутый огненный язык: за план посева, граждане! Я на всё согласен – пусть дьявол продаст нам свою душу.
Смех разрядил атмосферу. Смеялись все трое. Смеялась и рыжая земля только им заметным смехом.
Собрание состоялось во дворе колхозного правления, в сумерках, в тот час, когда гнус начинает терзать людей. Пришло много народу: мужчины сознавали близость опасности, женщины заранее радовались выступлению отца Герасима. Для баб притащили скамьи; мужчины слушали стоя. Председатель Ванюшкин первым взял слово, робея в душе перед двумя сотнями едва различимых в сумерках лиц. Из задних рядов кто-то крикнул:
– А ты зачем Кибуткиных велел арестовать? Анафема!
Ванюшкин сделал вид, что не слышит. Он бросал в толпу тяжёлые, неуклюжие слова: долг... план... честь колхоза... власть требует... дети... зимой грозит голод – и глядел при этом на красный шар солнца, опускавшийся в грозном тумане к тёмному горизонту.
– Передаю слово гражданину Герасиму.
Толпа дрогнула, как один человек. Отец Герасим вскарабкался на стол.
С тех пор как была опубликована Великая демократическая конституция, дарованная Вождём советскому народу, поп перестал скрываться и отпустил волосы и бороду, как требовал того старинный обычай, – хоть о. Герасим и принадлежал к Живой церкви. Он совершал богослужения в старой, заброшенной, им собственноручно отремонтированной избе, на крыше которой возвышался крест, им же сколоченный из досок и выкрашенный в жёлто-золотую краску.
Опытный плотник, неплохой садовник (обучившийся этим ремёслам в исправительно-трудовом лагере на Соловецких островах) , он назубок знал Евангелие и так же досконально – законы, директивы, циркуляры Народного комиссариата земледелия и Центрального управления колхозов. Врагов народа, заговорщиков, саботажников, предателей, иностранных агентов, одним словом – троцкистов-фашистов он ненавидел лютой ненавистью и с высоты амвона (то есть лестницы, приставленной к печи) требовал их уничтожения. Местная власть его ценила. В сущности, это был обыкновенный, заросший волосами мужик, разве что ростом повыше других. Женат он был на смирной доярке. У него было много здравого смысла и немало лукавства. Обычно он говорил тихо и мягко; но, когда того требовали обстоятельства, его речь становилась страстной и возбуждающей, и тогда к нему взволнованно тянулись все лица, даже лица молодых коммунистов, вернувшихся с военной службы.
– Православные! Честные граждане! Люди земли русской!..
В своих несуразных, но ярких фразах он смешивал всё: нашу великую Родину, старую матушку-Русь, любимого Вождя, который заботится о бедном люде (да будет на нём благословение Господне!), Бога, который всё видит, Господа нашего Иисуса Христа, что проклял лентяев и паразитов и изгнал торгашей из храма, апостола Павла, сказавшего: «Кто не работает, тот не ест...» Поп взмахнул клочком бумаги:
– Люди земли русской, борьба за хлеб – это наше дело! Ещё кишат у нас под ногами чёртовы паразиты! Наша славная народная власть только что поразила своим огненным мечом трёх убийц, что ударили партию в спину. Пусть горят они на вечном огне, – а мы будем спасать посевы!
Костя и Марья одновременно ему захлопали. -Они оказались бок о бок в задних рядах собрания, откуда им видна была на фоне печально синевших облаков лишь всклокоченная голова попа.
Около них люди незаметно крестились. Костя гибкой рукой обвил шею Марьи. Рядом с этой девушкой, у которой были выступающие скулы и чуть вздёрнутый нос, ему становилось теплее и казалось, что кровь быстрее бьётся в жилах.
– Это – средневековый человек, Марья, но он здорово, старый чёрт, умеет говорить! Теперь это дело решённое, мы все пойдём за семенами.
Твёрдый, острый кончик её груди коснулся его руки; он увидел вблизи её светлые глаза:
– Надо немедля принять решение, Костя, не то наши могут ещё разбежаться...
Отец Герасим тем временем говорил:
– Товарищи! Православные! Мы сами пойдём за семенами, за земледельческим орудием, за продуктами. На своих спинах принесём их, в поте лица своего, рабы мы Божии, свободные граждане! Это Лукавый хочет, чтоб наш план провалился, чтобы власть обозвала нас вредителями, чтобы мы голодали! Так заткнём же Сатане его гнусную глотку!
Пронзительный женский голос крикнул:
– Пошли, батюшка!
Немедленно назначили бригады для сбора мешков. Пойдём сегодня же ночью, под луной – с Богом, за план, за землю!
Ночью сто шестьдесят пять человек, способных, сменяя друг друга, нести шестьдесят мешков, двинулись в путь. Шли вереницей тёмными полями.
Костя шёл впереди, ведя за собой – навстречу встававшей вдали огромной и яркой луне – первую бригаду: молодых парней, которые пели хором, пока их не сморила усталость:
Если завтра война,
Если завтра в поход...
Отец Герасим и агроном Костюкин шли в хвосте и, чтобы увлечь за собой отстававших, рассказывали им занятные истории.
Бригады переночевали на берегу речки Сероглазой, вода которой была скорее молочного, чем серого оттенка; всю ночь слышался непрерывный шелест камышей. На заре росяная сырость пронизала спящих. Костя и Марья легли рядом, завернувшись в одно одеяло, чтобы было теплее. Обоим было не до разговоров: их одолевало волнение. Над ними стояла волшебная луна, окружённая огромным бледным ореолом.
На рассвете все опять двинулись в путь, в полуденный жаркий час отдохнули в лесу, добрались наконец до большой дороги и пошли по ней, поднимая облака пыли и торопясь, чтобы попасть в райцентр до закрытия. Партком угостил их хорошим обедом – ухой и гречневой кашей; оркестр шофёров грузовиков проводил их, когда они отправлялись в обратный путь; одни шли, согнувшись вдвое под тяжестью мешков и тюков; другие распевали песни; впереди несли (до первого поворота) комсомольское Красное знамя.
Но перед уходом агроном, Костя и отец Герасим успели сходить в партком, чтобы высказать там горькую правду:
– Транспорт нам подложил свинью: ни грузовиков, ни тракторов, ни телег – чёрт бы всех побрал! (Лицо Костюкина яростно сморщилось, стало похоже на голову старой хищной птицы). Ведь люди не скоты, чтобы таскать тюки на собственных спинах! Ну, мы ещё кое-как справились, а как быть колхозам, что в ста километрах от вас, а то и больше?
– Правильно, товарищ, – сказал секретарь райкома, сделав выразительный жест в сторону одного из своих: на, мол, съешь!
Отец Герасим, всё время молчавший, вмешался в разговор только к концу и сказал негромко, с острым намёком в голосе:
– А вы уверены, товарищ секретарь, что тут не без саботажа?
– Вполне уверен, товарищ служитель культа, – ответил задетый за живое секретарь. – Всё дело в том, что горючее запоздало.
– А я бы на вашем месте не был так уверен, один Господь Бог видит, что таится в сердцах.
Эти слова вызвали общий смех.
– Не слишком ли много он забрал себе влияния? – спросил вполголоса представитель госбезопасности. Его донимали две полученные им противоречивые директивы: приказано было не допускать политического влияния духовенства и в то же время прекратить антирелигиозную пропаганду.
– Судите сами, – пробурчал сквозь зубы секретарь.
А Костя ещё больше смутил их, заявив во всеуслышание, что «товарищ служитель культа оказался сегодня нашим подлинным организатором...»
Каждый час был теперь на учёте: от плана посевов уже на неделю отстали, а перед тем потеряли немало дней в ожидании транспорта. К тому же вот-вот могли начаться дожди.
Сто шестьдесят пять человек зашагали опять по дорогам, изнемогая под ношей, потея, кряхтя и ругаясь. Дороги были ужасные: мягкие кочки проваливались под ногами; в темноте люди натыкались на бог весть откуда взявшиеся камни, тащились, спотыкаясь, по тропинкам, полным выбоин, кремней и грязи. Взошла луна – огромная, рыжая, насмешливая. Костя и Марья несли по очереди мешок весом в четыре пуда. Костя старался нести его как можно дольше, но и берёг силы: не выдохнуться бы раньше Марьи. Бригады вышли на серебристую равнину. Побелевшая луна стояла теперь над ними в зените. На залитой её светом земле укоротились людские тени.
Бригады стали понемногу отставать друг от друга. Марья шла, выставив грудь, поддерживая мешок на голове и плечах голыми до подмышек руками, стараясь не сгибаться под тяжестью. Рот её был полуоткрыт, зубы поблескивали... Костя давно уже перестал шутить, почти перестал говорить. «Мы теперь – только мускулы... Мускулы и воля. Вот это и есть человек! Это и есть масса». И вдруг в нём как будто разом запели и земля, и молочно-лилсвое небо, и вся лунная ночь: «Люблю тебя, люблю, люблю...» – неустанно, бесконечно, вдохновенно – навеки.
– Передай мне мешок, Марья.
– Нет ещё, Костя, подожди – вон у тех деревьев. Не говори со мной.
Она тихо, прерывисто дышала. А он продолжал мысленно твердить: «люблю тебя, люблю», – и усталость его исчезла, лунный свет принёс ему облегчение.
На привале у Сероглазой, где сто шестьдесят пять ходоков решили соснуть до восхода солнца, Костя и Марья легли рядом у своего мешка на мягкую, холодную и сырую траву.
– Ну как? Маруся... – сказал он, начав как будто равнодушно, а кончив ласковым уменьшительным именем. – Засыпаешь?
– Нет ещё... Мне хорошо. Как всё просто: небо, земля – и мы...
Они лежали рядом, плечом к плечу, были и бесконечно близко и далеко друг от друга. Оба смотрели перед собой в пространство. Костя сказал, не двигаясь, улыбаясь мерцающему небу:
– Марья, послушай, это, ей-богу, правда: я люблю тебя.
Она не шелохнулась, лежала неподвижно, скрестив пальцы на затылке. Он слышал её ровное дыханье. Наконец она спокойно сказала:
– Ну что ж, Костя, это хорошо. Из нас может выйти крепкая пара.
Ему стало как будто страшно: проглотив слюну, он с трудом преодолел смущение, но не знал, что делать, что сказать. Минута прошла в молчании. Потом Костя заговорил:
– Я знавал одну Марью, в Москве, на подземном строительном участке метро. Она плохо, бедная, кончила – не заслужила такого конца. Нервы сдали. Про себя я зову её так: Марья Несчастная. А ты – хочу, чтоб ты была Марья Счастливая. Так оно и будет.
– В переходный период счастья, по-моему, не бывает, – сказала она, – но мы будем вместе работать. Узнаем жизнь. Поборемся!
«Как странно, – подумал он, – мы теперь вроде как муж и жена, а разговариваем как товарищи; мне до страсти хотелось обнять её, а теперь хочется только, чтобы длилась эта минута...»
Помолчав немного, Марья сказала:
– Я знала другого Костю, он был комсомолец, как ты, и почти такой же красивый парень – только дурак и сволочь...
– Что ж он сделал?
– Я от него забеременела, а он меня бросил, потому что я верующая.
– Ты верующая, Марья?
Костя обнял её за плечи и встретил спокойный взгляд её глаз, ясных и тёмных, как эта ночь.
– У меня это не ханжество, Костя, пойми меня – я верю во всё, что существует. Погляди-ка вокруг, погляди!
Её лицо с твёрдо очерченным ртом порывисто повернулось к нему: вот он, этот мир – простое небо, равнина, невидимая за камышами речка. Простор.
– Не могу тебе объяснить, во что я верю, Костя. Может, просто в реальность. Постарайся меня понять.
Целый поток мыслей пронесся в мозгу Кости, он ощутил их всем своим существом – и головой, и сердцем. Мы неотделимы от звёзд, от волшебства этой обыкновенной ночи, от заждавшейся земли: во всём этом, как и в нас самих, живёт та же тайная сила. Радость охватила его.
– Ты права, Марья, и я верю, как ты, я тоже вижу...
Земля, небо и светлая ночь чудесно сблизили их – сблизились их лбы и глаза, смешались волосы, губы слились в одно...
– Я люблю тебя, Марья.
Она ответила, глухо и страстно:
– Но ведь я уж сказала, что люблю тебя, Костя.
И прибавила:
– Мне кажется, что я бросаю в небо белые камешки, они превращаются в метеоры, исчезают, но я знаю, что не упадут: вот как я люблю тебя.
А потом прошептала:
– Что это нас убаюкивает? Я чувствую, что засыпаю...
Она заснула, прильнув щекой к мешку, окружённая запахом ржи. Костя ещё некоторое время охранял её сон. Он был так счастлив, что ему даже становилось грустно. Наконец заснул и он, тоже как бы убаюканный.
Последний переход – сначала в утреннем тумане, потом под жарким солнцем – был самым трудным. Люди шли пошатываясь, растянувшись длинной цепочкой. Председатель Ванюшкин вышел им навстречу с тележками. Костя взвалил ему свой мешок на голову и плечи:
– Твой черёд, председатель!
Казалось, весь пейзаж радостно улыбался.
– Посевы спасены, браток. А теперь ты выпишешь нам с Марьей двухнедельный отпуск. Мы решили расписаться.
– Поздравляю, – сказал председатель.
И он щёлкнул языком, подгоняя лошадей.
Ромашкин жил теперь куда достойнее, чем прежде. Правда, он работал всё в том же отделе, на пятом этаже Треста готового платья, и не состоял ещё в партии, но вырос в собственных глазах: служебная записка, вывешенная однажды в коридоре, оповестила всех, что «тов. Ромашкин, второй заместитель главбуха, исполнительный и старательный сотрудник, назначается первым заместителем с увеличением месячной зарплаты на пятьдесят рублей». Он сидел теперь не за прежним своим столом, втиснутым между шкафом и дверью, покрытым чернильными пятнами и следами клея, а за другим, лакированным, стоявшим против такого же стола (только побольше) начальника отдела тарифов и зарплаты. В распоряжении Ромашкина был теперь внутренний телефон, ему, по правде говоря, скорее мешавший, потому что телефонные звонки врывались в его вычисления, – но это всё же был символ власти.
Случалось, что сам начальник Треста пользовался этим аппаратом, чтобы потребовать какую-нибудь справку. Ромашкину трудно было отвечать ему сидя: хотелось встать, поклониться, заискивающе улыбнуться – и если б он был один, то, верно, вскочил бы, чтобы почтительно пообещать: «Немедленно будет исполнено, товарищ Николкин; вы получите точные данные через четверть часа». После чего он выпрямлялся в своём вращающемся кресле, бросал значительные взгляды на пять столов своего отдела и делал знак своему заместителю, угрюмому Антошкину, который сидел теперь за его прежним столом:
– Товарищ Антошкин, начальник Треста требует протокол совещания о ценах и зарплате, а также сообщение Текстильного профсоюза о выполнении директив ЦК. Даю вам семь минут.
Это было сказано спокойным, но твёрдым и безапелляционным тоном. Антошкин глядел на стенные часы – как осел глядит на палку – и принимался нервно листать карточки. Ромашкин получал из его рук требуемые бумаги до истечения седьмой минуты и благосклонно его благодарил. Старая машинистка и курьер смотрели на него из глубины комнаты с явным почтением. (Ромашкин, ко всем относившийся благожелательно, и не подозревал, что оба про себя думали: «До чего задается, старая крыса! Холера тебе в бок, подхалим несчастный!») Начальник одобрительно покачивал головой, подписывая бумаги.
Так Ромашкину открылось значение авторитета, благодаря которому человек растёт, организация крепнет, работа становится плодотворнее, а накладные расходы уменьшаются. «Я считал себя ничтожеством, потому что умел только повиноваться, а теперь оказалось, что я умею и приказывать. Что же это за принцип, превращающий ничтожество в ценную личность? Это принцип иерархии. Но справедлив ли он?» Ромашкин раздумывал над этим несколько дней и наконец ответил на вопрос утвердительно: ведь самое лучшее правительство основано на иерархии справедливых людей.
Повышение по службе принесло ему и другую награду: направо от него было теперь окно, и ему стоило только повернуть голову, чтобы увидеть деревья во дворах, сушившееся на проволоке белье, крыши старых домов и жёлто-розовые маковки церкви, смиренно ютившейся в тени высотного дома. Пожалуй, даже слишком широкое теперь было перед ним пространство: мешало работе. Ромашкин подумал, что не худо было бы вставить в окна матовые стёкла, чтобы вид внешнего мира не отвлекал служащих и не понижал производительности.
Пять круглых маленьких маковок, увенчанных шаткими крестами, пряталось среди забытого сада и кучки невысоких домиков, которым было по полтораста лет. Вид их наводил на размышления, как вид лесных тропинок, ведущих к неведомым полянам...» Эта неизвестная церковь и привлекала и немного пугала Ромашкина. Может быть, кто-то молился ещё под этими куполами, потерявшими значение и окраску, затерявшимися где-то в центре нового, математически прямолинейного города из стали, цемента, камней и стекла. «Странно, – подумал Ромашкин, – как это можно молиться?»
Чтобы не терять трудоспособности, он разрешал себе краткий отдых между двумя вычислениями и тогда предавался мечтам, но делал это незаметно для других: хмурил брови и не выпускал карандаша из руки. Но где же она, эта чудом сохранившаяся церквушка, в глубине какого незнакомого мне переулка?
Ромашкин отправился однажды её искать и благодаря этому его жизнь обогатилась ещё одним даром – дружбой. Надо было идти тупиком, пройти через подворотню, пересечь двор, застроенный мастерскими, и выйти на маленькую старинную площадь, укрытую от всего мира: так она и стояла, эта церковь; три нищенки на паперти, три коленопреклонные женщины в пустом храме.
Соседние вывески казались поэмой из гармоничных и малопонятных слов и имён: Филатов, чесальщик-матрасник, артель сапожников-кустарей «Олеандра», детский сад № 4 «Первая радость». Ромашкин познакомился с матрасником Филатовым, бездетным вдовцом, серьёзным человеком, который бросил пить и курить, перестал верить в бога и, в пятьдесят пять лет, посещал вечерние курсы Высшей технической школы, чтобы понять тайны механики и астрофизики.
– Что же мне ещё в жизни осталось, кроме науки? Я, гражданин Ромашкин, полвека прожил на земле вроде как слепой, даже не знал, что она, наука, существует.
На нём старый кожаный передник и пролетарская кепка, которой было лет пятнадцать. Он жил в крохотной комнатушке (три метра на полтора), выкроенной из бывшей прихожей. Но в глубине этой клетушки он проделал окно, выходившее в церковный садик, а на подоконнике развел целый висячий сад. Перед цветами поставил столик, за которым переписывал «Звёзды и атомы» Эддингтона, снабжая их своими примечаниями... Эта неожиданная дружба заняла в жизни Ромашкина немалое место. Филатов говорил:
– Механика выше техники, а техника – основа производства, иначе сказать, общества. Небесная механика – закон вселенной. Всё сводится к физике. Если б мне теперь начать жизнь сначала, я хотел бы стать инженером и астрономом: по-моему, настоящий инженер должен быть и астрономом, чтобы понять вселенную. Но я родился под царским гнётом, я внук крепостного, до тридцати лет был неграмотный, до сорока – пьянствовал, жил без всякого понятия до смерти моей Настасьи. Когда её похоронил на Ваганьковском, я велел поставить на её могиле красный крест: она по несознательности была верующая, а как мы живём в эпоху социализма, я и сказал: пусть пролетарский крест будет красный! И я остался один-одинешенек на кладбище, товарищ Ромашкин, сунул сторожу полтинник в руку, чтобы позволил мне побыть там после закрытия, до звезды. И стал я думать: что представляет собой человек на земле? Ничтожная пылинка: думает, трудится, страдает. А что от него остается? Работа, механика труда. «Настасья, – сказал я на её могиле, – ты не можешь меня слышать, потому тебя больше нет и души у нас больше нет; но ты всегда будешь жить на земле – в растениях, в воздухе, в энергии природы. Прости ты меня, что я пьянствовал и тем тебя огорчал. Обещаю тебе больше не пить и ещё обещаю учиться, чтобы понять великую механику вселенной». И я сдержал слово, потому я силен, – во мне пролетарская сила. Может, я опять женюсь после двух лет учебы; раньше не смогу, а то не хватит денег на книги. Вот и вся моя жизнь, товарищ. Я спокоен: знаю, что человек должен всё понять, и мне как будто всё становится понятно.
Так они разговаривали, сидя рядом на лавочке, в сумерках, у дверей матрасника; Ромашкин, бледный, с помятым лицом, ещё не старый, но утерявший и молодость, и силу (если они у него когда-нибудь были), и Филатов, бритоголовый, с лицом, изрезанным продольными морщинками, крепкий, как старый дуб.
В артели «Олеандра» сапожники мягко постукивали молотками по коже, тени каштанов всё удлинялись, и если бы не приглушённый городской шум, можно было бы представить себе, что сидишь где-нибудь в деревне былых времён, недалеко от речки, на другом берегу которой темнеет лес... Ромашкин сказал:
– Я, товарищ Филатов, не успел ещё подумать о вселенной: меня мучила мысль о несправедливости.
– Причины её, – сказал Филатов, – в социальной механике. Ромашкин стиснул руки, потом опустил их, и они лежали, бессильные, плашмя на его коленях.
– Выслушай меня, Филатов, и скажи, хорошо или худо я поступил. Я – почти что член партии, хожу на собрания, мне доверяют. На вчерашнем собрании говорили о рационализации труда. А потом секретарь прочёл нам заметку из газеты о расстреле трёх врагов народа, которые убили товарища Тулаева, члена ЦК и Московского комитета. Всё доказано, преступники сознались, их имён я не запомнил, да и что нам в их именах. Они умерли; это были убийцы, но и несчастные люди: ведь их казнили. Секретарь нам всё объяснил: что партия защищает Родину, что скоро будет война, что нашему Вождю угрожают убийцы и что из любви к человечеству надо бы расстрелять этих бешеных собак... Всё это, конечно, правильно. А потом он сказал: «Те, кто за, поднимите руку!» Я понял, что мы должны благодарить ЦК и госбезопасность за то, что их расстреляли, – и мне стало тяжело, я подумал, а как же жалость, неужто никто не вспомнит о жалости? Но я не посмел воздержаться. Что, разве я лучше других? И я тоже поднял руку. Выходит, значит, что я предал жалость? Или я в мыслях предал бы партию, если бы не голосовал за? Как ты считаешь, Филатов? Ты человек прямой, настоящий пролетарий.
Филатов размышлял. Незаметно сгущалась темнота. Ромашкин повернулся к собеседнику, не сводя с него умоляющего взгляда.
– Машина, – сказал Филатов, – должна работать на ять. Кто ей попадётся на дороге, того она давит – такой уж мировой закон. А рабочие должны знать, что в нутре машины. Когда-нибудь изобретут машины светлые, прозрачные, всё будет видно насквозь. Тогда и людские законы станут чистые, как законы астрофизики. Никого больше не будут давить, никого жалеть не придётся. Но в наше время, товарищ Ромашкин, без жалости не обойтись... Не нравятся мне эти тайные суды, расстрелы в подвалах – вся эта механика заговора. Понимаешь – всегда есть два заговора, положительный и отрицательный. Откуда нам знать, какой из них справедливее, надо ли нам кого жалеть или не надо? Да и как нам в этом разобраться, когда даже те, что у власти, потеряли голову – ведь это же всякому видно! А что касается тебя, Ромашкин, ты, конечно, должен был голосовать за, не то тебе была бы крышка. И ведь ты помочь расстрелянным не мог, верно? Голосуя, ты в душе пожалел их – это правильно, и я в прошлом году голосовал, как ты. Что же нам было делать?
Он повёл Ромашкина к себе, угостил его чаем, огурцами и чёрным хлебом. Комнатка была такая крохотная, что им вдвоём было тесно. Филатов раскрыл под лампой том Эддингтона.
– Ты знаешь, что такое электрон?
– Нет.
Во взгляде матрасника Ромашкин прочёл больше жалости, чем укора. Как это дожить до таких лет и не знать, что такое электрон?
– Хочешь, я тебе объясню? Каждый атом материи – звёздная система, И вселенная и человек созданы из звёзд; одни из них бесконечно большие, другие – бесконечно малые. Всё это ясно доказано на сорок пятой странице, чертёж номер семнадцать.
Но Ромашкин невнимательно слушал объяснения приятеля: он не переставал думать о трёх расстрелянных, о том, что голосовал за их смерть и что его рука тогда отяжелела, а теперь, как ни странно, будто полегчала...
На соседнем дворе заплакал ребёнок, в лавочке сапожников погас свет, едва различимая в сумерках пара обнималась у церковной решётки. Филатов проводил Ромашкина до другого конца площади; тот пошёл к решётке, а матрасник, не доходя до своего дома, остановился и посмотрел на чёрную землю. Разве в людской механике нет места жалости? Вот ещё троих расстреляли... Расстрелянных было больше, чем звёзд, потому что в северном полушарии звёзд, видимых простым глазом, – меньше трёх тысяч... И если те трое убили, может, у них были на то свои причины, как-то связанные с вечными законами движения. Кто взвесил эти причины – спокойно, без гнева? Филатову стало жаль судей: уж они-то, верно, страдают больше других!
Вид обнявшейся в полутьме, слившейся в одно существо парочки утешил его. Когда старость не за горами, приятно смотреть на молодых: перед ними в среднем полвека жизни, они, может, доживут до того времени, когда изобретут прозрачные машины и воцарится настоящая справедливость. Много надо удобрений, чтобы оплодотворить истощённые поля. Скольких придётся ещё расстрелять, чтобы насытить русскую землю? В начале революции всё казалось нам ясным, а теперь мы бредём в потёмках – может, в наказание за нашу гордость.
Филатов вошёл к себе, задвинул железный засов, стал медленно раздеваться. Он спал при свете лампадки, на узком матрасе, брошенном на сундук. Как каждую ночь, на потолке стали неторопливо кружиться пауки. Филатов всё думал о расстрелянных и о судьях. Кто будет судить судей? Кто их простит? Да и надо ли их прощать? Кто их расстреляет, если они не решили по справедливости? Всему придёт свой час...
А на Ромашкина, когда он оказался в своей бедной комнатке, опять нашла тоска. Шум коммунальной квартиры беспрерывно врывался в его тихое убежище: телефонные звонки, музыка радио, детские голоса, грохот спускаемой в уборной воды, шипение примусов... Только фанерная перегородка отделяла его комнату от соседней, где муж с женой с жаром спорили о перепродаже какой-то ткани. Ромашкин надел ночную рубашку – и без одежды почувствовал себя ещё тщедушнее; особенно жалкими показались ему его ноги с комично растопыренными пальцами. Человеческое тело; если человек не более как тело, если и мысль его – порождение тела, как ей не быть хилой и неуверенной в себе?
Он лёг под холодную простыню, дрожа мелкой дрожью, потом протянул руку к книжной полке и снял томик неизвестного поэта – неизвестного, потому что первые страницы отсутствовали. Но остальные были полны чудесной музыки.
И бесполезно накануне казни
Видением и пеньем потрясён
Я слушаю как узник без боязни
Железа визг и ветра тёмный стон
Почему в этих стихах не было знаков препинания? И почему именно сегодня мне попались эти строки об узнике, о казни?
Ромашкин поставил книгу на место и потянулся за газетой. На третьей странице внизу, в рубрике информации, было сообщение о подготовке спортивного праздника, в котором должны были принять участие триста парашютистов, членов школьных спортивных кружков. Триста светлых цветков спустятся с неба, и в каждом из них будет смелое человеческое существо; триста пар глаз будут внимательно следить за приближением влекущей к себе и пугающей земли...
В следующей заметке, напечатанной мелким шрифтом, без заголовка, сообщалось:
«Убийство тов. Тулаева, члена ЦК. – М. А. Ершов, А. А. Макеев и К. К. Рублёв, признавшие себя виновными в предательстве, заговоре и убийстве, приговорены особой сессией Верховного суда, заседавшего при закрытых дверях, к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведён в исполнение...»
«Центральный шахматный клуб, входящий во Всесоюзное спортивное общество, намерен организовать ряд предварительных отборочных встреч для предстоящего всесоюзного турнира».
...У шахматных фигур были незнакомые Ромашкину, строго на него глядевшие человеческие лица. Они передвигались по доске без посторонней помощи. Издали кто-то тщательно в них целился – и вдруг они взлетали вверх и исчезали неизвестно куда. Ещё три выстрела – и на шахматной доске три головы одна за другой раскололись на части. Ромашкин, которого одолевал уже сон, внезапно испугался: в дверь отчётливо стучали.
– Кто там?
– Это я, я, – ответил радостный голос.
Ромашкин пошёл отворять. Под его голыми ступнями пол был холоден и шероховат. Прежде чем откинуть крючок, он замер на секунду, стараясь преодолеть страх. Костя ураганом ворвался в комнату и с разбега подхватил Ромашкина на руки, как ребёнка.
– Здорово, сосед Ромашкин! Здорово, полумыслитель, полугерой труда! Всё сидишь в своей полукомнате, живёшь полужизнью? Рад тебя видеть. Ну, как? Да скажи хоть словечко! Как живёшь, хорошо или плохо?
– Хорошо, Костя. И как славно, что ты пришёл, – я ведь тебя, знаешь, очень люблю.
– Что ж ты скорчил такую рожу, будто тебя автобус переехал? А ведь наша земля здорово вертится! Представляешь себе этот зелёный шар, на котором живут трудолюбивые обезьяны?.
Ромашкин снова улегся в согретую постель, и ему показалось, что его комнатка стала и больше, и раз в десять светлее.
– Я уж было заснул, Костя, начитавшись всякой газетной чепухи: парашютисты, расстрелы, шахматные турниры, планеры... Невероятная каша. Одно слово – жизнь! А ты молодцом, Костя, крепкий стал. До чего я рад тебя видеть! У меня всё в порядке: получил повышение по службе, хожу на партийные собрания, подружился с одним замечательным пролетарием – у него мозги ученого физика. Мы с ним говорим о структуре вселенной...
– О структуре вселенной, – певуче повторил Костя. Он был слишком велик ростом для этой каморки и топтался на месте.
– Ты ничуть не изменился, Ромашкин. Держу пари, что всё те же малокровные клопы поедают тебя по ночам.
– Верно, – подтвердил Ромашкин со счастливым смешком.
Костя оттолкнул его к стене, чтобы самому сесть на постель. Он наклонился над Ромашкиным: у него были растрёпанные, с медным оттенком каштановые пряди, вызывающий взгляд, большой, неправильной формы рот.
– Сам не знаю, куда я иду, – но я в пути! Если будущая война не превратит нас всех в трупы, то мы создадим что-то замечательное, а что именно – не знаю. А если подохнем, вырастет на земле необыкновенная растительность. У меня, само собой, денег ни гроша и подмётки держатся на честном слове – но я доволен.
– Влюблён?
– Ещё бы!
От Костиного смеха вздрогнула постель, дрогнул Ромашкин с головы до пят, содрогнулась фанерная перегородка; смех золотыми волнами раскатился по комнатушке.
– Не пугайся, приятель, я не пьян... Помнишь, я бросил работу в метро? Надоело мне рыть наподобие крота под московским асфальтом, между моргом и комсомольским бюро. Мне воздуху захотелось! Послал к чёрту ихнюю дисциплину. Мне дисциплины не занимать стать, она во мне самом. Уехал, значит. В Горьком поступил в автомобильный завод; семь часов в день стою у станка. Ходил смотреть, как выкатывали грузовики, блестящие, новенькие – ей-богу, это красивее, чище, чем рождение человека. И когда думал, что они созданы нашими руками, что, может, покатятся в Монголию, принесут угнетённым народам папиросы и ружья, – был счастлив и горд. Ну, ладно. Потом поссорился с техником: тот хотел, чтобы я после рабочего дня чистил набор инструментов. «С рабочими тоже надо считаться, – сказал я ему, – надо щадить их нервы и мускулы, ухаживать за ними, как за машиной». Сел в поезд и уехал, не то эти дураки записали бы меня в троцкисты: получил бы три года лагерей в Караганде – спасибо! Волгу видел, браток? Я работал на буксирном судне кочегаром, потом механиком; мы тащили баржи на буксире до Камы. Река полноводная, забываешь о городе, когда луна встаёт над лесами... В одной деревне в Коми я нашёл себе заместителя и нанялся в областной леспромхоз. «Согласен на любую работу, – сказал я тамошним бюрократам, – только как можно дальше, в самых глухих лесах». Им это понравилось. Назначили меня инспектором лесных сторожевых пунктов... Где-то на самом краю света, между Камой и Вычегдой, я открыл никому не ведомую деревню раскольников, убежавших от статистики: перепись населения они приняли за дьявольскую выдумку, вообразили, что опять отнимут у них землю, заберут мужчин на войну, заставят старух учиться грамоте, научат их дьявольской премудрости. По вечерам они читали Откровение... Они предложили мне остаться у них, и я чуть было не согласился – из-за одной красавицы... Хочешь, Ромашкин, поедем к ним жить? Только мне одному знакомы тропинки в лесах Сысольды; лесных зверей я не боюсь, научился обирать ульи диких пчёл, воровать их мед, умею ставить капканы для зайцев, расставлять сети в реке... Поедем со мной, Ромашкин, – там ты забудешь о книгах.
– Что ж, я согласен, – слабым голосом отозвался Ромашкин. Костин рассказ очаровал его, как сказка. Но Костя тут же разбил его мечту:
– Поздно, приятель. Для нас с тобой не существует ни Священного писания, ни Откровения святого Иоанна. Мы не знаем, когда придёт Страшный суд. Мы живём в эпоху железобетона.
– А что ж твоя любовь? – вспомнил Ромашкин. Ему было до странного хорошо.
– Я женился в колхозе, – сказал Костя. – Она...
Он взмахнул руками, чтобы выразить своё восхищение, но вдруг его руки застыли в воздухе, а потом бессильно опустились. Взгляд Кости случайно упал на длинную, слабую руку Ромашкина, лежавшую на газетном листе; средний палец указывал, казалось, на совершенно невероятный текст:
Убийство тов. Тулаева, члена ЦК... Признавшие себя виновными... Ершов, Макеев, Рублёв... расстреляны...
– Какая она из себя, Костя?
Костины зрачки сузились.
– Ромашкин, помнишь револьвер?
– Помню.
– Помнишь, как ты искал справедливость?
– Помню. Но с тех пор я много размышлял, Костя, и понял свою ошибку. Понял, что для справедливости ещё не наступило время. Мы должны работать, верить партии и иметь жалость. Раз нельзя нам быть справедливыми, надо жалеть людей.
У него на языке вертелся вопрос, который он не решился высказать вслух: «Что ты сделал с револьвером?»
Костя сердито возразил:
– А мне жалость ни к чему. Вот, пожалей-ка, если хочешь, этих трёх расстрелянных; только им ничего больше не нужно. (Он указал на газетную заметку.) Плевать мне на твою жалость – и у меня нет охоты жалеть тебя: ты того не стоишь. Может, это ты виноват в их преступлении. Или я – в твоем. Только тебе этого в жизни не понять. Ты невиновен, они невиновны...
Пожав плечами, он с усилием закончил:
– Я невиновен... Но кто же виноват?
– Я думаю, что виноваты они, раз их расстреляли, – пробормотал Ромашкин.
Костя так резко шагнул вперёд, что дрогнула перегородка. Разразился злым смехом:
– Ромашкин, ты молодчага! Позволь, я объясню тебе мою догадку: они, конечно, были виноваты, но сознались потому, что понимали вещи, нам с тобой недоступные. Ясно?
– Верно, так оно и есть, – серьёзно сказал Ромашкин. Костя нервно шагал от двери к окну.
– Я тут задыхаюсь, – сказал он. – Воздуха! Чего тут недостаёт? Всего. Ну, прощай, брат! Мы живём вроде как в бреду, верно?
– Да, да...
Ромашкин подумал, что сейчас опять останется один, и у него было жалкое, сморщенное лицо, увядшие веки, бесцветные волоски вокруг рта... Костя же подумал вслух: «Виноваты миллионы Ромашкиных, что живут на земле...»
– Что ты сказал?
– Ничего. Я несу чушь.
Какая-то пустота возникла вдруг между ними.
– У тебя слишком темно, Ромашкин. На, возьми! Он вынул из внутреннего кармана куртки завёрнутый в ситцевую тряпку квадратный предмет.
– Бери! Эту вещь я любил больше всего на свете – пока был один.
В руке Ромашкина оказалась миниатюра в рамке из чёрного дерева. В чёрном овале – чудесно живое женское лицо, спокойное, умное, озарённое внутренним светом. Ромашкин сказал с боязливым восхищением:
– Неужели вправду бывают такие лица? Как ты считаешь, Костя?
Костя сердито ответил:
– Живые лица ещё лучше. До свидания, приятель.
Он кубарем скатился с лестницы, точно слетел вниз, потом лёгким шагом бегуна пустился бежать по улице. В голове у него всё громче звенела тревога: «Но ведь это я... Это я...» Он бежал к дому, где спала Марья, так же быстро, как в ту уже далёкую морозную ночь, когда после внезапного взрыва в его руке распустился чёрный цветок, окаймлённый пламенем, а в темноте перекликались тревожные свистки милиционеров...
В семи комнатах коммунальной квартиры номер двенадцать ютились три семьи и три супружеские пары. В коридоре горела под самым потолком (чтобы её труднее было вывинтить) тусклая лампочка. Стены почернели от копоти. Швейная машина, цепью и висячим замком прикреплённая к тяжёлому сундуку, отражалась в треснувшем зеркале. В полутьме слышался многоголосый храп; в нём было что-то звериное. В конце коридора приоткрылась дверь уборной, мелькнула худая фигура в пижаме, тут же с грохотом задевшая какой-то железный предмет, – после чего этот человек (по-видимому, пьяный) отлетел к противоположной стене и стукнулся о дверь. В темноте послышались сердитые голоса: чей-то бас спросонья пробурчал: «Шш...», другой голос разразился руготней: «Чтоб тебя... хулиган паршивый!» Подойдя ближе, Костя схватил за ворот человека в развевающейся пижаме:
– Потише, гражданин, тут моя жена рядом спит. Где твоя комната?
– Номер четыре, – ответил пьяный, – а вы кто будете?
– Никто. Не шевелись и не шуми, не то я тебе морду набью...
– Ну, вот ещё... Раздавим стаканчик?
Костя локтем открыл дверь номер четыре и бросил туда пьяного, который мягко свалился на пол среди опрокинутых стульев. Какой-то стеклянный предмет покатилря по полу, а потом разбился с нежным хрустальным звоном. Костя ощупью нашёл дверь комнаты номер семь: это был треугольный чулан со скошенным низким потолком, в котором было прорезано окошко. Электрическая лампочка на длинном шнуре лежала на полу между кучкой книг и эмалированным тазом; в нём мокла розовая рубашка. Мебель чулана сводилась к продавленному стулу и узкой железной кровати. На ней спала Марья. Она лежала на спине вытянувшись, чему-то во сне улыбаясь. Костя с минуту смотрел на неё. Её розовые щёки горели, у неё были широкие ноздри, брови, как узкие распахнутые крылья, очаровательные ресницы. Откинутое одеяло обнажало её плечо и грудь, на которой лежала чёрная коса с медным отливом. Костя поцеловал её в голую грудь. Она открыла глаза:
– Это ты!
Он опустился у постели на коленки, взял обе её руки в свои:
– Марья, проснись, погляди на меня, Марья, подумай об мне.
Она не улыбалась – но всё её существо было улыбкой.
– Я о тебе думаю, Костя.
– Марья, ответь мне. Если бы я когда-то – сто лет, или несколько месяцев, или несколько дней тому назад – убил человека, убил, не зная его, не собираясь вовсе его убивать, но всё же сознательно, твёрдой рукой, потому что он наделал много зла во имя справедливых идей, потому что меня мучило чужое страдание, потому что я, сам того не зная, в неколько секунд осудил его и убил его за других, – я, никому не известный, за других неизвестных, за безымянных, безвольных, бездольных... что бы ты сказала, Марья?
– Я сказала бы, Костя, что ты должен держать себя в руках, твёрдо знать, что делаешь, и что незачем будить меня среди ночи, потому что тебе приснился страшный сон... Поцелуй меня.
Он сказал умоляющим голосом:
– Но если бы это была правда?
Она посмотрела на него очень внимательно. Пробили кремлёвские часы, и над спящим городом поплыли первые ноты «Интернационала», лёгкие и торжественные.
– Костя, я видела немало мужиков, умиравших на дорогах... Я знаю, какая идет суровая борьба. Знаю, что против воли делается много зла. Но мы всё же идём вперёд, верно? А в тебе – большая чистая сила. Перестань же мучиться.
И, запустив обе руки в Костину шевелюру, она притянула к себе эту сильную, объятую тревогой голову.
Товарищ Флейшман посвятил целый день просмотру папок тулаевского дела перед сдачей их в архив. В толстых этих папках было не меньше тысячи страниц. Как в застывшей капле воды отражаются под микроскопом всевозможные формы фауны и флоры, так в этих бумагах отражались человеческие жизни. Одни документы пойдут в архив ЦК, другие – в архивы госбезопасности, Генсекретариата, Заграничного отдела. Некоторые бумаги будут сожжены и присутствии представителя ЦК и тов. Гордеева, исполняющего должность наркома госбезопасности.
Флейшман заперся один на один с этими папками, от которых шёл запах смерти. В служебной записке о расстреле трёх осуждённых доверенными солдатами особого подразделения была одна лишь точная подробность: указывался момент экзекуции – 0.00 часов, 0.15 часов, 0.18 часов. Так заканчивалось сложное дело Тулаева.
Среди документов второстепенного значения, прибавленных к папкам уже по окончании следствия, Флейшману попался серый конверт с почтовым штемпелем Ярославского вокзала и несложным адресом: «Гражданину судебному следователю, ведущему следствие по делу Тулаева». К конверту была приложена записка: «Передано тов. Зверевой». На другой записке стояло: «Зверева до нового распоряжения содержится под строгим арестом. Передать тов. Попову». Для полнейшей административной точности следовало бы тут, в третьей записке, упомянуть и о невыясненной ещё дальнейшей участи тов. Попова, но какой-то осторожный сотрудник предпочел написать на конверте красными чернилами: «В архив». «Архив – это я», – подумал Флейшман, не без лёгкого презрения к самому себе.
Он небрежно вскрыл конверт. В нём оказалось письмо без подписи, написанное от руки на двойном листке из школьной тетради.
«Гражданин! Я пишу Вам, потому что этого требуют моя совесть и любовь к правде...»
Ну вот! Ещё один тип доносит на своего ближнего или же с упоением излагает собственный глупый бред.
Флейшман перескочил с середины письма к концу его, и при этом заметил, что у писавшего почерк молодой и твёрдый – почерк грамотного крестьянина, что ли, и что письмо написано простым языком, почти без знаков препинания. Но тон его был искренним – и вдруг у ответственного сотрудника госбезопасности сжалось горло.
«Я не подпишусь под этим письмом. За меня, непонятно почему, поплатились невинные, и исправить уже ничего нельзя. Поверьте, если бы я вовремя узнал об этой судебной ошибке, я бы сам принёс Вам свою повинную и невинную голову. Я душой и телом предан нашей великой Родине, нашему славному социалистическому будущему. Если я совершил преступление, почти бессознательно, не отдавая себе ни в чём отчёта (потому что в наше время убийство – обыкновенная вещь, и, наверно, этого требует диалектика истории, и я сам был только орудием этой исторической необходимости), если я невольно обманул судей, которые образованнее и сознательнее меня, мне остается только жить и работать в меру сил для величия нашей Советской страны...»
Флейшман вернулся к середине письма:
«Совершенно один, никому на свете не известный, сам за минуту до того не подозревал, что сделаю, я выстрелил в тов. Тулаева, которого ненавидел (хоть лично и не знал) с тех пор, как он провёл чистку в высших школах. Поверьте, он нанёс огромный вред нашей молодёжи, он без конца нам лгал, оскорбил то, что нам было всего дороже, нашу веру в партию, он довёл нас до отчаяния...»
Флейшман облокотился на раскрытое письмо – и пот выступил у него на лбу, зрение затуманилось, двойной подбородок обмяк, отчаянная гримаса исказила его полное лицо, и бесчисленные бумаги «дела» проплыли перед ним душным облаком. «Я так и знал», – пробормотал он, борясь с желанием заплакать, убежать куда глаза глядят, немедленно, навсегда – но всё это было нелепо и невозможно. И он поник головой над этим письмом, над его несомненной правдой.
За дверью послышалось мышиное шуршание, и голос курьерши спросил:
– Хотите чаю, товарищ начальник?
– Да, да, Лиза, дайте мне чаю покрепче...
Он прошёлся по кабинету, перечел ещё раз неподписанное письмо. Невозможно его никому показать. Приоткрыв дверь, он взял поднос с двумя стаканами чая. И мысленно обратился к человеку, облик которого угадывал за двойным листком из школьной тетради:
«Ну что ж, молодой человек, ну что ж – твоё письмо вовсе не плохо написано. И уж, конечно, я не стану тебя разыскивать. Видишь ли, мы, старики, уже осуждены, и твоя опьяняющая тебя самого сила не спасёт. Всё это нас захлестнуло, унесло...»
Он зажёг свечу, на которой обычно плавили сургуч. Оплывший красный стеарин похож был на запёкшуюся кровь. И на пламени этой кровью запятнанной свечи Флейшман сжёг письмо, бросил горстку пепла в пепельницу и раздавил её большим пальцем. Потом выпил два стакана чая. Почувствовал себя лучше. И сказал – с облегчением и с печальной насмешкой:
– Нет больше дела Тулаева.
Ему хотелось поскорее закончить просмотр папок, чтобы отделаться от них. К тетрадям, исписанным Кириллом Рублёвым в тюрьме, была приложена пачка писем, «задержанных в интересах следствия»: это были письма Доры из далёкой казахстанской ссылки. Флейшман рассердился при мысли, что одна только Зверева прочла эти письма, продиктованные тоской и одиночеством. «Вот подлая баба! Ну погоди, уж я постараюсь упечь тебя в степи, в снега, в пески!»
Он стал листать тетради Рублёва, исписанные ровным почерком. В очертаниях букв сказывался художественный вкус, а своей чёткостью эти строки вызывали в памяти образ самого писавшего – его распрямлявшиеся в разговоре плечи, длинное худое лицо, высокий лоб, его манеру глядеть на вас, смеясь одними глазами, когда он излагал свои неоспоримые и тонкие умозаключения.
«Мы умрем, так и не поняв, для чего мы убили людей, в которых воплощалась наша величайшая сила». Флейшман подумал, что его мысли совпадают с теми, что написал Кирилл Рублёв за несколько дней или часов до смерти.
Содержание этих тетрадей заинтересовало его. Он бегло просмотрел экономические выводы Рублёва, основанные на понижении нормы прибыли в связи с постоянным ростом капитала, на увеличении производства электрической энергии в мире, на развитии металлургии, на кризисе золота, на изменении характера и структуры классов – особенно же рабочего класса... Читая, Флейшман бормотал про себя: «Верно, совершенно верно... спорно, надо это пересмотреть, но в общем тенденция правильная...» Он записал несколько данных, чтобы проверить их в специальных трудах.
Далее шли страницы, посвящённые Троцкому. Суждения Рублёва о нём были одновременно и восторженными, и строгими. Он восхищался революционной интуицией Троцкого, его пониманием русской действительности, его «истинктом победы», но осуждал «высокомерие исключительной исторической личности», «подчёркнутое сознание своего превосходства над другими», «неумение увлечь за собой посредственных людей» и привычку «расточать высшую алгебру революции перед свиньями – когда свиньи заняли авансцену».
– Конечно, конечно, – бормотал про себя Флейшман, но ему было не по себе: Рублёв был, очевидно, совершенно уверен, что его расстреляют, если позволял себе так выражаться.
Тон записей менялся, но в них чувствовалась та же внутренняя уверенность, та же отрешённость. «Мы представляли собой исключительное человеческое достижение – потому-то мы и погибаем. Наше поколение сложилось в совершенно особых условиях полувекового исторического периода. Мы выросли в борьбе, но нам удалось избежать влияния и «святой Руси», и буржуазного Запада, хотя мы и заимствовали у этих миров то, что в них было живого и сильного: у крестьянских масс – жажду справедливости и готовность к восстанию, накопленную за века деспотизма; у западного мира – увлечение исследованиями, смелыми реформами и веру в прогресс».
«...Мы не верили в устойчивость социального строя, нас не привлекало богатство, не соблазнял буржуазный индивидуализм; мы постоянно работали над преобразованием мира...»
«Наш трезвый взгляд на происходящее, наше бескорыстие оказались помехой другим, их старым и новым интересам. Мы не сумели приспособиться к наступившей реакции, – и, так как мы были у власти и нас окружали легенды, основанные на подлинных подвигах, нас надо было уничтожить, и не только физически: над нашим прахом распустили клевету о предательстве...» «А теперь на нас лежит тяжесть всего мира. Нас осудили все те, кто не хочет больше знать ни стремлений, ни тревоги, кто считает революцию законченной...»
Рублёв полагал, что беспощадная жестокость нашей эпохи объясняется именно этим чувством неуверенности и страхом перед будущим. «События, которые произойдут завтра, можно будет сравнить только с величайшей геологической катастрофой, изменяющей лик земли». – «В глазах людей мы оказались опасными авантюристами – мы требовали от них смелости и новых подвигов, а им хотелось только одного: уверенности в будущем, покоя, хотелось забыть о страданиях и крови, – и это накануне кровавого потопа!» «...Мы жили не на краю чёрной бездны, как говорил Бухарин, – нет, но накануне нового цикла ураганов, и этим объясняется затемнение сознания. Когда близится магнитная буря, стрелка компаса начинает метаться...»
– Ты правильно думал, Рублёв, – сказал Флейшман и почувствовал что-то вроде гордости.
Тихонько закрыв тетрадь – так закрыл бы он глаза мёртвому, – он растопил сургуч на свече и медленно уронил несколько тяжёлых капель – точно капель горячей крови – на конверт с бумагами Рублёва. Потом придавил конверт большой печатью архива Наркомвнудела; и пролетарский герб глубоко отпечатался на воске.
Около пяти часов товарищ Флейшман велел шофёру ехать на стадион, где происходил спортивный праздник. Его место было на официальной трибуне среди других военных форм, украшенных знаками власти. На груди Флейшмана блестели ордена Ленина и Красного Знамени. Под фуражкой с высокой тульей его голова, с годами ставшая похожей на голову огромной жабы, казалась ещё больше. Он ощущал себя опустошённым, анонимным, внушительным – вроде любого генерала любой армии. Незаметно подкрадывалась старость: тело отяжелело, душу подточили административные заботы.
Шагали шеренги гимнастов: впереди, выпятив грудь, шли девчата, за ними, прямо держа голову, парни. Все лица были повёрнуты к трибуне, и, хотя гимнасты никого на ней не узнавали (Вождь не пришёл, только его огромный портрет возвышался над стадионом), они весело и доверчиво улыбались военным формам. Их шаги отдавались на земле ритмичным шумом падающего града. Проезжали танки, украшенные ветками и цветами; из броневых башенок высовывались пулеметчики, размахивали букетами, перевязанными красными лентами...
В высоком небе, золотясь на заходящем солнце, могучими волнами проплывали облака.
1
Розанов В. В. "Уединённое" (14 декабря 1911).
2
Я вас люблю (англ.).
3
Библиотека св. Генофевы – университетская библиотека. Густав Ле Бон – французский социолог (1841-1931). «Читали в газете Жореса» – газета «Юманите». Улица Муфтар – одна из старейших улиц Латинского квартала. Онорэ Домье, художник и карикатурист (1808-1879). Клозери де Лила – одна из известных кофеен на бульваре Монпарнас, где до второй мировой войны часто собирались художники и поэты...
4
Поль Фор – французский поэт (1872-1960), автор французских баллад.
5
Храм в неогреческом стиле, с 1791 г. – усыпальница великих людей: Вольтера, Руссо, Гюго, Золя, Ланжевена и многих других.
6
Просторечное название бульвара Сен-Мишель (в Латинском квартале Парижа).
7
Хокусаи Кацусика – японский художник (1760-1849).
8
Вот в чём вопрос (У. Шекспир. «Гамлет»).
9
Бухарина
10
Cogner (конье) – колотить (фр.).
11
Небольшая анархистская организация.
12
«Partido Obrero de Unificacion Marxista»: партия коммунистов (троцкистов), сближавшаяся с крайним анархистским течением.
13
Андрес Нин – руководитель партии «ПОУМ» – был арестован коммунистами в июне 1937 года, когда эта партия была объявлена вне закона, и тайно убит в тюрьме.
14
SIM – Servicio de Investigacion Militar – отдел военной разведки.
15
Коморера – министр продовольствия, противник анархистов.
16
Коммунистические лидеры.
17
Орлов, бывший руководитель экономического отдела НКВД, был послан Ягодой в Испанию для наблюдения за Коминтерном и иностранными коммунистами. Горев (псевдоним Берзина), советский военный атташе в Испании, принимал участие в защите Мадрида. Репрессирован в 1937 гаду. Касорла – комиссар (коммунист), заведовавший общественным порядком в Мадриде.
18
Каталонское федеративное правительство.
19
Бухарина.
20
Обмолвка.
21
Универмаг.