Книга: На исходе дня. История ночи
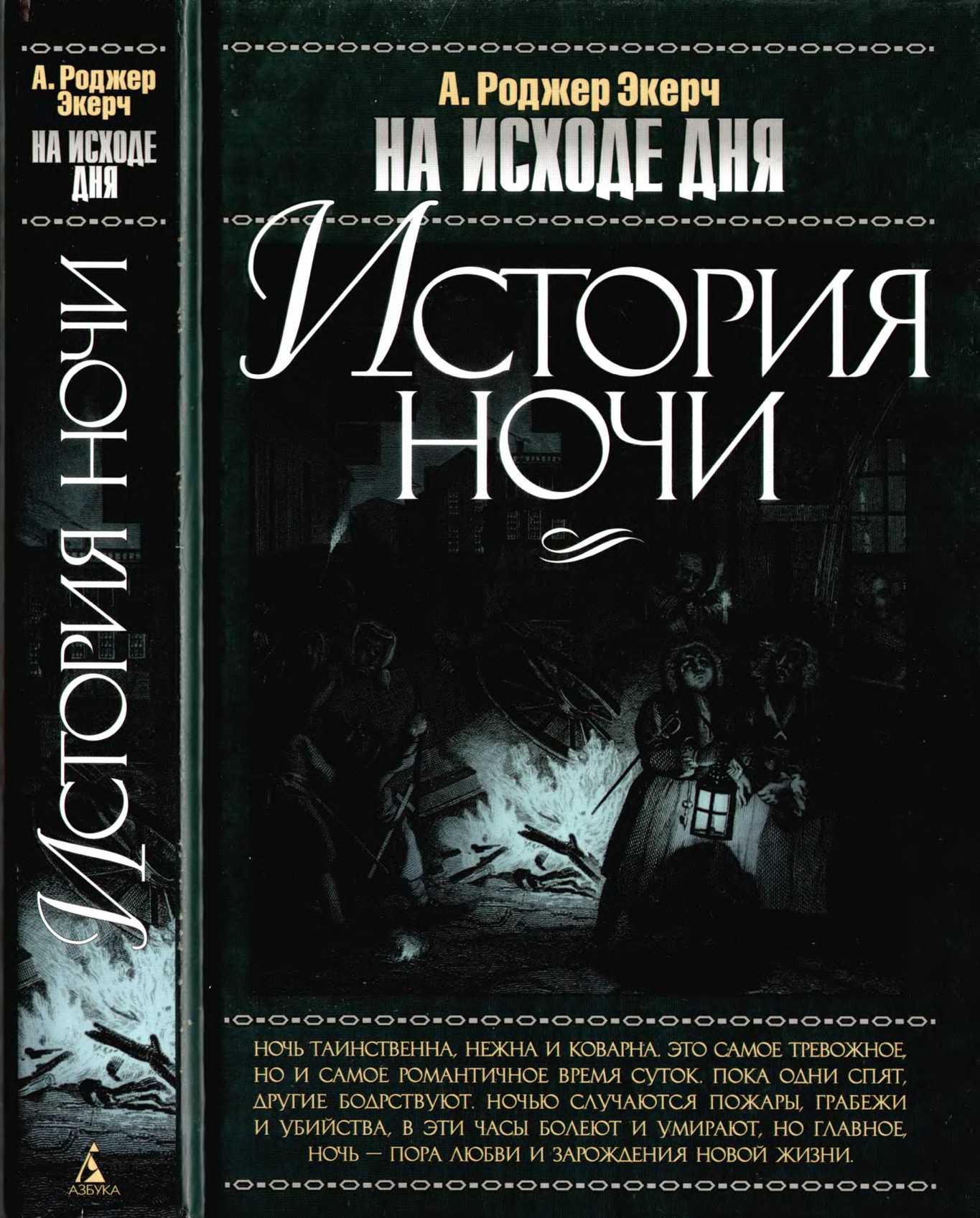
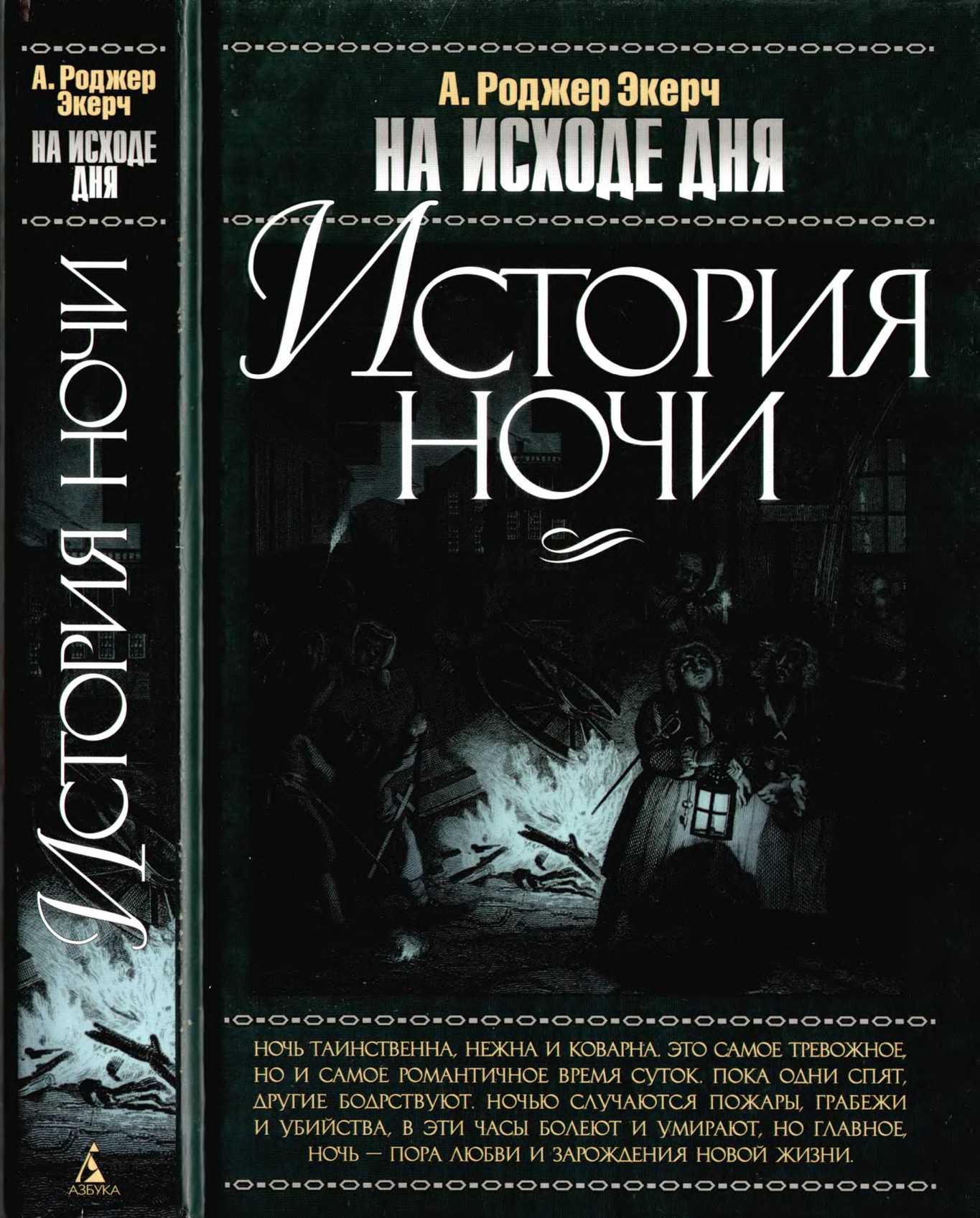
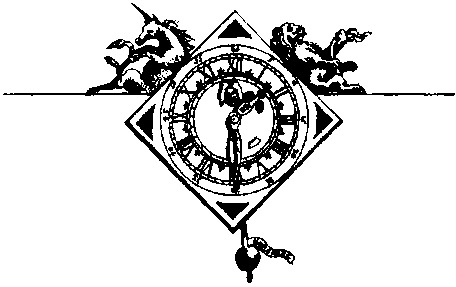

Ночь. Из серии «Четыре времени суток» (1738).
Гравюра Ф. Уокера с живописного оригинала У. Хогарта
ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЕКСАНДРЕ, ШЕЛДОН И КРИСТИАНУ
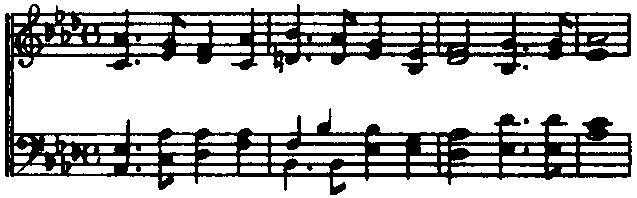
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.
Бытие, 1:1–5
Ты просто слишком медленно продвигаешься» — так моя улыбающаяся десятилетняя дочь Шелдон недавно поддразнивала меня, имея в виду скорость, с которой я работаю. Если бы только нужные слова приходили легко! Тем, что написание этой книги не заняло у меня еще больше времени, я обязан помощи друзей и родных, а также любезной поддержке со стороны различных организаций, находящихся по обе стороны Атлантики. Вдохновителем данной книги стал для меня много лет назад Андре-Филипп Катц, близкий школьный друг. Несмотря на наши планы о сотрудничестве, другие обязанности не позволили ему принять участие в этой работе. Его выдающийся интеллект и воображение могли бы очень украсить книгу.
Моя исследовательская и писательская работа стала возможной благодаря финансовой помощи целого ряда организаций. Я глубоко признателен Национальному гуманитарному фонду (the National Endowment for the Humanities), Мемориальному фонду Джона Саймона Гуггенхайма (the John Simon Guggenheim Memorial Foundation), Американскому совету научных обществ (the American Council of Learned Society), Американскому философскому обществу (the American Philosophical Society), Гуманитарному центру Виргинии (the Virginia Center for the Humanities) и Американской исторической ассоциации (American Historical Association). Политехнический университет Виргинии (Virginia Tech) любезно предоставил мне творческий отпуск и помощь в исследовании.
В течение двух последних десятилетий я полагался на материалы, а также на помощь персонала многих замечательных организаций. Я в долгу перед Государственным публичным архивом (the Public Record Office) (располагавшимся ранее на Чансери-лейн, а ныне в Кью), Британской библиотекой (the British Library), архивом Гилдхолл в Лондоне (the Guild-hall Records Office), Британской библиотекой политических и экономических наук в Лондонской школе экономики (the British Library of Political and Economic Science at the London School of Economics), Бодлианской библиотекой Оксфордского университета (the Bodleian Library of Oxford University), библиотекой Кембриджского университета (the Cambridge University Library), колледжем Святого Иоанна (St. John's College) в Кембридже, Четэмской библиотекой (the Chetham's Library) в Манчестере, архивами Дорсета и Хертфордшира, городской библиотекой Херифорда (the Hereford City Library), Центральной районной библиотекой (the District Central Library) в Ротенсалле, Сомерсетским обществом археологии и естественной истории (the Somerset Archaeological and Natural History Society), Центральной библиотекой Бристоля (the Bristol Central Library), факультетом ирландского фольклора Дублинского университета (the Department of Irish Folklore at University College Dublin), Национальной библиотекой Шотландии (the National Library of Scotland) и Шотландским архивом (the Scottish Record Office) в Эдинбурге, Уэльским университетом (the University of Wales) в Бангоре, Национальной библиотекой Уэльса (the National Library of Wales) в Аберистуите и архивами Женевы. Я благодарен различным организациям в Соединенных Штатах: Библиотеке Конгресса (the Library of Congress), Библиотеке Олдермена (the Alderman Library) в университете штата Виргиния, Библиотеке Эрла Грегга Свема (the Earl Gregg Swem Library) в колледже Уильяма и Мэри, Нью-Йоркской публичной библиотеке (the New York Public Library), Библиотеке Бейнеке (the Beinecke Library) Йельского университета, Библиотеке Льюиса Уолпола (the Lewis Walpole Library), Историческому обществу Норт-Хейвена (the North Haven (Connecticut) Historical Society), Историческому обществу Беннингтона (the Bennington (Vermont) Historical Society), Библиотеке юридической школы Гарвардского университета (the Harvard University Law School Library), Библиотеке Хаутона (the Houghton Library) в Гарварде, суду округа Саффолк (the Suffolk County Court House) в Бостоне. Я особенно признателен Сандре Дж. Тридуэй и ее коллегам из библиотеки штата Виргиния (the Library of Virginia) в Ричмонде. Я глубоко благодарен всем им.
Двинемся ближе к дому. Я многим обязан стараниям и щедрости персонала Библиотеки Ньюмана (the Newman Library) в Политехническом университете штата Виргиния, включая ныне покойную Дороти Ф. Маккомбс, Брюса Пенсека и особенно Шэрон Готкевич, Люси Кокс, Джэнет Р. Бланд, Нэнси Уивер, Мишель Кентербери, Роберта Келли и других сотрудников межбиблиотечного абонемента, возглавляемого Гарри М. Кризом. Они без устали работали с моими заказами, и всегда с хорошим настроением. Благодарю также Аннет Берр за ее консультации по истории искусства. Огромный вклад внесли Рут Липник Джонсон и Бекки Вудхауз из Публичной библиотеки округа Роанок (the Roanoke County Public Library). Я признателен Церкви Иисуса Христа Святых последних дней за возможность проведения генеалогических изысканий в Салеме. Я хотел бы поблагодарить раввина Манеса Когана за предоставленный мне доступ к прекрасной библиотеке синагоги Бет Израэль (Beth Israel Synagogue) в Роаноке.
Труд многих переводчиков позволил мне собрать большое количество неанглоязычных источников, что было бы невозможно при моем ограниченном владении лишь французским и латынью. Жизненно важную помощь оказали Корнелия Бейд, Труди Харрингтон Бекер, Мэйб Ни Бройн, Блэнтон Браун, Мичел Дэммрон, Дорин Эберт, Кристофер Дж. Юстис, Диния Фатин, Дженнифер Хайек, Кристин Ха зил, Бервин Прис Джонс, Энди Клэтт, раввин Манес Коган, Кеун Пэл Ли, Франческа Лоруссо-Капути, Уильям Л. Маккоун, Мишель Макнэбб, Анник Микайлофф, Виолэн Моран, Лучано Нардоне, Сера Онер, Лида Оувехэнд, Джозеф Пьерро, Шэннон Принс, Хайнгонирина Рамаросон, Александр Шэффер, Кэри Смит, Джулиана И. Тэйлор и Наоми де Вольф.
Среди коллег из Политехнического университета штата Виргиния, помогавших мне в изысканиях и написании книги, были Линда Арнольд, Марк В. Барроу-младший, Гленн Р. Баф, Дэвид Берр, ныне покойный Альберт И. Мойер, Стивен Соупер, Роберт Стивенс, Питер Уолленстейн, Джозеф Л. Вечински и Янгтзу Вонг. Фредерик Дж. Баумгартнер больше всех содействовал мне, отвечая на бесчисленные вопросы и обращая мое внимание на важные источники. Он и Ричард Ф. Херш нашли время, чтобы прочесть рукопись на ранней стадии исследования. Благодаря Линде Фаунтэйн, Джэнет Френсис и Ронде Пеннингтон, а также группе студентов, делившихся идеями, сканировавших иллюстрации и предлагавших помощь в работе с литературой, осуществить этот проект мне было гораздо легче. Я особенно признателен Саре Тэйлор, Джейми Райф, Энн-Элизабет Волке, Дэвиду Ферро, Эстэа Алстон, Бриджетт Деарт, Николь Эванс, Дорис Джонсон, Эрику Робертсону, Элу Харрисону, Лэрри Макколлу и Карлтону Спиннеру. Бессчетные часы провела со мной Су Канг, помогая разобраться с газетами XVIII века на микрофильмах, тогда как Линдси Меттс разыскивала недостающие материалы в Шарлоттсвилле. Джейсон Крафф любезно оказал содействие в систематизации источников. Кит Уайлдер обеспечил компетентную помощь в Эдинбурге.
Многие друзья и коллеги делились со мной литературой и сведениями из исследований в различных областях. Я благодарю за это Джеймса Экстелла, Джонатана Бэрри, Шэрон Блок, Марка Дж. Баумана, Эмми Тёрнер Бушнелл, Кэри Карсон, Джона И. Краули, Дэвида Дауэра, Корнелию Дэйтон, Карла Б. Истабрука, Пола Финкельмана, Яна Гарнерта, Карлу Джирону, Дэвида Д. Холла, Барбару Хэнавальт, Рут Уоллис Герндон, Уильяма Ли Холладэя, Марью Холмилу, Стивена С. Хьюза, Крейга Козлофски, Аллана Кугеля, Майкла Меранце, Кэтрин Мэри Олеско, Дэвида Смолена, Джона М. Стоденмайера, SJ, Кита Томаса и Марка Вейссблюта. Роберт Гиффорд и Дженнифер Вейтч разрешили мои вопросы касательно внутреннего освещения. Книги Томаса А. Вера были громадным подспорьем в попытках изучить природу сна в доиндустриальную эпоху.
Как всегда, меня поддерживали Джек П. Грин и Джордж Стайнер. Еще на ранней стадии работы свои услуги предложили Тимоти X. Брин, Ричард С. Данн и Джоанна Иннес. Бернард Бейлин много помогал с момента появления замысла книги. Я очень ценю те сведения, которыми он поделился со мной, но еще больше — его поддержку и энтузиазм, которые в немалой степени способствовали завершению исследования. Многочисленные друзья и коллеги по цеху выделили время, чтобы прочесть рукопись целиком или отдельные главы. За советы и критику я в долгу перед Томасом Бреннаном, Робертом Дж. Браггером, Питером Кларком, Томасом В. Коэном, Рудольфом Деккером, Полом Гриффитсом, Гилбертом Келли, А. Линн Мартином, Филипом Д. Морганом, Сарой Тилман Нэлль, Полом И. Паскоффом, Брюсом Р. Смитом и Дэниэлом Дж. Уилсоном. Все они оказали мне гигантскую помощь. Джойс и Ричард Волкомир подстегивали работу моего интеллекта своими пытливыми вопросами. Кроме того, я очень признателен за комментарии, полученные во время презентации своего исследования в Университете Джона Хопкинса, Государственном университете штата Луизиана, Государственном университете штата Огайо, Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани и в университете Сиднея. Я также читал лекции в Институте ранней американской истории и культуры Омохандро в тот год, когда работал там приглашенным редактором. Я в долгу перед сотрудниками института и особенно перед Тэдом В. Тэйтом за поддержку, оказанную во время моего пребывания там. Небольшая часть моего исследования ранее появилась в апрельском номере American Historical Review за 2001 год в виде статьи «Сон, который мы потеряли: отдых в доиндустриальную эпоху на Британских островах». Я благодарен сотрудникам журнала, в особенности Алану Робертсу и Майклу Гроссбергу.
Я сердечно признателен своему выдающемуся редактору Алэ-ну Сальерно Мэйсону, а также Алессандре Бастальи, Мэри Хелен Уиллетт, Джэнет Бирн, Элин Ченг, Нейлу Хусу, Ивану Карверу и многим другим сотрудникам издательства «W. W. Norton and Со.». Я в долгу перед Идой Ротаус за компетентную помощь в подборе иллюстраций. За успешное продвижение работы я во многом благодарю Жоржа и Валери Боршар. Я глубоко ценю мудрость и добрую волю Жоржа. Я также хотел бы отдать дань некоторым старым друзьям — Клайду и Вики Пердью, Джону и Мэри Карлин, Мэри Джейн Элкинс и ее недавно умершему мужу Биллу, Кэролин и Эдди Хорник. Тоби Крафф был надежной опорой как моей жене Эллис, так и мне.
В 1697 году французский экспатриант Тома д'Юрфей написал, что «ночь, любовь и судьба управляют всеми великими делами в этом мире». Определенно большую часть двух десятилетий моими делами управляли «ночь» и семья. Мои недавно ушедшие из жизни родители, Артур и Дороти Экерч, очень поддерживали меня, равно как и мои сестры, Черил и Кэрил, и их мужья, Фрэнк и Джордж. Мои тесть и теща, Кеун Пэл и Сун Ли, во время моих частых набегов на Библиотеку Конгресса открыли для меня не только двери своего дома, но и свои сердца. Я также хотел бы поблагодарить Анну, Дона, Аннету, Дэвида и их семьи. Я беззастенчиво полагался на медицинские познания Дона и Дэвида. Эллис, которая многого достигла в собственной работе, неоднократно приходила ко мне на выручку, пока я писал эту книгу. В этом отношении, как и во многих других, мне сильно повезло.
Вскоре после того, как я приехал в Блэксберг почти тридцать лет назад, один мудрый старший коллега заметил, что большая часть ученых по мере старения думают не столько о своих книгах, сколько о своих детях. Эту книгу я с любовью посвящаю Александре, Шелдон и Кристиану, которые всегда в моих мыслях — в прошлом, настоящем и в каждом грядущем дне.
ИСТОРИЯ НОЧИ

Вечер. Из серии «Четыре времени суток» (1738).
Гравюра Ф. Уокера с живописного оригинала У. Хогарта
Пусть ночь покажет, кто мы есть, а день — кем мы должны быть.
Эта книга посвящена истории ночи в Западной Европе в эпоху, предшествовавшую промышленной революции. Главным образом меня интересовало поведение людей, сталкивавшихся после наступления темноты с реальными или вымышленными опасностями. Если не считать крупных исследований по истории преступности и колдовства, ночь как объект изучения не пользовалась особым вниманием — и все из-за бытовавшего с давних пор мнения, будто бы в темное время суток не происходит ничего, что могло бы представлять интерес. «Нечем заняться — только спим, едим и пускаем газы» — слова поэта начала XVII века Томаса Миддлтона лучше всего отражают подобный образ мыслей. За исключением некоторых европейских ученых, историки до начала Нового времени не проявляли интереса к ночи, таившей в себе первобытную сущность человеческого бытия. Долгие часы семьи проводили в полнейшей темноте, а ночь продолжала оставаться terra incognita, явлением второстепенного значения, забытой частью человеческого существования. «Полжизни мы проводим в темноте», — заметил Жан-Жак Руссо в романе «Эмиль, или О воспитании» (1762)2.
Ночь была не просто фоном дневной жизни человека (или же естественным перерывом в его повседневном распорядке) — с ночным временем связана самобытная культура со свойственными только ей обычаями и ритуалами. В Британии и Америке ее часто называли «ночным сезоном» (night season), тем самым подчеркивая уникальную природу ночного времени. Ночь и день, разумеется, имели немало общего, а многие различия между ними были условны (какие-то явления казались более заметными и значимыми ночью, чем днем, какие-то действия совершались преимущественно под покровом тьмы). Ночь вносила поправки не только в рацион, гигиену, стиль одежды, не только видоизменяла системы сообщения и способы передвижения — существенные сдвиги происходили также в социальной сфере, она влияла на рабочие ритмы, нравы, законы, иерархию, определяла отношения между полами. Книга призвана, с одной стороны, оспорить утверждение, что ночь бедна событиями, а с другой — показать существенно отличавшуюся от дневной богатую и яркую ночную культуру, alternate reign, как называл ее один английский поэт. Большинству людей темнота представлялась убежищем от обыденности: по мере того как тени становились длиннее, мужчины и женщины отдавались своим внутренним порывам, пытаясь реализовать во сне или наяву подавленные желания, как невинные, так и греховные. Ночь, пора освобождения и обновления, давала свободу действий добрым и злым людям, спасительным и губительным силам. «Ночь стыда не ведает» — гласила пословица. Несмотря на бесчисленные опасности, многие с закатом солнца испытывали прилив свежих сил3.
Книга «История ночи» разделена на четыре части и состоит из двенадцати глав. В первой части, «В тени смерти», речь идет об опасностях, предостерегающих людей ночью. С наступлением сумерек угроз для тела и души становилось значительно больше, и они были гораздо серьезнее. Может статься, никогда раньше в истории Запада вечер не казался столь пугающим.
Вторая часть, «Законы природы», повествует о том, как относились к этому времени суток официальная власть и простой люд, с каким «оружием» они встречали приход ночи. Я начинаю с рассказа о различных репрессивных мерах, которые принимали Церковь и государство для сдерживания ночной активности, — от введения комендантского часа до организации дозорной службы. Лишь к XVIII веку, и только в городах, стали открываться для широкой публики ночные заведения. Как в Англии, так и за ее пределами, как в городе, так и на селе простой люд, стремясь противостоять тьме, полагался на магию, христианскую веру и народные обычаи. Сложная система традиционных верований предполагала, что после заката солнца в сельской местности происходило много такого, что не было заметно непосвященным, но представляло собой значительный пласт ночной культуры.
Третья часть, «Темные царства», рассказывает о человеческих страстях. Под прикрытием темноты социальные запреты ослабевали, и в семье, между друзьями или между любовниками возникали новые формы интимных отношений. Вечер как время личной свободы таил в себе особую притягательность для людей, находящихся на противоположных концах социальной иерархии. Читатель узнает, как много значила ночь для патрициев и для плебеев; ночью власть переходила от сильного к слабому.
Сон, самое надежное укрытие от дневных страданий, — основная тема четвертой части, «Частная жизнь». В центре внимания — ритуал отхождения ко сну, а также доминировавшая с незапамятных времен модель ночного отдыха, в соответствии с которой доиндустриальное хозяйство начинало день… в глубокой ночи. Члены семьи поднимались, чтобы сходить в туалет, покурить или даже нанести визит ближайшим соседям. Кто-то занимался любовью, молился и, что наиболее важно с исторической точки зрения, размышлял о своих снах как источнике утешения и самоанализа.
Наконец, в эпилоге, «Рассвет», описывается процесс «демистификации» темноты, начавшийся в крупных и средних городах в середине XVIII века. Тогда-то и были заложены основы современного нам общества, живущего двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, что имело глубочайшие последствия для личной безопасности и свободы человека.
Речь в книге пойдет о ночной жизни Западной Европы — от Скандинавии до Средиземноморья. В центре моего исследования находятся Британские острова, однако я использовал и обширный континентальный материал, а также документы, касавшиеся Америки и Восточной Европы. Хронологические рамки достаточно широки — от позднего Средневековья до начала XIX века, но основное внимание уделяется эпохе раннего Нового времени — 1500–1750 годам. Иногда для сравнения и противопоставления с нравами, обычаями и верованиями, характерными для предшествующих эпох, я обращаюсь к античной и средневековой культуре. Хотя многие явления уникальны и характерны только для раннего Нового времени, некоторые из них, напротив, имеют продолжительную историю. Все это позволяет мне представить данную книгу как самое крупное исследование по истории ночной жизни доиндустриального общества.
В своей работе я часто опираюсь на свидетельства непосредственных наблюдателей сельской жизни XIX века — Хамфри О'Салливана, Эмиля Гийомэна и др. Я полностью разделяю историческую теорию, согласно которой ценности и традиции во многих аграрных регионах Европы и Америки не претерпевали значительных изменений до конца XIX столетия, периода бурного развития транспорта и торговли. Как писал Томас Гарди в романе «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (1891), между Тэсс и ее матерью «пропасть была, как принято считать, в двести лет»; «когда они бывали вместе, эпохи Якова I и королевы Виктории соприкасались»4.
В различных местах и на разных этапах раннего Нового времени ночная жизнь характеризовалась единообразием. Ночная культура, конечно, не была монолитной, однако в своих поступках и отношении к жизни люди скорее обнаруживали сходство, чем различие: они испытывали похожие страхи, связанные с наступлением темноты, одинаковым образом реагировали на те или иные ситуации. Эта мысль не только подсказала мне тематическую структуру книги, но и укрепила во мнении, что ночь была феноменом фундаментального значения. Ночная культура была столь устойчива и постоянна, что с легкостью преодолевала временные и пространственные барьеры. В тексте я обращаю внимание на новшества, если таковые имели место, например в формах ухаживания или в способах освещения помещений. Но до XVIII века ночная жизнь заметно не менялась, да и тогда она трансформировалась преимущественно в городах. В предшествующие же годы различия обусловливались не столько временем и пространством, сколько социальной идентичностью, гендерной принадлежностью, а также местом проживания человека (город или сельская местность).
Нетрудно догадаться, что столь обширный предмет исследования предполагает большой круг источников. Наиболее ценные из них — это документы личного характера: письма, мемуары, путевые заметки, дневники. При этом повествование в большей степени строится вокруг жизни отдельных персонажей. О представителях высших и средних слоев общества я писал, опираясь прежде всего на дневники. Что же касается низших классов, то, помимо немногочисленных дневниковых записей и автобиографий, я перерыл горы судебных материалов. Не имеющим себе равного источником информации о жизни городских улиц стали «Документы сессий суда Олд-Бейли» (Old Bailey Session Papers), серия памфлетов XVIII века, в которых отражены судебные процессы, проходившие в высшем уголовном суде Лондона. О традиционных верованиях можно узнать из глоссариев, словарей и, самое главное, сборников пословиц и поговорок. «В них заключено мировоззрение крестьянина, — сказал один французский священник о пословицах. — Это знания, которые он взрастил и сделал частью самых глубоких тайников своей души»5. Другие пласты ночной культуры я осваивал с помощью литературы, как «высокой», так и «низкой»: речь идет не только о поэзии, пьесах и романах, но и о балладах, сказках, преданиях. Литературные источники я старался использовать с осторожностью, отмечая места, где воображение автора рисовало картины, отличные от социальной реальности. Пригодились также нравоучительные произведения, главным образом проповеди, религиозные сочинения, сборники советов. Полезными были газеты и журналы XIX века, медицинские, юридические, философские и сельскохозяйственные трактаты. Для иллюстративных и пояснительных целей я прибегал к научным работам по медицине, психологии и антропологии. Немалую помощь оказали и другие работы по самой различной тематике — начиная от исследований в области народной культуры и заканчивая изысканиями по истории слепоты, равно как и монографии, посвященные отдельным аспектам ночной жизни (в целях тематического единства я не использовал источники о военных действиях в ночное время).
Осталось последнее замечание, и оно заслуживает особого внимания. Даже если я и поднимал вопрос о том, как влияла ночь на повседневную жизнь, в том числе была ли темнота в целом источником социальной стабильности или, наоборот, беспорядка, то эта тема не была для меня главной. Надеюсь, собранный в книге материал послужит достаточным оправданием тому, что ночь заслуживает изучения как таковая.
А. Роджер Экерч
Шугарлоуф Маунтин
Роанок (Виргиния) ноябрь 2004
Все даты даны по новому стилю, началом года считается 1 января. Цитаты по большей части приводятся в оригинальном написании, хотя использование заглавных букв приведено в соответствие с современными правилами, знаки препинания добавлены там, где требуется.
Эй, торопитесь, пастухи, домой гоните стадо.
Пора скотине в стойлах быть — ведь день идет к закату.
Уж солнце свой привычный путь проделало, вот-вот
Сгустятся сумерки и тьма закроет небосвод[1].
Наблюдательный человек заметит, что ночь не столько спускается, сколько поднимается. Сначала тени затопляют долины, а затем медленно карабкаются вверх по пологим склонам холмов. Лучи угасающего светила, известные как «солнечные ростки» (sunsuckers), рвутся вверх из-за облаков, как будто кто-то втягивает их в завтрашний день. Пастбища и леса покрыты мраком, а небо на западе все еще алеет, даже если солнце уже скрылось за горизонтом. Если бы ориентиром земледельцу служил небесный свод, то он продолжал бы трудиться, но растущие тени торопят его уйти. Среди мычащих коров и спустившихся на землю грачей снуют в поисках укрытия кролики. Сипухи взлетают над зарослями вереска. Своим свистом, напоминающим перекличку убийц-заговорщиков, они вселяют тревогу в мышей и людей, ведь и те и другие с раннего возраста приучены бояться этих пронзительных звуков, предвещающих смерть. По мере того как угасает дневной свет, пейзаж выцветает, становится блеклым. Заросли кустарника словно разрастаются, теряют четкие очертания. Ирландцы говорят, что вечер наступает тогда, когда трудно различить, человек перед тобой или куст. Еще более зловеще звучит итальянская поговорка «Когда исчезает разница между гончими псами и волками»2.
Ночную темень, кажется, можно потрогать руками. Сумерки не приходят, они сгущаются. Черная мгла накрывает путников, она не столько видна, сколько ощутима. Именно так в Ветхом Завете описывается тьма, постигшая Древний Египет. Многие верили, что с заходом солнца с небес на землю спускаются ядовитые «ночные туманы», «гибельные пары», несущие холод и промозглую сырость. В представлении людей ночь «падала», наступала. Нет больше дневного воздуха, прозрачного и теплого. Эпидемией, мором расходится тьма по пригнувшимся к земле деревням, заражая округу «злокачественными» туманами: Шекспир описал это как «день больной» (the daylight sick). «Но торопитесь, — предупреждает герцог Винченцо в пьесе „Мера за меру" (1604). — Уж скоро ночь туманная настанет»[2]3.
Сумерки, cock-shut, grossing, crow-time, daylight's gate, owl-leet[3]. В английском языке найдется немало ассоциативных идиом для обозначения времени суток, когда день соскальзывает в небытие, во тьму, а в ирландском гэльском только для описания периода между полуднем и наступлением сумерек имеется четыре разных термина. Ни одна из других частей суток не вдохновила человека на создание столь богатой терминологии. И до наступления эпохи индустриализации, безусловно, для жизни людей не было более значимого времени. Для большинства из них привычным термином, связанным с наступлением ночи, стал термин «закрытие» (shutting-in): пора запирать двери, задвигать засовы, захлопывать ставни, спускать с цепи сторожевых собак. Ибо ночь с ее противоестественной темнотой рождала неведомые опасности, реальные и воображаемые. И, как ни странно, больше всего причин для страха перед этими «отпрысками» ночи было у тех, кто жил в период между эпохами Возрождения и Просвещения.
В ТЕНИ СМЕРТИ
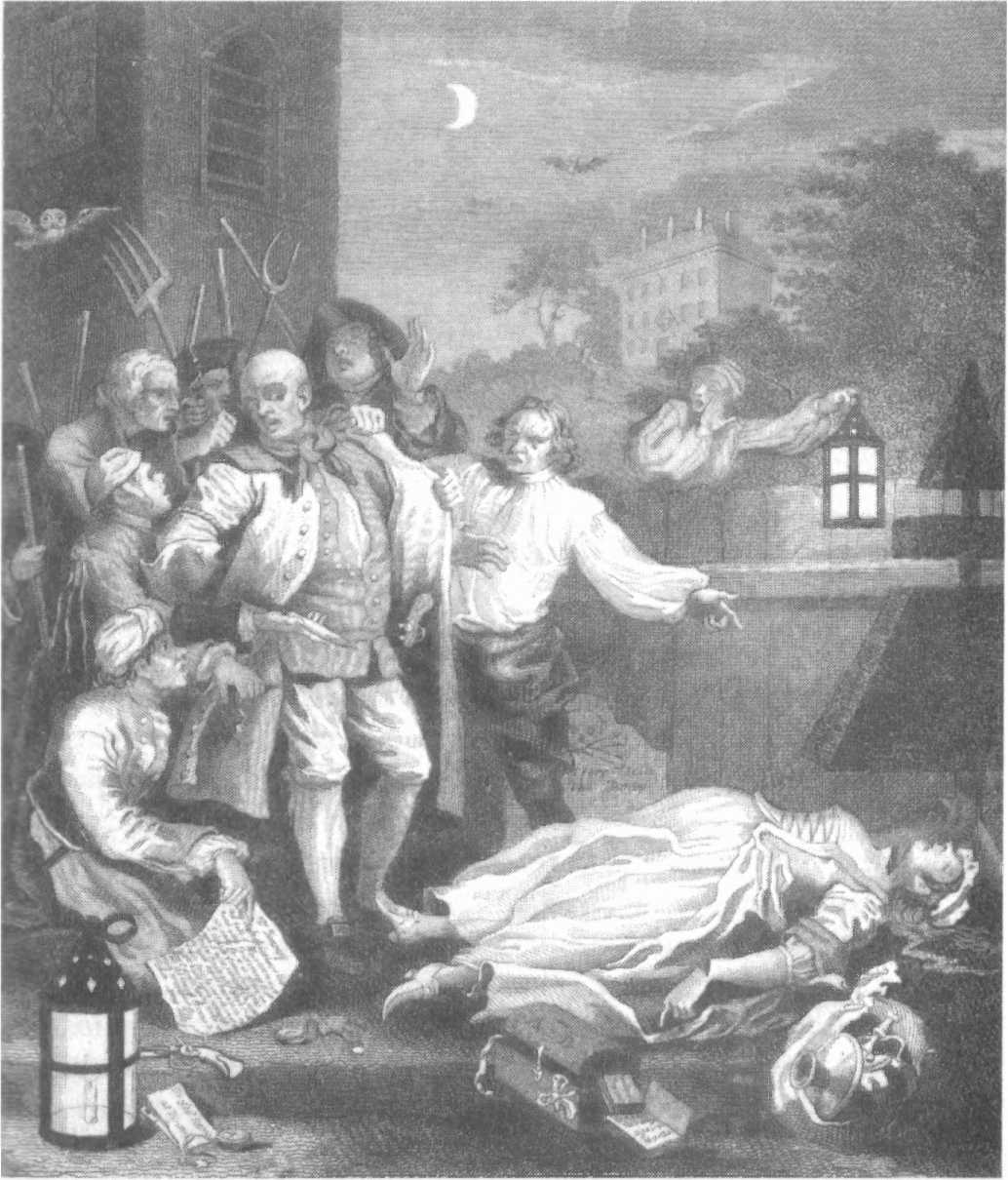
Крайняя степень жестокости. Из серии «Четыре степени жестокости» (1751). Гравюра Дж. Ромни с живописного оригинала У. Хогарта
Никогда не здоровайся с незнакомцем ночью, ибо это может быть демон.
Ночь — древнейший и навязчивый кошмар — стала первым неизбежным злом для человека. Когда подступали темнота и холод, наши предки, вероятно, ощущали глубинный страх, и прежде всего они боялись, что солнце может не взойти на следующее утро.
Трудно представить себе что-то более несоответствующее эпохе палеолита, чем георгианские интерьеры лондонского жилища Эдмунда Бёрка. Однако взаимозависимость темноты и эстетики всерьез интересовала этого молодого ирландского эмигранта, равно как и многовековой страх человека перед тьмой, которому были подвержены даже просвещенные лондонцы. Последним предшественником Бёрка в Англии, обращавшимся к теме ночных страхов, был Джон Локк. В своем известном философском трактате «Опыт о человеческом разуме» (An Essay Concerning Human Understanding’, 1690) он достаточно определенно высказывается на эту тему. Однако Бёрк начисто отвергает предложенное Локком объяснение детских страхов перед темнотой. В то время как Локк обвиняет во всем нянек, рассказывающих впечатлительным детям истории с привидениями, Бёрк в своем «Философском исследовании о происхождении наших идей о возвышенном и прекрасном» (A Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful; 1757) настаивает на том, что темнота была «ужасна по самой своей природе». «Трудно представить, — пишет он, — что воздействие такого понятия, как темнота, во все времена и повсюду вызывающего ужас, может быть приписано ряду бесполезных сказок»2. Одним словом, ужас перед темнотой существовал всегда.
Можно лишь предполагать, когда именно страх темноты в человеческой душе стал врожденным. Вероятно, как и утверждал Бёрк, этот древнейший из человеческих страхов существовал с незапамятных времен; достаточно вспомнить те ужасы, с которыми, по всей видимости, сталкивались наши самые далекие предки. Однако некоторые психологи высказывают предположение о том, что доисторические народы не трепетали перед мраком как таковым, а боялись конкретных опасностей, возникавших во мраке. И только позднее, когда понятие «ночь» все больше становилось синонимом понятия «угроза», древние люди (на протяжении жизни нескольких поколений) смогли приобрести этот инстинктивный ужас3.
Каков бы ни был подлинный источник этого ужаса, существовал ли он изначально или возник со временем, народы, жившие позднее, несомненно, уже получили в наследство ярко выраженную антипатию к ночной темноте. К какой бы древней культуре мы ни обратились, повсюду ночь кишит демонами. В греческой мифологии обнаруживаем Никту — рожденную Хаосом богиню «всепоглощающей» ночи; в «Илиаде» она заставляет трепетать самого Зевса. Среди ее свирепых потомков называют — Болезнь, Раздор и Злой Рок. В Вавилоне обитатели пустыни страдали от бесчинств ночной колдуньи Лилит. Древних римлян приводили в ужас ночные полеты стрикс — ведьмы, превращавшейся в пронзительно кричащую птицу и охотившуюся за внутренностями младенцев; а к югу от Иерусалима некий «Ангел Тьмы» терроризировал обитателей засушливой области Кумран4. При этом многие древние цивилизации, включая Египет и Месопотамию, приравнивали понятие «темнота» к понятию «смерть», как это было и в христианской Европе. Как известно, в 23-м псалме говорится о «долине, покрытой тенью смерти». Христианство с самого начала почитало Бога источником вечного света. Первый акт Его творения — создание света — спасает мир от хаоса. «И свет во тьме светит, — говорится в Евангелии от Иоанна. — И тьма не объяла его»[4]. В Библии описывается история многих злодеяний — «трудов тьмы», — совершенных глубокой ночью, включая предательство в Гефсиманском саду и наступившую вслед за распятием Христа «тьму над всей землей»5.
Даже не в столь далекие времена, как древние, в различных местностях ночная пора вселяла в людей глубокую тревогу. Например, на Таити Поль Гоген обнаружил, что женщины народа канаки никогда не спят в темноте. Еще в XX веке индейцы навахи и тихоокеанское племя маилу в страхе убегали от ночных демонов. В африканских культурах, например у народа йоруба, у племени ибо в Нигерии или племени эве в Дагомее[5] и Того, духи ночью принимали обличье ведьм, сея вокруг несчастье и смерть. Любопытно, что существовала и вера в дневных колдуний, например в племени динка, но их поведение считалось менее угрожающим6.
Нельзя утверждать, что издавна в каждой культуре ночь воспринималась с одинаковой неприязнью. Заостряя внимание на инстинктивном человеческом страхе перед темнотой, берущем начало в доисторическом прошлом, мы отнюдь не отвергаем того факта, что в одних культурах ночь порождала больший ужас, чем в других. Древнегреческие культы предполагали ночные религиозные празднества, известные как pannchides. Согласно Ювеналию, пешие путники, оказавшиеся на улицах древнего Рима после заката солнца, рисковали жизнью и здоровьем, но сам город, начиная со II века н. э., жил насыщенной ночной жизнью. Жители Антиохии, сообщает Ливаний, «сбросили тиранию сна» с помощью масляных ламп, то же произошло с шумерами и египтянами — и те и другие были счастливыми обладателями этого древнего источника искусственного освещения, которое предполагало большую свободу после наступления сумерек. И они не были первыми. Во Франции, неподалеку от пещер Ласко с древними наскальными изображениями, были обнаружены остатки более чем сотни ламп, относящихся к позднему палеолиту7.
Все виды искусственного освещения — лампы, фонари, свечи — помогали ослабить ночные тревоги. «Злые духи не любят запаха зажженных ламп», — провозглашал Платон. Но дело было не только в технических достижениях. Тот факт, что одни народы избегали военных действий в ночное время, а другие — нет, объясняется, без сомнения, различиями культур. Допустим, викинги имели пристрастие к ночным набегам, в чем жители европейского побережья убедились на собственном печальном опыте. Вероятно, умение противостоять ночному ужасу у древних скандинавов появилось не столько благодаря искусственному освещению, сколько из-за постоянного пребывания в темноте в долгие северные зимы. Столетия спустя английские поселенцы удивлялись тому, как необычно реагировали на темноту индейцы, обитающие на землях, расположенных вдоль восточного побережья Северной Америки. В Новой Англии Уильям Вуд советовал товарищам-колонистам не опасаться индейских атак ночью: «Они не покинут своих жилищ из-за страха перед Аббамочо (дьяволом), которого они боятся особенно тогда, когда сами имеют дурные намерения». Однако посетивший Северную Каролину Джон Лоусон сообщал, что некое местное племя «никогда не боится ночи, и их никогда не тревожат мысли о духах, как нас тревожат всевозможные страшилища и пугала, усвоенные нами с материнским молоком». В последнем, как и Локк, он винил «глупость наших нянек и слуг», которые «запугали нас в нежном возрасте своими пустыми россказнями о феях и ведьмах»8.
Множество факторов формировало общее отношение к ночи в предшествующих культурах, и в частности способы знакомства маленьких детей с опасностями темноты. Более других на восприятие темноты влияли реальные угрозы, которые веками таила ночь. Очевидно также, что с трудом поддается реконструкции хронологический порядок появления наших страхов. Нет никакой простой линейной эволюции: адреналин человеческих страхов то прибывал, то убывал. В эпоху Нового времени антипатия человека по отношению к темноте, конечно, постоянно уменьшалась, особенно в индустриальном обществе — благодаря электрическому освещению, работе профессиональной полиции и распространению научного рационализма. Но до начала промышленной революции вечер казался преисполненным угрозы. В раннее Новое время темнота пробуждала самое худшее в людях, природе и космосе. Убийцы и воры, ужасные катастрофы и адские духи таились повсюду.

УЖАСЫ НОЧИ: НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ
I
Когда ночь запирает наше зрение в своем угрюмом подземелье и нам, заточенным в своих домах, нет спасения, дьявол ведет счет грехам в нашем нечестивом сознании.
Томас Нэш (1594)
То была эра зловещих апокалипсических видений. «Наш жуткий век, о нем столь очевидно повествует Писание», — сокрушался французский писатель XVII столетия Жан-Николя де Париваль. Голод, эпидемии, смерть и проклятия. Уже в конце XV века в европейскую живопись и литературу начали проникать мрачные предположения, что физический мир столь же безжалостен, сколь мучительно непредсказуем; перефразируя слова одного более позднего писателя, скажем: мир — вечная борьба между прихотями небес и земными нуждами. Пословица XVII века с горечью это подтверждает: «Судьба человека всегда покрыта мраком». Простой смертный не мог найти спасения от преследующих его кошмаров в царстве людей, существовала лишь надежда на спасение в царстве Господа. Это была не робкая дрожь, порожденная неуверенностью, а глубокое беспокойство, вызванное опасностями и непредсказуемостью мира, что сознавали последующие поколения. «Наши предки, — отмечала одна лондонская газета в 1767 году, — полжизни проводили в борьбе за выживание… они боялись огня, воров, голода, копили богатство для жен и детей, а некоторые из них пребывали в ужасной тревоге относительно собственной судьбы в мире ином»2.
Трудно преувеличить чувство беззащитности и подозрительности, порождаемое темнотой. «Ночью мы пребываем в тени смерти, столь велики опасности», — писал автор книги «Занятия женатого мужчины» (The Husbandmans Calling; 1670). Многочисленные шекспировские персонажи пытались измерить «недра хмурой ночи» (night's «foul womb»)[6]. Лукреция восклицает после сцены изнасилования:
Ты образ ада, Ночь, убийца снов! —
Позора летописец равнодушный!
Арена для трагедий и грехов!
Их в темноте сокрывший, Хаос душный!
Слепая сводня! Зла слуга послушный!»[7]3
Тогда как небеса излучали Божественный свет, тьма предвещала мучения, ожидающие преступников после смерти. Ночь, черная как смола, кишащая чертями и демонами, зачастую приравнивалась к аду («вечной ночи») и как бы предвосхищала загробное царство хаоса и отчаяния. В «Бесплодных усилиях любви» (1598) король Наварры выражается так:
Действительно, некоторые богословы были убеждены, что Бог создал ночь как доказательство существования ада. «Словно лик преисподней», — описывал наступление сумерек венецианец XVII века.
Ночь безжалостно лишала мужчин и женщин зрения, самого ценного из всех органов чувств. Даже слух или осязание не позволяют человеку управлять ситуацией в той мере, в какой это допускает зрение5. Возможно, значимость его была бы не столь исключительна, будь человеческие сообщества раннего Нового времени менее зависимы от личных взаимодействий. Но общины, как в сельской местности, так и в городской среде, представляли собой небольшие традиционные сообщества, в которых ведущую роль непосредственно играли личные связи. Зрение позволяло людям оценивать характер и поведение — жизненно важные аспекты личности. Манера держаться, осанка и выразительность взгляда обнаруживали внутреннюю сущность человека. Один польский аристократ XVII века утверждал: «Что вы видите, когда простак или трус пытается сказать нечто дельное? Он ерзает, вертит руками, теребит бороду, кривит лицо, стреляет глазами и разбивает каждое слово на три. Благородный человек, напротив, отличается ясным умом и хорошей осанкой; ему нечего стыдиться»6. Одежда делала социальные различия более контрастными. В некоторых городах законодательством, регулирующим расходы, носить шелк и атлас разрешалось только знати. Да и не важно, была ли одежда простой или экстравагантной: ее фасон и цвет несли информацию о возрасте, роде занятий, социальном статусе владельца7.
Шотландский поэт Джеймс Томсон горестно стенал, что ночью «порядок рушит ложь; вся красота уходит; определенности нет; и радостное разнообразие [дня] сливается в одно темное пятно»8. Друзей легко принять за врагов, а тени — за призраков. Изгороди, рощи и отдельные деревья начинают жить иной жизнью. «Человек, идущий в потемках, — писал в 1639 году Хамфри Милл, — видит куст, но принимает его за вора». Играл злые шутки и слух. Звуки, на которые мы не обращаем внимания днем, ночью требовали, чтобы их услышали. «Ночь тише дня, — заметил писатель начала XVII века Джордж Герберт, — но ночью мы боимся того, на что не обращаем внимания днем. Нас часто бросает в холодный пот от мышиной возни, скрипа половицы, собачьего воя, крика совы»9.
Днем можно укрыться в толпе. В больших и средних городах «толпа успешно защищала и охраняла отдельного человека», отмечал корреспондент одной лондонской газеты. Опасности, грозившие душе и телу, множились после наступления темноты, когда семьи были вынуждены самостоятельно оберегать свой покой, но при этом были лишены силы, которую давало зрение. Когда, как не под покровом ночи, зло, освобожденное от привычных ограничений видимого мира, могло совершаться безнаказанно? «Здесь никогда не светит солнце порядка», — жаловался Томас Миддлтон. «По ночам, — признавалась дама Сара Каупер, — я молю Всемогущего Господа оградить меня от злых духов и злых людей, от страшных снов и кошмарных видений, от пожара и других ужасных происшествий… столь многих несчастий, о которых мне известно, и тех неизвестных бедствий, которых, безусловно, еще больше»10.
II
Нет сомнений, что почти все то, что простой народ почитает за чудесные видения, таковым не является. Но невозможно отрицать, что в темное время странные видения и другие подобные вещи можно увидеть и услышать.
Людвиг Лафатер (1572)п
Причудливые видения и необычные звуки появлялись и исчезали в ночи, порождая повсеместно беспокойство и тревогу. Случались вечера, когда тишину нарушали оглушительный грохот и странная музыка. Арендатор из английской деревни Уэйкфилд сообщал, что слышал «вокруг себя ужасный шум от музыки и танцев», за которым на следующую же ночь последовал «звон колокольчиков». Слышались и «глубокие стенания». Вечером накануне того дня, когда в Иэланде умерла женщина, слуги были насмерть напуганы «страшным стуком и всякой музыкой». Предвестниками несчастья считались раскаты грома и крики сов12.
Природные явления, которые можно было наблюдать в ночном небе, включая полярное сияние в северных широтах, казались еще более грозными предзнаменованиями людям, привычным к разговорам о библейских чудесах и сверхъестественных знаниях. «Всю ночь небо представляло собой ужасающее зрелище, — писал в 1727 году Джордж Бут из Честера. — Вся моя семья не спала, кто-то плакал, кто-то молился, а небо без конца полыхало огнем». Так же как и в Средние века, кометы, метеориты и лунные затмения, воспринимавшиеся либо как предзнаменования Божественной воли, либо как знаки Его гнева, внушали людям трепет и благоговейный страх. Считалось, что кометы, известные как «пылающие звезды», предвещали «разрушение и распад земных вещей» под воздействием бурь, землетрясений, войн, эпидемий или голода. В 1618 году в приходской книге Нантвича была сделана следующая запись: «Много раз на востоке являлась пылающая звезда, предвещая нам, грешникам, Божий суд». «Божья проповедь ясно читается в небе благодаря недавнему явлению поразительной кометы», — писал о «чуде» йоркширский священник Оливер Хейвуд. Большая часть таких «чудес» была куда более заметна людям, жившим в те времена, нежели нашим современникам; сейчас небесные явления часто остаются незамеченными из-за «загрязнения» светом — обилия электрической иллюминации на улицах современных городов13.
Нередко за такого рода сенсациями следовали вспышки истерии, отзвуки которой длились не один день. Свидетельством тому служат многие гравюры на дереве, относящиеся к раннему Новому времени. Сообщалось, что появление в небе Англии одной мартовской ночью 1719 года большого «огненного шара» «повергло всех, кто видел его, в невыразимый ужас». Согласно уилтширскому викарию Джону Льюису, «большинство из тех, кто был на улице, пали ниц, при этом некоторые потеряли сознание, а дети и многие простолюдины вообразили, что луна выпала из своей орбиты и рухнула на землю». Имелись сведения, что один колонист из Коннектикута, увидев в небе яркий огонь, принес в жертву жену, дабы «восславить Господа»14. Такие эпитеты, как «ужасный», «поразительный» и, самое частое, «странный», украшали свидетельства очевидцев, особенно когда в ночном небе появлялись фантастические видения: гробы, кресты или окровавленные мечи. Узреть такое, по единодушному мнению, было чудовищно. Однажды летней ночью жители Праги стали свидетелями жуткой сцены: по небу «маршировала» колонна обезглавленных людей. В других местах наблюдали мерцающие облака и потоки крови. Вскоре после Великого пожара 1666 года лондонцы были охвачены ужасом, увидев вечером вспышки света; «их опасения», разъяснял Сэмюэл Пепис, заключались в том, что «оставшаяся часть города» будет «сожжена, а паписты перережут нам горло». К таким чудесам невозможно было привыкнуть. Столь же зловещие, сколь и удивительные, они представляли собой самую захватывающую из ночных тайн15.
Все вечера, даже если они казались безмятежными, требовали постоянной бдительности по отношению к другим небесным опасностям. Наиболее известной из множества «планет», влиявших, как считалось, на ритмы повседневной жизни, была ближайшая соседка Земли — Луна. Будучи желанным источником света, она, по общему мнению, оказывала также воздействие на работу внутренних органов человеческого тела, подобно тому как влияла на приливы, отливы и на погоду. «Первый философ» Франции Бернар ле Бовье де Фонтенель был одним из многих ученых авторитетов, увековечивших средневековую теорию, которая подчеркивала важность луны для физического здоровья: «По мере того как она проходит свои фазы, она оказывает большое влияние на улучшение или ухудшение состояния в течении болезни». Сила луны была столь мощной, что она могла изменить количество влаги в человеческом теле, включая и мозг, сводя человека с ума, делая его лунатиком. Как объясняли авторы работы «Сельский дом, или Деревенское хозяйство» (Maisort Rustique, or, the Countrey Farme; 1616), луна «управляла всеми теми влагами, которые пребывают в земных телах». Считалось, что в полнолуние риск стать лунатиком особенно велик для женщин. Некоторые жертвы умирали на месте. В лондонском приходе Святого Ботолофа между 1583 и 1599 годом губительному влиянию планет было приписано сразу 22 смерти16.
Луна также отравляла ночной воздух тлетворными испарениями, которые, как верили многие, представляют весомую угрозу здоровью человека. А тьма являлась чем-то большим, нежели временное отсутствие света. Согласно народной космологии, она ежевечерне спускалась с неба в виде ядовитых туманов. «Ночь, — писал в 1610 году Ричард Николс, — заставляла опускаться зловещий мрак». Если дневной свет сдерживал эти туманы, то с приближением ночи они наравне с заходом солнца способствовали воцарению темноты. В Хертфордшире наступление темного времени суток называли «падением ночи» (drop night). Некоторые описывали свои ощущения относительно «пребывания в ночи» так, словно их окутывало громадное черное облако. Более того, в шотландских судах при расследовании преступлений было в порядке вещей упоминать, что правонарушение было совершено «под покровом ночи» (under cloud of night)17.
Разумеется, образованная элита, сведущая в принципах ренессансной астрономии, знала, что к чему. «Ночь, — писал один человек, — это всего лишь отсутствие солнца, а темнота — недостаток света». В своем эссе «О сумерках, чем они являются, и наступают ли они на нас» (On Nightfall, What It Is, and Whether It Falls on Us) французский врач XVI века Лоран Жубер высмеивал широко распространенные страхи. Жубер, убежденный в возможности влияния луны на мозг человека, тем самым прочно держался за прошлое. Но он оспаривал мнение, будто «сумерки есть некое ревматическое свойство вечернего и ночного воздуха, которое нисходит с неба». «У ночного воздуха нет никаких зловредных свойств», — настаивал он, поскольку ночь сама по себе есть «всего лишь мрак или темнота атмосферы, вызванная отсутствием солнца»18. Тем не менее традиционный взгляд на ночь упорно сохранялся на протяжении многих лет. Ночь «исторгала вредные пары на все, что покоилось под небесами», — писал моралист XVII века Оуэн Фелтэм19.
Лихорадки и простуды — вот лишь некоторые из заразных болезней, которые приписывались сырым ночным туманам. Считалось, что, проникая в поры кожи, промозглый вечерний воздух подвергал опасности здоровые органы. В работе «Слова назидания» (Ricordi Overo Ammaestramenti; 1554) итальянский священник Сабба да Кастильоне предостерегал от «многочисленных хворей, что порождает в человеческом теле ночной воздух». Томас Деккер писал о «том густом табачном дыхании, что исторгает из себя ревматическая ночь». Считалось, что после заката люди могут с легкостью подхватить болезнь или даже умереть. Так, гибель пятерых человек, случившаяся однажды ночью в 1706 году в Хертфордшире, по общему мнению, была признана следствием «порыва смертоносного воздуха». Особенно опасными были знойные климатические зоны, где малярийная лихорадка, вызываемая москитами, приписывалась ночным испарениям. В Южной Италии, отмечал приезжий, воздух «в особенности губителен ночью». Но и в большей части Европы, а также в колониальной Америке страх перед ядовитыми парами царил на протяжении всего XVIII века. Воздействие солнца на больных людей считалось, напротив, целительным в значительной степени потому, что светило рассеивало вредоносные туманы. «Его завидев, — восхвалял солнце елизаветинец Роберт Грин, — бегут пары ночные нечистот»20.
Страх подхватить хворь усугублялся бытующим мнением, что болезни усиливаются ночью. «Все недуги, — отмечал монах-францисканец Варфоломей Английский, — как правило, ночью сильнее, чем днем». Томас Эймори отмечал: «Не проходит ни ночи, чтобы болезнь и смерть не причинили страданий и не унесли многие жизни»21. Действительно, симптомы, указывающие на ряд болезней, ночью становились более выраженными, как, впрочем, это происходит и сейчас. Даже смерть больных, как известно, с наибольшей вероятностью может наступить ранним утром. Часто это происходит по причине циркадных ритмов, свойственных таким болезням, как астма, острая сердечная недостаточность и вызванные тромбами инсульты, что, возможно, усугубляется ослабленным притоком крови к мозгу из-за горизонтального положения тела во время сна. В целом мы становимся наиболее уязвимы, когда «циркадный цикл» организма находится «на пике спада». Нет оснований предполагать, что физиологические циклы четыреста лет назад существенно отличались. Кроме того, пока мы спим, ослабевает и наш иммунитет, высвобождая меньшее количество «клеток-киллеров» для сдерживания инфекций22. В раннее Новое время вину за болезни дыхательных путей обычно сваливали на вредные свойства атмосферы. Две самые распространенные в ту эпоху болезни — грипп и туберкулез легких (чахотка) усиливались с наступлением темноты то ли от суженных дыхательных путей, то ли от повышенной чувствительности к аллергенам, то ли от дополнительной нагрузки на легкие от положения «лежа ничком». Злая ирония заключается в том, что многие люди могли бы выздороветь, если бы их спальни лучше проветривались ночами, особенно когда в одной комнате спало несколько членов семьи. Одно-единственное окно, оставленное слегка приоткрытым, могло бы противостоять смертоносным микроорганизмам, распространяемым с кашлем и чиханием. Реформатор конца XVIII века Джонас Хэнуэй писал, что бедняки, в особенности в периоды болезни, «воображали, будто тепло жизненно необходимо для выздоровления». В результате «они зачастую травились собственным застойным воздухом»23.
III
Приближаются сумерки, Приближается ночь.
Помолим же Бога о защите От злых духов,
Чье коварство особенно В темноте опасно.
Анджей Тшэцески (ок. 1558)24
«Ночь принадлежит духам» — предостерегала пословица. Негостеприимное вечернее царство, с его жуткими видениями, пугающими звуками и ядовитыми испарениями, влекло к себе полчища демонов и духов, которых драматург эпохи Стюартов Джон Флетчер именовал «отродьем черным мрака» (black spawne of darkness). Небо было их империей, ночной воздух — земным доменом25. Разумеется, не было никого ужаснее Сатаны, князя тьмы, злодеяниям которого несть числа; они становились повсеместно известными благодаря развитию печатного дела, ибо рассказы о них неоднократно появлялись как в популярных трактатах, так и в научных текстах. «Каждый день доходят известия, — писал некий немецкий священник в 1532 году, — об омерзительных преступлениях, совершенных дьяволом. Там тысячи людей умерли; там корабль со многими людьми пошел ко дну; там вымирает целая земля, город, деревня». Апокалипсический дух христианства и, в частности, пророчества, предрекающие Армагеддон, заставляли людей верить, что Сатана сейчас более, чем когда-либо, готов к нападению. Страх порождали и его власть наказывать грешников, и его способность отбирать у смертных души. «Палач Господа» — так именовал его Яков I (1566–1625). Темный по своей природе, Сатана искусно принимал ряд обличий, часто — черной собаки или ворона. Несмотря на то что молва приписывала ему способность появляться в любое время суток, люди верили, что он предпочитает ночной мрак. Некоторые писатели, такие как елизаветинец Томас Нэш или англиканский епископ Джереми Тэйлор, полагали, что Господь запретил дьяволу появляться при дневном свете. Нэш писал о ночи: «В наказание нам наш Создатель сделал ночь его [дьявола] особым владением и царством». «Ночь, пути ада, время воцарения Сатаны», — звучала предупреждением немецкая вечерняя молитва26.
Конечно, ночь лучше всего соответствовала дьявольским замыслам. Ночной мрак очень напоминал ад — вечный дом Сатаны, где пламя не давало света и «мерзейший дым» слепил глаза «душными испарениями». Отвергнув свет Божиего слова, дьявол окружил себя тьмой, в буквальном и переносном смысле. Одна лишь ночь усиливала его мощь и вдохновляла его дух. Человек же ни в какое другое время не был столь уязвим, слеп и одинок, как ночью, когда его можно было легко застигнуть врасплох27. В самом деле, темнота стала нечестивым царством Сатаны на земле, его темной провинцией, откуда велась нескончаемая война против царства Христова. Полчища Сатаны включали отряды демонов, бесов, домовых и ведьм, и все они для живших в ту эпоху людей были столь же реальны, сколь и их предводитель. «Мир Тьмы, — предупреждал правовед сэр Мэтью Хейл в 1693 году, — иногда поражает нас жуткими формами, гнусными запахами, мерзкими вкусами и другим оружием ангелов зла». Темное могущество демонов было чудовищно. Являясь людям в «различных видах», сообщал кальвинистский проповедник Джеймс Кафхилл, они «лишают их покоя, когда те бодрствуют; тревожат их сон; калечат их члены; забирают здоровье; поражают болезнями»28.
Как и повсюду в Европе, в топографии практически любого британского селения отражался потусторонний мир. Многочисленные места, названные в честь самого князя тьмы, служили традиционным предостережением в равной степени местным жителям и неосмотрительным странникам. Так, было хорошо известно, что в «Дьявольских ложбинах» возле шотландского прихода Таннадайс Сатана однажды «оставил поразительные свидетельства своего присутствия и могущества». В деревне в Эссексе дерзкий дьявол сбросил церковный шпиль, который прихожане воздвигли днем. Несмотря на предложение одного джентльмена закупить новые материалы, никто так и не осмелился взяться за восстановительные работы. Нечисть населяла не только дома, демоны обитали в прудах, лесах и церковных дворах. «Эти места так пугают в ночное время, — писал французский правовед Пьер Ле Луайе в 1605 году, — особенно простолюдинов». Столетие спустя некий автор в журнале Spectator утверждал, что «в Англии не найдется ни одной деревни, где бы не было привидения, ни одной церкви, рядом с которой не обитали бы призраки; любой общинный выгон имеет свой собственный круг фей, и вряд ли вы встретите пастуха, который не видел духов»29.
Там, где ученые авторитеты мыслили общими категориями, народное сознание наделяло демонов индивидуальными чертами. Сельские жители были осведомлены о злобных выходках местных духов, известных в Англии под такими именами, как Йоркский Баргест, Долговязая Марджери и Джинни Зеленые Зубы. Среди общепризнанных истязателей были волшебные существа. В Англии их так называемым королем был Робин Добрый Малый; он имел репутацию обманщика, и в числе его выходок было то, что он уводил ночных путников с дороги в болота и чащи. В этом персонаже черпал вдохновение Шекспир, создавая образ эльфа Пака в пьесе «Сон в летнюю ночь» (ок. 1595)30. С эльфами были тесно связаны блуждающие огоньки, озорные бесы, что распространяли по ночам над болотами свет, который люди, на свою беду, ошибочно принимали за пламя фонаря. «Фонарь дьявола» (the Devil's lontun) — называли их в некоторых областях Англии. «Ignis fatuus, — писал Сэмюэл Батлер в 1663 году, — есть пагубный огонь, который околдовывает и заманивает людей в омуты и топи»31.
Феи и эльфы трактовались по-разному: как призраки или падшие ангелы; некоторые из них считались добрыми, зато другие уносили в качестве добычи домашний скот, урожай и даже маленьких детей. «Честные люди, — если можно доверять свидетельству некоего путешественника, посетившеего Уэльс, — до смерти боятся этих маленьких человечков». Как сообщал Томас Кэмпбелл в 1777 году, в Ирландии «доверчивость широко раскрыла рот и охотно проглотила всю эту эльфийскую мифологию». Ни одна часть Британских островов не была свободна от какой-нибудь нечисти — брауни[9], пикси[10] или других мифологических персонажей. Говорили, что добби[11], обитавшие возле башен и мостов, нападают, сидя верхом на лошадях. Дуэргары, крайне зловредный вид эльфов, обитали в северных районах Англии, в Нортумберленде, а шайка келпи в Шотландии сбивала людей с толку у рек и переправ. Практически каждый европейский народ верил в существование подобного маленького народца, устраивающего злобные выходки по ночам. Фолиоты[12], тролли или эльфы — их силы намного превосходили лилипутские размеры. «Если обращаться с ними неподобающе, — писал путешественник в Вестфалии, — эти могущественные маленькие духи жестоко мстят — они украдут, исковеркают и разрушат все, что попадется им под руку»32.
Столь же распространены были и бестелесные духи умерших людей. Привидения, называемые также фантомами, призраками, видениями, по ночам часто принимали вид, который имели в земной жизни. Но считалось, что иногда они могли одеваться в белое и принимать форму животных. Поскольку, согласно христианской традиции, выход на свет божий был для них закрыт, они почти всегда являлись после наступления сумерек. «Господь дал день живым, — заметил Титмар Мерзебургский, — а ночь — мертвым». Некоторые неупокоенные души несли вести о приближающейся смерти. Другие были самоубийцами, приговоренными к вечному странствию между миром живых и загробным царством. Порой призраки возвращались с того света в места, где некогда жили, чтобы исправить ранее совершенные несправедливости. В 1718 году Джеймс Уитни из Траубриджа, по слухам, дважды видел у своей кровати призрак умершей подруги, которую он когда-то бросил. «Он дважды — рассказывал сосед, — в разное время хорошо увидел призрак своей бывшей возлюбленной в том платье, которое она носила во время его ухаживаний; она смотрела на него со строгим выражением лица и исчезла, а его свеча тут же погасла»33.
Многие общины страдали от многократных появлений призраков, как это было в случае с привидением из Багбэри в Шропшире или уилтширским Псом из Уилтона. Фантомы являлись столь часто в деревне Блэкберн в графстве Дарэм, жаловался епископ Френсис Пилкингтон в 1564 году, что никто из представителей власти не решался усомниться в их подлинности. Обычным местом обитания призраков были оживленные днем перекрестки, ведь они часто служили местом захоронения самоубийц. Призрак ткача, наложившего на себя руки в Эксетере в 1726 году, неоднократно являлся на перекрестках. «Можно с уверенностью утверждать, — писали в газете, — что молодая женщина по соседству, увидев его тень, была так напугана и потрясена», что умерла два дня спустя. Иногда казалось, что опасность подстерегает повсюду. Даже городской житель Пепис опасался, что в его лондонском доме может обитать привидение. Фольклорист XVIII века Джон Бранд вспоминал, как мальчиком слышал множество историй о ночном призраке, который скитался по улицам Ньюкасла-на-Тайне в обличье злобного мастифа34.
Другими обитателями ночного царства были банши в Ирландии, чьи гнетущие завывания предвещали смерть; ар-каннеры (ar cannerez), французские прачки, известные тем, что топили прохожих, которые отказывали им в помощи; вампиры в Венгрии, Силезии и других частях Восточной Европы, которые высасывали кровь своих жертв. По замечанию некоего поэта XVI века, ночь, возрождая мертвых, угрожала смертью живым. Даже в 1755 году власти маленького городка в Моравии приказывали выкапывать тела предполагаемых вампиров, чтобы проткнуть каждому сердце, отрезать голову и предать труп огню. В течение XVI и XVII веков отчеты о волках-оборотнях наводняли большую часть Центральной Европы, а также часть Франции, граничащую со Швейцарией, особенно в областях Юра и Франш-Конте. Хирург Иоганн Дитц был свидетелем того, как в северогерманском городе Итцхое толпа деревенских жителей, вооруженная копьями и кольями, преследовала оборотня. Атакам вурдалаков периодически подвергался даже Париж. Предполагали, что именно оборотень варварски расправился с группой путников, среди которых были священники, на дороге в Нотр-Дам-де-Грас в 1683 году35.
Но, конечно, в эпоху раннего Нового времени во всем христианском мире считалось, что наибольшую опасность представляют ведьмы; эта идея оставила свой трагический след в истории — «охота на ведьм» велась с целью полного их истребления. Вслед за паникой, имевшей место в начале XV века, последовала волна судебных расследований и казней, захватившая XVI и XVII века, и избежали ее лишь некоторые части Европы, главным образом Италия, Испания и Португалия. Наиболее лихорадочно «охота на ведьм» шла в Юго-Западной Германии, Швейцарии, во Франции и в Шотландии. В Англии в 1542 году колдовство стало преступлением, карающимся смертной казнью. В XVI веке достаточно высокий уровень преследований отмечался в графстве Эссекс, но наивысшей силы они достигли в середине 1640-х в Восточной Англии, когда казнили почти 200 человек. Невозможно подсчитать точное число европейцев, приговоренных к смерти по обвинению в ведовстве. До 30 тысяч человек могли лишиться жизни в период с XV по XVII век. Судя по отчетам современников, чаще всего обвинения предъявлялись одиноким небогатым и немолодым женщинам, перебивавшимся чем Бог пошлет и ведущим обособленное существование. Мало того что эти женщины пребывали в нужде, их к тому же считали злобными. «Сии жалкие создания, — писал в 1584 году Реджинальд Скот, — внушают окружающим такую ненависть и такой ужас, что никто не осмеливается обидеть их или отказать в их просьбах». Перед их кознями были беззащитны зерно, скот и даже погода. Рассказывали, что в Амстердаме на одну горничную напали четыре странно одетые женщины, забросали ее кирпичами, при этом они постоянно повторяли: «Мухи на твое лицо!»36.
Разумеется, в самой идее существования ведьм и других ночных демонов не было ничего нового. Бесчисленные упоминания о «внешней тьме» и «тени смерти» в раннехристианских текстах лишь укрепляли древние представления о ночи. В IV веке отец церкви, святой Василий Великий, писал, что некоторые рассматривали «мрак как злую силу или, скорее, как само зло». Неудивительно, что большая часть событий в «Беовульфе» (VIII в.), одном из самых кровожадных произведений староанглийской литературы, происходит ночью. А главный злодей эпоса, Грендель — «этот громаднейший из ночных кошмаров, что выпадал на долю его народа», — яростное чудовище, которое ждет, пока темнота не поглотит окрестности, чтобы отправиться на поиск новых жертв37. И все же Западная Европа не была подвержена всепоглощающей тревоге даже перед лицом самых жутких сверхъестественных созданий вплоть до позднего Средневековья, когда ночное время стало, по выражению французского историка Робера Мюшамбле, до крайности демонизированным (la nuit diabolisee). Современный автор исследования о древних призраках решительно утверждает: «Мы должны быть осторожны и не слишком драматизировать страх темноты в Средние века. В ту эпоху вполне можно было насладиться покоем прекрасной ночи, не испытывая ужаса». Средневековые ведьмы и привидения были довольно безобидными. Согласно официальным отчетам, в Англии до 1500 года точно было известно лишь о нескольких совершенных ведьмами преступлениях, а именно «двух или трех смертях, сломанной ноге, парализованной руке, нескольких разрушительных ураганах и нескольких заколдованных гениталиях». «Макбет», впервые поставленный на сцене, вероятно, в 1605 или 1606 году, был одной из самых ранних английских пьес, где изображались зловещие колдовские деяния38.
Однако к тому времени Сатана уже превратился в грозную персону. Дьявол больше не был лишь досадной помехой, ныне он рассматривался христианскими богословами как могущественный противник Бога в борьбе добра и зла. Сатана привлекал к себе на службу полчища ведьм, каждая из которых заключала торжественное соглашение с князем тьмы. Обретая тем самым могущество, ведьмы устраивали ночные сборища, первоначально именовавшиеся «синагоги», а впоследствии — «шабаш», для совершения обрядов поклонения дьяволу. Помимо того что в дьявольских ритуалах они предавались разврату, ведьмы еще и пожирали маленьких детей — их плоть давала способность летать. В 1610 году женщина из Эйкса, обвиняемая в ведовстве, описывала шабаш так: «Иногда они ели плоть маленьких детей, которые были убиты и зажарены на другой синагоге, а иногда младенцев приносили еще живыми, ведьмы похищали их из домов». Ведьмы были виновны не только в причинении вреда магией своим соседям (maleficium), им также предъявлялись обвинения в ереси, в чем особенно усердствовали представители высших социальных слоев; таким образом, они были врагами и человека, и Бога39.
В Англии, Нидерландах и отдельных районах Скандинавии беспокойство по поводу ночных шабашей никогда не распространялось слишком широко. Тому было множество причин, начиная с последствий Реформации и заканчивая своеобразием английской судебной системы: ведьмам ставились в вину конкретные злодеяния, но не участие в демонических собраниях. При этом в глазах англичан они по-прежнему оставались агентами Сатаны и в этой ипостаси вызывали большой страх. Один историк метко заметил, что «в Англии ведьм вешали, в то время как на континенте их сжигали» — и сжигали по распоряжению светской власти или клерикалов, хотя народ, пребывающий в страхе перед ведьмами, зачастую предпочитал английский способ казни. Обвинения в ереси редко звучали в английских судах, но аресты стали настолько обычным делом, что на протяжении XVI и XVII веков жертвами колдовских чар были признаны несколько тысяч умерших или погибших, а также многие потерявшие зрение, искалеченные или бесплодные люди. Из приходских книг Ламплафа (графство Камберленд) за период с 1658 по 1662 год следует, что из 55 смертей, не вызванных «преклонным возрастом», как минимум семь человек были «заколдованы», еще четверо были «испуганы до смерти эльфами», один был «заведен на водопой блуждающим огоньком» и три «старые женщины», осужденные за ведовство, были «утоплены»40.
Существует ли разумное объяснение оголтелой «охоте на ведьм» в Европе? Хотя исследования в этой области концентрируются на определении специфических условий и обстоятельств, в которых получила развитие «охота на ведьм», большое внимание уделяется изучению общих тенденций — таких как религиозные конфликты, изменения в законодательной системе и развитие книгопечатания. Общество того времени переживало стремительные, многочисленные и разнообразные перемены, отразившие развал феодальной системы, что, естественно, порождало сильную тревогу. Особенно с конца XV века войны, голод, природные катаклизмы, эпидемии чумы неизменно усиливали чувство подавленности у людей, и без того постоянно противостоящих разным бедствиям. Беспомощные, неспособные планировать свою жизнь, они стремились обнаружить виновников своих несчастий и персонифицировать их — Сатану и его приспешников. Немало таких «злодеев» находили среди одиноких нищих, странствующих по стране. Зажатые в тисках отчаяния, общины проецировали свои тревоги на самых уязвимых членов общества. В 1737 году очевидец писал о повальном голоде в Польше: «Это бедствие так подавило дух людей в Каминеце, что они воображают, будто по ночам по улицам ходят привидения и призраки мертвых, убивая всех, до кого дотронутся или с кем заговорят». Разумеется, злые духи являлись чаще всего именно (курсив мой. — А. Р. Э.) ночью, когда люди чувствовали себя столь уязвимыми41.
Редкие скептики открыто насмехались над идеей существования демонических существ. Они настаивали, что за большей частью рассказов о сверхъестественном стоят скрипящие двери и плохо подогнанные оконные рамы, а лешие представляют собой не что иное, как далекое свечение болотных газов. Реджинальд Скот в трактате «Разоблачение колдовства» (The Discoverie of Witchcraft; 1584) и Джон Уэбстер в сочинении «Обнаружение предполагаемого колдовства» (The Displaying of Supposed Witchcraft; 1677) поднимали ведьм и злых духов на смех. Как и немец Иоганн Вайер, автор труда «О значении демонов» (De Praestigiis Daemonum; 1563), они относили демонические злодеяния к библейским временам. Некоторые критики на самом деле в глубине души были агностиками, готовыми поверить в призраков, но только не в легионы привидений, о которых судачили их сторонники. Мало кто из скептиков осознавали себя истинными отступниками. «Россказни про колдовство неимоверно быстро пустили корни и прочно прижились в сердцах людей», — сокрушался Скот. Но даже самые непоколебимые критики признавали, что и разумные люди часто становились жертвами сверхъестественных видений. Французский священник Ноэль Тайльпье в 1588 году допускал, что восприимчивы к ним не только женщины, дети и «наивные глупые простолюдины», но также путешественники и пастухи — «люди, сталкивающиеся лицом к лицу с первозданной природой»43.
IV
Меньше пей да домой поскорей.
Английская поговорка44
То, что запуганные суевериями люди принимали за злодеяния вредных духов, зачастую было просто ночными происшествиями. Возможно, причины таких бедствий, как утопление, поломка экипажа или неудачные падения, искали именно во встречах со сверхъестественным. В Западной Англии, например, о жертвах несчастных случаев, «вызванных» блуждающими огоньками, говорили: «Уведен пикси». «Когда страх, плохая видимость и предчувствия человека сходятся вместе, чтобы обмануть его, — писал Тайльпье, — он может повстречать какое угодно и сколь угодно странное видение»45.
Обжитая человеком еще с XI века, большая часть Европейского континента в доиндустриальную эпоху продолжала оставаться опасной и при дневном свете. Сегодня лес покрывает 21 процент территории Италии, а в 1500 году эта доля составляла 50 процентов, хотя полуостров считался одним из самых густонаселенных на континенте. Крутые склоны холмов, бурные потоки и густой подлесок пересекали пастбища, луга и деревни. Даже там, где земля была расчищена под сельскохозяйственные угодья, пни и канавы оставляли шрамы на усыпанной камнями почве. Зияли глубокие ямы от вырезанных на топливо больших кусков торфа. В некоторых районах Англии, Уэльса и Шотландии поверхность земли была испещрена действующими или заброшенными шахтами, каменоломнями и угольными карьерами, причиняющими «общественное неудобство, так как жизнь людей часто подвергается опасности», как сетовал один шотландский священник46. Немногим лучше были и дороги. Даже в середине XVIII века сэр Джон Парнелл жаловался: «Едва ли можно предпринять путешествие, чтобы при этом не преодолевать чрезвычайно неудобные, если не сказать опасные участки дороги, даже в самых равнинных районах Англии»47.
Плохая ночная видимость в сочетании с опасностями, которые таила в себе местность, — такова была формула бедствий. Автор XVII века Исаак Уоттс замечал, что случаи, когда «путешественники становились жертвами предательских ночных теней», были бесчисленными. Усугубляло ситуацию и то, что поздней ночью человек в наименьшей степени способен справляться с разного рода проблемами не только из-за желания спать, но и из-за изменений в химических процессах организма. Бдительность и рефлексы, как правило, ухудшаются. Игнорируя «приказ» природы спать, писал флорентийский философ Марсилио Фичино, «человек, без сомнения, борется с порядком мироздания и в особенности с самим собой»48. Темной ночью даже уверенные в себе местные жители могли ошибиться дорогой, оступиться и упасть в яму или овраг. В 1739 году в Абердиншире пятнадцатилетняя девушка погибла, так как отклонилась от своего обычного маршрута, который проходил через церковный двор, и упала в свежевырытую могилу. Житель графства Йоркшир Артур Джессоп, возвращаясь холодным декабрьским вечером от соседей домой, потерял равновесие и рухнул в каменоломню. Ночь была «настолько чрезвычайно темной», что и другие люди тоже «потерялись и не могли найти дороги», записывал Джессоп в дневнике. Отделавшись синяками и ранами на ноге и спине, он избежал травм, которыми, по обыкновению, пестрели отчеты коронеров[13], — таких как раздробление черепа и сломанные кости. Уильям Коу в 1721 году хвастался, что после десятилетий ночных прогулок остался невредим и не имел ни одного перелома. И все же этот саффолкский фермер был знаком с ночными шишками и царапинами: он не только поскальзывался и запинался, но и падал с лошади, а однажды упал даже с крутого обрыва. Иногда природный ландшафт поглощал своих жертв, не оставляя следов. Так, например, в 1682 году житель Уэйкфилда Джеймс Уилкинсон замешкался по дороге домой и таинственным образом исчез. Он жаждал выпить несколько кружек эля и проигнорировал совет друга «перейти болото, пока еще не слишком темно». Уилкинсон так и не добрался до дому. Недели поисков «по всему болоту, в шахтах и в реке», записал преподобный Хейвуд, были «напрасными»49.
Не приходится сомневаться, что алкоголь, смазочный материал жизни в ту эпоху, часто вносил свою лепту в статистику несчастных случаев. Эль, пиво и вино, доступные в любое время, в рабочие часы и на досуге, текли рекой как в тавернах, так и в частных жилищах. Несмотря на дороговизну, уровень дневного потребления эля в Англии был особенно высок в низших и средних социальных слоях, причем не только у взрослых, но и у детей. Согласно частичной переписи 1577 года, в Англии насчитывалось 24 тысячи пивных, что составляло примерно один паб на 140 жителей. Более того, пиво по обе стороны Атлантики со временем становилось все дешевле и все крепче. В 1736 году одна газета в Новой Англии опубликовала список синонимов к слову «пьянство». Среди более чем двухсот выражений были такие, как «не знает дороги домой» и «видит две луны сразу», описывающие пьяниц, бредущих домой поздно вечером50.
Тогда, как и сейчас, люди были более подвержены интоксикации в поздние часы. Согласно клиническим исследованиям, с десяти часов вечера до восьми утра желудок и печень, как правило, перерабатывают алкоголь более медленно, чем в любое другое время, тем самым дольше удерживая его в организме51. Неудивительно, что при ослаблении видимости и бдительности за пирушками следовали несчастные случаи. В 1635 году человек по имени Керри остановился в пивной на пути в Манчестер, чтобы выпить с друзьями. Когда хозяйка наконец отказала им в очередной порции, он «поклялся, что этим вечером выпьет 10 дюжин пинт», и отправился на поиск другого заведения «далеко в ночь» — только чтобы упасть в яму и утонуть. Луи-Себастьян Мерсье описывал так «эскадроны пьяниц», поздно вечером «бредущих нетвердой походкой» из пригородов в Париж: «Напрасно полуслепой ведет слепого, каждый шаг таит опасность, обоих ожидает канава или, скорее, колеса». Человек мог сломать шею, но что еще хуже — потерять сознание и, брошенный на произвол судьбы, погибнуть. Пьяный работник из Дерби упал в канаву и так громко храпел, что его приняли за бешеного пса и подстрелили52.
Неизбежны были и случаи утопления. Перевернутые лодки и аварии в доках вносили существенный вклад в статистику происшествий как днем, так и ночью. В темноте моряки часто неверно оценивали силу волнений на море и могли не заметить камни, пока в них не врезалось судно. Порой привычный маршрут оказывался попросту невозможным. К примеру, герцог Нортумберленд едва не утонул, когда один из слуг загнал лошадей с экипажа с крутого берега в реку. Дождливым вечером 1733 года близ Хоршэма, в Пенсильвании, из рук молодой женщины, переходившей через бурный поток по бревну, водой был смыт младенец. По другой версии, лошадь, которую женщина вела под уздцы, увлекла мать и дитя в воду53. Передвижение ночью на лошадях часто представляло опасность. И не только потому, что всадники были уже усталыми, а дороги — плохими, но и потому, что сами лошади испытывали страх. Иоганн Вольфганг Гёте так описывал дорогу вдоль итальянского побережья: «Это было место, где произошло много несчастных случаев, особенно ночью, когда лошади шарахались от каждого шороха»54.
Городские улицы были не менее опасными, чем в сельской местности. К 1700 году население городов, каждый из которых насчитывал как минимум 5 тысяч жителей, составляло 15 процентов от 5-миллионного населения Англии, и эта пропорция чуть превышала норму в целом по Западной Европе. На фоне столицы, Лондона, который мог похвастаться 575 тысячами жителей, все провинциальные центры с населением от 12 до 30 тысяч казались маленькими. К тому времени крупномасштабная урбанизация уже изменила облик большей части континентальной Европы, от итальянского полуострова до Скандинавии55. Города в основном напоминали кроличьи садки — узкие, тесные, темные и кривые улицы и переулки. Фасады верхних этажей, нависающие над проходами внизу, препятствовали проникновению солнечного и лунного света. Уже в начале XVII века дома в Амстердаме возвышались на четыре этажа. Прямые широкие улицы станут обычным явлением в градостроительстве лишь в XVIII веке56.
При отсутствии достаточно мощных уличных фонарей темнота словно бы восстанавливала господство дикой природы в городах. До конца XVII века свет из окон домов и переносные светильники оставались единственными источниками искусственного освещения. Многие жизни унесли Темза, Сена, а также каналы вроде Лайдзеграхта в Амстердаме или Гранд-канала в Венеции — люди падали с причалов и мостов и тонули. Прохожие вынуждены были уворачиваться от быстро движущихся экипажей и повозок. А как жаловался некий посетивший Париж путешественник, ведь кучера зачастую не выкрикивали предостережений. С другой стороны, если человек выбирал путь вдоль стен, то его поджидали такие сюрпризы, как открытые погреба и хранилища угля, а сверху угрожали вывески. Только благодаря неожиданной вспышке молнии одной «очень темной» августовской ночью 1693 года купец Сэмюэл Джейк не запнулся о вязанку дров, лежащую посреди дороги неподалеку от его дома в Сассексе. Городские улицы, покрытые грязью и щебнем, были испещрены лабиринтами рвов для направления сточных и дождевых вод в канавы, пролегающие посредине или, на более широких дорогах, по обеим сторонам проезжей части. В 1720 году герцогиня Орлеанская выражала изумление, что в Париже не наблюдалось «целых рек мочи» мужчин, справлявших нужду прямо на улицах, которые и без того были загажены лошадиным и коровьим пометом. Канавы глубиной в фут и более засорялись золой, раковинами устриц и костями животных. «Я беспокоюсь лишь о том, как бы держаться подальше от сточных канав», — писал горожанин о своих полуночных прогулках. Плохая дренажная система превращала некоторые улицы в болота57.
Лишь в XVIII веке отцы городов приступили к мощению улиц, но результаты были неоднозначными. Предпочитаемые ими каменные дорожные покрытия обеспечивали защиту от грязи и пыли, но быстро разрушались и становились неровными. Пребывая в состоянии непрекращающегося ремонта, эти мостовые заделывались разными рабочими, разными материалами и в разное время. Подобным образом обстояли дела в большинстве городов. «Не найти ни одного ровного тротуара для прогулки», — жаловался некто в Женеве в 1766 году. Хуже того, на улицы и пешеходные дорожки сваливали кучи гниющего мусора, через который пешеходы были вынуждены с трудом пробираться. Один критик писал о «печальных происшествиях», вызванных «ухабистыми, неровными или побитыми мостовыми, особенно когда те покрыты грязью, так что их практически не видно осмотрительным пешеходам днем, а уж ночью и подавно». Неудобство от заваленных отходами улиц было повсеместным для Европы, и единственным заметным исключением были нидерландские города — голландцы пользовались заслуженной репутацией блюстителей чистоты. В 1693 году в английском городке Прескот каждый четвертый домовладелец был оштрафован за сваленные перед фасадом дома кучи мусора58.
Печально известны были потоки мочи и экскрементов, обрушивавшиеся по ночам на улицы из открытых окон и дверей. Опустошение «ночной вазы» на улицу было обычным делом. Страдая от скученности и несовершенства канализационных систем, многие города (некоторые вплоть до конца XVIII века) мирились с этой практикой или, по крайней мере, закрывали на нее глаза. Французская поговорка гласила: «Воняет, как грязь в Париже», а житель Мадрида XVII века сообщал: «Было подсчитано, что ежедневно на улицах распространяются ароматы более чем 10 тысяч куч дерьма». Скверную репутацию имели Лиссабон, Флоренция и Венеция, но жители Эдинбурга достигли вершин дурной славы за то, что превратили свои улицы в сточные канавы. Даниель Дефо защищал их привычки, отмечая, что в городе высокие здания, что он перенаселен и что жителям было позволено выбрасывать отходы только после десяти часов вечера, по сигналу барабана, выкрикнув прохожим предостережение «Гарди-лу!» («Осторожно, вода!»). Жители Марселя также обязаны были трижды предупреждать прохожих, хотя в расположенном неподалеку Авиньоне бремя ответственности было возложено на самих пешеходов, «так что, — возмущался приезжий, — это вы обязаны кричать „Гаре! Гаре!" („Осторожно! Осторожно!"), когда идете по улицам ночью»59.
Даже собственный дом не мог гарантировать защиты от несчастных случаев по вечерам. В отсутствие достаточного освещения открытые двери, пролеты лестниц и очаги становились ловушками для неосторожных, а особенно выпивших людей. В 1675 году «полный выпивки» ланкаширский доктор получил ужасные ожоги, упав спиной в горящий камин, — одно из обычных происшествий, если верить отчетам современников. После подобного случая в Бостоне (Массачусетс) преподобный Сэмюэл Сьюолл так описывал жертву: «Лицо было обожжено настолько, что остатки напоминали обгоревшую головешку». Одна женщина из Ковентри, упав с кровати на свечу, воспламенилась легко, «как лампа», поскольку «ее вены» были наполнены «чистым спиртом». Многие спотыкались на лестницах и, даже если им удавалось не сломать спину, наносили себе тяжелые увечья. Новая служанка Пеписа, Люси, еще плохо знакомая с домом, однажды ночью упала с лестницы и едва не проломила себе череп. Во дворах следовало обходить стороной заборы, ворота, а также пруды и открытые ямы. Люди часто падали в колодцы, которые на ночь оставались открытыми без всякого ограждения. Если колодец был глубокий, то не помогало и отсутствие в нем воды. Зимней ночью 1725 года в Лондоне пьяный мужчина упал в колодец, где и умер от полученных травм, — его сосед проигнорировал крики о помощи, опасаясь, что это демон. Из отчетов коронеров видно, что особенно страдали от ночных падений женщины и слуги, пришедшие за водой. Более необычным был несчастный случай, происшедший с пятилетней девочкой в 1649 году в Новой Англии. Пока родители гостили у соседей, она поднялась с кровати и упала через люк в погреб. Там девочка скатилась во внутренний колодец и утонула. Ее отец, за день до того нарушивший предписанный Церковью порядок, объяснил смерть дочери Божьей карой60.
* * *
Известная поговорка утверждала, что «ночь человеку недруг». Но по крайней мере в Англии простых людей по вечерам уже не беспокоили традиционные напасти, столь досаждавшие их предкам. Притом что сохранялись все другие ночные опасности, дикие животные, за исключением редко наведывающихся лис, больше не терроризировали сельские поселения и не трогали скот. Если медведи и волки и обитали когда-то в сельской местности, то к позднему Средневековью они были отловлены и уничтожены. Напротив, в континентальной Европе, несмотря на постоянно увеличивающиеся сельскохозяйственные угодья, все еще сохранялось немало неосвоенных территорий, например Арденнский лес, где обитали свирепые хищники. Это также относится и к восточному побережью Северной Америки, где волки были серьезной проблемой для английских поселенцев. Коттон Мазер предупреждал о «вечерних волках, бешеных и воющих диких волках». В 1691 году жители Кембриджа в Массачусетсе проснулись однажды утром и обнаружили трупы более пятидесяти овец; хищники разорвали всем горло и выпили кровь61.
Однако и обжитые сельские территории в Англии привечали ночных вредителей. Хотя совы, летучие мыши и жабы вызывали опасения в разной степени, все они неизбежно связывались с Сатаной. В то же время люди по большей части отдавали себе отчет в том, что прямая угроза от этих тварей меркла по сравнению с опасностью, которую несли другие ночные хищники, и не только свирепые животные, но прежде всего сам человек. Он-то в основном и был в ночи главной угрозой жизни и здоровью собратьев. Доиндустриальная Англия, возможно, и была свободна от волков, но, как гласила пословица, «Порой и человек человеку волк». В такой породе людей недостатка не было62.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ НАПАСТИ
Грабеж, насилие и огонь
I
Хорошим людям люб день, плохим — ночь.
Французская поговорка1
От дьявола уберечься можно, от человека — нельзя», — утверждал датский писатель барон Людвиг Хольберг. Homo Homini Demon[14] — заклеймил человечество один англичанин в 1675 году. Ночной ландшафт и без того был достаточно зловещим, но от рук смертного человека можно было ждать еще больших мук. Ни злые духи, ни природные катаклизмы не вселяли такого хронического ужаса, как человеческая злоба. Томас Гоббс, который панически боялся оставаться в одиночестве ночью, уверял, что он «не испытывает страха перед духами, но опасается получить удар по голове, нанесенный ради 5 или 10 фунтов»2. Считалось, что именно ночью преступники представляют наивысшую опасность. Словно дикие звери из логова, мошенники и негодяи выбирались на улицы после заката солнца в поисках свежей добычи. «Ночные коты» (Gatos de noche) — такое разговорное выражение существовало в Испании для обозначения воров. Лисой и волком в час ночной свои хватают жертвы», — писал в 1620 году Сэмюэл Роуланде о преступниках. А другой автор замечал: «Ночь служит удобным покровом для совершения темных дел», — этот термин («темные дела») использовался в буквальном и переносном смысле для описания преступных актов3.
В Англии уже во время царствования Эдуарда I (1239–1307) Винчестерский статут 1285 года разрешал арест подозрительных лиц ночью. В Нортгемптоншире, например, Джону Ки из Бригстока были предъявлены обвинения в «шатании ночью по улицам и общественным местам, к вреду всех окружающих и дурному примеру другим». Noctivagator, латинский термин, придуманный специально для обозначения таких праздношатающихся лиходеев в Средние века, к 1500 году в Англии уступил место nightwalker — «ночному бродяге», и это слово широко употреблялось там на протяжении веков; в Париже их называли rodeurs de nuit, а в Италии — andattores di notte. В 1659 году лондонский автор писал о ночных бродягах, что они, по сути, «бездельники, которые обычно спят днем и появляются на людях ночью, и их подозревают в том, что живут они, занимаясь нечестными делами»4.
К этому времени тот факт, что ночью по сельской местности рыщут лишь разбойники, уже не был столь бесспорным, а по крайней мере в окрестностях Лондона термин «ночные бродяги» все чаще применялся для обозначения проституток. Если праздное времяпрепровождение поздним вечером признавалось вполне приемлемым, то «шатание по улице» всю ночь напролет оставалось предосудительной моделью поведения. Первые часы после полуночи, утверждал дозорный в 1748 году, «время, когда все честные люди должны быть в постели». «Во времена моей молодости, — делился автор более поздней эпохи, — если о ком-либо говорили, что он придерживается ДУРНОГО РАСПОРЯДКА, то это бросало тень на его достоинство». Более того, широкая публика твердо верила, что темнота служит плодотворной почвой для выращивания преступников всех мастей. Джон Краун писал в 1681 году: «Наш час настанет темной страшной ночью, / Когда пожары города сметают, / Когда царит повсюду беззаконье»[15].5
На самом деле численность преступлений возрастала прямо пропорционально количеству прохожих в ночных городах: их было достаточно, чтобы они служили привлекательными мишенями, но недостаточно, чтобы отпугнуть вооруженных бандитов. Как правило, ночью грабителям было проще воспользоваться шансом и при минимальном риске получить незаконную добычу.
II
Первый же встреченный мной человек или будет сопротивляться, или умрет, или отдаст все, ибо стоят темные ночи, а я твердо намерен воспользоваться этим преимуществом.
Филип Томас (1727)6
Преступления в раннее Новое время варьируются по типу, частоте совершения и месту совершения. Уровень преступности в отдельно взятом графстве или провинции разнился в зависимости от культурных норм, принятых в данном регионе, степени урбанизации и сложности социально-классовой структуры. Внутри неоднородных территориально-административных образований вроде графства Саррей, граничащего с Лондоном, на рост преступности в значительной мере влиял и характер местности — село либо город. От поколения к поколению показатели также менялись. Два вывода тем не менее неизбежны. Преступность, разжигаемая хронической нищетой и социальными беспорядками, была очень серьезной проблемой для большей части западного мира, за исключением недавно созданных американских колоний, где на протяжении почти всей колониальной эры приезжие поражались уровню безопасности частной собственности. В Европе правонарушения обычно предполагали не только такие покушения на имущество, как кражи в лавках и мастерских или карманные кражи, но и грабежи, убийства и другие акты насилия7. Кроме того, как и в случае с другими опасностями, в темное время суток увеличивалась, по-видимому, и численность таких преступлений, и степень их жестокости. Для драматурга-елизаветинца Томаса Кида ночь была «покрывалом для проклятых преступлений». «Ночью, — подтверждал Исаак Уоттс, — здесь, на земле, мы подвержены грабежам и насилию от рук злых людей, будь мы в Англии или за границей»8.
Эти страхи, хоть и преувеличенные, ни в коем случае нельзя считать необоснованными. Без сомнения, большинство ночных преступлений были относительно мелкими: в основном кражи без применения насилия. Пристрастие воров к темному времени суток было столь известным, что в словаре 1585 года они описывались как опасные преступники, «которые спят днем», с тем чтобы «красть ночью». В городах распространенным правонарушением были кражи из доков или со складов. Любые виды имущества в глазах воров выглядели законной добычей. В Олд-Бейли, центральном уголовном суде Лондона, некоему Френсису Мальборо было предъявлено обвинение в том, что он ранним утром снимал свинцовое покрытие с крыш домов. В сельской же местности, где процесс обнищания оставался непрерывным вплоть до конца XVI века, воровство принимало формы браконьерства, грабежей в садах, а также кражи дров. В декабре 1681 года Оливер Хейвуд из Йоркшира писал в своем дневнике, что «множество народа выходит попрошайничать, да и воруют тоже достаточно», в чем он мог убедиться в том числе и на собственном опыте: однажды вечером у него украли трех кур, а две ночи спустя последовала кража денег и «жирной гусыни» из двух соседних домов. В XVIII веке почти три четверти краж в сельских районах Сомерсета и 60 процентов во французской области Либурн производилось после наступления сумерек9.
Подобные преступления хоть и были широко распространенной проблемой, но не вызывали такого страха, как кражи с применением насилия. Кражи со взломом и вооруженные ограбления случались реже, но повсеместно сеяли в обществе ужас. Однажды ночью 1666 года, например, Сэмюэл Пепис, будучи разбужен шумом, доносившимся в его спальню извне, сначала почувствовал «сильный страх». Выяснив, однако, что обеспокоившие его звуки долетают с улицы, где воришки крадут соседское вино, он, совершенно успокоенный, вернулся в постель. Большую тревогу внушала опасность вооруженного ограбления: например, Пепис, боявшийся «мерзавцев», мог ей подвергнуться, проделывая путь пешком поздно вечером от Гринвич-паласа до Вулиджа. Самым устрашающим моментом в ограблении была явная угроза физической расправы. Хотя смертельные случаи были редкостью, по крайней мере в Англии, вряд ли у кого-то вызывало сомнения, что разбойники всегда готовы использовать силу. Действительно, обычно для устрашения жертву сначала бесцеремонно сбивали с ног, а уж потом приказывали «встать и отдать». Оружием служили пистолеты, палки и кинжалы; большие банды были нетипичным явлением, но мало кто из разбойников орудовал в одиночку. И мало кто демонстрировал деликатное обращение с жертвами, благодаря которому несколько конных разбойников с большой дороги, вроде Дика Терпина или Джека Шеппарда, получили известность в 1700-х годах. «Проклятия на ваши головы, мертвецы вы все, если сию же минуту не отдадите часы и деньги!» — пригрозил вооруженный бандит пассажирам дилижанса на Принцесс-сквер в Лондоне. Начальник полиции в Сити сообщал в 1718 году: «Владельцы таверн, кофеен, лавок и тому подобных мест в один голос жалуются, что клиенты боятся приходить к ним в заведения после наступления темноты, опасаясь, что с их голов стащат шляпы и парики, отберут оружие или могут их ослепить, побить, зарезать или заколоть»10.
От ограблений страдали почти все европейские города. В некоторых случаях воры натягивали поперек узких улиц веревки, о которые и спотыкались жертвы. В конце XVI века пешеходы в Вене или Мадриде не чувствовали себя в безопасности с наступлением темноты. В 1620 году некий приезжий обнаружил, что бандиты — постоянная угроза на улицах Парижа; а сто лет спустя уже парижанин писал, что «редкая ночь проходит без того, чтобы после не обнаружили тело убитого»11. При дневном свете грабежи не были столь частым явлением. Поговаривали, что в XVI веке в Ирландии какие-то разбойники, наоборот, не грабили по ночам, так как это противоречило их кодексу чести, однако такое великодушие было исключением. В Лондоне «редко можно было услышать» о грабежах, совершенных «на открытых улицах днем». На смену им приходили новые виды воровства, менее связанные с насилием; особенно процветало искусство карманных краж, идеально подходящее для шумных многолюдных улиц12.
Эпидемия грабежей не обошла стороной и сельскую местность. Разбойники, чаще пешие, чем конные, скитались по большим дорогам, соединявшим города и деревни. В темноте из-за оград они свистом подавали друг другу сигналы. За пределами Лондона low-pads[16] прославились тем, что сбивали всадников на землю длинными шестами. Однажды ночью 1773 года двое солдат, Томас Эванс и Джон Эрли, вооруженные пистолетами, вышли на большую дорогу близ поселения Донкастер в Западном Йоркшире, поскольку это был «рыночный день и должно было быть много фермеров, возвращающихся с рынка домой с деньгами». Даже в колониальной Америке путешественники иногда были вынуждены следовать далеко не безопасными маршрутами. Так, на окраинах Филадельфии в Северном Делаваре несколько напуганных путников укрылись в частном доме и всю ночь провели без сна. «Эта часть страны едва населена, — разъяснял Джон Фонтэйн, — и те люди, что живут здесь, считают своим долгом ограбить всякого проезжего»13.
Судя по ужасу, который испытывали путешественники перед ночными нападениями, о чем свидетельствуют многочисленные путевые заметки, дороги на Европейском континенте были куда опаснее, чем в Англии или Америке. Сельская местность, с ее густыми лесами и пышной растительностью, кишела бандитами, многие из которых были закаленными в битвах вояками. Среди разбойников встречались также бродяги и дезертиры, имевшие дурную славу из-за того, что не щадили своих жертв. Путешественники называли их «человекоубийцы» и классифицировали от Strassenraubers в Германии до briganti в Италии. Во Франции, утверждал некий приезжий, «если вы подверглись нападению на большой дороге, вы потеряете не только деньги, но и жизнь»14.
Повсюду злоумышленники охотно использовали преимущества ночи. «Ночью мне достанется больше денег», — говорил в 1750 году Деннес Брэннам своему лондонскому сообщнику, что в его устах означало, что людей сначала с помощью молотка лишат сознания, а потом заберут кошелек. Другой его «коллега», будучи обвиненным в дневном ограблении, принесшем ему почти пять гиней, настаивал на своей невиновности: «Совершенно невероятно, чтобы я заставил человека бояться за свою жизнь в середине дня». Для некоторых воров, не склонных специализироваться на одном виде преступлений, день подчинялся определенному распорядку. У преступности имелось собственное расписание. Чарльз Масколл, разорившийся лондонский извозчик, так описывал типичный день: «Мы встречались, как правило, около девяти часов утра в пабе „Кингс Армз" и там оставались до шести или семи вечера, поскольку именно в это время обычно отправлялись собирать добро по карманам. Если же нам доводилось обнаружить носовые платочки, то мы приносили их хозяйке „Кингс Армз". Затем мы ужинали, а после выходили на уличное дело». В девять часов вечера на Олбемарл-стрит Масколл и трое его вооруженных сообщников напали на слугу, ударили его в лицо пистолетом, завязали глаза и приставили второй пистолет к горлу — это принесло им чуть меньше 20 шиллингов. «Взгляните на дневную нищету и ночные грабежи по всей стране», — взывал некто в 1650 году15.
Но если бы грабеж был худшим из того, что могло случиться ночью, тогда городские семьи спали бы крепче. Больше всего они страшились вторжений взломщиков в свои жилища. Каждый вечер хозяин с семьей укрывался в доме, неприкосновенность которого он призван был охранять. Дом служил защитой от стихийных бедствий, а также убежищем от повседневных опасностей и суматохи. В молитве XVI века говорилось: «Дома построены для нас, чтобы мы укрывались в них от плохой погоды, лютых зверей, а равно от волнений и суеты этого беспокойного мира». Считалось непростительным для кого-либо проникновение в чужой дом в ночное время, то есть когда, пользуясь определением правоведа сэра Эдварда Кока, «наступает темнота, а дневной свет уходит, так что… невозможно разглядеть внешность человека». Даже сама по себе кража не была обязательной, достаточно было насильственного проникновения в «жилой дом» с «намерением совершить преступление». В английском законодательстве взлом наряду с поджогом трактовался как преступление не только против собственности, но также и против «места жительства» собственников16.
Ремесло взломщика требовало тщательного планирования, поэтому многие преступники объединялись в профессиональные банды и, что хуже всего, нападали на спящих, то есть беззащитных и безоружных, людей. Некоторые бандиты — их называли «черномазыми» (smudges) или «ночными воришками» (night-sneaks) — забирались днем в дома и оставались под кроватями до тех пор, пока семья не укладывалась спать. «Простак храпит» — на уличном жаргоне это означало, что жертва спит. Любая дверь в темное время суток представляла собой вход. Большие дома были особо заманчивыми для разбойников: в них проще попасть и из них можно больше унести с собой. «Мой дом очень опасен, — жаловался Пепис, — существует столько разных способов проникнуть в него»17.
Никто не давал гарантии тому, что во время кражи удастся избежать насилия, так как семья могла проснуться и попытаться оказать сопротивление незваным гостям. Не всякий взломщик легко проникал в дом: он не всегда мог взломать дверной замок (это искусство именовалось «черным ремеслом» (black art) или открыть окна железными прутьями. Как следует из самого термина «взлом» (housebreaking), двери иногда вышибали, а ставни ломали. Такие грабежи, как, например, случай в графстве Корк, когда воры бесшумно вытащили оконную раму из стены, были редки. После вторжения в лондонский дом в 1734 году один из злоумышленников рассказывал: «Я выдернул замок из двери в погреб с помощью долота, но это наделало много шуму. Посмотрев наверх, мы увидели свет в окнах и, испугавшись, что люди там встревожены, отошли немного». Воры вернулись, как только свеча погасла, а семья снова уснула18. Необычные звуки, несомненно, внушали ужас каждому обитателю дома. Как и «все богатые и скупые люди», Пепис начинал волноваться, как только в доме оказывалась крупная сумма денег. Однажды ночью, когда у него на руках была тысяча фунтов, он «покрылся холодным потом», едва заслышав какой-то шум, «вспотел еще сильнее», пока почти не «превратился в воду». Автор памфлета «Повешение не является достаточным наказанием» (Hanging, Not Punishment Enough; 1701) подтверждал, что взломщики наводят «ужас больший, чем можно себе вообразить»19.
Несмотря на риск быть казненным в случае поимки, кражи со взломом привлекали значительное количество жадных до быстрой наживы. В домах было много вещей, которые лотом охотно приобретали скупщики краденого, например столовое серебро и ювелирные украшения. В предместье Лондона, в Саррее, менее 10 процентов грабежей приносили доход в 10 фунтов каждый, тогда как четверть краж со взломами имела такую же и даже большую прибыль. Случалось добыть и воистину царские суммы — в несколько сотен фунтов. «Сегодня ночью у нас был хороший улов», — заверял сообщника лондонский взломщик в 1707 году, на что его товарищ выразил надежду, что «завтра ночью улов будет еще лучше». Банда взломщиков бахвалилась перед карманником Ричардом Оуки: «Мы навещаем „трущобы", когда все „беднячки" в высшем свете [то есть вламываются в дом, когда это безопасно], и получаем за одну ночь больше, чем ты за целый месяц». В Женеве один взломщик был настолько жаден, что совершил две кражи с интервалом в два часа из спальни с двумя хозяевами, несмотря на то что жертвы проснулись и преследовали его после первой попытки20.
В начале XVI века кражи со взломом стали считаться в Англии особым преступлением, отличным от краж из домов в дневное время, по причине того, что представляли повышенную угрозу. В Саррее в период между 1660 и 1800 годом соотношение между количеством привлеченных к суду взломщиков и количеством домушников было четыре к одному. В своем стихотворении «О темноте» Хамфри Милл высказывал мнение, что воры готовы «врываться в дом лишь по ночам, / Когда ты в доме сам, а все семейство спит». В XVII веке в Авиньоне говорили, что его жители «каждую ночь трясутся, как бы разбойники не залезли к ним в окно». В 1715 году посетивший Орлеан путешественник сообщал о частых кражах со взломом, о том же говорил и странствовавший по Испании Генри Суинберн21.
Кражи со взломом были известны и в сельской местности, хотя происходили реже. В Восточном Сассексе с 1592 по 1640 год в судах рассматривалось 67 таких случаев (9 процентов от всех краж). Эти преступления чаще принимали жестокие формы. Типичными были банды, состоящие из полудюжины и более членов, равно как и насильственные вторжения, которые иногда называли «пламя и буря» (faggot and storm). Деревянные двери выбивали таранами, ставни разносили вдребезги дубинами. В плетеных и мазаных стенах прорезались зияющие дыры. В 1647 году сразу девять воров ворвались в йоркширский дом Сэмюэла Сандерленда. Связав всех членов семьи и прислугу, они скрылись, прихватив 2500 фунтов стерлингов. Банда Хейлс — Берли в Мидландсс на пике своей мощи состояла не менее чем из сорока человек, вооруженных луками и пистолетами22.
Некоторые банды, орудующие на континенте, могли похвастаться несколькими сотнями членов. Французские бандиты, известные как «истопники» (chauffeurs), имели дурную славу в связи с тем, что пытали огнем. Даже деревни, расположенные далеко друг от друга, не были в безопасности от налетчиков. В сельской местности бандитам помогала скрыться не только темнота, но и расстояние. «Что толку кричать: „На помощь! Убивают!" — сетовал один писатель. — За то время, пока эта помощь подоспеет, можно совершить дюжину убийств». Показательно, что в урбанизированных провинциях Голландии ворам приходилось рыть туннели под дверями и прорезать дыры в крышах, но и в сельских районах Брабанта банды воров грабили дома и измывались над семьями совершенно безнаказанно. Голландский суд в 1620 году объявил, что кражи со взломом были более опасны в открытой сельской местности, «где люди менее способны защитить себя от воров и насилия, чем в замкнутом пространстве городов». Немецкий трактирщик с окраины Оберау приветствовал строительство кузницы неподалеку, поскольку, будучи «совсем один каждую ночь, он опасался нападения злых людей»23.
Наиболее часто кражи совершались в период с поздней осени до ранней весны, когда остро ощущалась нехватка продовольствия, а ночи были длинными. Еще в XIII веке венецианский служащий с беспокойством писал об «этом времени долгих ночей», и эта тревожная тенденция сохранялась на протяжении всего раннего Нового времени. «Сезон, когда в основном вламываются в дома, — это зима с ее долгими ночами», — обращал внимание Даниель Дефо. Прохожие, если им приходилось бежать куда-то по поручениям с закатом солнца или возвращаться в темноте домой, также становились привлекательными мишенями. «Именно тогда и совершается большая часть убийств, грабежей и других опасных „столкновений"», — заметил парижанин в 1643 году24.
Но воры в любое время года ценили ночь, когда естественного света было мало или не было совсем. На жаргоне матерых преступников выражение «добрая темень» (a good darky) означало «подходящую для их промысла ночь». Наименее желанными были ночи, когда светила полная луна — болтун» (tattler). Чарльз Доррингтон отказался участвовать в ограблении ночного дилижанса близ Ноттингема, поскольку «было слишком светло». В некоторых случаях «луна, светившая слишком ярко», заставляла преступников сомневаться в успешности взлома, как это было с лондонским вором Джозефом Дэвисом и его партнером. Они собрались с силами лишь однажды ночью, напившись допьяна бренди. Но даже в те вечера, когда ярко светила луна, городские воры всегда могли в качестве укрытия использовать переулки, дворы и ниши. «Действительно, была лунная ночь, — свидетельствовала жертва нападения в 1732 году, — но меня ограбили на темной стороне улицы». На печально знаменитой большим количеством грабежей Хэмпстедской дороге, ведущей из Лондона, банда стащила человека с лошади, чтобы обчистить его за стогом сена, «потому что тогда была лунная ночь»25.
Преступники предпринимали и дополнительные меры, чтобы остаться неузнанными. Они красили лица черным, а некоторые надевали шляпы и тяжелые плащи даже в теплые летние ночи. Йомен[17] из Пенрита Джон Нельсон, в спальню которого в августе 1738 года проникли двое взломщиков, описывал одного как «довольно высокого, в плаще темного цвета и в шляпе, надвинутой на глаза, а другого — меньше ростом, в белом плаще всадника и накидке, застегнутой под подбородком, а также в шляпе, надвинутой на глаза». Воры изменяли свои голоса и в самых крайних случаях использовали «темные фонари», которые пропускали свет только с одной стороны26. Если во время ограбления или кражи со взломом происходили стычки, то они немедленно гасили свет, которым располагали жертвы. «Мальчишек-проводников», освещавших пешеходам проход по улицам города, валили с ног в первую очередь. Лампы и фонари разбивали, свечи задували, факелы гасили. «Закрыть глаза, к черту, и погасить огонь, а не то вышибем мозги» — такова была часто повторяющаяся команда, равно как и требование молчать, чтобы крики о помощи не разнеслись в темноте27.
Уильяму Картеру, ограбленному мужчиной и женщиной под угрозой расправы ножом, заткнули рот фартуком, погасив его свечу. Кляпы делали из носовых платков и даже из помета, смешанного с соломой. Когда октябрьским вечером на Хамфри Коллинсона напали трое молодых грабителей, ему просто открыли рот и держали язык, чтобы он не мог закричать. Разбойники одной из лондонских банд, стремясь перекричать призывы жертвы о помощи, громко звали извозчика28.
На преступников, совершавших подобные преступления днем, порой смотрели как на безумцев. Как минимум существовал риск, что будут свидетели. После того как воришка украл пару ботинок «один за другим» с витрины магазина, свидетельствовал продавец в суде Олд-Бейли, «я подумал, что человек выглядел как будто не в себе, — взять ботинки среди бела дня и выйти с ними на улицу через двери мимо меня?!». Бедняга был признан виновным «по льготному тарифу» в мелкой краже. В 1727 году разбойник с большой дороги был признан non compos mentis[18] после того, как неподалеку от Хакни остановил дилижанс воскресным днем. Помимо того что он «восседал на лошади, которая по здравом размышлении не стоила и 20 шиллингов», выяснилось, что он остановил экипаж «среди бела дня, когда люди возвращались из церкви»29.
Секретность была не единственным преимуществом, которое приносила темнота. Воры охотно использовали страхи перед злыми духами: чтобы избежать преследования, многие разбойники маскировались под демонов. В 1572 году Людвиг Лафатер, пастор из Цюриха, свидетельствовал, что преступники «под этим видом много раз грабили в ночное время своих соседей, которые, полагая, что шум производят духи, никогда не выходили, чтобы прогнать воров». В XV веке дижонские взломщики часто изображали чертей, к ужасу обитателей домов и их соседей. В Англии злоумышленники, воровавшие овец, пугали деревенских жителей, наряжаясь привидениями. Иоганна Элеонора Петерсон вспоминала о немецких взломщиках, которые надевали белые рубашки и обсыпали лица мукой: «Они двигались по дому с огнями, взламывали кладовые и шкафы и брали все, что хотели. Мы были так напуганы, что на четвереньках прятались за печью и дрожали». С другой стороны, члены банды Никола Листа, орудовавшей в Центральной и Северной Германии, считались наделенными сверхъестественной силой — таковы были их мастерство и ловкость30.
В самом деле, разбойники постоянно обращались к магии всякого рода, которая, как считалось, была особенно могущественна ночью. «Опыт показывает, что очень часто знаменитые воры также являются чернокнижниками», — замечал немецкий ученый-правовед Якоб Андреас Крузий в 1660 году. К концу Средневековья заклинания стали представлять большой интерес для преступников. Верили, к примеру, что лунная трава, если ее положить внутрь замка, поможет отпереть любую дверь, так же как и мандрагора — наркотическое растение, которое будто бы цвело в заводях из мочи и экскрементов под мостовыми. В Дании взломщики не сомневались, что их не смогут обнаружить, если они оставят на месте преступления несколько монет. Часто по той же самой причине и в Скандинавии, и в других частях Европы воры оставляли после себя испражнения. Некоторые убийцы надеялись избежать ареста, употребив в пищу снедь, разложенную на трупе. В 1574 году человек был казнен за ночное убийство мельника и за то, что изнасиловал его жену и заставил ее присоединиться к нему в поедании яичницы с тела покойного. «Мельник, как тебе этот кусочек?» — глумился он31.
Самое известное колдовское приспособление — «воровская свеча» — с легкостью прижилось в большей части Европы. Свеча изготавливалась либо из ампутированного пальца, либо из человеческого жира, и исходным материалом служили расчлененные трупы казненных преступников. Ценились также пальцы, отделенные от останков мертворожденных младенцев. Поскольку последние не были крещены, их волшебные свойства считались очень сильными. Чтобы усилить могущество свечи, в качестве подсвечника иногда использовалась рука мертвого преступника, известная как «Рука славы». Встречались и беспощадные нападения на беременных женщин, которым вспарывали животы, чтобы добыть младенца. В 1574 году Никлаус Штюллер из Эйдсфельда был признан виновным в трех таких случаях, за что его «трижды рвали раскаленными клещами» и колесовали. (В Германии воровская свеча называлась Diebeskerze.) Взломщики использовали эти отвратительные амулеты, дабы быть уверенными, что члены семьи не проснутся, пока они обшаривают дом. Подражая магу, французский сатирик XVII века Сирано де Бержерак заявлял: «Я заставляю воров жечь свечи из жира мертвецов, чтобы удерживать хозяев во сне, пока они грабят их дома». «Пусть спящие спят и дальше» — так начиналось типичное заклинание, которое использовали английские воры. В 1586 году, перед тем как войти в дом, немецкий грабитель поджег целую руку мертвого младенца, веря, что несгоревшие пальцы укажут на количество людей, которые все еще не спят. Даже в конце XVIII века четверо человек в Касллайонсе (Ирландия) были обвинены в том, что выкопали тело недавно захороненной женщины, чтобы из ее жира изготовить воровскую свечу. Муж женщины заподозрил неладное после того, как рыбаки в процессе поиска наживки наткнулись на берегу на ампутированную руку32.
III
Ночью всякий кот — леопард.
Итальянская пословица33
В доиндустриальном обществе трудно было найти сферу повседневной жизни, свободную от насилия. Жен, детей и слуг пороли, медведей травили собаками, кошек убивали, собак вешали, как воров. Обладатели шпаг дрались на дуэлях, крестьяне просто дрались, ведьм сжигали на кострах.
Перебранки быстро перерастали в открытые ссоры. «Гнев заглушает их способность говорить и может выйти наружу только посредством драки», — сказал один путешественник об англичанах. Вспыльчивость и пьянство составляли «взрывоопасную смесь», особенно в сочетании с монотонностью жизни и отчаянием непрекращающейся нищеты. Случаи убийства в период раннего Нового времени происходили в пять-десять раз чаще, чем в современной Англии. Даже недавно приведенная статистика, отражающая уровень убийств, совершенных в Соединенных Штатах, выглядит намного скромнее по сравнению с количеством преступлений в Европе в XVI веке. Несмотря на то что ни один социальный слой не был застрахован от подобных неприятностей, основное бремя жестокости, зачастую от рук друзей, соседей и родни, приходилось на долю низших сословий. «Животные, которые делят пищу, — глумился венецианский магистрат, — естественно, ненавидят друг друга»34.
Больше всего крови проливали ночью. Кровопролитие могло произойти в любое время суток, но с наступлением сумерек угроза физической расправы нарастала — и не только вследствие встречи с вооруженными грабителями, а чаще из-за уличных скандалов и нападений на отдельных персон. Итальянская поговорка предупреждала: «Кто выходит ночью на улицу, тот жаждет быть побитым». Личная вражда, подавляемая днем, с большей вероятностью могла прорваться наружу ночью. Так, в 1497 году некий иностранный приезжий, описывая «неконтролируемую ненависть» лондонцев, писал: «Они и днем-то смотрят на нас косо, а ночью порой гонят прочь пинками и ударами дубинок». В Дуэ XVI века три убийства из четырех совершались между полуночью и рассветом, это соотношение было еще выше в Артуа в период с 1386 по 1660 год. На те же часы приходилось два убийства из трех в Кастилии XVII века35.
Рассказы того времени, оставленные напуганными путешественниками, подтверждают суровую статистику, собранную из отчетов коронеров или протоколов судебных разбирательств. Вечерние убийства считались обычным делом. Злоумышленники, часто не имевшие огнестрельного оружия, нападали в непосредственной близости от жертвы. Считалось, что в Южной Германии, где в начале XVI века, по мнению Антонио де Беатиса, убийства были «многочисленными», использовались все виды оружия, включая луки и пики. Кинжалы и стилеты были в порядке вещей в Италии, так же как шпаги и ножи в Испании и Португалии. «С наступлением ночи невозможно выйти на улицу без щита и кольчуги», — сообщал приезжий о Валенсии 1603 года; а Файнс Морисон обнаружил, что «во всех частях Италии ходить по улицам ночью небезопасно». Равно как и передвигаться по воде. Однажды ночью в Венеции молодая английская леди неожиданно услышала крик, за которым последовали «проклятие, всплеск и булькающий звук», — тело было выброшено из гондолы в Большой канал. «Такие полуночные убийства, — пояснил ее сопровождающий, — являются здесь обычным делом». С первым лучом света в реках и каналах Дании обнаруживали трупы, появившиеся там за ночь; раздутые тела загрязняли также Тахо и Сену. Парижские власти натягивали сети в реке, дабы вылавливать трупы. Согласно рассказу стекольщика Жака-Луи Менетра, бандиты из воровской шайки били своих жертв по голове «мешками», сделанными из кожи угрей и набитыми свинцом, а потом сбрасывали «их в реку ночью». В Москве ночные убийства были столь многочисленны, что по приказанию властей трупы утром стаскивали на двор Земского приказа, чтобы родственники могли забрать их. В 1739 году Сэмюэл Джонсон предупреждал жителей Лондона, в котором убийства происходили реже, чем в большинстве других столиц: «Будьте готовы к смерти, если вы ходите здесь ночью, и подпишите завещание до того, как уйдете из дому ужинать». «Сыны насилия, — вторил нортгемптонский ректор Джеймс Харви, — выбирают именно это время суток, дабы вершить самые вопиющие злодеяния и грабежи»36.
Некоторые убийства, как правило преднамеренные, происходили из-за ревности, мести или необходимости восстановить мужскую честь. В 1494 году отец молодого флорентийца, получившего удар ножом в лицо, мог только заключить, что нападение было совершено по ошибке, — «он никогда никого не обижал и никогда не подозревал, что кто-то имеет на него зуб». В безлунные ночи по улицам многих итальянских городов пробирались молодые люди, именуемые «наемные убийцы» (bravos). Посетивший Италию иностранец рассказывал о заговоре, который провалился: «Некто, поссорившись со своим зятем из-за каких-то слов, брошенных его сестре, нанял bravo, a bravo сказал ему, что тот должен быть уверен в его меткости, и зарядил оружие таким количеством пороха и пулями, что когда он выстрелил, то это не причинило жертве никакого вреда, но оружие взорвалось и так ударило самого bravo в плечо, что тот свалился с ног. И тут человек, который только что избежал смерти, вытащил стилет и всадил его bravo прямо в сердце»37.
Персональная вендетта не была распространенным явлением в Англии и колониальной Америке, где культ личного мужского достоинства не так укоренился. Кроме того, социальная конкуренция в высших слоях находила другие выходы, такие как азартные игры, скачки и охота. Когда же нападения случались, то жертву могли избить или ранить, но чаще ей сохраняли жизнь. Например, в Оксфорде в 1692 году несколько стипендиатов Нового Колледжа, полагая, что Энтони Вуд «злоупотребил их отношениями», поклялись, что «побьют» его, когда настанут «темные ночи». В Лондоне, согласно Джону Гэю, «…ни испанская ревность не наводнит твоих улиц, ни римская месть не пронзит твою доверчивую душу»38.
Повсюду ночью чувство незащищенности, порождаемое темнотой, приводило к актам импульсивного, спонтанного и внезапного насилия. По сравнению с дневным существованием не только увеличивалась вероятность столкнуться с опасностью, но и сильно ослабевали естественные защиты. К концу Средних веков у знати сложились свои правила поведения в обществе, а к XVI веку собственные поведенческие нормы сформировались у представителей практически каждого социального слоя. Рыцарей сменили придворные, кольчуги уступили место атласу и шелку. Рост мощных национальных государств, сопровождавшийся государственной монополизацией военных сил, еще больше увеличивал масштабы этой трансформации. Хорошо понятные правила поведения управляли социальными взаимодействиями между друзьями и незнакомцами. Согласно этим правилам считалось неуместным, проходя по улице, обращаться с вопросом к незнакомому человеку или дотрагиваться до других прохожих, а тем паче толкать их. Более всех требовала к себе почтения знать, дабы ее достоинство не унижалось. Люди незнатного происхождения не только делали реверанс или приподнимали шляпу, но и должны были держать дистанцию на дороге. Из уважения к господам требовалось «дать стену» (уступить дорогу), то есть идти по проезжей части, где, естественно, опасность вступить в навоз или быть сбитым экипажем была значительно выше. «Правила вежливости» (The Rules of Civility', 1685) гласили: «Если случай таков, что приходится идти по одной улице с дворянином, мы должны посторониться и помнить, что не следует идти в непосредственной близости, а нужно держаться немного позади»39.
Но в темное время суток границы приличного поведения становились опасно размытыми. «Ночью одинаковы все формы и все цвета», — замечал писатель начала XVII века сэр Томас Овербери. В отсутствие четких правил предоставлялись богатые возможности для перебранок, и мелкие ссоры перерастали в насилие. Оскорбления и наносились, и воспринимались с легкостью. Если кого-то толкнули или задели в узком переулке, то это вызывало как минимум поток брани. «На Флит-стрит меня сильно толкнул человек, который имел намерение занять проход у стены», — возмущался Пепис в дневнике. Хуже того, риску быть побитыми или получить удар ножом в неразберихе подвергались и безвинные прохожие. В пору, когда самообладание было минимальным, страх наисильнейшим, а зрение наихудшим, вероятность столкновений всякого рода возрастала в большей степени. Так, в 1616 году в Зигсдорфе, баварском рыночном городке, слуга по имени Вольф столкнулся с другим слугой, Адамом, которого и ударил ножом в подмышку «без повода». Эти двое, свидетельствуют записи суда, были незнакомы друг с другом. Воскресным вечером в Лондоне двое прохожих, поденный рабочий и купец, столкнулись в темноте неподалеку от собора Святого Павла. Они разругались и подняли друг на друга трости; затем один выхватил оружие и мгновенно убил другого. Даже в скудно населенной сельской местности неразбериха могла закончиться насилием. Однажды ночью в 1666 году Эдвард Раддок, шагая через лес возле северного городка Бердсолл, выстрелил в группу молодых людей, искавших майское дерево, вероятно приняв их за браконьеров или воров. Смертельно ранив одного, Раддок закричал: «Эй, разбойники! Эй, разбойники! Вот мы и встретились с вами. Я вам покажу разбойничать! В это время ночи лучше вам быть в своих постелях, чем здесь»40.
Чаще насильственные деяния совершались против анонимных недругов, чья человеческая природа, не говоря уже о персональной идентичности, представлялась в лучшем случае смутной. «Безликие люди с большей вероятностью причинят друг дру1у вред» — показывает психологическое исследование41. Кроме того, мрачные полуночные нравы были замешены на особенностях человеческой психики. Люди страдали повышенной раздражительностью из-за усталости, и это притом, что у них ослабевала бдительность и ухудшались моторные навыки. С девяти часов вечера и до полуночи люди обычно испытывают самую сильную тягу ко сну и часто в течение этого времени становятся раздражительными. Френсис Лентон писал в 1631 году о типичном светском щеголе: «Его ночные приятели — проклятия, брань и склоки, происходящие от дурного расположения духа и потери денег, помноженные на желание поспать». Физическое изнеможение, особенно в сочетании с напряжением и тревогой, обостряло взаимоотношения между людьми42.
Осложнял их и алкоголь, который в раннее Новое время явно фигурировал как в инцидентах насилия, так и в ночных происшествиях. Выпивка делала многих, даже близких друзей, более воинственными. В начале XVII века в Стокгольме около 60 процентов всех убийств совершалось под воздействием алкоголя. «В пьянстве и позднем времени зреют ссоры», — предупреждал «Домострой», русский сборник наставлений по ведению домашнего хозяйства, относящийся к XVI веку43. Мелкие ссоры возникали, как правило, в кабаках, где в конце рабочего дня, как в сельской местности, так и в городах, собиралось большое количество мужчин. В XVII веке в одном только Амстердаме насчитывалось более пятисот пивных. В 1602 году одного владельца таверны в Западном Дониленде обвиняли в «таком беспорядке по ночам, который с большой вероятностью может привести компанию к человекоубийству». Датский теолог Педер Палладиус призывал людей пить дома во избежание того, что «кто-нибудь убьет вас или вы убьете кого-нибудь в пивной». Действительно, в Артуа свыше половины всех актов насилия совершалось на территории питейных заведений44.
В преимущественно мужской атмосфере кабаков насилие легко могло последовать за политическим диспутом, неосторожными словами или жульничеством в игре. В пивной Южного Госфорда поводом к скандалу стал доступ к очагу. «Бесстыжие твои глаза, живо освободи-ка мне местечко вблизи огня», — потребовал только что прибывший человек у другого постоянного клиента. В одном амстердамском заведении среди четырех пьяных друзей произошла фатальная ссора по вопросу, в какую таверну отправиться дальше. Вдобавок сам процесс потребления выпивки подчинялся бесчисленному сонму правил, проигнорировать какое-то из них означало навлечь на себя насмешки и презрение. Но ясно, что в этой и без того горячей атмосфере главным катализатором служил отравляющий эффект алкоголя, превращающий мелкие склоки в большие свары. Один сельский священник описывал это так: «Люди, возбужденные крепкими напитками, не в состоянии хорошо взвешивать то, о чем они говорят, или воспринимать терпимо то, что говорят им. Возникают споры, страсти с обеих сторон накаляются, вся душа в смятении, язык становится оскорбительным, проклятия и ругань взаимно посылаются друг другу, несогласие и угрозы раздражают еще больше, наносится удар, и он возвращается со всей яростью, присущей дикому животному; и один из участников падает под рукой (не врага, а) товарища, близкого соседа, друга, возможно родственника»45.
Никто не был в безопасности в подобных драках — ни хозяева таверн, ни сторонние наблюдатели. Конечно, некоторым драчунам хватало сообразительности сверкать не кулаками, а пятками. К тому же оружием обычно служили не пистолеты, а палки и ножи. Если обеспокоенному хозяину удавалось угомонить клиентов, перепалка останавливалась, по крайней мере до того, как тлеющее негодование не возгоралось с новой силой на улице. После ссоры в таверне Альт-Шайтнига Иоганн Дитц со товарищи были окружены в темноте работниками, вооруженными холодным оружием и дубинами. «Невозможно было отличить кастрюлю от чайника», пока каждый боролся в темноте «за сохранность собственной шкуры». Вероятность насилия существовала в течение всего вечера. Пьяницы могли столкнуться по пути домой или, еще хуже, вступить в борьбу с незнакомцами, ищущими приключений. Избежав разбойников и грабителей, невинные прохожие могли неожиданно пасть жертвой случайного насилия, происходящего не из жадности или мести, а от отравления алкоголем. Сэмюэл Джонсон писал:
Один пьянчужка разудалый,
Шатаясь, с праздника идет,
Он в шутку ссору затевает,
Но, не шутя, тебя убьет»[19]46.
IV
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да не превратятся эти жилища в гренки.
Выгравированная надпись на жилом доме в Оденсе (Дания)47
Огонь, угроза которого была постоянной после наступления сумерек, внушал людям раннего Нового времени более сильный ужас, чем преступность и насилие. Дело было не только в том, что ночью менее эффективными были меры предосторожности, но и в том, что в ночные часы требовалось много тепла и света. Угроза пожара, «этого наиужаснейшего и беспощадного тирана», служила источником тревоги с незапамятной поры, но она стала еще актуальнее в плотно населенных городских районах, где дерево и солома, благодаря дешевизне и легкости обработки, все так же преобладали в строительстве, особенно в Северной и Центральной Европе. Только чума вызывала побочный страх, но о ее приближении можно было узнать заранее. Даже в 1769 году некто Palladio, пишущий в Middlesex Journal, жаловался: «Англичане живут и спят, будто окруженные своим погребальным костром». Тесные ряды домов и торговых лавок создавали лабиринт узких улочек и петляющих переулков, крайне уязвимых при возникновении больших пожаров. Яго в «Отелло» (ок. 1604) говорит ночью: «Кричите, точно в городе пожар»[20], а сэр Уильям Дэвенант в 1636 году отмечал кошмарную опасность, «которую порождают полуночные пожары в перенаселенных городах»48.
Сильный ветер усугублял ситуацию. Во время пожара 1652 года, охватившего значительную часть Глазго, ветер менял направление пять или шесть раз. «Огонь перекинулся с одной стороны улицы на другую», — описывал ситуацию священник прихода Нью-Килпатрик. Заезжий гость в Москве пришел к заключению, что «не проходит ни месяца, ни недели, чтобы некоторые дома — если ветер сильный, то и целые улицы — не превращались в пепел». Священнослужители страдали наравне с мирянами, богатые наравне с бедными. Невинные люди гибли в огне, который в обычной городской жизни был уготован еретикам и ведьмам. Писатель Николя де Ламар замечал, что пламя, в отличие от других хищников, «пожирает все подряд и не имеет уважения ни к храмам, ни к королевским дворцам». В считанные минуты чей-нибудь дом и имущество, труд всей жизни, могли быть уничтожены, а с ними — и надежда на дальнейшее существование49. Среди других ужасных последствий был разрушительный эффект, который большие пожары оказывали на местную экономику. Стратфорд-на-Эйвоне, переживший с 1594 по 1641 год целых четыре пожара, уже в 1614 году характеризовали как «древний, но очень бедный торговый городок»50.
Неудивительно, что всего-навсего пожарная тревога могла до смерти напугать человека. А в 1680 году толпа, узнав, что одна женщина грозится спалить город Уэйкфилд, уволокла ее на навозную кучу, высекла и оставила там на всю ночь. Горькая участь постигла датского лодочника и его жену, пытавшихся поджечь город Рандерс. После того как их протащили по всем улицам и многократно «ущипнули раскаленными щипцами», они были сожжены заживо51.
К середине XVII века в крупных городах появились «пожарные машины» — примитивные механизмы для подачи воды. В основном в Европе орудия борьбы с огнем оставались традиционными и ограничивались кожаными ведрами, лестницами и «большими крючьями», предназначенными для разбора брусьев и соломы, с тем чтобы искры не перекинулись дальше. Редкий год тот или иной город или селение в Англии не переживали катастрофу. С 1500 по 1800 год как минимум в 421 пожаре в провинциальных городах погибало от десяти и более домов одновременно, а около 46 пожаров, случившихся в этот период, уничтожили более ста домов каждый. Сэр Ричард Блэкмор в 1695 году отмечал: «В один из крупных городов ночной пожар ворвался, / Зловещим светом засиял всепожирающий оскал и искрами распался. / Повсюду пламени стена, что достигает неба, и дым густой валит»[21]52.
Конечно, Великий пожар в Лондоне, который начался ранним утром 2 сентября 1666 года в пекарне, все еще значится среди самых страшных в истории человечества. Поначалу казалось, что с огнем вполне можно справиться, лорд-мэр даже высказал мнение, будто «женщина может затушить его, помочившись». Но раздутый восточным ветром огонь спалил четыре пятых города за четыре дня. В золу и пепел превратились старый собор Святого Павла, 87 церквей, более 13 тысяч домов и такие общественные здания, как ратуша, таможня и Королевская биржа. Джон Эвелин в дневнике записал: «Камни от Святого Павла летели, будто снаряды, расплавленный свинец стекал на улицы потоком, и даже тротуары рдели пламенной краснотой, так что ни лошадь, ни человек не могли ступить на них». Вслед за этой катастрофой город переживет еще 40 серьезных пожаров в период до 1800 года53.
Ни одна другая столица не подвергалась такому суровому испытанию, как Лондон, но пожары внушали ужас повсюду. Огонь, разгоревшийся однажды ранним весенним утром 1737 года в Москве, забрал несколько тысяч жизней. Хотя бы одну крупную катастрофу пережил почти каждый большой город. Париж был необыкновенно везуч, так что в XVIII веке некий писатель подсчитал, что в Лондоне обычно сгорало по меньшей мере 50 домов на каждые пять, спаленных во французской столице. А вот Тулуза полностью сгорела в 1463 году, как и Бурж в 1487-м, и почти четверть Труайе в 1534-м. Лучшая часть Ренна была разрушена в 1720 году в пожаре, бушевавшем семь дней54. В колониальной Америке угроза огня росла по мере роста городов. В 1679 году, всего лишь три года спустя после предыдущего пожара, Бостон потерял еще 150 зданий. Страшные пожары вновь разгорелись в Бостоне в 1711 и 1760 годах. В последнем из них пламя уничтожило почти 400 жилых домов и торговых зданий; то был «самый поразительный пожар из известных в эту эпоху и в этой части света», отмечал очевидец в своем дневнике. Огонь поглотил значительную часть Чарлстона в 1740 году, тогда как Нью-Йорк и Филадельфия подвергались лишь небольшим бедствиям55.
Огонь представлял серьезную опасность и для сельской местности. В деревнях — не важно, упорядоченно там располагались дома или бессистемно, — пламя быстро распространялось от одного здания к другому, к хозяйственным постройкам и далее; открытые пространства — как частные, так и общественные земли — находились за пределами деревни. Загоревшуюся крышу, сделанную из связок соломы или тростника, практически невозможно было спасти, что очевидно из драматических полотен голландского художника XVII века Эгберта ван дер Пула. В Дании, замечал барон Людвиг Хольберг, «в деревнях постройки располагались очень близко друг к другу, так что если загорался один дом, то за ним должна была последовать вся деревня». Риску подвергались урожай, скот и стойла, выложенные соломой, особенно в период засухи. Одна из самых ужасающих сельских катастроф разразилась ночью 1727 года в кембридж-ширском поселении Барвелл. Сарай, где более семидесяти человек смотрели кукольное представление, внезапно загорелся, и люди оказались в ловушке. Из-за того что двери были заперты, погибли практически все. Останки были настолько неузнаваемы, что всех похоронили в братской могиле и поставили надгробный камень, который до сих пор можно видеть на церковном дворе Барвелла56.
Страхи росли после наступления темноты, и на то были свои основания. Драматург эпохи Реставрации Джон Бэнкрофт писал о «древнем царстве ночи, / Где ярость вечная огня не затихает никогда»57. Еще до того, как сон делал людей беззащитными, дом становился уязвимым, ибо семья разжигала очаг, чтобы избавиться от холода и тьмы. Как заметил Бенджамин Франклин, «случайные возгорания в жилищах чаще всего происходят зимой в ночные часы», а одна лондонская газета в январском номере писала о «частых случаях пожаров в это время года». Искры вылетали из открытых очагов на деревянный пол или, что еще хуже, из дымовых труб на соломенную крышу. Одежду и льняное полотно сушили в опасной близости от каминов. Сами по себе дымоходы были источником постоянного риска. И дело не только в том, что они возгорались, забитые копотью и сажей, но и в том, что трещины в дымоходах и очагах давали пламени дорогу к перекрытиям здания. В некоторых домах, к ужасу встревоженных соседей, дымоходов и вовсе не было. В 1624 году соседи Джона Тэйлора, пивовара и пекаря, подали петицию с жалобами на то, что он дважды чуть не поджег свой приход в Уилтшире из-за отсутствия дымохода, и ходатайствовали о его отзыве. Джон Дантон замечал по поводу отсутствия дымоходов в некой ирландской деревне: «Когда зажжен огонь, дым выходит сквозь солому, так что со стороны кажется, будто горит вся изба»58.
В свечах, масляных лампах и других источниках искусственного освещения таились свои опасности. Если перефразировать английскую поговорку, то огонь мог быстро превратиться из послушного слуги в грозного хозяина. Легковоспламеняемой была и одежда: в 1669 году внезапно загорелся от свечи воротник дочери преподобного Ральфа Джосселина, Мэри, то же произошло в другой вечер с головным убором Элизабет Фрик из графства Корк, пока она читала в своей комнате. Даже просто открыто тлеющая головня на темной улице могла привести к катастрофе. Великий пожар в Ньюмаркете начался в мартовскую ночь 1683 года от чьего-то факела, случайно подпалившего стог соломы. Нью-йоркский извозчик потерял свой дом и конюшни из-за того, что его дети, устраивавшие лошадей на ночлег, случайно уронили свечку. «Бойся свечи на сеновале, в амбаре и в сарае», — наставлял Томас Тассер59.
Большинство пожаров начиналось менее драматично, и к самым крупным разрушениям приводили оставленные без присмотра свечи. «Огарок свечи весь дом подожжет», — предупреждал писатель елизаветинской эпохи60. Зажженные свечи также служили соблазнительной приманкой для голодных крыс и мышей. Сэмюэл Сьюолл из Бостона приписал огонь, вспыхнувший в его кладовке, мышиной любви к салу. «Если болезнь или какая-то другая причина вынудит вас оставить свечу зажженной на всю ночь, — советовало периодическое издание The Old Farmer's Almanack, — поместите ее таким образом, чтобы она находилась вне досягаемости крыс»61. Другим распространенным мотивом было неаккуратное обращение слуг со свечами. В Нидерландах журнал Ervarene Huyshoudster наставлял: «Штопка чулок, которую горничные производят в своих комнатах при свете свечи, очень опасна, ибо, когда такая горничная от усталости падает со стула, от свечи может начаться пожар». За использование свечей в кровати, что всегда считалось крайне опасным, прислугу наказывали. «Сильное пламя может разгореться от соломенной постели» — утверждала поговорка62. На самом деле серьезная вина лежала на тех, кто имел пристрастие читать в постели или употреблять там алкоголь, а иногда то и другое одновременно. В 1734 году несколько домов на Олбемарл-стрит в Лондоне сгорели дотла после того, как некий джентльмен заснул в процессе чтения63.
По ночам более уязвимыми становились и мастерские. Многие ремесленники, включая пивоваров, пекарей и свечников, кроме традиционных свечей для освещения, использовали в работе «постоянно горящий большой и яростный огонь», причем дрова, уголь или другое горючее были сложены неподалеку. Поскольку гасить огонь было очень накладно, пламя в печах и очагах зачастую не потухало всю ночь. «Ни один разумный человек не должен жить в домах в непосредственной близости от таких мастерских», — убеждал современник. Статистика зарегистрированных пожаров свидетельствует, что пекарни и солодовни, видимо, были особенно подвержены несчастным случаям. В произведении XIV века «Видение о Петре Пахаре» звучит жалоба на пивоваров: «Порой глядишь на пивовара и видишь / Сгоревшее жилище с обугленными трупами внутри»64.
Значительная часть ночных пожаров начиналась по людской неосмотрительности, в некоторых случаях причиной служила молния, но особенную тревогу вызывали преднамеренные поджоги. Вряд ли существовало преступление более страшное и «наиболее пагубное для общества», заявлял шотландский пастор в 1734 году, чем это. В английском уголовном праве практически все виды поджога (шла ли речь о доме или стоге сена) карались смертью. В Дании наказанием за «убийство огнем» (mordbroender) было обезглавливание, независимо от того, погибли в пожаре люди или нет. И невинные жертвы, и поджигатели осознавали ужасающие масштабы опасности, которым подвергались жизнь людей и имущество в случае поджога65. На испытываемом обществом чувстве страха некоторые личности наживались, отправляя состоятельным горожанам анонимные письма с угрозой поджога и вымогая деньги. «Вы будете разбужены красным петухом» — такова была излюбленная формулировка подобных посланий. В 1557 году двадцатичетырехлетний студент Парижского университета, прозванный Капитан Поджигателей (le capitaine des boutefeu), был обвинен в поджоге и вымогательстве, а позже сожжен заживо. Много лет спустя такие письма получили несколько жителей Бристоля, в том числе купец, который выразил открытое неповиновение бандитам, собственноручно разрушив свой кирпичный дом после полуночи. В 1738 году лондонский торговец скобяными изделиями в Холборне был предупрежден письмом: «Мы все решительно настроены убить вас и ваших родных и превратить ваш дом в золу»66.
Взломщики использовали огонь в надежде скрыть свое преступление. В эпоху Старого режима это была уловка, широко распространенная среди французских воров. Даже в маленькой шотландской деревушке однажды поздно вечером женщина, утащившая все пожитки из хижины, подожгла ее. Пожар был предотвращен благодаря случайному прохожему, поднявшему тревогу в общине. Владельцу лондонского дома повезло меньше — воры сначала украли почти тысячу фунтов банкнотами, а чтобы скрыть преступление, сожгли здание. Воскресной ночью 1761 года в бакалейной лавке на Пиккадилли слуга стащил у своего хозяина одежду и белье, а затем оставил в трех разных местах зажженные куски угля. Разбуженная запахом дыма семья хозяина едва успела спастись67. Вариацией ухищрений подобного рода было мародерство в сумятице, сопровождавшей пожары, причем пожары, как правило, устраивали сами мародеры. Роджер Норт, правовед XVII века, замечал: «Считается, что дома часто поджигаются ворами ради возможности украсть». Так, в Маззл-Хилле, неподалеку от Лондона, бандиты подожгли амбар с большим количеством сена. Пока обезумевший фермер и его семья боролись с огнем, поджигатели украли из дома деньги и вещи68.
Впрочем, поджоги часто совершались и другими руками. По всей Западной Европе банды бродяг и крестьяне использовали огонь в борьбе с землевладельцами. Шансы предотвратить пожар ночью были минимальными, и поджог являлся недорогим и доступным «оружием слабых». Случавшиеся в Средние века «огненные мятежи» впервые достигли эпидемических масштабов в XVI веке. В Германии, например, дома поджигались во время волнений под предводительством тайного общества «Башмак» в 1513 и 1517 годах, многие дома сгорели в период Крестьянской войны 1524–1526 годов. В Блэк-Форесте из мести за смерть крестьянского лидера было подожжено аббатство. От Австрии до Нидерландов банды поджигателей терроризировали жителей сельской местности. В 1577 году шайка, промышлявшая возле Зальцбурга, предположительно насчитывала 800 членов. Это кажется маловероятным, но подобные преувеличения отражают всю глубину страхов местных жителей. В Нидерландах в 1695 году Генеральные штаты ввели новые наказания для «больших банд цыган, перемещающихся в этих районах, имеющих оружие и угрожающих поджогами»69. И хотя на Британских островах «огненные мятежи» были менее распространены, но и здесь в XVIII веке крестьянские повстанцы, как правило, использовали для борьбы ночные поджоги. В 1733 году в Западной Англии разошлись слухи о банде поджигателей, а жители Хоршэма (графство Сассекс), недовольные запретом на разведение костров, прикрепили на здание мэрии предупреждение, что готовы поджечь дома местных чиновников. «Для нас не будет большего развлечения, чем смотреть со стороны, как полыхают в пламени ваши дома», — заявляли они. В американских колониях некоторые пожары были объяснены действиями недовольных рабов. Так было, например, в Бостоне в начале 1720-х годов и в Нью-Йорке двадцать лет спустя70.
В большинстве случаев поджигатели руководствовались не социальными или политическими мотивами, а личными обидами. Но если речь шла о слугах и рабах, то эти мотивы порой переплетались. В 1538 году в Германии сгорела община Лутц, после того как бывший узник городской тюрьмы поджег собственный дом. «Сегодня ночью я должен отплатить за дружбу жителям Дутца», — предварительно оповестил он свою семью. В результате пожара, поглотившего однажды поздней ночью амбар в Глостершире, была арестована девушка-служанка: в ее фартуке оказалась спрятанная головешка. Признавшись в преступлении, она заявила, что ей не нравилось ее «место» и она хотела, чтобы ее отпустили71.
Пожар потушен, но на этом страдания погорельцев не заканчивались. Решающий удар наносился следом. Сумев глубокой ночью избежать гибели от дыма и огня, выжившие сталкивались с тем, что те немногие пожитки, которые они смогли спасти, попросту разворовывались. Кражи на пожарищах были повсеместны и чаще совершались не поджигателями, а просто зеваками — «воришками по случаю» (fire-priggers), которые тащили ценности под предлогом помощи в спасении имущества смятенных жертв. Этот вид воровства был настолько распространенным, что в 1707 году парламент издал закон против тех «злонамеренных личностей», которых застают за «воровством и мародерством обитателей» сгоревших домов. Поколением позже ситуация не изменилась, подобного рода кражи были обычным делом и для американских колоний. «На пожаре многое было украдено», — сообщала в 1730 году Pennsylvania Gazette о ночном пожаре, разрушившем в Филадельфии вдоль береговой линии торговые лавки и дома72.
* * *
Таким был ночной ландшафт в раннее Новое время — отталкивающее зрелище, где царили четыре всадника ночного апокалипсиса: смертоносные пары, дьявольские духи, природные бедствия и человеческая порочность. Они составляли основу самых страшных ночных кошмаров человека. В отличие от войны, голода и эпидемии, то есть катастроф, имеющих периодическую природу с длительными интервалами, эти угрозы были непрерывным источником тревоги для большинства семей.
Разумеется, насилие, огонь и другие ужасы не были cyгубo ночными явлениями; ясно, что в ту суровую эпоху жизнь и имущество подвергались риску в любое время суток. Однако не оставляет сомнения то, что самая страшная угроза личной безопасности возникала в ночные часы. Опасности, которые днем были спорадическими, ночью возрастали числом и отличались своей жестокостью. «Ужасы ночи, — объяснял Томас Нэш, — больше ужасов дня, ибо грехи ночи превосходят грехи дня»73. Никогда раньше в истории Запада, по крайней мере со времен Христа, ночь не казалась такой зловещей. В эпоху, сменившую Средние века, сохранялась постоянная угроза стать жертвой преступников, но при этом увеличились масштабы опасности, исходившей от злых духов и огня.
Удивительно, но с первыми признаками наступления сумерек мужчины и женщины не мчались сломя голову в свои постели, предварительно погасив из предосторожности все огни. Несмотря на ночные кошмары, на страх перед демонами, разбойниками и ядовитыми испарениями, многие люди не укрывались не только в своих спальнях, но даже в своих домах. Вместо этого ночью они работали и развлекались. В 1696 году один швейцарский пастор жаловался: «Вечером, когда садится солнце, скот возвращается с полей в стойла, птицы в лесах умолкают, один лишь человек действует глупо вопреки природе и общему порядку вещей»74.
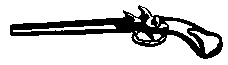
ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

Сцена в воровском притоне (Проститутка выдает своего сообщника властям). Из серии «Прилежание и леность» (1747). Гравюра Г. Фернелла с живописного оригинала У. Хогарта.
Не будь тьмы, человек не ощутил бы своего порочного состояния.
Блез Паскаль (1660)1
В эпоху раннего Нового времени на чреватое опасностями царство ночи едва ли распространялась дежурная бдительность Церкви и государства. Большинство важнейших светских и религиозных институтов, жизненно необходимых для поддержания общественного порядка в европейских городах и деревнях, с наступлением ночи уже не действовали. Суды, городские советы и церкви, куда простой люд обращался, чтобы разрешить свои споры и защитить жизнь и имущество, закрывались; судьи, олдермены[22] и церковные старосты, придя домой, скидывали свои облачения, а вместе с ними и груз дневных обязанностей. «Недвижная деревня спит, в дрему погрузившись», — писал поэт Томас Оокстон2.
С наступлением сумерек, по мнению светских и церковных властей, прекращалось и время дневных работ. В повседневной жизни, во избежание опасности пожара или возможного ущерба качеству изделий, большинству ремесленников приходилось тушить свечи и гасить огонь в очагах. Но, кроме того, следовало подчиняться и небесной воле. Ночь требовала отбросить житейские заботы мира земного. Люди, как полагали власти, должны обратиться к Богу посредством молитв и размышлений. На ценность ночной молитвы указывали Отцы Церкви — Игнатий, Иероним и Кирилл Иерусалимский. О том же говорил и испанский мистик XVI века святой Хуан де ла Крус. В стихотворении «Темной ночью» он провозглашал: «Вожатый мой, о ночь, / Ночь, что желанней рассвета». Тьма и одиночество, закрывая людям глаза и уши, открывали их умы и сердца Божиему слову. Вечером, повествует епископ Джеймс Пилкингтон, «чувства не увлекаются фантазиями, а ум пребывает в покое». Ночью молитва обретала особую значимость, ибо в это время царствует Сатана, и люди, отправляясь в постели, вверяют себя попечению Создателя3.
Тьма предназначена в основном для отдыха. «День видит труд с заботой, а ночь — покой и мир», — писал иезуит Даниэлло Бартоли в своей работе «Досуги мудреца» (La Ricreazione del Savio; 1656). Ночной сон придавал верующим силы для дневных трудов. Один пуританский священник наставлял свою паству, утверждая, что сон не должен избегать «положенной ему поры», дабы «мы могли лучше служить Господу и своим ближним». Отвергать отдых — значит бросать вызов Божественному провидению, а также вредить собственному здоровью. Те, кто превращает ночь в день, утверждал преподобный Джон Клейтон, подвергают опасности как свои «принципы», так и свое «тело»4. В равной мере опасно пускаться в неоправданно рискованные путешествия, отправляясь навстречу «всем злоключениям и напастям, которые случаются ежеминутно». «Постарайтесь не покидать дом ночью, — советовал монсеньор Сабба да Кастильоне, — разве только в случае крайней необходимости»5.
Для властей предержащих высшее предназначение ночи состояло в возможности ощутить великолепие земного рая Господнего. Есть ли иной, лучший путь осознания того, сколь чудесна дневная жизнь, чем созерцание черного мрака ночи? Для людей той эпохи самым плодотворным способом исследования предмета было изучение его противоположности. По наблюдениям писателей, в соответствии с Божественным замыслом, ужасы тьмы ярче оттеняют жизненные блага. «Хранимое от опасностей ночной поры» человечество просыпается каждое утро, дабы лицезреть «красоту и порядок мироздания». «Не будь на свете ночи, я полагаю, что никто / Не знал бы точно, что такое день», — утверждалось в "Видении о Петре Пахаре». Позже эти слова не раз повторялись последующими поколениями. «Бог посылает нам ночь, чтобы сделать нас детьми дня» (курсив мой. — А. Р. Э.), — объявлял священник из Новой Англии6.
Таким образом, основное значение ночи, если не брать в расчет молитву и отдых, состояло в отрицании мира бодрствования. Поэтому неудивительно, что на лунатиков исстари смотрели со священным трепетом. Неудивительно и то, что никто особенно не заботился, чтобы ночью сделать большие дороги безопаснее и пригоднее для путешествий. И дело здесь не в безразличии или бездействии со стороны властей, поскольку, так или иначе, ночь все же вызывала серьезную озабоченность. Однако, вместо того чтобы превратить ночь во время более пригодное для существования, власти намеренно предпочитали ограничения и запреты. Чем меньше людей на улице, тем лучше. Ночь — ничейная «земля». Такой, по крайней мере, она виделась светским и религиозным властям.
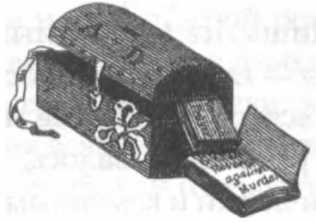
ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
Слабость власти
I
Городские ворота были заперты, а улицы перекрывались на время обеда, как будто шла война.
Файнс Морисон (1617)1
На протяжении всего доиндустриального периода о наступлении ночи в больших и малых укрепленных городах сообщали колокольным звоном, барабанной дробью, звуком рогов, разносившихся со сторожевых башен, крепостных валов и церковных колоколен. И тогда в католических землях городской шум стихал, превращаясь в тихое бормотание: люди начинали читать благодарственную молитву Ave Maria. Когда крестьяне и коробейники пускались в обратный путь, горожане спешили по домам, прежде чем огромные деревянные ворота, укрепленные массивными перекладинами, закроются на ночь, а стражники поднимут мосты, проложенные поверх рвов и канав — естественных границ города. «Лишь Ave Maria услышишь, смотри, чтобы дом был поближе» — гласила распространенная поговорка. С приходом ночи всякое сообщение между городом и сельской местностью резко обрывалось, семьи укрывались за земляными, кирпичными и каменными стенами, некоторые из которых достигали более 15 метров в высоту и 3 метров в ширину. Летом ворота не запирались до восьми-девяти часов вечера, но зимой, когда рано темнело, их могли запереть и в четыре. В это время года контраст между городской и сельской жизнью был особенно заметен. Горожане со спокойной совестью оставляли окружающие деревни на произвол судьбы, хотя в самих городах по крепостным валам ходила дозором вооруженная стража с факелами. В итальянских городах дозорные обязаны были каждые пять минут звонить в маленький колокольчик, чтобы было слышно, что они не спят2.
За порчу городской стены или попытку на нее взобраться предусматривались суровые наказания, а в Стокгольме даже отрубали голову. Если человек без предупреждения оказывался ночью рядом с городской стеной, это уже считалось преступлением. В 1602 году миланский ученый сообщал, что Ромул убил своего брата Рема за то, что тот перелез через римскую городскую стену. «Так погибнет каждый, кто перелезет через мои стены», — якобы заявил при этом Ромул3.
На протяжении нескольких столетий окружающий пейзаж украшали преимущественно средневековые городские укрепления. Настоящим бедствием крупных и малых городов было разрушение зубчатых стен с бойницами, на месте которых возводились другие, с заново укрепленными фасадами. Даже многочисленные небольшие поселения, несмотря на то что это требовало тяжелого труда, временных и материальных затрат, постепенно обретали необходимую защиту. В Нидерландах, к примеру, в XVI веке насчитывалось более двухсот укрепленных городов. Даже деревни иногда прятались за грубо сколоченными бастионами. По словам одного путешественника, в Германии «в каждой деревне имеются стена или окружной ров; фермерских хозяйств мало; люди живут скученно в городах». Страшась нападения разбойников со стороны реки, власти Амьена запретили в ночное время всякое судоходство по Сомме в том месте, где река протекает вблизи городского вала. От лодочников требовали, чтобы они до заката успевали внести в город свои лодки «под страхом быть объявленными врагами города»4.
Относительная безопасность Англии от иноземного вторжения в конце Средневековья в значительной степени объясняет сокращение количества на ее территории укрепленных поселений по отношению к периоду раннего Средневековья, когда их насчитывалось немногим более ста. Самые прочные укрепления окружали такие крупные города, как Норидж, Эксетер и Йорк. При отсутствии стен горожан защищали рвы или земляные валы. В Лондоне, несмотря на сохранившиеся древние обветшалые бастионы, было построено еще и множество ворот, отделявших одну часть города от другой. Строительство продолжалось даже после Великого пожара 1666 года. Наряду с воротами, от огня не пострадавшими, использовались и другие, перестроенные «с большею прочностью и великолепием», например Лудгейт и Ньюгейт. Все городские ворота, свидетельствовал Уильям Чемберлен в 1669 году, «содержатся в исправности и закрываются каждый вечер с вящим усердием»5. Для поддержания общественного порядка жители запирали их как в мирное, так и в военное время. Еще долго после того, как городские стены утратили свое первоначальное значение, они продолжали оберегать горожан от преступников всех мастей, включая бродяг и цыган. Разбойники, изгнанные из города днем, могли вернуться ночью и из мести устроить поджог. Еще в XIII веке Варфоломей Английский писал, что следует опасаться зла, чинимого «врагами» и «ворами». В одном французском городе члены магистрата беспокоились, что при отсутствии городских стен «войти может всякий»6.
Частенько запоздалые путники, застигнутые сумерками за городской чертой, были вынуждены ночевать прямо у закрытых ворот, если нельзя было устроиться в предместье. Трижды Жан-Жак Руссо, к своему ужасу, оказывался перед запертыми воротами Женевы — города, в котором предместий не было вовсе. Об одном таком случае он писал: «До города пол-лье, слышу сигнал отбоя; тороплюсь; слышу, как бьют в барабан, бегу со всех ног: задыхаюсь, весь в поту, сердце колотится; вдали вижу солдат на наблюдательных постах; бегу, кричу срывающимся голосом. Слишком поздно». В других местах для входа в город иногда требовалось заплатить пошлину, которая в Германии именовалась «плата за вход» (Sperrgeld). В Аугсбурге были особые ночные ворота Der Einlasse[23], которые предполагали проход по ряду запиравшихся помещений, а затем по подъемному мосту. Во Франции однажды караульный сержант в надежде получить изрядную мзду от жителей, возвращавшихся с далекой ярмарки, приказал позвонить в городской колокол на полчаса раньше. Запоздавшие пилигримы оказались перед выбором: либо платить, либо ночевать за воротами. Толпу охватила паника — все как сумасшедшие бросились к воротам, и в последовавшей давке погибло более ста человек. Некоторые, включая кучера и шестерку лошадей, утонули, упав с подъемного моста. За свою жадность караульный был колесован7.
Чтобы ограничить передвижения жителей внутри городских стен в ночное время, муниципальные власти ввели так называемый вечерний звон (curfew), или то, что мы теперь называем «комендантский час». Через некоторое время после закрытия ворот (или раньше, если на дворе было лето) колокола сообщали, что пора, погасив огонь, отходить ко сну. Само слово curfew, говорят, произошло от французского cuvre-feu, что буквально означает «закрыть огонь». До нас дошли сведения, что в 1068 году Вильгельм Завоеватель (ок. 1028–1087) якобы установил в Англии время «вечернего звона» — восемь часов. Неизвестно, хотел ли он таким образом избежать пожаров или, как предполагали позже, ночных заговоров, но сходные ограничения были распространены по всей средневековой Европе. Пешеходов прогоняли с улиц, а жителей домов, где после означенного часа горел свет, ожидали неприятности. Кроме штрафов, нарушителям могла грозить и тюрьма, особенно если их заставали на улице в неурочный час8. Правда, допускались редкие исключения, в основном когда речь шла о людях, профессиональная деятельность которых была напрямую связана с вопросами жизни и смерти, — священниках, врачах, повивальных бабках, мусорщиках, а также ветеринарах (потеря скотины могла стать настоящей трагедией для бедной семьи). Ночь допускала выполнение лишь самых неотложных обязательств. Плакальщикам, по крайней мере в Англии, разрешали всю ночь бодрствовать над телом усопшего (из боязни быть наказанными церковными властями за колдовство одна гильдия специально оговаривала, что никто из ее членов во время такого ночного бдения «не вызывает духов» и «не издевается над телом и добрым именем покойного»)9.
В дополнение к «вечернему звону» массивные железные цепи, закреплявшиеся тяжелыми висячими замками, перегораживали главные улицы городов, от Копенгагена до Пармы. В безлунные ночи это становилось серьезным препятствием как для всадников, так и для пешеходов. Только в Нюрнберге насчитывалось более четырехсот таких цепных заграждений. Каждый вечер цепи разматывали с огромных катушек и протягивали с одной стороны улицы на другую на уровне пояса, иногда в два или три ряда. В Москве, чтобы помешать ночным бродягам, вместо цепей поперек улиц выкатывали бревна. В 1405 году парижские власти приказали всем кузнецам ковать цепи для охраны не только улиц, но и Сены. В Лионе цепями отгораживали реку Сону, а в Амстердаме железные заграждения перекидывали через каналы10.
Лишь к концу Средневековья комендантский час стал соблюдаться не столь строго и приходился уже не на восемь, а девять и даже десять часов вечера. Существенно, однако, что власти были озабочены более общественным поведением людей, а не тем, как они вели себя дома, — их гораздо чаще волновали путники, бредущие неведомо куда, чем горожане, засидевшиеся допоздна при свете. Городской «Акт о ночных путниках», принятый в английском Лестере в 1553 году, осуждал «всяческих буянов и злонамеренных личностей», которые ночью «гуляют по улицам», тем самым «причиняя большое беспокойство добропорядочным людям, предающимся естественному отдохновению». Столь либеральная политика стала возможной не в результате искоренения ночных опасностей, а, скорее, из-за неэффективности прежних ограничений. Обеспечивать порядок удавалось плохо, гем паче что работа и общение затягивались во многих семьях и после «вечернего звона». Нередко окна частных домов были освещены дольше положенного срока на целый час и даже более. Но можно не сомневаться, что ночное веселье — дома или на улице — вызывало гнев городских властей. Как было написано в городском уставе Лондона в 1595 году, «никто после девяти часов вечера не должен следовать пагубной привычке испускать среди ночной тишины внезапные крики». Кроме пирушек, к типичным беспорядкам, согласно уставу, относились шумные ссоры, а также побои жены или слуг — каждый такой случай мог повлечь за собой штраф в три шиллинга и четыре пенса11.
Со временем комендантский час стал соблюдаться уже не так строго. Все больше людей свободно передвигалось по своим надобностям, особенно если это были люди с хорошей репутацией или путешествующие по веской причине, в отличие от «ночных побродяжек», не имевших, конечно же, разумной причины» для хождений по городу. Кроме тех, чье поведение, внешний вид или маршрут вызывали у властей подозрение, еще нескольким категориям людей запрещалось покидать дома ночью ввиду очевидной угрозы, которую они представляли для общественного порядка. Речь идет о чужестранцах, нищих и проститутках. В Париже, начиная с 1516 года, бродяг по ночам связывали попарно, а в Женеве с закатом солнца их просто выгоняли из города. Никто из чужеземцев не мог оставаться в Венеции более одного вечера без одобрения магистрата. По сообщению студента-медика Томаса Платтера в 1599 году, в Барселоне всем проституткам было определено жить на одной узкой улочке, каждый вечер перекрывавшейся цепями. Во многих поселениях проституток периодически преследовали ночные караулы. Лондонский муниципальный Совет, например, в 1638 году инструктировал констеблей о том, что им необходимо «прилагать все старания», дабы арестовывать «распутных и развратных женщин, шатающихся по улице» по ночам12.
Из всех маргинальных групп населения наиболее последовательной сегрегации подвергались евреи, особенно в тех местах, где их численность была значительной: им приходилось либо существовать в городских гетто, ворота которых запирались с наступлением сумерек, либо искать прибежище в близлежащих деревнях. Среди совершавшихся ночью «омерзительных и гнусных деяний», которые приписывались евреям, были сексуальные отношения с женщинами-христианками. Некий путешественник XVII века обнаружил, что в Вене евреям «полагается на ночь уходить за реку, в пригород». В Венеции, где в конце XVI века население составляло несколько тысяч человек, запертые ворота еврейского гетто охранялись четырьмя стражниками-христианами от заката до восхода. Интересно отметить, что исключение делалось для врачей, большая часть которых проживала в Новом Гетто (Ghetto Nuovo) после его образования в 1516 году. Поскольку многие из них пользовали пациентов за пределами гетто, им разрешалось выходить в город ночью при условии предоставления стражникам письменных отчетов13.
Не только проституткам, но и любым женщинам не дозволялось блуждать по улице в темное время суток. Мало того что они наносили урон собственной добродетели, путем низких интриг они вполне могли запятнать имя честного человека. Если не по закону, то в силу обычая женщины любого социального положения и возраста, за исключением повивальных бабок, рисковали навлечь на себя общественное порицание, если выходили ночью из дому. Их могли принять за прелюбодеек или проституток. Такие нередко подвергались домогательствам незнакомцев или оказывались под арестом. В памфлете Томаса Деккера «Фонарь и свет свечи» (Lanthorne and Candle-Light; 1608) констебль допрашивает женщину: «Где ты была так поздно?.. Ты замужем?.. Кто твой муж?.. Где ты спишь?» Несколько лет спустя в Гренобле компания судейских клерков совершила нападение на двух служанок. Позже в свое оправдание они заявляли, что у девушек «не было свечей, а ночью по улицам ходят только проститутки»14.
Даже добропорядочные мужчины сталкивались с определенными ограничениями после наступления темноты. В Каталонии, к примеру, могли ходить вместе не более четырех человек. Нередко без специальных разрешений запрещалось иметь при себе оружие — аркебузы, пистолеты и иное огнестрельное оружие, а также шпаги и кинжалы, несмотря на широкое их распространение у населения в период раннего Нового времени. С конца XIII века английское право запрещало ночным пешеходам носить «мечи и круглые щиты, а также другое оружие, годное для причинения ущерба». В итальянских городах не разрешалось иметь при себе «тайное оружие», например кинжалы или карманные пистолеты, которые легко было спрятать под плащом. Нарушитель, пойманный с пистолетом в Риме, мог быть отправлен на каторгу. К концу 1600-х годов прежние привилегии дворянства были отменены законом. Так происходило во всех национальных государствах Европы: государственная власть старалась лишить своих подданных оружия. В Париже в соответствии с ордонансом 1702 года не только знатным людям запрещалось носить огнестрельное оружие, но и их слугам нельзя было выходить из дому с палками и дубинами. Необходимость поддержания порядка становилась особенно насущной после заката, когда возможности для насилия — как частного, так и политического — возрастали. Днем вооруженным путешественникам в итальянских городах предписывалось привязывать эфес шпаги к ножнам (liga la spada), ночью же шпаги просто конфисковались. "Тем, кто имеет право на ношение оружия в городах, — писал путешественник, посетивший Флоренцию, — запрещается иметь его при себе с наступлением сумерек». «Ношение оружия поощряет насилие, — объяснялось в испанском декрете 1525 года, — и многие пользуются покровом ночи, дабы совершать всяческие преступления и мерзости»15.
Наряду с запретом на ношение оружия, ночью нельзя было также скрывать свою внешность под козырьком или маской, то есть подставлять «ложную личину», по определению английского законодательства. Время от времени вводились запреты на женские плащи с капюшонами и слишком большие мужские шляпы16. Городские указы требовали, чтобы жители ходили по улице с фонарем, факелом или иным «светом» (не разрешалось пользоваться потайными фонарями, владение которыми в Риме могло повлечь за собой тюремное заключение). Суть запретов, однако, вовсе не сводилась к стремлению предотвратить несчастные случаи. В Венеции, например, члены полновластного органа управления, Совета десяти, были избавлены от подобных ограничений. Целью подобных постановлений, широко распространенных в Европе, было предоставление властям всеобъемлющего контроля над горожанами, особенно в те моменты, когда необходимость в этом возрастала. С небольшого расстояния свет фонаря или факела помогал увидеть если не лицо, то хотя бы одежду человека и определить его положение. Наказание за неповиновение было суровым. В Париже за хождение без огня полагался штраф в 10 су, что в конце XIV века равнялось стоимости 60 буханок хлеба по 18 унций каждая17.
Освещение на городских улицах было крайне скудным, не говоря уже о селах и деревнях. Кроме естественного света луны и звезд, основным источником ночного освещения в городах служили наружные фонари частных домов. Внутрь висевших на домах фонарей вставлялась свеча, а сами они представляли собой цилиндр с узкими щелями, чтобы защищать свечу от ветра, или прозрачные пластины из рога животных (спиленные рога убитого скота сначала отмачивались в воде, затем нагревались, выравнивались и нарезались тонкими пластинами). В начале XV века лондонские власти потребовали, чтобы по определенным вечерам домовладельцы, жившие на главных улицах города, вывешивали такой фонарь на каждый дом, причем за свой счет. Речь шла о днях почитания святых, а также о днях парламентских сессий, когда необходимо было освещать дорогу членам парламента, вынужденным поздно возвращаться в свои жилища. В 1415 году первое из многих лондонских постановлений распространило данное требование на все вечера между кануном Дня Всех Святых (31 октября) и Сретением (2 февраля). В 1461 году в Париже по повелению Людовика XI (1423–1483) фонари стали вывешиваться в окнах жилых домов, выходящих на главные улицы. Эти улицы впоследствии получили название «фонарных» (rues de la lanterne). В 1595 году в Амстердаме был издан подобный указ с той лишь разницей, что он затрагивал один дом из двенадцати18. Вдали от столиц муниципальные усовершенствования проходили значительно медленнее. Англии потребовалось еще сто лет, чтобы провинциальные города начали вяло следовать столичному примеру. В начале 1500-х годов, например, в Йорке фонари вывешивались олдерменами, а в Честере — мэром, шерифом и трактирщиками. А вот в Бристоле и Оксфорде уличного освещения не вводилось вплоть до XVII века19.
Изначально не предполагалось, что благодаря этим мерам города и селения будут обеспечены освещением каждую ночь. В большинстве указов говорилось, что фонари следует зажигать в течение нескольких месяцев в году, когда зимние ночи самые длинные, да и то только в безлунные вечера. В Лондоне освещение считалось ненужным, начиная с седьмой ночи после каждого новолуния и до второй ночи после полнолуния. Кроме того, свечи должны были гореть не всю ночь, а всего лишь несколько часов.
В те времена дозорные пели такую песню:
Вы, девушки, зажгите свет,
Пусть ярче не было и нет
Для тех, кому в ночи идти
С шести часов до девяти.
Без страха весь народ честной
Пускай идет к себе домой[24].
Предполагалось, что свет должен указывать дорогу к лому, однако он не обеспечивал должной безопасности как для пешеходов, так и для домовладельцев. Из-за дороговизны фонарей и сальных свечей, вкупе с постоянной угрозой вандализма и воровства, исполнительность жителей была далека от идеальной. Ветер и дождь также не позволяли как следует поддерживать огонь, и поэтому фонари, как правило, отбрасывали лишь очень тусклый свет20.
Значительная часть улиц оставалась неосвещенной. Однако бывали и исключения. В особых случаях муниципалитеты могли потребовать от жителей обеспечить освещение, либо поместив огонь на окнах, либо разведя костер, либо поставив свечи на порогах домов. Закон предписывал жителям датских городов выходить из дому со свечами и оружием в руках, дабы оказать необходимую помощь жертвам преступлений. Огонь мобилизовывал население, как и военные угрозы. Если в современном мире в период войны в городах используется затемнение, то в доиндустриальную эпоху, наоборот, требовалось как можно больше света, чтобы организовать отпор врагу. Однажды в начале XV века угроза заговора в Париже вызвала такие беспорядки, что казалось, «будто город полон сарацин». К тому же всем домовладельцам было приказано зажечь фонари. В разгар «Славной революции» 1688–1689 годов жители Лидса, когда поползли слухи о сражении в соседнем городе, выставили в окнах «тысячи зажженных свечей», снаряжая своих мужчин на помощь соседям21.
Публичные праздники тоже требовали ночного освещения. Правительство устраивало великолепные иллюминации, в том числе фейерверки, по случаю рождений, свадеб и коронаций монархов, а также в честь военных побед. Когда король Франции в 1499 году захватил цитадель Милана, радостные флорентийцы разожгли костры и осветили городские башни под перезвон колоколов. В 1654 году по приказу властей барселонцы жгли в домах свет три ночи кряду, чтобы отпраздновать окончание эпидемии чумы. «Хотя в то время люди жили небогато и много страдали, — писал современник, — каждый хотел принять посильное участие в праздновании». По торжественным случаям в Англии обычно освещались окна жилых домов, а кроме того, частенько разводились костры и устраивались фейерверки. В 1666 году, в ночь на день рождения короля, Сэмюэл Пепис едва дошел домой, потому что костры горели повсюду на лондонских улицах. Во время патриотических празднеств ослепительная иллюминация на фоне темной ночи внушала благоговейный трепет. «Народ, — утверждал Король-Солнце Людовик XIV (1638–1715), — любит зрелища, чему мы при любом случае всегда благоволим». Позже некий наблюдатель проницательно заметил, что целью этих ярких зрелищ было как раз таки «держать народ во тьме»22.
Церковь, в свою очередь, тоже полагалась на силу воздействия пышных церемоний. Одна из главных идей — идея света в христианской теологии придавала особый смысл священным праздникам, свидетельствуя о непосредственной близости Христа и постоянной борьбе Церкви с темными силами — о конфликте и реальном, и символическом одновременно. Ибо свет, как писал Джон Мильтон в «Потерянном рае», был «первым творением Господа». Чтобы чествовать Христа, папа Геласий (ум. 496) в конце V века ввел праздник Сретения, и с тех пор каждый год 2 февраля Церковь благословляет горящие свечи. Свет, озаряющий тьму, утверждал в зрелищной форме власть Господа над незримым миром. До Реформации этой традиции следовали все церкви. Но с возникновением идеи «очищения алтаря» в протестантских землях Европы украшательство в виде свечей неизменно воспринималось как папистское идолопоклонство. В английской диатрибе 1553 года обличался обычай «возжигать лампы и огни вечно горящие / Перед образом прекрасной Девы». Однако во время совершения католических церковных таинств для освещения алтарей продолжали активно использовать огромные восковые свечи. Над белым пчелиным воском поднималось чистое пламя с тоненькой струйкой дыма. Многие годы спустя Джеймс Босуэлл писал, что даже незажженные свечи дают «более ясное представление о небесах, чем все обряды Англиканской церкви, вместе взятые»23.
Именно ночью католики устраивали наиболее впечатляющие праздники. Более уверенно, чем любая протестантская религия, Церковь Контрреформации публично провозглашала ночь сферой своего господства. Нередко в качестве подтверждения тому можно было услышать колокольный звон, раздававшийся как по печальным, так и по праздничным поводам, а также во время грозы, дабы отгонять злых духов. Например, в епархии архиепископа Зальцбургского церковные колокола звонили всю ночь во время летнего солнцестояния 1623 года, чтобы уберечь людей от «дьявольских козней»24. Но все же главным оружием Католической церкви против тьмы был свет. Для освещения праздников вдоль улиц расставлялись свечи и бумажные фонарики. В Германии XVII века католические общины вдохновлялись инсценировками страстей Господних — их устраивали в Страстную пятницу иезуиты и капуцины. В Испании на Страстной неделе в среду вечером по улицам городов шли процессии со свечами, в каждой из которых было по четыре фитиля, и тут же перед зеваками хлестали плетьми кающихся грешников. По описанию путешественника, во время одного из подобных празднеств в сицилийском городе Мессине в начале 1670-х годов «улицы освещены так, что ночью видно почти как днем». Зрелище было настолько ярким, что город становился виден на мили вокруг. Соборы и церкви, освещенные сверху донизу, представляли собой центры праздничной композиции. Как повествует очевидец, глядя на церковь Святого Марка в Риме в канун Рождества, «можно было подумать, что она вся в огне». «Освещение великолепно, как будто действие происходит в сказочной стране, — утверждал Гёте. — Просто не веришь своим глазам»25.
Впрочем, распространенность таких впечатляющих зрелищ не следует преувеличивать. Их пышность в значительной степени объяснялась тем, что происходили они нечасто. Как и протестанты, Католическая церковь рассматривала ночь прежде всего как святое время для уединения, молитвы и отдыха. Когда кардиналы после смерти Павла III (1468–1549) пришли ночью к кардиналу Пулу, чтобы «поклониться» ему как новому папе, то тот, по преданию, с упреком сказал им, что «Бог любит свет», и не пустил к себе, попросив подождать до утра (тогда кардиналы выбрали вместо него Юлия III (1487–1555). Более типичными, однако, были не столь великолепные доказательства католического господства над тьмой. В период позднего Средневековья во многих европейских странах верующие возжигали свечи у изображений Мадонны. Освещенные живописные образы Девы Марии и других святых располагались на стенах домов и церквей, что и обеспечивало основное освещение городских улиц. Подобные места поклонения так часто попадались на дорогах Нидерландов, что, по замечанию современника, там было «легче повстречать Бога, чем человека». По всей Испании в сельской местности были разбросаны маленькие часовенки, освещенные лишь одной свечой. Власти надеялись, что эти святые места не только будут вызывать благоговение, но и помешают путникам совершать нечестивые поступки. Набожные люди, кроме того, полагали, что это спасает от злых духов. Вплоть до конца 1700-х голов власти Рима, не склонные бороться с ночной темнотой, выступали против каких-либо иных осветительных приспособлений, полагая, что в них кроется кощунственное нарушение Божественного порядка. «Весь Рим был бы погружен зо тьму, — писал путешественник, — если бы не свечи, которые благочестивые люди иногда ставят перед некоторыми статуями Девы Марии». Так же обстояли дела в Венеции. Только в Неаполе XVIII века Церковь решилась на более прагматичный подход. Влиятельный доминиканец, известный под именем отец Рокко, поддержал установление статуй Мадонны вдоль наиболее оживленных дорог, а многочисленные его последователи приносили к ним ламповое масло. «Он ставит их в самых необходимых местах, и благодаря его стараниям благочестие служит людям», — писал современник26.
К тому времени власти других европейских стран в условиях роста крупных и малых городов осознали необходимость усовершенствования уличного освещения. Во второй половине XVII века большие города начали предпринимать шаги по освещению главных улиц за счет населения. Отношение властей к этой проблеме изменилось по очевидным причинам. Свою роль сыграли технологические новшества. В Лондоне по инициативе Эдмунда Хеминга и в Амстердаме Яна ван дер Хейдена были установлены новые уличные фонари. В лампах использовался отражатель для усиления света. Масляные лампы ван дер Хейдена были так популярны, что они распространились по всей Европе, включая Кёльн, Лейпциг и Берлин. Не менее важным обстоятельством, наряду с техническим прогрессом, стало появление государств раннего Нового времени, в которых стремительно возрастала регулирующая роль правительства. Расцвет торговли и подъем городов были также весьма существенным фактором, став источником роста благосостояния имущих слоев населения и тем самым обеспечив доступность развлечений: открывались питейные заведения, процветали азартные игры, проституция приобретала более организованные формы. Комендантский час там, где он еще сохранялся официально, фактически игнорировался. «Его не то чтобы отменили, а, скорее, преодолели», — писал о ситуации в Лондоне Джон Битти. Все эти перемены, слившись воедино в последние десятилетия XVII века, значительно усложнили городскую жизнь по причине «многих неприятностей и неудобств на темных ночных улицах», а это, в свою очередь, вызывало неодобрение властей. «Грабежи, — предупреждал парижский чиновник в 1667 году, — совершаются в основном в темных кварталах и переулках, где нет фонарей». На следующий год, когда появилось предложение осветить улицы Амстердама, в нем перечислялись и проистекающие от темноты несчастья: преступления, пожары, случаи с утопленниками27.
Если до 1650 года ни один из крупных европейских городов не вводил никакого уличного освещения, то уже к 1700 году это сделало значительное число муниципалитетов, начиная с Парижа (1667), Амстердама (1669), Берлина (1682), Лондона (1683) и Вены (1688). Столицы национальных государств особенно старались, чтобы их не обогнали метрополии-соперники. Уличное освещение, финансируемое государством из собранных налогов, состояло из масляных ламп и, как в прежние времена, из фонарей со свечой внутри. В Париже сотни фонарей подвешивались на веревках, натянутых высоко над главными улицами с интервалом около 60 футов. «Сам Архимед, будь он жив, не мог бы изобрести ничего более необходимого и полезного», — восхищался сицилийский приезжий. Начало было положено первым генерал-лейтенантом парижской городской полиции Николя де ля Рейни, успешно представившим достоинства осветительного проекта Людовику XIV. К концу столетия ежегодные расходы на содержание более 6 тысяч фонарей, как показывали проведенные в Англии подсчеты, составляли почти 50 тысяч фунтов стерлингов. Из этой суммы, прежде всего, делались выплаты фонарщикам, но, кроме того, большие деньги шли механикам, канатчикам, стекольщикам и производителям сальных свечей. Посетивший Париж путешественник заметил, что фонари здесь горят целый вечер и такое расточительство, по его мнению, вполне оправданно. Гораздо менее благосклонно он отозвался об английских чиновниках, ограничивших использование новых масляных ламп лишь самыми темными зимними ночами, «как будто [в другие вечера] луна обязана сиять и освещать улицы». Через полвека после устройства освещения в Лондоне более пятнадцати английских провинциальных городов решили пойти по стопам столицы — от Ковентри и Йорка в 1687 году до Бирмингема и Шеффилда в 1735-м28.
Впрочем, важно оценить эти усовершенствования в перспективе. А пока большую часть ночи города в основном оставались погруженными во мрак. Несмотря на общественное финансирование, городское освещение в начале XVIII века было скудным. За исключением главных дорог, улицы, как правило, его не имели. Редко можно было найти кварталы, где света хватало, чтобы один пешеход смог различить другого. Так же как и в Лондоне, улицы в большинстве городов освещались только в самые темные зимние ночи и только до полуночи. Некоторые крупные города, например Стокгольм, Лиссабон и Флоренция, так и не ввели вечернего освещения. Фонари в Дублине вплоть до 1783 года располагались на расстоянии около сотни ярдов один от другого — как раз достаточно, жаловался один путешественник, чтобы предостеречь об «опасности свалиться в подвал»29. Даже в Париже, где фонари горели всю ночь, возникало множество проблем, начиная от нехватки фонарщиков до эпидемии вандализма и воровства. Сами же фонарщики и крали свечи. Недовольные ворчали по поводу высокой цены за освещение и столь же плохого его качества, особенно для пешеходов, из осторожности вынужденных придерживаться края улицы. Поскольку освещение в Париже и других французских городах было проведено «в интересах высших классов», путешествующих в экипажах, то, по словам современника, «пешеход вынужден брести как попало, спотыкаясь во мраке, по грязи, по обочинам дорог или улиц». Кроме того, фонари в Париже горели только в зимние месяцы, как и в других европейских городах с конца Средневековья. Неудивительно, что в 1775 году посетивший Париж путешественник отмечал: «Город большой, зловонный и плохо освещенный». Луи-Себастьян Мерсье полагал, что городские фонари нужны только для того, чтобы «сделать видимой тьму»30.
Но старые предрассудки трудно изживаемы. В умах государственных чиновников и религиозных лидеров сохранялось убеждение, что темное время суток — неприкосновенно, священно и опасно. Наиболее наглядно это проявилось в Риме, однако подобная идея нашла отклик и у протестантов. Несмотря на введение уличного освещения, городской Совет Лейпцига предписывал жителям в 1702 году «по вечерам находиться со своей семьей дома». Относительно настроений в Женеве Жан-Жак Руссо писал, что «для использования фонарей согласия Божиего не требуется». За исключением крайних случаев или особых торжеств, добропорядочные горожане должны были находиться дома, посвящая вечерние часы отдыху и молитве. К тому же уменьшалась вероятность пожара, который мог возникнуть по вине какого-нибудь ослепленного ярким светом пешехода, несущего зажженный факел. Освещенные же улицы должны были помочь людям выполнить свои неотложные дела, а не способствовать разудалому веселью пьяниц. «Мы не должны превращать день в ночь и ночь в день, — писал один лондонский пастор в 1662 году, — без особой на то причины». В других случаях, как полагала верховная власть, основная задача искусственного освещения состояла в помощи ночным дозорным — единственным стражам закона и порядка в больших и малых населенных пунктах31. Защита жизни и имущества лежала исключительно на их плечах, какими бы призрачными их силуэты ни казались среди ночных теней.
II
Ежечасно я вздрагиваю на постели от жуткого шума стражников, которые кричат во всю глотку, сообщая, который теперь час, и стуча в каждую дверь; компания бесполезных парней, единственное дело которых — мешать жителям предаваться сну.
Тобайас Смоллетт (1771)32
Все-таки древнейшей профессией следует считать не проституцию, а ночной дозор, который появился, как только люди испытали страх темноты. В древних обществах часовые бодрствовали постоянно — городские улицы и днем и ночью охраняли пешие и конные стражники. Но именно ночью города полагались на их зрение и слух больше всего. «Дозорные, не дремлющие в городах по ночам, — заметил Платон, — внушают ужас злодеям, будь то горожане или враги». О ночных стражах римский префект Кассиодор писал в V веке: «Вы станете защитой для спящих, охраной для жилищ, стражей у ворот, невидимыми блюстителями и молчаливыми судьями»33. Средневековые поселения также выставляли часовых в мирное время. Еще в 595 году франкский король Хлотарь II (584–628) потребовал, чтобы города выставляли ночную стражу (guardes de nuit). Спустя несколько столетий эту обязанность иногда брали на себя гильдии. В 1150 году в Париже купцы и ремесленники каждую ночь предоставляли своих людей для несения караульной службы. Что касается Англии, то систему ре1улярных дозоров в каждом городе — от самого маленького, до самого большого — устанавливал Винчестерский статут 1285 года. Закон определял, что дозорные всю ночь патрулируют улицы, имеют право арестовывать подозрительных путников и, если необходимо, поднимать горожан криками «Держи вора!»34.
В тосканском городе Сиене в начале XIV века также существовал небольшой отряд дозорных, однако во многих европейских городах дозорные появились только в XVI веке, а до этого люди полагались на часовых и крепкие заставы. В это же время во Франции появились патрульные отряды горожан (Famille de Guet), которые существовали на протяжении всего Старого режима. В Швейцарии Морисон обнаружил «вооруженных горожан, патрулирующих различные улицы». Пожалуй, наиболее типичным для крупных английских городов был Йорк, который в середине XVI века полагался на бдительность отрядов из шести человек для каждого района города. Дозорные патрулировали город с восьми вечера до пяти утра. Вот что писал о Лондоне Томас Платтер: «Поскольку город очень большой, открытый и многонаселенный, каждую ночь по улицам ходит патруль»35. В крупнейших городах американских колоний от Бостона до Чарлстона были введены патрули уже в течение первых десятилетий образования поселений. Сначала это произошло в Бостоне в 1636 году: в летние месяцы патрули после заката обходили город. Но самый внушительный ночной дозор был в Нью-Йорке. К середине 1680-х годов он состоял из 40 человек, которые разделялись на отряды по восемь дозорных для несения службы в пяти районах города36.
Однако не все города полагались на дозорную службу. В Берлине регулярное патрулирование улиц было введено только в XVII веке. Дублин ввел дозорных в 1677 году по образцу Винчестерского статута. Франкфурт предлагал горожанам щедрое денежное вознаграждение за поимку преступников частным порядком37. Многие маленькие города, в которых было не больше одного или двух констеблей, заводили дозорных разве только после какого-нибудь серьезного происшествия. В XVIII веке в эссекской деревне Мол дон лишь огромное количество ночных краж со взломом заставило жителей обзавестись скромным отрядом дозорных из трех человек. А вот города стратегического назначения вводили более внушительную охрану. В то время как в Венеции к XV веку по улицам ходили профессиональные стражники, именуемые «сбиры» (sbirri), знаменитый городской арсенал с его кораблестроительными верфями формировал отряды охраны из собственных рабочих. Верфи регулярно патрулировались самыми крупными подразделениями под названием «ночные стражи» (guardiani di notte). Не столь распространенной практикой было использование мастифов, которых каждый вечер спускали с привязи внутри городских стен Сен-Мало, гарнизонного города на северном берегу Франции, где хранилось большое количество материалов для строительства и ремонта деревянных парусных судов. Этот обычай уходит своими корнями в XIII век. Еще тогда доминиканский монах Альберт Великий отмечал, что собаки «патрулируют хорошо и надежно». «Когда на город спускаются сумерки, — сообщал очевидец в начале XVII века, — колокол предупреждает, что всем пора возвращаться внутрь городских стен. Потом ворота запираются, и 8 или 10 пар голодных мастифов выпускаются, чтобы рыскать по улицам всю ночь напролет и охранять шкиперское имущество и тому подобное. Бывает, пьяный останется лежать на улице на свою беду, и тогда его находят утром растерзанным, как Иезавель в Израиле»38.
Несмотря на подобные аномалии, ночной патруль стал привычной приметой городского пейзажа. Разница наблюдалась в количестве дозорных, их внешнем виде и стоимости содержания патруля, но основные обязанности практически везде были одинаковые. Как правило, часовые обходили территорию пешком — по одному или парами — в границах района или прихода, хотя некоторые, как, например, ночные дозорные в Париже, передвигались верхом. Патрулирование городов велось круглогодично и большую часть ночи. «Такова практика во всех странах, — писал один автор в 1719 году, — если в городе имеется достойное управление». Что касается Англии, то каждый отряд дозорных подчинялся констеблю, который находился в специальном караульном помещении. В Лондоне патрульное дело было организовано таким образом уже в 1640-х годах. В каждой караулке полагалось иметь очаг, у которого грелись стражники до и после выхода в дозор39. В основном дозорные были легко вооружены: у них имелись лишь фонарь и дубина или алебарда, представлявшая собой секиру на древке. В Норвегии и Дании стражники носили булаву с шипами под названием «утренняя звезда» (Morgenstern). В Стокгольме предпочитали дубинку с несколькими «клешнями», которыми цепляли хулиганов за ногу или шею. Наряду с трещотками для подачи сигнала тревоги, члены амстердамского «трещоточного» ночного дозора имели при себе также пику или алебарду. Только в американских городах, пограничных с индейскими территориями, до XVIII века было распространено огнестрельное оружие. В только что сформированном поселении Нью-Хейвен дозорным следовало рапортовать «в течение часа после захода солнца о боеготовности отряда и заряженном оружии»40.
Дозорные посты в городах доиндустриальной эпохи размещались и на колокольнях, дабы стражники могли затрубить в рог или позвонить в колокол при появлении первых признаков тревоги. В случае пожара следовало вывесить фонарь на ту сторону, с которой был замечен огонь. К XVI веку вдали от Британских островов и Средиземного моря на территории от Бергена до Гданьска обычной мерой предосторожности служили высотные дозорные посты, призванные помогать наземной страже. Как правило, выбиралась самая высокая башня с наилучшим обзором. В Амстердаме дозорных помещали даже не на одну, а на четыре башни. На вершину башни Сен-Бертен во французском городе Сент-Омер вело более трехсот ступеней. Но бывало и иначе: силуэт американских городов, как правило, не пересекал горизонта, поэтому поселенцы Новой Англии устраивали наблюдательные пункты на крышах молитвенных домов. Власти Нью-Хейвена приказывали дозорным обозревать город несколько раз за ночь на случай пожара или нападения индейцев. Дозорным приходилось тяжело не только из-за однообразия службы, но и из-за холода и сильного ветра. Датчане, к примеру, держали при себе бутылки с выпивкой. А дозорные с нюрнбергских башен привыкли трубить в рог, чтобы отогнать сон41.
Пешие стражники, наряду со сведениями о состоянии погоды, выкрикивали и время. Это делалось каждый час дежурства. В церковные колокола звонили дважды — с наступлением комендантского часа и с рассветом. Свои сведения дозорные сопровождали громогласным распеванием рифмованных припевок. Некоторые носили шутливый характер. Вот, например, английская песенка:
Мужчины и дети, жены и девы,
Пора, чтоб исправить вы жизнь захотели.
Замки запирайте и спите всю ночь,
А мы непорочным могли бы помочь.
Такие песенки часто содержали практические предложения. Традиционным советом было: «Следи за замком, очагом и свечой». Иногда, как, например, в Марселе, выкрикивали успокаивающе: «Спите спокойно, я в дозоре». В некоторых был силен религиозный дух — сообщения о времени перемежались призывами к молитве. «Поднимись, добрый христианин, и встань на колени», — произносили нараспев в Словакии. А дозорные Северной Англии молили:
Хо, дозор, хо!
Двенадцать часов!
Боже, храни наш дом
От огня и меча,
От всяких врагов.
Двенадцать часов!42
Крики дозорных, звучавшие периодически в течение всей ночи, порождают закономерный вопрос. К кому они обращены? Кто их слушал в столь поздний час? Возможно, они были призваны свидетельствовать, что дозорные бодрствуют, что они не пристроились вздремнуть в каком-нибудь переулке, в чем их иногда обвиняли. Но для этого вполне хватило бы рожка или колокольчика. В Лейпциге дозорные трубили в рог, чтобы сообщить, который час, и к тому же зачитывали наизусть благочестивые наставления. Кажется вполне очевидным, что там, как и в других странах, целью муниципальных властей, несмотря на поздний час, было общение с жителями, — отсюда и нравоучительное содержание стихов, предназначенных для тех, кто их слышит. Указ, принятый в датском портовом городе Хельсингёре, гласил, что жители должны знать, «как проходит ночь»43.
Но крики дозорных, кроме того, имели и еще одно следствие, касающееся спящих горожан. Судя по частым жалобам, сон жителей был весьма неглубоким и прерывался в основном именно крикливыми стражниками. От современников, которых постоянно будили славословия, посвященные крепкому сну, не укрылась комичность ситуации. «Как только ляжешь ты поспать, — негодовал поэт начала XVII века, — про сладкий сон начнут кричать». В датской пьесе «Маскарады» (Mascarade; ок. 1723), написанной бароном Людвигом Хольбергом, слуга Хенрик жалуется: «Ночью каждый час они будят людей ото сна, громким криком выражая надежду, что те хорошо спят». Корреспондент лондонской газеты, выступающий под псевдонимом Страдающий Бессонницей (Insomnius), приписывал такие вопли зависти. И все же местные власти полагали, что некрепкий сон повышает бдительность и помогает предотвращать всякие несчастья — нападение неприятеля, преступления, пожары. Крики стражей, охраняющих ирландские замки, судя по сохранившимся свидетельствам, служили той же цели. Ричард Стейнхёрст, историк конца XVI века, замечал: «Они регулярно кричат, упреждая домовладельцев, дабы уберечь их от ночных грабителей и бродяг: не следует спать слишком крепко, иначе трудно будет дать должный отпор забравшимся в дом злодеям». Был ли этот шум продуманной политикой или естественным следствием несения дозорной службы, но отцы города редко принимали во внимание жалобы горожан на крики часовых44.
Одной из основных обязанностей ночного дозора было предотвращение пожаров. Пожары не только чаще случались ночью, они еще оказывались и более опасными — мало кто мог поднять тревогу. Делом дозорных было определить источник подозрительного света или дыма. В колониальной Филадельфии часовые имели приказ арестовывать всякого, кто курит на улице, а в Бостоне им самим запрещалось «вдыхать табак» рядом с чьим-нибудь жилищем. Если же где-то вспыхивало пламя, патруль немедленно поднимал тревогу. Проституткам в городах, где они находились на легальном положении, было поручено выполнять те же функции. Обычно звон колоколов тоже сообщал тревожную новость. После стокгольмского пожара 1504 года звонаря за пренебрежение своими обязанностями собирались казнить на дыбе, но благодаря просьбам о смягчении участи ему лишь отрубили голову. Во Франции дозорные могли привлечь к борьбе с огнем любого прохожего, жаловался Мерсье, «невзирая на возраст, занятие и знаки отличия». Тех, кто отказывался помогать на пожаре, следовало подвергать аресту. Если уклонившихся признавали виновными, им отрезали уши45.
У патрульных были и дополнительные задачи во время обходов, например проверять, хорошо ли хозяева запирают двери. «Проходя мимо, — рассказывает посетивший Лондон путешественник, — они сообщают, который час, и палкой стучат в дверь каждого дома». Однажды рано утром стук в дверь разбудил Пеписа: «Это были констебль и дозорные, обнаружившие, что дверь на наш задний двор открыта»46.
Обязанностью дозорных было проявлять бдительность по отношению к потенциальным преступникам. В Англии им разрешалось арестовывать ночных прохожих только на основании собственных подозрений. Они имели право задерживать, имея лишь самые общие полномочия, пьяниц, проституток, бродяг и других сомнительных личностей. По свидетельству современника, «если им встречается кто-то, кого можно заподозрить в злонамеренном поведении — ссорящихся людей или распутных женщин, — дозорные имеют право препроводить их к констеблю в караульное помещение». Там арестованных либо допрашивал мировой судья, если он находился на месте, либо их оставляли на ночь под арестом до утреннего разбирательства, после чего нередко отправляли в исправительный дом. У стражников было немало возможностей для злоупотребления данной им властью. Уважаемые горожане возмущались столь широкими полномочиями, ибо дозорные могли схватить «людей благороднее, чем они сами», как жаловался один писатель XVII века. Но с бедными стража обращалась еще хуже, чем с богатыми. Однажды ночью в 1742 году пьяные лондонские констебли бросили в арестантскую 26 женщин, заперев при этом окна и двери. К утру четыре арестантки умерли от удушья. Констебль из пьесы Неда Уорда восклицал: «Монарх я ночи, встречных я хватаю, обыскиваю, иногда и отпускаю. И, как король, кого хочу в тюрьму сажаю»47.
Принимая во внимание тот факт, что в центре города нередко совершались разнообразные преступления, можно задаться вопросом: почему власти не создавали более многочисленные и профессиональные отряды? Кроме финансового бремени, как в Англии, так и в Америке, монархию останавливали и традиционные опасения, что хорошо обученная полиция, подобно регулярной армии, может подпасть под влияние какого-нибудь сильного предводителя. В 1790 году русский путешественник Н. М. Карамзин замечал: «Англичане боятся строгой полиции и лучше хотят быть обкрадены, нежели видеть везде караулы, пикеты и жить в городе, как в лагере»48. Некоторые чиновники, возможно не без сожаления, полагали, что ночь является своего рода отдушиной для преступников. Пусть лучше человеческие пороки проявляются под покровом ночи, чем возникает риск беспорядков в дневное время. Насколько близоруким был такой подход, со временем становилось все очевиднее. Но, скорее всего, в силу доминирования подобных представлений в это же время не осуществлялось ужесточения мер по борьбе с преступностью. Существенно и то, что в доиндустриальную эпоху задачи городских властей по сдерживанию опасного поведения на улицах и предотвращению пожаров главным образом решались путем пресечения любой деятельности в ночное время. Во всей Европе в обязанность дозорных входило «следить, чтобы на улицах не было людей, которые в этом не нуждаются». Цель стражников состояла вовсе не в том, чтобы ночное время стало более удобным для людей, оказавшихся на улице. В крайнем случае пешехода могли проводить домой. Но даже эта услуга оказывалась далеко не всегда. Очутившись на темной улице и «будучи сильно напуган», лондонец Сайлас Невилл так и не смог уговорить ни одного дозорного проводить его до постоялого двора, хоть и просил об этом неоднократно. «Они все отказывались, — писал он, — и я отправился на свой страх и риск. Слава богу, я дошел целым и невредимым!»49
И все-таки на дозорных лежала огромная ответственность. Каждую ночь в течение восьми и более часов только они представляли собой законную власть, аналогичную целому ряду муниципальных учреждений, действующих днем. За исключением констеблей, которым подчинялся дозор, больше никакие властные структуры не занимались охраной покоя горожан и защитой их домов от внезапного пожара. «Дозорные, — заявлял житель Бостона, — самые главные стражи ночного города». Их работа и так была достаточно тяжелой, к тому же прибавлялись усталость, холодная погода, усыпанные отбросами улицы — все это делало дежурства чрезвычайно обременительными50.
Первоначально во многих населенных пунктах долгом каждого дееспособного горожанина считалось периодическое несение дозорной службы за небольшую плату, а иногда и даром. Однако уже в XVI веке состоятельные горожане платили местным чиновникам, чтобы те нанимали кого-нибудь на их место. Практически везде по обеим сторонам Атлантики эта схема внедрялась довольно успешно. И все же плата дозорным была невысокой. Многим приходилось подрабатывать еще и днем. У некоторых, старых или больных, дополнительным доходом становилось подаяние. «Немощный», «хилый», «изможденный» — вот наиболее распространенные описания ночных стражей. Нориджский суд в 1676 году объяснял частые пожары нехваткой среди дозорных «трезвых и крепких жителей». Однажды лондонские присяжные даже оправдали ночного грабителя, забравшегося в дом, потому что «дело полностью основывалось на показаниях дозорного», который был признан «старым, а его зрение слабым». К тому же несколько человек в отряде патрульных были совсем еще юными. Нью-йоркские власти не разрешали брать в дозор мальчишек, подмастерьев и слуг. Члены городского управления Бостона с прискорбием отмечали в 1662 году, что «город много раз вверялся дозору, состоящему из одних юношей». Хотя констебли иногда принадлежали среднему классу, большая часть дозорных происходила из низших слоев — «отбросов общества», как утверждал современник. В словацких деревнях в патрульные отряды поступали даже вдовы51.
Трудно преувеличить всю меру общественного презрения к ночным стражникам. Доверия не вызывали ни их полномочия, ни внешний вид. Эти люди сильно отличались от удалых красавцев в шелках и гофрированных воротниках на знаменитой картине Рембрандта, изображающей стрелковую роту капитана Франса Баннинга Кока, позже неверно названной «Ночной дозор». Ввиду отсутствия формы дозорные обычно носили драные шляпы, а также плащи и куртки из толстого сукна, чтобы уберечься от пронизывающего ночного холода. Один автор так описывал лондонского дозорного: «Он был весь укрыт длинным темным одеянием, доходящим до лодыжек, и перепоясан широким ремнем, к которому крепился фонарь». Иногда голову обматывали тряпками вместо шарфов. Английские дозорные ели лук, что служило отдельным поводом для насмешек. По словам Томаса Деккера, «они считали, что это хорошее лекарство от простуды». Поведение дозорных часто подвергалось осмеянию, и сами они нередко оказывались мишенью драматургов и поэтов. В комедии «Много шума из ничего» 1600) Шекспир использовал распространенный тип дозорного для образа констебля Кизила. Под его веселым началом приходские стражники с удовольствием отдыхают на скамейках и не замечают воров. «Самый мирный выход для вас, — поучает сторожей Кизил, — предоставить пойманному вору возможность самому показать, что он за птица, и улизнуть от вас»[25]52.
Некоторые стражи мудро воздерживались от слепого следования непопулярным законам, особенно если нарушения были незначительные. Так, парижский дозор не стал разгонять запоздавших кутил в кабаре, потому что они были — честными людьми».
Обвинения в коррупции, предъявляемые страже, носили всеобщий характер, причем дозорных обвиняли не только з связях с проститутками, но и во взятках, и в сговоре с ворами. Один лондонский автор писал: «Констебли, совершая обход своей территории, наведываются в дома терпимости и получают плату за невмешательство в их деятельность». Но чаще всего дозорные обвинялись в халатности: они могли вздремнуть, выпить лишнего, пропустить дежурство. В доказательство своего усердия женевские стражники должны были бросать каштаны в ящики, расставленные по пути их следования. В английской «Песне дозорных» середины XVII века как раз высмеивается леность часовых:
Закончился день. Ликуйте без меры —
Пришла благодатная ночь.
Констебль как король, а с ним его пэры
Возлечь на скамейку не прочь
И, словно на троне, поспать на славу
Ради могущества нашей державы53.
Неудивительно, что во время дежурства дозорных оскорбляли и словами, и действием. Бывало, «грязные слова и ругательства» сыпались как из рога изобилия. В Париже в их сторону летели смешные прозвища — Растяпы (savetiers) и Плоскостопные (tristes-a-pattes). Джозеф Филлпот, которому поздно вечером констебль велел возвращаться домой, огрызнулся: «Пусть портсмутский констебль поцелует меня в задницу!» Оскорбления и нападения на приходских стражников составляли значительную часть преступлений такого рода в Эссексе XVII века. А в порту далматского города Дубровника даже вооруженные патрули оказывались жертвами насилия. В датском Нестведе в 1635 году однажды ночью двое стражников прибежали к дому мэра и подняли его с постели в ночной рубашке. Оказалось, что группа башмачников с криками «Убей их! Убей их!» набросилась на них с ножами. Английский критик ворчал: «Наши дозорные внушают так мало страха, что воры над ними уже и не смеются»54.
III
Закон меняется от утра к ночи.
Джордж Герберт (1651)55
По всей видимости, размышлял французский ученый-правовед Жан Карбонье, нормы права породила ночь. Ночные, а не дневные деяния подвигли древние общины ввести определенные санкции против злонамеренного поведения. Но ирония в том, отмечал тот же Карбонье, что к концу Средневековья именно ночью закон почти не соблюдался. Эдикты и ордонансы были по большому счету пустыми словами. Действительно, до начала промышленной революции вечерняя жизнь оставалась вне сферы правового контроля не только в городах, но и в сельской местности, и, как изящно сформулировал Карбонье, такое положение дел можно было назвать «вакуумом права» (vide de droit). Столь слабы были властные институты и столь безграничны ночные опасности, что власти отказывались выполнять свои обязанности56.
Суды и трибуналы, как правило, прекращали свою деятельность к вечеру. Слушания приостанавливались не только потому, что судьи устали, а идти из суда домой было опасно, но и потому, что власти были убеждены в нерушимости царства ночи. Уже в период создания «Двенадцати таблиц», древних основ римского права, судьям было предписано выносить решения «до захода солнца». Кроме того, темнота ассоциировалась с тайной и обманом. Знаменитый римский оратор и адвокат Квинтилиан полагал: «Под преступным преднамеренным действием следует понимать действие, совершаемое вероломно, ночью, в одиночестве». Утверждение, что ночь пробуждает в человеке двуличие, долго господствовало в континентальной Европе, являясь одним из основополагающих положений римского права, пережившего второе рождение на закате Средневековья. В некоторых местностях после наступления темноты запрещалось заключать любые договоры. Но даже если разрешение на такие сделки и было получено, их юридическая сила вызывала сомнение. Контракты, соглашения, договоры — все казалось подозрительным, коль скоро их заключили не при свете дня. С XVI века заклады в ломбардах Швейцарии по местным правилам нельзя было оценивать «после того, как солнце скроется за вершиной горы». В ряде мест выбор наследников завещателями ночной порой был попросту запрещен, а сами завещания позволялось читать только при «трех огнях»57.
Можно предположить, что в английских судах положение дел было то же самое, хотя общее право содержало не так уже много явных ограничений. Примечательное исключение касалось права землевладельца присваивать собственность неплательщиков арендной платы. С наступлением ночи общее право такую практику категорически запрещало, позволяя лишь запирать у себя на ночь заблудившийся соседский скот.
Частное жилище в глазах английских судий являлось надежным убежищем от ночных напастей. «В соответствии с законом, каждый человек располагает особой защитой касательно своего дома или другого жилища», — замечал сэр Мэтью Хейл в «Истории Королевского суда общих тяжб» (The History of the Pleas of the Crown; 1736). «Каждый англичанин, — объявлял Джон Адамс из Массачусетса, — справедливо гордится той сильной защитой, той любезной его сердцу безопасностью, тем приятным спокойствием, которые закон обеспечил ему в его собственном доме, особенно ночью»58.
Однако скептицизм Карбонье по поводу действенности закона справедлив лишь отчасти. Насколько шире становится сфера действия уголовного судопроизводства, связанного с ночными преступлениями! Как только вечером прекращалась общественная деятельность, возрастала опасность ночных правонарушений. Действительно, реакция властей могла бы быть более энергичной — введение специально обученной полиции, а не констеблей и дозорных, которые к тому же должны были еще и предотвращать пожары. С другой стороны, днем городские улицы вообще никто не патрулировал. Наличие ночных дозорных было единственным свидетельством деятельности властных структур. К тому же эти «члены полуночного магистрата», как один критик назвал констеблей, обладали значительной юридической властью. В Англии дозорные и констебли, в отличие от дневных стражей порядка, располагали широкими полномочиями при задержании подозрительных личностей. В условиях отсутствия полиции усиление власти ночных дозорных было способом компенсации их непрофессионализма и слабости59.
Предпринимались и другие шаги по обузданию ночной преступности. Там, где были введены ограничения на применение пыток в ходе допросов по уголовным делам, допускалось несколько ослабить эти ограничения, когда речь шла о преступлениях, совершаемых ночью. В Италии в позднее Средневековье появились суды упрощенного производства для расследования и наказания за ночные преступления. Наиболее передовыми в этом вопросе были органы правосудия в Венеции — «Ночные синьоры» (Signori di Notte) — и во Флоренции — «Ночные надзиратели» (Ufficiali di Notte). В датских городах жителям периодически разрешалось создавать свои суды для вынесения приговоров ночным преступникам. Случались и вечерние казни, которые иногда следовали сразу же за вынесением приговора, дабы успокоить народный гнев или показать важность столь скорого правосудия. Например, в августе 1497 года во Флоренции пятеро арестованных были казнены сразу же после суда, длившегося с утра до полуночи. Как отмечал миланский правовед профессор Полидорус Рипа в 1602 году, «наказание должно быть исполнено даже ночью, если его отсрочка опасна». Темнота, кроме того, усиливала страх смертного приговора. Когда в 1745 году Дублин стал жертвой целой серии уличных грабежей, власти повесили семерых преступников при свете факелов. «Мрачная торжественность этих казней, — писал современник, — вызвала такой ужас в сознании простолюдинов», что количество грабежей сразу сократилось60.
Повсюду за ночные преступления назначались более жестокие наказания. Если это не оговаривалось законом, то вынесение сурового приговора происходило в ходе обычного рассмотрения дела судьями и присяжными. В период позднего Средневековья многочисленные ночные преступления наказывались с повышенной суровостью. В 1342 году в Сиене женщине, признанной виновной в оскорблении действием, сначала сократили наказание наполовину, потому что жертвой был мужчина, затем удвоили, «потому что нападение произошло в его доме», а потом удвоили еще раз, потому что преступление произошло в ночное время. Такой же подход преобладал и в судах раннего Нового времени, где кражи неизменно преобладали в списках дел, назначенных к слушанию. «Ночной вор должен быть наказан суровее, чем дневной», — писал Рипа. За воровство, совершенное после «вечернего звона», городские власти Швеции установили смертную казнь, а в сенешальских судах Франции XVIII века ночная тьма всегда признавалась отягчающим обстоятельством при вынесении приговоров по делам о воровстве. В английских судах в обвинительных биллях для предварительного предъявления присяжным всегда указывалось, произошло правонарушение днем или ночью. Точно так же и в шотландском судопроизводстве обязательно отмечались преступления, совершенные «в тиши под покровом ночи»61.
Особенно серьезным преступлением считалась ночная кража со взломом. При Тюдорах она стала одним из первых преступлений, исключенных из списка тех нарушений закона, которые позволяли преступнику избежать смертного приговора. В графстве Мидлсекс во второй половине XVI века более четырех пятых осужденных за ночные грабежи были приговорены к повешению. Повешение или пожизненная каторга — вот обычные наказания за то же преступление во Франции. Ассамблеи американских колоний сохранили английское право без существенных изменений. В 1715 году в Массачусетсе, где пуритане поначалу не хотели вводить высшую меру наказания для тех, кто посягнул на чужое имущество, правительство объявило ночную кражу со взломом тяжким преступлением, наказуемым смертью, даже если вор попался впервые62.
Только одно деяние, совершенное ночью, могло получить снисхождение в суде: убийство забравшегося в дом постороннего. Самые ранние своды законов, от «Двенадцати таблиц» и эдикта короля Ротари середины VII века до «Кутюмов Бовези» 1283 года, признавали этот основной принцип, равно как Августин Блаженный и английское законодательство. То, что днем считалось убийством, пусть даже жертвой оказывался забравшийся в дом неизвестный, ночью признавалось вполне оправданной самозащитой. Поэтому в 1743 году прокурор Женевы отказался предать суду крестьянина, застрелившего вора-взломщика. Генеральный прокурор не только процитировал Моисеевы законы, но и объяснил, что крестьянин никак не мог ночью определить, что на уме у человека, забравшегося к нему в дом, — воровство или убийство. «В дневное время, — рассуждал корреспондент London Magazine в 1766 году, — наверное, можно было бы догадаться, кто он [вор] такой, и предположить, что он намеревался только украсть, но не убить. В этом случае, — объяснял автор, — человеку следует не самостоятельно наказывать вора, а доставить его в магистрат». Ночью же дела обстояли иначе: «Тогда хозяин дома не мог знать ни кто курсив мой. — А. Р. Э.) этот человек, ни надеяться на помощь других»63.
Нет ничего удивительного в том, что процедура судебных разбирательств и суровость наказания, а по сути — основные права и привилегии горожан менялись в зависимости от времени суток. Наступление темноты усиливало необходимость обеспечения общественного порядка. Французский прокурор в 1668 году сетовал, что двух воров из Льежа приговорили всего лишь к повешению: «Общественная безопасность в ночные часы настолько важна, что следовало бы их колесовать». Ночь позволяла преступнику оставаться незамеченным, но мешала честным людям, особенно если они спали, постоять за себя или прибегнуть к помощи соседей. Воровство, совершаемое ночью, есть, несомненно, воровство с отягчающими обстоятельствами, — утверждал шотландский прокурор, — потому что люди после наступления темноты наиболее беззащитны». В случае кражи со взломом лунный свет, в отличие от дневного света, не смягчал тяжести преступления, даже если была известна личность взломщика. Сэр Уильям Блэкстоун заявлял в 1769 году: «Пагубность преступления происходит не столько оттого, что оно совершается в темноте, сколько оттого, что оно содеяно в глухую ночь, когда все мироздание, кроме злодеев и хищников, отдыхает, когда сон уже разоружил хозяина и его крепость сделалась беззащитною»64.
* * *
Таково было положение дел. Вплоть до описываемой эпохи большинство людей оставались с ночью один на один, противостоя преступлениям и другим напастям в лучшем случае при помощи домочадцев и соседей. Несмотря на неуклонное укрепление государственной власти, ночь не поддавалась ее влиянию. Принимая это во внимание, законы Нового времени тщетно пытались удержать преступников от использования естественных преимуществ ночи. Без поддержки дневных институтов управления власти, чтобы сдерживать чрезмерные проявления насилия, полагались на репрессивные меры.
Но толку было немного. В середине XVIII века некий лондонец жаловался на «адские полчища», которые «производят опустошения на наших улицах» и «захватывают власть в городе каждую ночь». То же самое наблюдалось в Париже. Один правовед писал в 1742 году: «Никто не выходил из дому после десяти вечера», хотя к тому времени к городскому ночному дозору добавилась и профессиональная охрана (garde). Вместо добропорядочных горожан по главным улицам шатались преступники с дубинами, прозванные «скотобойцами» (assommeurs). Следует, впрочем, отметить, что при отсутствии дозорных и примитивного освещения городская жизнь была бы намного хуже. Итак, ночь не поддавалась влиянию властей, что было проявлением законов природы, которые ни суды, ни констебли не могли преодолеть. Неизменный фатализм, основанный на ощущении всемогущества Господа и тленности человеческой жизни, окрашивал образ мыслей чиновников. Отсюда знаменитый псалом, начертанный на старинном здании датского города Ольборга: «Если город не хранит Господь, зря стоит дозорный на посту»65.

МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ
Безопасность жилища
I
Божьей милостью мы счастливо добрались до дому еще до захода солнца.
Эбенизер Паркман (1745)
Задолго до того часа, когда закрывались городские ворота, природа давала человеку понять, что день отступает. Для многих семей вовсе не часы, а окружающий сельский пейзаж передавал пульс каждого дня жизни. С точностью матери-природы могли соперничать лишь колокола приходской церкви, звонившие с равными промежутками в течение дня. О наступлении вечера свидетельствовали бесчисленные приметы. Одни поддавались истолкованию легко, другие постигались внутренним чутьем, опиравшимся на мудрость ушедших поколений. Ближе к закату лепестки ноготков закрывались, стаи ворон возвращались в свои гнезда, кролики прыгали резвее. Зрачки у коз и овец, в дневные часы овальные, к вечеру становились круглыми. «Моими часами были козьи глаза», — вспоминал швейцарец Ульрих Брекер, работавший в юности пастухом2.
Никакое иное время суток не вызывало больших треволнений, чем наступление ночи. Никакая другая пора не требовала более внимательного к себе отношения. В ясные дни сами небеса давали подсказки: солнце садилось, оставляя на небе световые полосы. «Небо темнело, окрашиваясь в цвет волчьей морды», — писал неаполитанец XVII века. Самым надежным средством для определения времени были падающие на закате тени. Дневной свет тускнел, темнота опускалась постепенно. Так изо дня в день в утвердившемся ритме поля покрывались тенями. Французское слово brипе означает каштановый или коричневый цвет, оно же значит «сумерки» и передает изменение оттенков вечернего пейзажа. Сумерки в северо-западной части Европы не столь скоротечны, как в средиземноморских широтах. Типичный сельский житель Томас Гарди писал в романе «В краю лесов» (The Woodlanders; 1887): «Он способен различить тысячу последовательно сменяющихся оттенков и черточек пейзажа, которые никогда не замечает человек, привыкший внимать размеренному бою часов»3.
Люди доиндустриальной эпохи редко предавались размышлениям о красоте уходящего дня. Они пели хвалу рассвету. Закатом же никто не восхищался ни в литературе, ни в письмах, ни в дневниках. Мир охватывало скорее ощущение опасности, чем благоговейного восторга. «Ночь настает, пора домой вернуться», — писал поэт эпохи Стюартов. Никто не хотел встретить ночь под открытым небом, поэтому многие торопились домой, чтобы успеть туда «в добрую пору». Некоторые, замешкавшись, предпочитали переночевать у родственников или друзей, лишь бы не пускаться в ночное путешествие. Мэтью Паттен, фермер из американского Нью-Гемпшира, однажды задержался в суде. «Когда мы закончили рассмотрение дела, — писал он, — ночь была так близка, что мы не решились отправиться домой»4. Описывая наступление вечера, запоздалые путники говорили, что их «накрыло» или «охватило» темнотой. «Нас накрыла ночная мгла, и оставшаяся часть путешествия стала нежелательной и опасной», — рассказывал один из них. Иногда губительная атмосфера ночи казалась непроницаемой. «Ночь глухая, спустись, себя окутав адским дымом», — взывает леди Макбет[26]5.
II
Воры, волки и лисы теперь набрасываются на своих жертв, но крепкий замок и сообразительность предотвратят беду.
Николас Бретон (1626)6
Наиболее распространенное английское выражение для обозначения сумерек было shutting-in (от глагола shut in — запирать, закрывать). Оно точнее других выражало опасения людей, связанные с этим временем суток. После короткого путешествия пуританский священник Сэмюэл Сьюолл записал в дневнике: «Благополучно добрался до дому, пока не пришла пора запирать засовы (before shutting-in). Благодарю Тебя, Господи». В определенной степени это распространенное выражение символизирует и метафорическое «закрытие» дневного света: «Я вернулся домой пешком, как раз когда дневной свет померк (shut in)», — рассказывал житель Лондона. Но в практическом смысле shutting-in подчеркивало идею закрытия всех дверей и ворот перед надвигающейся темнотой. Поэт XV века Франсуа Вийон писал: «Дом в безопасности, но ты проверь, надежны ли запоры». Английская поговорка гласит: «Люди запирают двери перед заходом солнца»7.
Выражение «Мой дом — моя крепость» обретало к ночи особый смысл. Эти проверенные временем слова, относящиеся по крайней мере к XVI веку, применимы как к землянкам, так и к каменным поместьям. По словам сэра Эдварда Кока, дом служит человеку «защитой от вреда и насилия, а также для отдохновения». Священная граница — вход в дом — отмечалась дверью и деревянным или каменным порогом. Открытый и доступный в течение дня, порог дома ночью становился границей, которую не должен был пересекать незваный гость. В Шотландии реакция сельских жителей на приближение ездока была всегда одинаковой. «Как только рядом с домом застучали копыта моих коней, — повествует Эдвард Берт, — огни погасли… и в жилище сразу же воцарилась тишина»8.
Несмотря на сильный страх, ночью люди были не так уж беззащитны. Поскольку официальной помощи ждать не приходилось, семьи в основном полагались на собственные силы. Притом что все чада и домочадцы помогали по мере возможности, основная забота о безопасности, конечно, лежала на плечах главы семейства (paterfamilias). Главным делом было подготовить к ночи жилье, как только внутрь внесут высохшее белье и рабочие инструменты. Все двери, ставни и окна плотно закрывались и запирались на засовы. Лондонский торговец вином сообщал: «После наступления темноты я никогда не держу дверь открытой». «Сзади и спереди, сверху и снизу забаррикадирован, заперт, закрыт» — такими словами английский драматург описывает жилище георгианской эпохи. Писатель Жан Поль вспоминал о своем детстве в Баварии: «В нашей гостиной зажигали свечи тогда же, когда возводилась ночная защита, а именно все ставни закрывались и запирались на засовы». Ребенок, по его замечанию, за «этими оконными амбразурами и брустверами чувствовал себя в уютном и безопасном месте». Бедный рабочий люд тоже принимал меры предосторожности, поскольку даже самые обыденные вещи — еда, одежда, домашняя утварь — привлекали воров. Ричард Гинн, работавший на каретника, свидетельствовал: «Уже в половине девятого, когда я возвращаюсь с работы, мой дом всегда заперт на замок, ибо меня могут убить, как и любого другого». У прачки Энн Тауэрз, кроме собственных вещей, в лондонском доме на Артичоук-лейн находилось «большое количество чужого белья». «Я каждую ночь обхожу дом и смотрю, все ли плотно закрыто», — рассказывает она9.
В зажиточных домах главный вход закрывали большие деревянные двери, установленные в каменных или деревянных коробках. Железные петли и засовы добавляли крепости прочному дереву. И все же многочисленные замки не обеспечивали достаточной защиты. Обычный механизм, использовавшийся со времен Средневековья, представлял собой следующее нехитрое устройство: чтобы запереть дверь, язык замка передвигался ключом в паз, проделанный в дверной коробке. И только в XVIII веке с изобретением цилиндрического замка запоры стали лучше защищать от опытных воров-взломщиков. Пока же люди ставили двойные замки на входные двери, а изнутри добавляли к ним висячие замки и железные прутья10.
Более уязвимым местом в жилище оказывались окна. Несмотря на их небольшой размер по сравнению с современными стандартами, ночью это было самое слабое звено в круговой домашней обороне. Если низшие сословия закрывали оконные проемы промасленной тканью, холстиной или бумагой, то аристократы могли похвастаться застекленными окнами уже в период позднего Средневековья. Застекленные рамы у среднего класса появились лишь к XVI веку. Закрытые окна сохраняли тепло, а кроме того, не пускали внутрь ветер, дождь и холодный ночной воздух. Деревянные ставни защищали как от преступников, так и от ненастья, особенно когда на зиму все щели замазывали землей или законопачивали мхом11. Нередко в жилищах доиндустриального общества на окна первого этажа устанавливались железные решетки и прутья, и тогда дом становился похож на монастырь или тюрьму. «Дома больше похожи на тюрьмы, — заметил путешественник, посетивший Мадрид, — чем на жилища свободных людей». Даже при скудных доходах железные прутья (за отсутствием стекла) считались предметом первой необходимости. «Люди очень бедны, — пишет путешественник о северной части Франции, — и живут в ужасных лачугах… стекол на окнах нет, а есть лишь железные прутья и деревянные ставни». Хотя решетчатые окна были распространены в основном в континентальной Европе, иностранцы отмечали их наличие и в некоторых частях Англии, а также в низменных областях Шотландии. Член Лондонского городского магистрата сэр Джон Филдинг рекомендовал укреплять окна прутьями в виде креста, а каждую дверь — двойными задвижками и засовом с цепью12.
Естественно, семьи старались уберечь самое дорогое — деньги, посуду и драгоценности. У представителей имущих классов для этого имелись дубовые сундуки с замками и железными ободьями. «Всегда, ложась ночью спать, запирайте все вещи, коими вы пользуетесь днем», — советовал Паоло да Чертальдо в конце XIV века. Сэмюэл Пепис прятал ценности в комнатах по всему дому, включая гардеробную, кабинет и погреб, где стояли железные сундуки всех мастей. «Я ужасно мучусь, придумывая, что делать с деньгами, — волновался он, — ведь крайне небезопасно держать их в мелкой монете, да еще и в одном месте». Счастливая обладательница 150 фунтов Энн Феддон из Камберленда днем запирала свое богатство в ящик комода, а «ночью брала с собой в постель». Джон Купер из Йоркшира прятал 10 фунтов под большим камнем у себя дома, в углу. Судя по известным сказкам, места, где прятали ценности, не обязательно располагались в жилищах. Кроме чуланов, сундуков и кроватей, в дело шли высохшие колодцы и дупла деревьев. Деревенские жители Лангедока XVIII века любили прятать фамильные ценности в близлежащем поле13.
Все вышеперечисленные способы составляли первую «линию обороны». Существовали еще и особые меры для того, чтобы в случае надобности разбудить заснувших домочадцев. Например, на ставни вешались колокольчики. Поднять тревогу могли и слуги. Однажды в 1672 году в Нортгемптоншире, когда три служанки поздно вечером мыли дома посуду, во дворе вдруг послышался шум. Женщины тут же поставили на ноги весь дом — «одна зазвонила в колокольчик, другая затрубила в рожок, а третья зажгла свечи во всех комнатах». В богатых поместьях иногда нанимали охрану, а к концу XVII века начали ставить капканы на пружинах. В 1675 году автор труда «Система сельского хозяйства» (Systema Agriculturae) советовал втыкать в землю острые железные шипы, а между ними незаметно натянуть медную проволоку — «и шипы, и проволока ночью не видны». В 1694 году один англичанин даже изобрел «ночной аппарат», который следовало устанавливать «в подходящем месте, дабы воспрепятствовать проникновению в дом воров». В чем состоял принцип действия этого устройства, остается загадкой, но, возможно, оно предвосхищало другую «машину», которую столетие спустя рекламировал в Лондоне Уильям Хамлет. Паутина из колокольчиков и веревок, натянутая на широкую раму, должна была спасти как от воров, так и от пожара14.
Большинство жителей были вооружены, причем иногда даже лучше дозорных. В домашних арсеналах хранились пики, холодное и огнестрельное оружие, а у менее состоятельных людей — дубины и палки, которыми вполне можно было убить. В сельской местности в ход пускали серпы, топоры и другие фермерские орудия. Когда молодой парень из Оксфордшира Томас Эллвуд пересек ночью пшеничное поле, на него набросились крестьяне с палками — «такими огромными, что ими можно было свалить быка». Отправляясь спать, люди клали оружие неподалеку. Когда в 1704 году к сквайру из Мидлсекса забрались пятеро разбойников в масках, он тут же схватил шпагу, которая «всегда лежала в изголовье кровати», но получил удар ножом в спину. В качестве дубинки могла использоваться одна из двух специальных «постельных палок», коротких и прочных, которые клались по обе стороны кровати, чтобы не сползали одеяла. Такие палки снискали славу очень удобного оружия. Отсюда, по-видимому, происходит английское выражение — «с быстротой постельной палки» (in a twinkling of a bed-staff). Когда гемпширский подмастерье в 1625 году напал на своего спящего хозяина с большим ножом, тот ловко отбился именно «постельной палкой»15.
С середины XVII века все большую популярность у домовладельцев стало приобретать огнестрельное оружие, что объяснялось успехами в развитии техники того времени. Если в Кенте между 1560 и 1660 годом огнестрельное оружие фигурировало менее чем в трех процентах всех насильственных смертей, то к 1720-м годам это число возросло до четверти. За многие такие убийства, совершенные во время защиты своего дома и семейства, судом выносились оправдательные приговоры. Однажды поздно вечером Джеймс Босуэлл захотел было зажечь свечу, но не стал высекать трутницей огонь, испугавшись, что хозяин, «который всегда держит при себе пару заряженных пистолетов», примет его за ночного вора. Не многие лондонцы были вооружены, как Шарлотта Марк, которая, еще девочкой, все время боялась, что в дом проникнут грабители. Родительское столовое серебро она прятала рядом с кроватью, сама же вооружалась до зубов. У нее были «свой собственный маленький карабин… тяжелый мушкетон, ружье и пара пистолетов». «Перед сном я заряжала каждое оружие двумя пулями», — рассказывала она16.
Довольно часто происходили случайные убийства невинных людей. Любой подозрительный шум или незнакомый свет заставлял жильцов дома насторожиться. В камберлендской деревне застрелили сына кузнеца только потому, что тот посвистел с улицы служанке и был принят за вора. Когда страдающий слабоумием старик зашел по ошибке в незнакомый дом в Понтефракте, служанка закричала: «Держи вора!» — и хозяин «изрубил его на куски». В колонистов Новой Англии ночью часто стреляли, принимая их за индейцев17.
Повсюду рыскали сторожевые собаки. В деревнях они несли двойную службу: охраняли от воров и хищников. Днем из-за своей кровожадности эти псы сидели на цепи. Согласно Уильяму Харрисону, название «мастиф» произошло от английского master-thief [27]: эти собаки особенно отличались при ловле забравшихся в дом преступников. Повсюду за свою исключительную бдительность собаки удостаивались особых похвал — от чутких калмыцких собак Южной России до псов сельской Франции, где, как писала в XIX веке Жорж Санд, даже самый захудалый крестьянин имел четвероногого сторожа. Практически каждую ночь в деревнях то тут, то там раздавался со)бачий лай. Оказавшись поздно вечером под открытым небом в сельской местности в Шотландии, путешественник жаловался, что не мог найти себе ночлега: «Никто мне не отвечал, кроме собак, этих главных жильцов дома». В крупных и малых городах собаки охраняли не только дома, но и магазины. В Харп-Элли лондонский медник держал «тупую и злую» шавку, которая еле терпела посетителей днем и, по словам осторожного соседа, «уж тем более не выносила их вечером»18.
Что касается необходимых качеств, которыми должна была обладать сторожевая собака, то автор XVI века советовал заводить животных «крупных, лохматых и неустрашимых, с большой головой, большими лапами и задом». Харрисон рекомендовал «огромных собак, упрямых, уродливых, дерзких, грузных (и потому не очень быстрых), жутких и всем своим видом вселяющих страх». Лучше всего — и с этим соглашались все, — чтобы собака была черной окраски, тогда вор испугается ее в темноте. Ценность собаки состояла в умении хорошо лаять и так же хорошо кусаться. Хозяева могли догадаться о непрошеном посетителе по одному только тону и силе собачьего лая. В Англии такие собаки назывались «вестниками» (warners) или «сторожами» (watchers). Не менее важна была и их способность служить средством устрашения. «Всякий раз, как я устраивал такую вылазку, мы немедленно бросали свои попытки, стоило нам услышать лай собаки, свидетельствующий о том, что в доме предупреждены», — утверждал один вор. В середине XV века флорентиец Леон Баттиста Альберти уверял, что не только собаки, но и гуси годятся для охраны дома: «Один будит другого, а потом и всю стаю, и поэтому обитатели дома всегда в безопасности». Опытные воры травили собак, но это было делом рискованным. Так, в Лондоне некий нетерпеливый взломщик, перекинув отравленную пищу через стену, залез во двор слишком быстро и был серьезно покалечен19.
III
Кому, как не ночи, принадлежит волшебство?
Томас Кэмпион (1607)20
Итак, чтобы защитить свои дома от грабителей, люди использовали разнообразные средства, подсказанные здравым смыслом: замки, собак, оружие. Социальный статус большинства домовладельцев при выборе способа защиты проявлялся скорее в степени его надежности, чем в предпочтении какого-то определенного средства. Даже люди с самым скромным достатком предпринимали все возможное для охраны своей жизни и собственности. В дополнение к рассмотренным выше нехитрым мерам предосторожности, необходимое ощущение безопасности обеспечивала также и вера в Бога. Многие не слишком разбирались в основных догматах христианского богословия, и Бог для большинства верующих не был безжизненной абстракцией, ограниченной — в словах и делах — безликими страницами Священного Писания. Как для католиков, так и для протестантов Его присутствие ощущалось во всех областях человеческого бытия, включая физическое и духовное благополучие. «Если бы не Божий промысел, кто бы нас защитил?» — вопрошала Сара Каупер21.
Особенно Божье покровительство требовалось ночью: в темноте опасностей больше и они менее предсказуемы. Освященное веками пожелание «Доброй ночи!» произошло от выражения «Дай Бог вам доброй ночи!». «Ночью, — утверждал поэт Эдвард Янг, — атеист готов поверить в Бога». Замки и засовы сами по себе не очень-то защищали от приспешников дьявола. Существовали особые молитвы, которые читались не только на ночь, но и вечером, на закате. Вспоминая свое лютеранское детство в Германии, Жан Поль писал, что его семья «при звоне вечернего колокола вставала в круг, взявшись за руки, и пела церковный гимн „Нисходит мрак ночной, наполнен силой"». Вместе с сонмом ангелов Бог в бесконечной милости своей преграждал путь ужасам ночи. В тексте одного рассуждения XVII века «для ночной поры» содержалась мольба о том, «чтобы твой ангел-хранитель наставлял и охранял тебя». «Услышав любой странный шум или скрип в доме, — советовал французский священник, — со всей пылкостью вверим себя Господу»22.
В те времена обращались и к оккультизму. Верования и практики, осуждаемые Церковью как суеверия, не представлялись мирянам такими уж страшными. Ворожба не столько соперничала со словом Божьим, сколько помогала простым людям побороть подлые козни Сатаны. На практике в глазах большинства людей между оккультизмом и верой не было никакого противоречия. Амулеты мирно соседствовали с распятиями — и те и другие ценились как обереги. В одном из стихотворений начала XVIII века так описывается ирландский дом:
Над дверью — крест святой Бригитты:
Жилище от огня укрыто. <.. >
Собаки, слуги — все здесь спит,
Бригитта этот дом хранит.
У входа сразу под крестом
Прибита накрепко гвоздем
Подкова, чтобы никогда
Ни вор, ни черт не шел сюда23.
Колдовство имело вековые корни. Каждое поколение получало в наследство от предков веру в сверхъестественное и соответствующие практические навыки. «Они передаются от поколения к поколению», — заметил шотландский священник. Знание магических заклинаний пришло от кудесников, живших задолго до эпохи Нового времени, — «белых ведьм», «колдунов» и «колдуний», в том числе шведских Шока gubbarna и visa karingarna, испанских saludadores и сицилийских giravoli. Нередко их магические способности помогали соседям воздействовать на сверхъестественные силы. В 1575 году немецкий священник сообщал из Нойдроссенфельда: «Обращение к колдунам и гадалкам очень распространено по причине воровства, а кроме того, многие просят, чтобы им заговорили болезнь, для чего призывают к себе означенных гадалок». В отличие от «черного ведовства», использовавшегося для наведения порчи и сглаза, «белое ведовство» приносило пользу — это было, по словам Джона Драйдена, «нехорошее добро». В Англии, к вящей досаде церковных властей, чародеев, вероятно, было не меньше, чем приходских священников. А немецкий пастор сокрушался по поводу отношения своей паствы к магам и колдунам: «Эти люди занимают в их сердцах место Бога»24.
В домашнем арсенале мер безопасности одно из центральных мест отводилось заговорам, содержащим как христианские, так и оккультные элементы. С их помощью оберегали дома, скот и урожай от воров, пожара и злых духов. Английский заговор в стихах звучал так:
От эльфов, фей и домовых —
Ты в маслобойне встретишь их, —
От всех пожаров и чертей,
Что дьявол шлет на нас, злодей,
Храни нас, Божья милость!25
Той же цели служили самые разнообразные амулеты — от лошадиных черепов до кувшинов, известных под названием «ведьмины бутылки», в которых обычно хранился целый набор колдовских предметов. Содержимое таких кувшинов, обнаруженных в ходе раскопок, включало булавки, гвозди, человеческие волосы и засохшую мочу. Повсеместно особенно ценились амулеты из железа, которые считались гораздо более действенными, чем бронзовые или каменные. Для отпугивания злых духов по всей Европе и в Америке начала колонизации в домах вешали подковы. «Прибей подкову внутри дома, у порога, подальше, — наставлял Реджинальд Скот в 1584 году, — и будь уверен: ни одна ведьма не сможет к тебе войти»26. У рабов на Британских островах Вест-Индии были распространены фетиши. Происходившие из Западной Африки, они представляли собой перемешанные битое стекло, кровь, зубы аллигатора и ром — все это подвешивалось у хижины или сада, чтобы отпугивать злых духов и воров, которые, по словам одного путешественника, «дрожат при одном их виде». Управляющий поместьем на острове Сент-Киттс писал в 1764 году: «Они борются с ужасными демонами своей черной страны, / Преследующими их в полуночный час»27.
Двери и окна укреплялись, чтобы уберечь дом от грабителей, а предметы, обладающие сверхъестественной силой, помещались у входа в жилище, чтобы не пустить внутрь нечистую силу. Крестики, святая вода, освященные свечи, зола и ладан — все это обеспечивало духовную защиту. «Вешаю крест на окна, на двери, на трубу», — сообщалось в славянском стихе. Хотя протестантское духовенство периода Реформации отрицало преклонение перед священными предметами, многие семьи все равно от них не отказывались. В некоторых районах Европы вешали на двери иконы и надписи с просьбой о Божьей помощи. «О Господи, — начинался один из таких стихов в датском городе Колдинге, — храни наш дом, убереги его от всех невзгод и опасностей». «Здесь, как и в Германии, — писал путешественник, посетивший Швейцарию, — на фасадах домов стихи или тексты из Священного Писания». А на еврейских домах можно было увидеть мезузы — свитки с библейскими стихами, спрятанные в футляры, которые прикреплялись к дверному косяку28.
Другие предметы были не столь традиционны, однако не менее популярны. Даже стойки ворот перед домом преподобного Сэмюэла Сьюолла были украшены двумя «головками херувимов». Кроме подков, на дверях появлялись волчьи головы и ветки оливы. Чтобы черти не влезли в трубу, в западной части Англии над очагом обычно подвешивали сердце вола или свиньи, предпочтительно утыканное булавками и колючками. В Сомерсете в одном очаге обнаружили засохшие сердца более пятидесяти свиней. На побережье Восточного Йоркшира в Холдернессе большой популярностью пользовались плоские оолитовые камни, известные под названием «ведьмины камни» (witch-steeans), которые привязывали к ключам от входных дверей. В Швабии, дабы защититься от пожара, семьям приходилось закапывать под порогом желудок черной курицы, яйцо, снесенное в Великий четверг, и сорочку, пропитанную менструальной кровью девственницы, — все для крепости смазанное воском29.
Для простолюдинов, сталкивающихся с непредсказуемым миром, оккультизм составлял значительную часть жизни. При отсутствии другого объяснения причиной жизненных невзгод считалась деятельность сверхъестественных сил — в этом случае пугающая неопределенность обыденного существования принимала более понятные формы. Автор труда «Естественная история суеверий» (The Natural History of Superstition; 1709) Джон Тренчард признавался: «Кажется, что в различных обстоятельствах природа действует согласно некой тайной магии, нам неподвластной». И если религия, по словам Кита Томаса, предоставляла «всестороннее объяснение мироздания», то магия имела свои границы. Несмотря на народную веру в фей, мы не находим, по крайней мере в Англии, свидетельств того, что люди поклонялись языческим богам или духам. Магия занималась в основном проблемами частного характера. Если оккультные практики не пытались разрешить главные тайны бытия, то благодаря им повседневная жизнь все-таки казалась более управляемой, особенно в часы после заката, когда окружающий мир представлял серьезную угрозу30.
IV
Когда отсутствие луны или плотный туман лишают нас необходимого света, мы всегда в силах раздобыть его сами.
«О ночи» (1751)31
«Без свечей все станет кошмаром», — утверждалось в религиозном рассуждении XVI века32. Каждый вечер не только опасности, порождаемые тьмой, но и она сама наполняли жилища. С помощью огня и топлива среди окружающего мрака люди создавали маленькие островки света. Свет, без сомнения, обладал сверхъестественной силой. Наделенный религиозной символикой, он, кроме того, имел волшебные свойства, известные людям еще с языческих времен. Искры от пламени свечи могли предвещать многое. Крестьяне в Верхнем Лангедоке по ходу беседы клялись «огнем» или «пламенем свечи». Ночью охранная сила света ощущалась так остро, что в Германии зажигали большую свечу, чтобы защититься от злых духов и бури. По общему мнению поляков, свечи не давали дьяволу пугать скот. В некоторых местностях на Британских островах, для того чтобы отгонять чертей, люди окружали здания и поля зажженными свечами33.
Те, кто мог позволить себе подобное расточительство, часто пользовались свечами, чтобы отвести от дома воров. Искусственное освещение не позволяло взломщикам спрятать во мраке свое лицо и в то же время свидетельствовало, что жильцы не дремлют. Когда окна в гостиной ремонтировались, Уильям Дайер из Бристоля жег свечу целый вечер, чтобы отпугивать «ночных грабителей», а Пепис приказывал зажигать свечу в столовой — «пусть воры боятся». Во французской Оверни середины 1700-х годов крестьяне так боялись воров, что, по сообщению местного чиновника, «дежурили с горящей лампой целую ночь»34.
И все же главная ценность света заключалась в том, что он расширял границы домашнего пространства для работы и общения. Долгими зимними вечерами самый яркий свет исходил из очага. Даже в жилищах, где насчитывалась не одна комната, вечерняя жизнь сосредоточивалась у очага, который, давая свет и тепло, боролся с холодным мраком. В Нормандии уже в XIX веке комната с камином, даже в больших домах, называлась «Комната» или «Теплая комната». По причине важности очага или камина налоговое обложение иногда основывалось на их количестве в доме. Камин с дымоходом впервые появился в английских жилищах в XIII веке, но только в 1600-е годы он заменил открытый очаг в центре комнаты, обложенный камнями или затвердевшей глиной. Несмотря на постепенное распространение каминов также и в личных комнатах, в большинстве английских и французских домов XVII века отапливалось всего лишь одно помещение. Многие дымоходы делали из камня или кирпича, хотя в деревнях их могли мастерить из древесины и глины. Камины стоили дорого. Кроме того, от них было много грязи и при использовании они представляли определенную опасность. «Легче построить два камина, чем содержать один» — свидетельствует поговорка тех времен. Эффективность каминов также оставляла желать лучшего, потому что значительная часть тепла уходила через дымоход, пока в XVIII веке не придумали воздухопроводы. Альтернативой очагу или камину, как правило, были печи — в Германии, Восточной Европе и некоторых районах Скандинавии. С начала XVI века в домах английской знати иногда использовались печи, топившиеся углем. Но в качестве источника света печи не шли ни в какое сравнение с каминами35.
Для того чтобы разжечь огонь, требовалось недюжинное терпение и умение. Приходилось долго мучиться, прежде чем загорятся несколько лучинок для растопки. До изобретения в XIX веке спичек, воспламеняющихся от трения, проще всего было попросить горящую головню или уголек у соседа, а потом постараться не устроить при переноске пожар. Или же бить куском стали о кремень, чтобы поджечь небольшое количество трута — как правило, это были намоченные в растворе селитры льняная или хлопковая ткань или мягкая бумага. «Дело не из легких», — вспоминал об этом житель Западного Йоркшира, особенно если за растопку приходилось браться в темноте. Железные или керамические подставки для дров в камине помогали обеспечить достаточный доступ кислорода. Предпочтительно было, чтобы разведенный огонь горел медленно и равномерно, если, конечно, приготовление пищи не требовало высокого пламени. «Французы с удовольствием говорят, что огонь поддерживает компанию, — заметил один немец, — потому что у них уходит уйма времени, чтобы его разжечь»36.
В зависимости от местных условий топливо могло быть самых разных видов. В Европе и Америке того периода распространенным источником тепла была древесина, особенно твердая: дуб, бук, ясень — эти породы давали больше всего тепла. Обычно одна семья расходовала от одной до двух тонн древесины в год. В качестве хвороста для растопки использовался низкорослый кустарник, как и осенние обрезки виноградной лозы в тех регионах континентальной Европы, где процветало виноделие37. В Англии другим распространенным топливом был битуминозный уголь, теплотворная способность которого (6,9) выше, чем у древесины (3,5). К тому же он требует меньше обработки. В Северной Англии и Уэльсе еще больше ценился длиннопламенный уголь, разновидность битуминозного угля. Он давал яркое пламя почти без дыма. Пламя было настолько ярким, что, как писал путешественник, «зимней порою бедняки покупают его вместо свечей». Лондон и другие крупные города из-за быстрого роста и удаленности от лесов оказывались в значительной зависимости от поставок угля38.
Чтобы отопить жилище, бедняки в доиндустриальной Европе пускали в ход практически все, что попадалось под руку: вереск, дрок, утёсник, а в прибрежных районах — сушеные водоросли (использование последних на шотландском острове Эрискей придавало местному хлебу пикантный аромат). Вдоль побережья английского Дорсета популярностью пользовались куски глинистого сланца, пропитанные растительным маслом для более сильного горения39. В графствах, расположенных к юго-западу от Лондона, там, где много торфяников и нет лесов, топили торфом, который вырезали из земли лопатами и складывали кусками в большие кучи, чтобы он высох и затвердел. Торф было легко разжечь. По сравнению с дровами, он не требовал особых усилий при топке, однако сгорал быстрее, чем уголь, и, кроме того, от него шел сильный запах и клубы дыма. Большие торфяники существовали не только в Англии, но и в Ирландии, Шотландии и Нидерландах. В Ирландии, где все классы общества использовали это ископаемое топливо, одна седьмая суши была полностью покрыта торфяными болотами. По словам священника из шотландского Тонга, торф давал «сильный, но не ясный свет» и «использовался вместо свечей». Путешественник, посетивший Шотландию в 1699 году, сообщал: «В некоторых местностях, где торф встречается в изобилии, люди строят из него маленькие домики без палок и бревен. Когда домик высыхает, он становится топливом, а они переселяются в другой»40.
И наконец, самым дешевым топливом для наименее обеспеченных слоев населения был коровий, воловий и лошадиный навоз. Спрос на него, естественно, возрастал зимой, когда температура резко снижалась, а запасы торфа уменьшались. Раздобыть навоз было легко, его смешивали с соломой или опилками, формовали в брикеты и складывали рядом с домом сушиться. Житель Линкольншира называл такой огонь «пламенем коровьего дерьма». Несмотря на резкий запах, навоз при горении выделял больше тепла, чем древесина. В 1698 году Селия Файнс из города Питерборо графства Кембриджшир отмечала: «Деревенские жители в этих местах почти ничего другого и не используют». Столетие спустя в Корнуолле и Девоне за лошадьми путешественников «ковыляла старуха в надежде насобирать немного топлива»41.
Какое бы топливо ни использовалось, домашний очаг все равно давал не много света — обычно в радиусе лишь одного-двух метров. Как правило, только в самых убогих лачугах довольствовались светом от очага, расположенного в центре жилища. Вынужденный укрыться в доме бедняков, бирмингемский путешественник Уильям Хаттон рассказывал: «Я оказался в малюсенькой комнатенке, громко именуемой домом, в кромешной темноте, если не считать огонька, на котором едва ли можно было поджарить картофелину». Отсутствие дополнительного освещения в доме вызывало презрение и насмешки, что нашло отражение в дешевых изданиях народных повестушек. Такова история портняжки Лепера, который остался на ночлег у одной скупой фермерши-шотландки. Поскольку ему не предоставили приличную кровать, он был вынужден улечься на пол, но обнаружил, что хозяйка случайно водрузила кипу соломы, должную служить ему постелью, на спящего теленка, — такое тусклое было в доме освещение. Лепер все же получил свое, когда, к стыду хозяйки, его «кровать» придвинулась поближе к очагу42.
В те времена свет обеспечивали самые разнообразные приспособления, но все они имели источником огонь. Лишь в XX веке люди на Западе обратились к принципиально иной технологии — электричеству. Помимо очага, использовалось три основных типа освещения, ни один из которых существенно не изменился за последнюю тысячу лет. Наибольшее распространение получили свечи — вид твердого топлива, где фитиль помещался в воск или животный жир, а также лампы, в которых фитиль пропитывался маслом, налитым в небольшую емкость. Фактически верхняя часть свечи представляла собой своего рода маленькую лампу, фитиль которой горел в лужице из масла. Более примитивными по сравнению со свечами и лампами были просмоленные лучины из так называемого свечного дерева, горевшие ровным пламенем43.
В англоязычном мире и в большей части Северной Европы, особенно среди имущих классов, предпочтение отдавалось свечам. Английские пословицы и поговорки отражают их повсеместное применение, например «Поджигать свечу с обоих концов» (безрассудно тратить силы) или «Держать свечу дьяволу» (свернуть с истинного пути)44. Свечи из пчелиного воска были придуманы финикийцами, а среди европейских аристократов стали впервые использоваться в конце Средневековья. Благодаря приятному запаху и чистому пламени свечи особенно ценились в благородных семействах. Согласно «Книге учтивых манер» (The Воке ofCur-tasye; ок. 1477–1478), одному из слуг специально поручалось следить, чтобы «в комнате горели только восковые свечи». При экстравагантном дворе Людовика XIV потухшие свечи никогда не зажигали вновь. Соперничать с восковыми по качеству могли спермацетовые свечи, появившиеся в начале XVIII века, когда большое распространение получил китобойный промысел в Северной Атлантике. Их делали из розового жидкого воскообразного вещества спермацета, добываемого из головы кашалота. Именно добыча спермацета была задачей китобойного судна «Пекод» капитана Ахава из романа Мелвилла «Моби-Дик» (1851). Перечисленные выше источники света стоили дорого. С течением времени цены колебались, но ни восковые, ни спермацетовые свечи не стали общедоступными. В 1765 году Гораций Уолпол подсчитал: для того чтобы осветить и отопить роскошный дом маркиза де ла Борда, богатого парижского финансиста, необходимо тратить более 28 тысяч ливров ежегодно45.
А вот сальные свечи, напротив, были дешевле, и многие семьи использовали только их. Сальная свеча делалась из животного жира, причем предпочтение отдавалось бараньему, иногда смешанному с говяжьим. (Свиное сало, от которого шел густой черный дым, горело не так хорошо. Известно, что американские колонисты использовали медвежье и оленье сало.) Помимо прочих сельских работ, выполнявшихся осенью, Томас Тассер советовал заняться еще одной: «Припасите сало до мороза, свечи заготовьте до зимы». В отличие от восковых и спермацетовых, сальные свечи отвратительно пахли из-за содержащихся в сале примесей. «Бесцветные глаза, чей тусклый блеск не ярче, чем мерцанье фитиля, чадящего в зловонной плошке с салом»[28], — писал Шекспир в «Цимбелине» (ок. 1609). По мере горения сальной свечи качество света ухудшалось. Кроме того, они требовали постоянного внимания, чтобы сало не пропало зря. Если через каждые пятнадцать минут со свечей не снимался нагар, падающие остатки тряпичного фитиля могли создать «желобок» в расплавленном сале с одной стороны свечи. Свечной нагар, то есть горелые кусочки фитиля, становился причиной пожара при попадании на легковоспламеняющуюся поверхность. Сальные свечи требовали осторожности при хранении — они могли растаять или стать пищей грызунов. И все же, несмотря на эти недостатки, они использовались даже в аристократических домах для простых нужд. В загородное поместье Каслтаун, где проживал богатейший в Ирландии человек, Томас Коннолли, за один только 1787 год было поставлено 2127 фунтов (или около 965 килограммов) сальных свечей. Для сравнения: восковых свечей, зажигавшихся в парадных комнатах — гостиной и столовой, — было израсходовано 250 фунтов (или 113,4 килограмма)46. В домах буржуазии восковые свечи зажигали только по особым поводам. Норфолкский пастор Джеймс Вудфорд вспоминал о праздничном обеде, который давал его знакомый: «Мистер Меллиш принимал нас поистине великолепно. Вечером зажгли восковые свечи». Тот же Вудфорд отмечал, что однажды в Рождество он решил ненадолго зажечь свою «старую восковую свечу»: «Хоть она почти закончилась, все же может посветить мне еще разочек»47. Жизнь осложняли и налоги, введенные в Англии как на восковые, так и на сальные свечи, по крайней мере в XVIII веке. Одновременно с введением налога изготовление свечей собственными силами стало считаться делом незаконным48.
Те, кто находился внизу социальной лестницы, вынуждены были довольствоваться «ситниковым светом», то есть свечами с фитилем из сердцевины ситника. Хотя по форме они напоминали прочие свечи, налогом их не обкладывали. Делали эти свечи из растущих на лугах двух видов ситника, которого так много во влажном британском климате, — ситник развесистый, Juncus effusus, и ситник скученный, Juncus conglomeratus. Ситник сушили и почти целиком очищали от кожицы — оставляли лишь одну полоску для поддержки стебля — мякоть же несколько раз погружали в горячее пищевое сало, а потом ждали, пока она затвердеет. «Экономная жена трудолюбивого рабочего из Гемпшира, — отмечал Гилберт Уайт, натуралист XVIII века, — добывает сало бесплатно. Ибо она соскребает его остатки со стенок горшка». Укрепленная горизонтально на железной подставке под небольшим углом, такая свеча, размером немногим более двух футов, горела около часа, то есть в два раза быстрее, чем обыкновенная сальная свеча. Реформатор Уильям Коб-бет писал о своем детстве: «Меня растили и воспитывали в основном при ситниковом свете». Его бабушка, вышедшая замуж за поденного рабочего, «ни разу в жизни», по воспоминаниям Коббета, «не зажгла в доме обычную свечу». "Когда глава семьи начинал богослужение, — сообщает священник одного прихода в горных районах Шотландии, — родные зажигали ситник, чтобы он мог прочесть псалом и отрывок из Писания». В семьях среднего класса в большей или меньшей степени использовали «ситниковый свет», чтобы сэкономить на обычных свечах. «Мелкие фермеры используют много ситниковых свечей, когда дни коротки [то есть зимой], — как утром, так и вечером, как на маслобойне, так и на кухне»49.
Впрочем, на значительной территории континентальной Европы предпочтение отдавалось масляным лампам. За пределами Британских островов было меньше овец, источника свечного сала, зато в изобилии встречалось растительное масло. Помимо этого, жаркая погода, по крайней мере р Средиземноморье, осложняла использование сальных свечей: они начинали таять. И наоборот, в Англии и других северных странах в зимние месяцы некоторые виды масла замерзали. Масляные лампы были самыми разными: от раковин гребешков и моллюсков до французских ламп, представлявших собой удлиненный железный сосуд с ручкой. На противоположной от ручки стороне лежал фитиль из мягкого шнура, частично опущенный в масло. С фитиля следовало снимать нагар, зато всего лишь пол-литра масла обеспечивало продолжительное горение огня. Источниками масла служили различные растения: лен, рапсовое семя, олива, грецкий орех. В прибрежных районах ценилась рыбья печень, в Скандинавии — тюлений жир. Сходным образом использовались и морские птицы глупыши, гнездившиеся на далеких островах Сент-Килда, Борреа и Соа в Северной Атлантике. В случае опасности глупыш срыгивает особую маслянистую жидкость, пригодную для использования в лампе. Жир буревестника, обитавшего на лежащих к северу от Шотландии Шетландских островах, также годился для этих целей. Взяв его тушку, жители пропускали фитиль прямо в глотку и таким образом получали лампу50.
Во Франции ситниковые свечи, сделанные на основе пищевого жира, были известны под названием meche dejonc, а в Германии — Bisenligt.
Бедные семьи там, где в изобилии росли сосны, ели и пихты, могли использовать их в качестве свечного дерева. Со ствола снимали кору и оставляли дерево сохнуть. Потом его срубали, а высохшие лучины, пропитанные темной смолой, зажигали, как маленькие факелы, укрепив на железных подставках. Зажженный конец лучины направлялся вниз, чтобы пламя не гасло. Пучки смолистых сосновых веток также служили и топливом, и источником света. Свечная древесина использовалась на большой территории — от Швеции до Канарских островов. Российские археологи, проводившие раскопки древнего Новгорода, обнаружили факелы, сделанные из связанных вместе сосновых лучинок и щепок. Еще один вид свечной древесины — мореная древесина — был в ходу в Северной Англии и Шотландии. Наряду с ветками засохших елей и пихт, там выкапывали из болот гниющие стволы — не только хвойных деревьев, но даже вязов и дубов, в которых тоже было полно смолы. «Вместо свечей, — сообщал путешественник, посетивший горные районы Шотландии, — здесь, как и почти по всем горам, простой люд использует щепки хвойных деревьев, которые выкапывает из мхов. В этих щепках много смолы, и они всегда горят ярким пламенем». Иногда арендаторы часть своей ренты выплачивали повозками свечной древесины51.
Особенно популярной свечная древесина стала в американских колониях, где густые сосновые леса покрывали значительную часть восточного побережья. Нет сомнения, что английские колонисты позаимствовали технологию у индейских племен. В одном из описаний Новой Англии говорится следующее: «Здесь прекрасно живется тем, кто любит хороший огонь. И хотя в Новой Англии нет свечного сала, благодаря изобилию рыбы у нас всегда есть ламповое масло. Кроме того, наши сосны, коих в лесах больше, чем иных деревьев, дают нам свечи, весьма полезные в доме. Такими свечами, за неимением других, обычно пользуются индейцы»52.
Использование искусственного освещения регулировалось множеством ограничений. В доиндустриальную эпоху семьи были вынуждены следовать соображениям и безопасности, и экономии. Особые правила определяли не только порядок доступа к свечам и лампам, но также время и место использования освещения. В этом вопросе единого подхода не было. По-разному оценивалось то или иное место, тот или иной час. Одним из основных принципов был «свет среди бела дня», то есть искусственное освещение, в котором нет нужды днем. Такое расходование свечей воспринималось как мотовство и расточительство. По природе своей неэкономными считались дети, слуги и рабы, поэтому за ними нужен был глаз да глаз. Когда плантатор из Виргинии Уильям Бёрд II обнаружил свою рабыню Прю со «свечой в ясный день», он пришел в ярость и «выразил свои чувства» хорошим пинком53. Обычно даже в сумерки свет в домах старались не зажигать. Период между заходом солнца и наступлением ночи в Исландии и на большей части Скандинавии назывался «сумерками для отдыха» — время, когда было уже слишком темно, чтобы заниматься какой-то работой, но еще слишком светло, чтобы на полном основании зажигать свечи или лампы. Этот час перед вечерними домашними делами люди отводили отдыху, молитве и неторопливым беседам. В Англии и колониальной Америке только с наступлением абсолютной темноты приходило «время свечей». Джонатан Свифт советовал слугам, пекущимся о хозяйском благополучии, «экономить свечи своих господ и вносить их только через полчаса после наступления полной темноты, как бы часто хозяева их ни призывали»54.
Людям зависимым не разрешалось пользоваться светом самостоятельно: они не имели права даже посветить себе перед сном. В комедии Джозефа Эддисона «Барабанщик» (The Drummer; 1715) хозяйка дома взрывается от негодования, узнав, что ее слуги зажигают в своих комнатах ночники. «Эти мошенники боятся спать в темноте?» — спрашивает она управляющего. Джон Обри, повествуя о математике Уильяме Отреде, отмечал, что жена последнего, «женщина прижимистая», «не разрешала ему жечь свечи после ужина и по этой причине многие из его блестящих идей оказались утраченными». Кроме всего прочего, открытое пламя горело быстрее при переноске. Нужно было соблюдать осторожность по дороге в спальню и при отходе ко сну, чтобы не случилось пожара55.
В любой поздний час люди умели ходить по дому в полной темноте, осторожно пробираясь по знакомым комнатам и коридорам. «Лучшая свеча — осмотрительность» — гласила валлийская поговорка. Важно было научиться осязать свое жилище. Человек накрепко запоминал внутреннюю топографию помещения, в том числе точное количество ступенек на каждом пролете лестницы. Тем, кто оказывался в незнакомом доме, приходилось приспосабливаться. Очутившись в неизвестной комнате, советовал Руссо в «Эмиле», полезно похлопать в ладоши. «По резонансу от хлопка вы поймете, велико или мало помещение, находитесь вы в центре или же в углу». Однажды вечером, вынужденный обстоятельствами остановиться в бедном жилище на итальянском побережье, путешественник XIX века «очень внимательно обследовал свою комнату», чтобы «выбраться» оттуда до рассвета. Отсутствие освещения дало жизнь целому ряду хитрых приемов, которые, несомненно, передавались из поколения в поколение. В элегантном двухэтажном особняке, некогда возвышавшемся над плантацией Соттерли в колониальном Мэриленде, до сегодняшнего дня сохранилась сделанная от руки зазубринка на деревянных перилах лестницы, ведущей на второй этаж, — она обозначает место резкого поворота вправо. На ночь в жилищах Скандинавии мебель ставили вдоль стен, чтобы на нее не натыкаться. Везде было важно соблюдать аккуратность: вдруг понадобится быстро найти в темноте какой-нибудь инструмент или оружие. Выражение «всему свое место» ночью приобретало особый смысл. Роберт Кливер в книге «Богоугодный порядок управления домом» (A Godly Forme of Houshold Government; 1621) писал о слугах: «В ночную пору, когда нет света, они не только должны подсказать: „Это лежит там-то и там-то", но и, если понадобится, быстро принести необходимую вещь»56.
Домашнее освещение в период до промышленной революции было весьма убогим. Между современными лампами и их далекими предшественниками лежит целая пропасть. Свет от одной электрической лампочки в сто раз ярче, чем от свечи или масляной лампы. Люди той эпохи иронизировали по поводу того, что свечи лишь делают «видимой тьму». Другим выражением было: «постоянный полумрак». Французы говорили, что «при свечном освещении и коза глядит дамой». Еще слабее горел «ситниковый свет». Ночами в домах среди окружающих теней пульсировали лишь маленькие островки света. Огонь на фитиле не только подрагивал, но и трещал, коптил, издавал неприятный запах. «Он всегда готов пропасть», — сетовал в 1751 году один эссеист по поводу искусственного или «заимствованного» света. Вместо того чтобы проникать в самые отдаленные уголки дома, как это происходит сегодня, свет в тот период лишь неуверенно обозначал свое присутствие во мраке. В отличие от современных осветительных приборов, размещающихся в наших квартирах и офисах высоко над головой, свечи и лампы располагались ниже, чтобы было проще снимать нагар с фитиля, а потому знакомые лица и мебель приобретали несколько иные очертания. Хорошо можно было разглядеть лишь лицевую сторону предмета, но не верхнюю часть и не боковые стороны. Потолки оставались в основном в темноте, и нередко, находясь в одном конце комнаты, трудно было разглядеть другой. В начале XVII века Файнс Морисон писал, что ирландские крестьяне ставят ситниковые свечи на пол, потому что у них нет столов57. В то же время нельзя не учитывать, что домашняя жизнь была гораздо более неприхотливой. Если члены семьи могли есть, общаться, исполнять обычные домашние обязанности и наводить порядок внутри жилища, иными словами, если они могли делать в темноте все, что необходимо, то условия считались вполне терпимыми.
V
Одинокий человек — добыча волков.
Французская поговорка58
Днем горожане были вовлечены в сложную паутину межгрупповых коммуникаций. Сети взаимной поддержки были типичными не только для институтов с внутренней организацией, таких как гильдии и религиозные братства, но и для менее упорядоченных сообществ. Семейные узы и добрососедские отношения формировали очень важные системы взаимной поддержки. Большая часть европейцев компактно проживала или в деревнях, или в городах и пригородах. До середины XVIII века провинциальные города и даже такие крупные столицы, как Лондон и Париж, представляли собой мозаику из строго очерченных районов и приходов, жители которых знали друг друга в лицо, а иногда и по имени. Итальянские города часто разделялись на кварталы с собственной эмблемой и святым покровителем. Парижане, как сообщал генерал-лейтенант городской полиции, «почти постоянно пребывали на виду друг у друга». И все были друг другу чем-то обязаны. Быть добрым соседом значило работать вместе, молиться вместе, ходить на свадьбы, крестины и похороны. «Все мы братья в нашем приходе. И мы все должны охранять чужое имущество», — проповедовал священник одной французской деревушки. Сказанное не означает отсутствия злобных сплетен, яростных драк и других проявлений межличностных конфликтов. Некоторые целиком полагались только на свои многочисленные семьи, считая соседей «чужаками», как назвал их в автобиографии житель Амстердама Германус Вербеек. Но если кое-кто, случалось, пренебрегал своими обязанностями, большинство все же верило в принципы добрососедства59.
С наступлением темноты социальные обязательства сохраняли свою силу, несмотря на отсутствие соответствующих институтов. Обязанностей становилось меньше, семьи оказывались в большей изоляции, но люди продолжали помогать друг другу в любое время. Некоторые проявляли свою доброту в малом, например одалживали соседу свечку. Однажды весной 1645 года семья преподобного Ральфа Джосселина из Эссекса получила поздно ночью два фунта свежего масла. «Вот как Провидение позаботилось о наших нуждах», — обрадовался Джосселин60. Друзей и родных, в отличие от незнакомцев, встречали с радостью, особенно когда их прихода ожидали. Если ночью вдруг становилось очень страшно, соседи собирались вместе, спали под одной крышей и даже под одним одеялом, чтобы преодолеть страх. Когда йоркширский мастер по изготовлению корсетов Джеймс Грегори уехал из дому, его жена попросила знакомую «переночевать у нее». Элизабет Дринкер писала о вечере в Филадельфии, который она провела в одиночестве: «Мне посчастливилось хорошо провести вечер, без всяких страхов, хотя так бывает не у всех; когда мы остаемся одни, то называем это donnez cet maten[29]». И наоборот, преподобный Уильям Коул совсем пал духом, когда остался в своем доме в Блечли с одним лишь слугой Томом, чья храбрость не внушала ему доверия. Коул решил, что если отец Тома не сможет к ним присоединиться, то он пригласит соседа разделить с ним «эти темные и долгие ночи»61.
Часто вечерами требовалось безотлагательно исполнить взаимные обязательства. Люди нередко болели, а ночь усугубляла страдания. В семьях из поколения в поколение передавались рецепты лекарств и всегда хранилось небольшое количество снадобий, пластырей и поссетов[30], приобретенных у местных знахарей. «Используйте любое средство, которое может помочь ночью», — советовал Паоло да Чертальдо. Среди лекарств, проглоченных пастором Вуд-фордом, к примеру, были пилюли из кастильского мыла и ревень. Однажды вечером его мучила пульсирующая боль в ухе, и пастор засунул в него жареный лук. Когда вскоре после полуночи сквайр из Виргинии Лэндон Картер обнаружил, что его раб Дэниел при смерти, то прописал ему от 20 до 30 капель настойки опия в мятной воде, а через час порцию рвотного корня62.
При серьезной болезни, а также травме слуга или сосед бежали за ближайшим доктором или хирургом, если таковой имелся. Врачи частенько осматривали нескольких пациентов за ночь, даже после тяжелого рабочего дня. Правда, некоторые лекари, как жаловался один посетивший Лондон путешественник, были печально знамениты своей ленью: «Те, кто почитаются среди них важными персонами, не станут подниматься с кровати и прерывать свой отдых из-за каждого вызова». Однако записи многих врачей свидетельствуют об их исключительной сознательности. «Ночевал дома; довольно [редкий] случай, если учесть, что до этого четыре ночи отсутствовал», — записал в своем дневнике доктор из Новой Англии. Едва успел ланкаширский врач Ричард Кей вернуться июньским вечером 1745 года домой, как за ним «послали с просьбой навестить тяжелобольного, жившего на значительном расстоянии от дома [доктора], из-за чего не смог вернуться до наступления темноты». «Господи! — восклицает он. — Да пребудет моя жизнь в страхе перед Тобой и в служении Тебе»63.
Повивальные бабки вели себя не менее самоотверженно. Если ночью постоянно присутствовала возможность смерти, то в той же мере существовала и вероятность появления новой жизни, причем, согласно современной статистике, как раз с трех часов ночи резко возрастает число рождений. Для повитух это означало, что их вызывали при первых же схватках, и, кроме того, они оставались после родов, чтобы организовать необходимый послеродовой уход. В течение одного года повивальная бабка Марта Баллард из Мэна, по ее собственным подсчетам, провела без сна более сорока ночей. «Сейчас почти середина ночи, — писала она в 1795 году, — и меня вызывают в дом мистера Денсмора». В Глазго XVIII века, чтобы ночью доставлять повитух по нужному адресу, стали использоваться портшезы, но большинству повитух все же приходилось перемещаться в менее комфортабельных условиях. К примеру, Баллард добиралась до места и пешком, и в челноке, и верхом. Однажды по дороге к роженице ее сбросила лошадь. «Плыть по реке было опасно, но, с Божьей помощью, добралась благополучно», — писала она об одном ночном путешествии. Зачастую ей приходилось ночевать в домах у рожениц. Лондонская газета 1765 года описывала «трудности» повивальных бабок, которые, «поднявшись с теплой постели», шли «в мороз, дождь, град и снег в любое время ночи»64.
Соседи также приходили на помощь в трудный час. Больным и их семьям приносили утешение деревенские священники. Однажды в апреле, сразу после полуночи, Джосселин отправился в дом к знакомой, «которая настоятельно просила меня быть с ней в момент кончины», а Вудфорд прибыл в дом бедняков, чтобы крестить новорожденного младенца, «тяжелобольного, в конвульсиях»65. Как правило, утешение приходило от самых близких людей. Их сострадание могло проявляться ночью, когда соседи или родные сидели у постели заболевшего. Больных редко оставляли одних, обычно с ними была сиделка или кто-нибудь из друзей и родственников. По-французски эта вековая практика называлась «дежурить ночью у постели больного» (veiller ип malade). Многие сиделки имели богатый опыт такого многочасового дежурства. Кроме наблюдений за изменениями во внешнем виде и настроении больного, в их задачу входило облегчение его страданий: они делали перевязки, давали лекарства, поили бульоном. «Мы сидели с ним до глубокой ночи», — вспоминала Глюккель из Гамельна о предсмертных часах своего отца. Некоторые сиделки могли и вздремнуть, но большинство, вероятно, воздерживались от такого искушения. Со смертью человека обязанности семьи и друзей не заканчивались. В ночь перед похоронами и протестанты, и католики по традиции должны были бодрствовать. Хотя бы для того, чтобы защитить усопшего от злых духов. В 1765 году после смерти сына своего хозяина подмастерье из Новой Англии Джон Фитч «сидел всю ночь один у одра ребенка», чтобы «отгонять духов»66.
Боязнь ночного пожара усиливала взаимные связи. Необходимость сохранить собственную жизнь поддерживала чувство общности с другими. «Когда горит дом соседей, в его свете видишь опасность и для себя» — утверждала английская поговорка, без сомнения воспринимавшаяся как метафорически, так и буквально. Когда в 1669 году в три часа ночи загорелась балка дымохода в доме Исаака Арчера в Восточной Англии, соседи тут же бросились на помощь, заметив, что Арчер выбежал за водой в ночной рубашке и босиком. «Жители деревни явились во множестве», — сообщал тот с облегчением. В городах соседи и посторонние справлялись с бедой вместе. Если на пожаре и оказывалось несколько зевак, не испытывавших сострадания к погорельцам, то большинство помогали как могли. В своем эссе «Смельчаки на пожаре» (Brave Men at Fires) Бенджамин Франклин замечал: «Ни мрак, ни холод не помеха добрым людям, из тех, кто достаточно крепок, чтобы поспешить к ужасному месту и оказать помощь в тушении огня». В 1677 году в Лондоне ученый из Лидса Ральф Торсби и его друг, поднятые тревогой, бросились на пожар, чтобы «помочь чем только можно»67.
На первый взгляд кажется, что сходным образом люди реагировали и на преступления. В Англии каждый человек имел право поднять шум и крик, чтобы схватить опасного злодея. Согласно книге «Об английском государстве» (De Republica Anglorum; 1583), принадлежащей перу сэра Томаса Смита, «тот, кого ограбили, или тот, кто видит или предполагает, что кого-то грабят, должен поднять шум и крик, го есть позвать на помощь». Конечно, жертвы ночных нападений — дома или на улице — знали, что нужно кричать как можно громче и не один раз. Жуткие крики «Убивают!» обыкновенно свидетельствовали о нападении, независимо от того, насколько оно было серьезно. Ретиф де ла Бретон в своей книге «Жизнь отца моего» (La vie de топ рёге; 1779) вспоминает случай из детства, когда жители деревни, услышав крики «Убивают!», бросились на выручку его родителя, состоятельного фермера, так как по ошибке решили, что на того напали. В одно мгновение «все бросили ужин, схватили что попалось под руку и помчались по главной дороге», однако обнаружили, что фермер цел и невредим. Жертвы чаще всего обращали свои крики к соседям, а не к ночным дозорным. Смертельно раненный в голову Джон Эклс из йоркширской деревушки Брайтон перед смертью все же успел крикнуть: «Соседи, помогите ради Христа!» «Соседи! Помогите! Помогите! На меня напали!» — кричала в Риме из окна обнаженная женщина68.
Настойчивые призывы заставляли людей, по крайней мере, подойти к окнам, а некоторые, наиболее отважные, могли и выбежать на подмогу. В результате поднятой тревоги в одном нортгемптонширском доме толпа выскочила ночью на улицу с «вилами, палками и вертелами» и потребовала объяснить «причину шума». В 1684 году вся деревня Харлтон, «за исключением одного человека», пообещала свою помощь Генри Престону, йомену, боявшемуся ночных грабителей. Если с улицы звучали призывы о помощи, соседи имели право даже войти ночью в чужой дом. Например, в 1745 году в Клеркенуэлле муж и жена завлекли девушку-мулатку к себе домой. Подвергнувшись сексуальным домогательствам, она закричала: «Убивают!» — и тогда ее бесстрашная подружка Бетти Форбс крикнула с улицы: «Ты, черномазая собака, что ты там делаешь с девушкой? Выпусти ее, или я до тебя доберусь, потому что, когда кричат „Убивают!", мы имеем право взломать дверь!» И девушку тут же отпустили69.
И все же жизнь определяла пределы соседской помощи. Прежде всего, темнота усиливала вероятность увечий, поскольку было трудно разобраться, кто нападающий, а кто жертва. В ряде городских районов, где располагались публичные дома и пивные, не проходило и ночи, чтобы тишину не нарушили вопли и проклятия. В суде Олд-Бейли соседи одной проститутки спокойно показали под присягой, что «она была очень культурной соседкой и никакого вреда не причиняла, только содержала бордель и время от времени некоторые постояльцы или посетители кричали: „Мерзавцы! Шлюхи! Грабят! Убивают!"» Из другого публичного дома «так часто доносились крики „Убивают!"», что на поднявшиеся шум и гам, когда однажды зарезали проститутку, «соседи не обратили особого внимания»70. Вмешательство в такие дела могло кончиться ранением или смертью. Томас Смит из города Салем (Массачусетс), услышав крики «Убивают!», вошел в дом, считая, как он позже объяснил, что «стыдно позволить соседям прикончить друг друга». В результате такого героизма жестоко избили — и даже чуть не убили — его самого. В 1728 году, услышав призывы о помощи, некий лондонец тщетно пытался заставить дозорных выполнить свой долг. Получив категорический отказ, он сам схватил уличного грабителя, причем другие свидетели не захотели ему помочь: «Один сказал, что этот парень очень опасен и они не станут с ним связываться даже за 20 фунтов». Кроме того, всегда была вероятность, что вопли о помощи — это лишь хитрая уловка, дабы заманить простодушного прохожего в темный переулок. Проходя в полночь через Смитфилдский рынок, Одли Харви, обнажив шпагу, бросился на помощь неизвестному, а в результате был избит «жертвой» и его бандой. «Для честных людей расставлено столько ловушек!» — сетовал современник71.
Многие семьи, заперев вечером двери и окна, были вовсе не склонны рисковать своей безопасностью и покидать дом. «Не выходить! — предупредил жителя Вилли-ле-Марешаль один из насильников. — Мы никому не причиним вреда, нам нужна только эта девка». Заметив, как мужчина и женщина вытаскивают из своего дома труп, Роберт Сандерсон записал в дневнике: «Я счел, что будет неправильно приближаться к ним, ибо я сразу уразумел, что люди это дурные». Чаще всего, если о помощи взывали чужаки, жители предпочитали ничего не слышать. Люди пришлые, в отличие от родных и друзей, не могли претендовать на поддержку и защиту местного населения. Их спасенные жизни не могли гарантировать безопасность другим невинным душам. Когда в 1745 году у таверны «Белый лев» на лондонском Стрэнде в сгущавшихся сумерках кто-то набросился на Мэри Барбер, женщина бодро заявила нападавшим, что «она находится в христианской стране и не боится, потому что ей придут на помощь». Позже, избитую, всю в синяках, ее вышвырнули на улицу, и она лежала, распластавшись на земле. «Меня там никто не знал, и никто мне не помог», — рассказывала она. Наименее сознательными, судя по сообщениям путешественников, были жители Москвы, где насилие в ночное время было обычным делом. Адам Олеарий писал в XVII веке: «Горожане не проявляют никакой жалости. Если они слышат, что кто-то попался в руки грабителей и убийц прямо у них под окнами, никто даже не выглянет и тем более не поможет»72.
Отдельные преступления, в отличие от случаев пожара, редко подвергали опасности всю деревню или весь городской район. В то же время, борясь среди ночи с пламенем, добровольцы обычно не рисковали жизнями: в их обязанности входило черпать воду и поливать здания. Пожар, если его не потушить, означал катастрофу для всей деревни, тогда как преступление представляло опасность лишь для сознательных самаритян, бросавшихся на помощь жертве. Поэтому неудивительно, что многие отсиживались за закрытыми дверями. Неудивительно и то, что жертвы уличного разбоя проявляли находчивость, крича ночью «Пожар! Пожар!»> если на них нападали в населенных местах. Бонавентура Деперье в сочинении «Кимвал мира» (Cymbalum Mundi; 1539) свидетельствует: «Этот крик выгоняет людей из дому — одни бегут в ночных рубашках, другие совершенно голые»73. Если убийство или грабеж не способствовали появлению ощущения общей беды, то вероятность сгореть заживо почти всегда вызывала такое чувство.

ВИДИМАЯ ТЬМА
Путеводитель под покровом ночи
I
Будем жить как все, по ночным правилам так же, как по дневным.
Сэр Уильям Дэвенант (1636)
Несмотря на таящиеся в ночи опасности, поразительно много людей, по необходимости или по собственному желанию, покидали насиженное место у домашнего очага. На картинах Арта ван дер Неера и Адриана Броувера мы видим их силуэты, еле заметные в лунном свете, — закутанные фигуры идущих и беседующих друг с другом в ночной тиши людей. Голландский школьный учитель Давид Бекк летним вечером 1624 года «прошел Гаагу вдоль и поперек» и обнаружил «при полной луне… много народу на улице». Когда поздней ночью в ноябре 1683 года нонконформист Оливер Хейвуд проповедовал в сельской местности Йоркшира, «Господь послал множество народу на многие мили, хотя стояла ночь и было темно и скользко». Точно так же в Новой Англии современник писал о детях, которые привыкли темными ночами преодолевать нелегкий путь в «две или три мили через густой лес», чтобы попасть на молитвенные собрания2.
Однако верно и то, что после наступления темноты некоторые ни за что не отваживались выходить из дому. Даже после того как комендантский час был отменен, в ночные путешествия не позволяло пускаться благоразумие. «Ночь — время, когда следует быть дома», — говорили в Португалии3.
Йоркширский йомен Адам Эйр поклялся «никогда более не выходить ночью из дому». Из-за боязни грабителей и «плохого» ночного воздуха Джеймс Босуэлл пообещал себе «всегда быть дома рано, несмотря ни на какие соблазны». Но подобные обеты выдерживались недолго, поскольку зачастую они были следствием каких-нибудь неприятных происшествий, а не укоренившегося отвращения к ночным походам. Дербиширский врач Джеймс Клегг, после того как однажды вечером был сброшен собственной лошадью, решил впредь «возвращаться домой в более подходящее время или оставаться на ночь» у пациентов. Но через несколько недель, возобновив свои вечерние визиты к больным, он уже не придерживался своих решений4.
Люди доиндустриальной эпохи, соприкасаясь с миром природы, черпали свои знания из мира традиционной крестьянской культуры, питаемой как языческой, так и христианской идеологией. Нельзя переоценить ту роль, которую играли связанные с ночной порой верования и опыт. В 1730 году поэт с презрением писал о «пустых понятиях, традицией рожденных, среди простолюдинов». Некоторые обычаи передавались из одной местности в другую коробейниками, проповедниками, менестрелями, но немало традиций произрастало и на родной почве. В семьях пользовались мудрыми заветами прошлых поколений, совершенствуя тайные умения, с помощью которых можно было передвигаться по опасным местам в любое время суток, иногда даже на большие расстояния. Естественно, обычаи несколько различались в зависимости от местности, как различались этнические и религиозные группы населения. И все же, несмотря на эти — иногда очень тонкие — отличия, существовал весомый пласт коллективных ценностей, умений и привычек, присущих сообществам раннего Нового времени. Практически везде в ночную пору люди делали все не так, как того требовала традиция мира видимого. «Разное время и разные места требуют различного поведения», — заметила Сара Каупер. И ночь в этом смысле не была исключением5.
II
Они должны… с раннего возраста приучать себя к темноте.
Жан-Жак Руссо (1762)6
Еще Аристотель и Лукреций говорили о робости, охватывающей ночью маленьких детей. Психологи утверждают, что ребенок впервые демонстрирует инстинктивный страх темноты в возрасте около двух лет. Волнения, дремавшие в нем с рождения, пробуждаются вместе с осознанием окружающего мира. Нет никаких оснований полагать, что эта стандартная схема детского поведения была иной в ту эпоху. Рассказывают, что древние спартанцы заставляли своих сыновей проводить целый вечер среди гробниц, чтобы побороть страх. «Люди боятся смерти, подобно тому как дети боятся ходить в темноте», — заметил Френсис Бэкон7.
В период раннего Нового времени детские страхи, по мнению родителей, служили благим целям. Вместо того чтобы успокоить ребенка, взрослые, как правило, старались усилить их боязнь, рассказывая сказки о чем-нибудь сверхъестественном, что отчасти выдавало их собственные тревоги. «Сказки усугубляют естественный страх ребенка», — отмечал Бэкон. Реджинальд Скот, писатель елизаветинской эпохи, рассказывал о «служанках наших матерей»: «Они так запугали нас бродягами, духами, ведьмами, горбунами, эльфами, колдуньями, феями… что мы теперь боимся собственной тени». Были еще истории про похищения, убийства и воровство. Так, в XVII веке Изабелла де Муэрлоос, девушка из бельгийского города Гента, была напугана историей о «человеке в длинном плаще, о котором говорили, что он ищет первенцев», чтобы убивать их. А призрак одноглазого солдата в королевском карауле помогал дисциплинировать юного Людовика XIII (1601–1643). Как утверждали противники такого метода воспитания, чтобы добиться от ребенка послушания, родители и слуги внушали ему ужас, рассказывая истории про привидений, которые охотятся за непослушными детьми. «Как только кто-то захочет утихомирить ребенка, — жаловался голландский автор Якоб Кате, — в ход сразу идут всякие выдумки: привидение, призрак, дух мертвеца». Некоторые родители в качестве наказания запирали детей в темных чуланах или разыгрывали явившихся за ними злых духов. Голландец Константейн Хёйгенс, нарядив в черную одежду куклу, пугал ею свою маленькую дочь. Отец Филиппа де Строцци во Франции XVI века однажды постучал в дверь комнаты сына и заговорил с ним «измененным жутким голосом». Родитель хотел проверить, насколько сын храбр. Филипп выдержал испытание — отец, получивший удар по лбу, был вынужден ретироваться, «поклявшись, что больше никогда не будет так пугать сына ночью»8.
Подобные примеры дают богатую пищу для тех историков, которые описывают семью Нового времени без всякой симпатии, как репрессивный институт, лишенный искренних человеческих чувств. Однако если мы согласимся с таким выводом, то проигнорируем одно очень важное обстоятельство. Хотя страшные истории порой использовались, чтобы призвать детей к порядку, они в то же время выполняли и важную воспитательную функцию. Особенно ночью дети должны были быть настороже. В эту, в общем, неграмотную эпоху с помощью сказок, а также баллад и поговорок традиционно передавались советы относительно того, как следует быть осмотрительным. К примеру, в «Трактате о воспитании девочек» (Traite de VEducation des Filles; 1687) французский священнослужитель Фенелон описывает нянюшек, которые внушают «детям глупую боязнь привидений и духов», тем самым выражая собственные суждения о том, «к чему дети должны стремиться, а чего избегать». Посетивший Сицилию путешественник также писал о «суеверных родителях, няньках и других подобных учителях», которые распространяют всякие сказки про ведьм. В большинстве этих историй не было ничего абстрактного или далекого от жизни. Многие излагали ужасные деяния местных привидений и колдуний, точно указывая те места, где детям нельзя оказаться ночью. Жан Поль рассказывал, что его отец, школьный учитель, «не упускал ни единого случая поведать нам истории о призраке или о какой-нибудь глупой выходке, о которых ему доводилось когда-либо слышать или которые, как говорят, случались с ним самим». Но, в отличие от многих взрослых, отец «сочетал в себе, наряду с твердой верой в их истинность, также и твердость характера»9.
Немаловажным фактором воспитания ребенка было желание постепенно приучить его к темноте. Для того чтобы собирать дрова или ягоды, а также присматривать за скотиной, требовалось по вечерам выходить из дому. Гравера Томаса Бьюика, выросшего в Нортумберленде, отец посылал «ночью со всевозможными поручениями». «Быть может, — размышлял Бьюик, уже став взрослым, — то, что я часто пребывал в темноте один, помогло мне справиться с этой боязнью»10. Некоторые поручения придумывались нарочно. Автор произведения «Диалоги о чувствах, привычках и привязанностях, свойственных детям» (Dialogues on the Passion, Habits, and Affections Peculiar to Children; 1748) советовал родителям: «Вы должны придумывать небольшие поручения как бы случайно, чтобы отправить ваше чадо куда-нибудь в темноте, но только ненадолго; отрезок времени следует постепенно увеличивать, по мере того как растет храбрость ребенка». Однажды Томаса Холкрофта, сына сапожника, отправили ночью на дальнюю ферму. Позже он вспоминал, как шел, «время от времени спотыкаясь». Отец же с товарищем тайно следили за ним на расстоянии. Парень вернулся домой целый и невредимый: «Наконец я благополучно добрался до дому, довольный, что избавился от своих страхов, и в душе ликовал по поводу достигнутого успеха»11.
Той же цели служили игры. На детские «ночные игры» возлагал надежды и Руссо. Например, это мог быть сложный лабиринт, составленный из столов и стульев. «Если ребенок приучится чувствовать себя уверенно в темноте и научится с легкостью обходиться с окружающими предметами, — писал Руссо, — его ноги и руки без труда выведут его в самой глубокой тьме». Состязания на открытом воздухе, такие как «Лиса и собаки», были придуманы как раз для темного ночного времени. Ретиф де ла Бретон, когда был мальчишкой, любил играть в «волка», что в его деревне всегда происходило ночью. В некоторых районах Британии любили играть в «Привидение у стогов сена»: дети разыгрывали сценки, притворяясь, словно они боятся нечистой силы. Особенной популярностью пользовалась на Британских островах игра «Дойду ли я туда до вечера?». В одном из вариантов игры, появившейся в XVI веке, если не раньше, шабашу «ведьм» противостояла более многочисленная группа «путешественников». Хотя в эту игру не нужно было играть в темноте, ребята извлекали из нее два практических урока: во-первых, важно возвращаться домой до наступления темноты, и, во-вторых, с приходом ночи следует бояться недобрых сил. «Берегись! — нараспев повторяли играющие. — Ночью ведьме на глаза не попадись»12.
Некоторые мальчишки, такие как Джонатан Мартин, были слишком нетерпеливы в исследовании ночного мира. Сын нортумберлендского лесничего летними вечерами привык удирать из дому и бродить один по лесам. Однажды утром его привели домой люди, которые поначалу приняли шестилетнего парнишку за призрака. Отец, понимая всю опасность такого безрассудного поведения, тут же запретил Джонатану эти одинокие прогулки13. Как дома, так и за воротами необходима была осторожность. Одно дело — вторгаться в царство ночи, и совсем другое — нарушать ее законы.
III
Ночью путь длиннее, чем днем.
Итальянская поговорка14
Помимо опасности, исходившей от злых духов и разбойников, чаще всего угрозу представляла скрытая во мраке окружающая природа: упавшие деревья, густой подлесок, крутые спуски и глубокие ямы. Даже короткий путь к соседскому дому подчас изобиловал трудностями, равно как и возвращение в собственное жилище. Вернувшись от пациента в десять часов вечера, врач из Новой Англии записал: «Довольно неприятная поездка, ненастный вечер, пасмурно, темно, трудно было не сбиться с узкой дороги». Для Сары Каупер темнота, источник бесчисленных опасностей, была «явлением, лишающим нас возвышенных чувств, пресекающим или разрушающим всякую возможность движения». К темноте, отмечала она, «мы питаем совершенно естественное, справедливое и необоримое отвращение»15.
Простому люду помогали традиционные знания и усвоенный с детства опыт наблюдения за природой. Хотя соседние графства могли казаться неведомыми дальними странами, родные приходы, по утверждению многих, были известны каждому жителю селений до мельчайших подробностей. В его памяти были навсегда запечатлены все канавы, пастбища и живые изгороди. Такие игры, как, например, популярная в большей части Англии игра «Обойди вокруг деревни», с раннего возраста знакомили детей с местностью, в которой они проживали. Той же цели служили рыбалка, сбор трав и выполнение мелких поручений. Предупрежденные взрослыми о таящихся в ночи угрозах, дети учились вести себя вне дома с особой осторожностью, как это делают животные, — с наступлением темноты и те и другие держались подальше от прудов, колодцев и прочих небезопасных мест. В больших и малых городах для детворы постоянными ориентирами служили вывески, двери домов и переулки. Ребенком Жак-Луи Менетра досконально изучил парижский портовый район, где играл в прятки и ночевал, когда жестокий отец выставлял его из дому. Такие уроки иногда стоили дорого. Спасаясь от отчима, крестьянский мальчик Валентэн Жамери-Дюваль упал в грязную волчью яму, в которой просидел до утра. «Непроглядной дождливой ночью» четырехлетний пастушок Ульрих Брекер бежал через луг и кубарем скатился с откоса в бурный ручей. Отец спас мальчика, но на следующее утро привел его обратно к ручью. «Смотри, сынок, — сказал он, — здесь неподалеку ручей срывается со скалы прямо вниз. Если бы тебя унесло течением, ты сейчас лежал бы там мертвый»16.
Конечно, к подростковому возрасту большинство людей уже осваивали тропинки, петляющие по деревенским полям, и узкие переулки, пересекающие извилистые городские улицы. «Не бойтесь, — как-то ночью успокаивал своего друга один берлинец. — Я знаю улицы родного города как свои пять пальцев». По утверждению Леона Баттисты Альберти, даже в сумерках «те, кто по опыту знаком с окрестностями и видел их при свете дня, узнают и точно назовут само место, а тем паче имена тех, кто там живет»17. Только зимой, во время сильного снегопада, местность может показаться неизвестной, притом что обозревать ее путнику гораздо легче. По этой-то причине в 1789 году двое пенсильванцев утонули в реке Саскуэханна. «Поскольку ночь была темная, а дорога занесена снегом, они сбились с пути» и провалились под лед18.
Человеческий глаз меньше чем за час приспосабливается к темноте по мере того, как радужная оболочка расширяется, чтобы воспринять достаточно света. Несмотря на ухудшение восприятия цветов и их интенсивности, периферическое зрение может, наоборот, обостриться. В темноте люди видят лучше, чем большинство животных, которые становятся практически слепыми. Вполне вероятно, что ночное зрение тех поколений делалось острее благодаря употреблению сочных овощей и свежих фруктов, богатых витамином А, хотя доступны они были только весной и летом. Умеренное употребление алкоголя, который был неотъемлемой частью стола того времени, также помогало лучше видеть. Как известно, некоторые демонстрировали исключительную способность видеть в темноте, обладая так называемым кошачьим зрением. Корреспондент журнала Gentleman's Magazine описывал людей, чье зрение почти не уступало зрению «кошки, совы или летучей мыши»19.
Кроме того, в дорогу брали фонарь или факел. С толстым скрученным пеньковым фитилем, пропитанным дегтем, смолой или салом, один такой факел мог весить до трех фунтов. Фонари были легче, но зато и светили не так ярко. Фонарь представлял собой металлический каркас цилиндрической или кубической формы, с ручкой наверху, внутри которого находилась свеча, защищенная роговыми пластинами. Также использовались кожа, слюда и стекло. Некоторые фонари, сделанные целиком из металла, пропускали свет через перфорированные отверстия. Начиная со второй половины XVII века, с развитием в Великобритании стекольного производства, популярность начали приобретать фонари из листовой латуни под названием «бычий глаз», в центр которых вставлялась стеклянная линза, увеличивающая источник света20.
В темные ночи люди состоятельные обычно высылали вперед слугу, чтобы тот освещал им путь, а любезные хозяева посылали лакеев проводить гостей до дому. Когда же сам хозяин возвращался домой затемно, прилежные слуги знали, где его встретить. «В начале переулка Сент-Клементс встретил Сэма, который вышел мне навстречу с фонарем», — записал Роберт Сандерсон в 1729 году. В датском городе Роскильде гильдия кузнецов обязывала слуг встречать своих хозяев с фонарями, свечами и посохами. Богатые путешествовали с большим размахом. По улицам города, держа поднятые вверх факелы, рядом с экипажами бежали лакеи. Иногда перед экипажем, освещая дорогу, шел «лунный человек», который держал шарообразный фонарь — «луну» — на конце длинной палки21.
Во многих городах за невысокую плату можно было нанять факельщика. Как правило, это были дети-сироты или просто подростки из бедных семей, которых нужда заставляла освещать дорогу прохожим, неся перед ними факел или — реже — фонарь. В некоторых районах Англии их называли «проклятые луной» — из-за ущерба, который мог быть нанесен людям этой профессии при лунном свете. В Лондоне факельщики собирались в таких известных местах, как Темпл-Бар, Лондонский мост и Линкольнз-Инн-Филдз. Сэмюэл Пепис иногда пользовался услугами факельщиков, возвращаясь домой в Тауэр-Хилл. В Венеции факельщиков звали codeghe, во Франции — porte-flambeaux или, если имелся в виду носильщик фонарей, falots. «Вам посветить?» — кричали они на улицах Парижа. Луи-Себастьян Мерсье радовался: «Услуги факельщика создают удобство и обеспечивают безопасность для тех, кого дела или удовольствия вынуждают поздно возвращаться домой»22. Впрочем, в Лондоне факельщики имели сомнительную репутацию из-за сговоров с уличными головорезами. «Воры с фонарями» — называл их Даниель Дефо. Многие жаловались, что они заводят подвыпивших клиентов прямо в лапы грабителям и в самый критический момент гасят факелы. Джон Гэй предостерегал:
Пусть факельщик тебе предложит свет —
Такому темной ночью веры нет.
На полпути у темного забора,
Свет потушив, он твой кошель поделит с вором.
Дефо ратовал за введение в Англии строгой системы, действовавшей в Париже на протяжении большей части XVIII века, при которой все факельщики должны были иметь лицензию. В дореволюционной Франции же, напротив, носильщики фонарей приобрели дурную славу за то, что служили шпионами. «На короткой ноге с полицией», — отмечал Мерсье, одобрявший их «вклад» в общественную безопасность. Правда, клиентам удавалось сохранить если не свои секреты, то свои деньги23.
Хотя освещением в основном пользовались люди богатые, стороннему наблюдателю не всегда удавалось определить социальное положение путешественника. Помимо свиты лакеев, сопровождавших привилегированных персон, факел или фонарь был не более чем обыденным атрибутом любого пешехода, нес ли его слуга, факельщик или сам пешеход. Один небогатый лондонский трактирщик научил носить фонарь своего пса24. Нищие наловчились делать фонари из собранных подаянием кусочков сала, которые они прятали от ветра и дождя в бумажном каркасе или внутри репы с вырезанной сердцевиной. Приезжий шотландец был поражен изобретательностью бедноты во французском городке Пуатье: «Они берут лучину, зажигают ее с одного конца и идут по городу, раскачивая ею из стороны в сторону, тем самым получая немного света». Случалось, власти ограничивали использование осветительных приборов в зависимости от общественного положения человека. На острове Гернси в проливе Ла-Манш законом разрешалось зажигать три свечи в фонарях только высшему сословию, тогда как остальные имели право на две или одну. «В отличие от других мест, социальное положение прохожих там легче всего определить на улице в темноте», — писал в начале XIX века удивленный приезжий25.
Даже самый яркий факел освещал очень малое пространство, так что темной ночью можно было видеть не дальше вытянутой руки. И хотя он давал больше света, чем фонарь, люди были единодушны во мнении, что это лишь жалкая замена дневному свету. Как гласит поговорка, «По сравнению с солнцем, факел — только искра». К тому же всегда был риск, что сильный ветер или дождь затушит пламя, пусть и защищенное стенками фонаря. В поэме «Венера и Адонис» (1593) Шекспир рисует застигнутого врасплох ночного путешественника: «Как путник, чей погаснул огонек, бредет в ночном лесу тропинкой тайной»[31]26.
Помимо искусственного освещения, люди полагались на естественный свет неба. Темнота ночного неба была главной и единственной заботой представителей всех сословий. Они знали не понаслышке, что небо может окрашиваться в различные цвета, иногда за один и тот же вечер. В отличие от наших современников, люди той эпохи замечали множество разных оттенков цвета ночи — от непроглядного мрака до яркого сияния полной луны. В ясные ночи половину каждого месяца 50 и более процентов поверхности луны представляют собой довольно существенный источник отраженного света. Несмотря на бытовавшее в ту эпоху поверье, что лунный свет вреден для здоровья, многие жители Британии называли луну «приходским фонарем». Полную или почти полную луну отчасти в шутку именовали вторым солнцем27. Иногда, обманутые лунным светом, люди даже просыпались посреди ночи, полагая, что наступил рассвет. «Луна светила так ярко, что я подумал, будто занимается день, — рассказывал один пенсильванец в 1762 году. — Я встал, оделся, но, после того как разбудил всю семью и зажег свет, понял, что еще нет и двух часов ночи». Мэри Йейтс, ученица портнихи из Йоркшира, встала в три часа ночи, полагая, что наступает день, хотя на самом деле «это луна светила так ярко»28.
Полная луна восходит на закате и садится на рассвете. В отличие от остальных лунных фаз, полная луна светит всю ночь. Жители некоторых регионов северной части Англии называли ее «сплошной свет». Сияние полной луны позволяло рассмотреть доиндустриальный пейзаж во всех деталях — «предоставляя столько света, сколько было нужно, чтобы разглядеть тысячу прекрасных вещей», как отметил один писатель в 1712 году. Путники могли даже различать небольшое количество цветов, например красный и желтый, зеленый и синий. По данным современной физики, сила прямого солнечного света колеблется от 5 тысяч до 10 тысяч фут-кандел, в то время как сила лунного света составляет примерно 0,02 фут-канделы. Несмотря на столь значительную разницу, человеческий глаз перестает различать цвета и детали объектов, только если сила света падает до 0,003 фут-канделы. На практике это означает, что в лунные ночи предметы видны издалека. Давая показания в суде Олд-Бейли по делу о краже, констебль Сэмюэл Клей утверждал: «Была ясная лунная ночь. Я мог увидеть человека на расстоянии ста метров, а лицо различить в десяти метрах от себя, если не больше». В 1676 году в городе Йорке каменщик разглядел грабителя, «поскольку все вокруг было залито лунным светом». Даже когда луна скрывалась за облаками, можно было на некотором расстоянии различить очертания человеческой фигуры. Поэтому неудивительно, что в такие вечера воры скрывались в тени или вовсе избегали выходить на промысел29.
Среди сельских жителей последовательность и продолжительность лунных фаз были общеизвестны, такие знания передавались юному поколению с самого раннего возраста. Из простенького детского стишка «Честный пахарь» дети узнавали, что земледелец «находит дорогу домой при свете луны». Горожане были менее сведущи в данном вопросе, но в XVII веке они могли почерпнуть необходимые знания из издававшихся по всей Европе календарей для чтения или «альманахов», в которых печатались ежемесячные таблицы фаз луны. В Англии к 1660 году выпускалось до 400 тысяч календарей ежегодно, то есть их приобретала приблизительно каждая третья семья. В Америке такие календари были вторым по популярности чтением после Библии. Хотя считалось, что фазы луны влияют на погоду и здоровье, важнее всего было узнать, что в предстоящие ночи ожидает путешественников. В 1764 году, обнаружив отсутствие таблиц в последних календарях, житель Итона заметил: «Из альманаха люди могут узнать, сколько ночей будет светить луна, а это очень полезно для многих начинаний»30.
Конечно, при луне приходилось совершать не только небольшие переходы, но и длительные путешествия. По мнению писателя Генри Дэвида Торо, размышлявшего над «бесконечным» разнообразием лунного света, даже «неверного бледного свечения» бывает «достаточно, чтобы отправиться в путь». Часто люди писали о том, как при луне они навещали друзей, выполняли различные поручения или возвращались домой. «Мы вернулись домой довольно поздно: ждали лунного света», — объяснял пастор Джеймс Вуд-форд, рассказывая об ужине у друзей. В 1664 году в Париже двое лекарей согласились навестить захворавшего пациента, «так как было почти полнолуние». Если раньше пешеходы во многих городах должны были носить с собой фонари или факелы, то уже в XVII веке такое требование больше не предъявлялось. И в других местах особых строгостей не было. Лондонцы, включая самых состоятельных, по словам Пеписа, обычно путешествовали при «ясном лунном свете». Джонатан Свифт записывал о поездке в экипаже на ужин к государственному казначею: «Светила луна, поэтому мы не боялись, что карета опрокинется». И наоборот, при отсутствии луны вечерние развлечения приходилось отменять или откладывать. «Он не захотел у нас отобедать, потому что не было луны», — сообщала Нэнси Вудфорд в 1792 году про своего норфолкского соседа31.
Но и в безлунные ночи оставался свет звезд, более слабый, но в то же время и более надежный. «Было ни темно, ни светло, только звезды сияли», — заметил один автор в 1742 году. В некоторых регионах Англии первую звезду Веспер (на самом деле это планета Венера) называли «пастушья лампа» за ее яркое сияние над западным горизонтом. «Пастушью лампу знают даже дети», — записал Джон Клэр в начале XIX века. Раньше звезды казались ярче, к тому же создавалось впечатление, что их намного больше. В ясную ночь возникало ощущение, что их не меньше двух тысяч. Как и от лунного света, от света звезд могли появляться тени. Поэт Роберт Геррик создал такие строчки: «Не бойся темной ночи. / Луна сиять не хочет? / Так звезды в небе свет подарят свой». Житель Лондона вспоминал в середине XVIII века: «Между одиннадцатью и двенадцатью часами стояла ясная звездная ночь, и я пошел, взяв под мышку шпагу и трость»32.
В отсутствие тумана было видно, как от горизонта до горизонта, разделяя небо на две части, тянется Млечный Путь — широкая полоса белого света. «Все вокруг сияет в смешанном потоке его лучей», — писал в 1753 году в «Универсальный журнал познаний и развлечений» (Universal Magazine of Knowledge and Pleasure) один из авторов. Хотя Чосер и многие до него употребляли в речи название «Млечный Путь», нередко использовались и другие наименования, в частности различных дорог, направления которых, в зависимости от времени года, совпадали с положением на небе этой спиральной галактики. Ранние пилигримы путешествовали по «пути Вальсингама» в Восточной Англии и по «римской дороге» в Италии, поглядывая на небо, чтобы не заблудиться. «У нас, — сообщал астроном Томас Гуд в 1590 году, — его называют Млечный Путь, но некоторые в шутку зовут его Уотлинг-стрит». Имеется в виду древняя римская дорога, ведущая из лондонского пригорода к Роксетеру, что находится на границе с Уэльсом33.
В конечном счете поток небесного света больше зависел не от луны и звезд, а от облаков. Так, Торо, от имени ночного путника, писал об «извечной борьбе луны с облаками»34. Все зависело от плотности и скорости движения облаков. «Светит луна, хотя по небу плывут облака», — заметила Элизабет Дринкер июньским вечером. Ирландский торговец тканями Хамфри О'Салливан постоянно упоминал об «очень облачных» и «малооблачных» ночах. Небо могло разительно измениться за считаные минуты, поэтому только в ясные ночи приходилось рассчитывать на надежное освещение. В конце XVIII века некий путник, будучи проездом в Шотландии, записал свои наблюдения: «В этом путешествии луна какое-то время была столь плотно закрыта облаками, что я едва мог различить дорогу; иногда же она светила столь ярко, что были прекрасно видны все окрестности»35.
Самые темные ночи — когда небо застилали черные тучи — вызвали к жизни различные выражения: «не видно ни зги», «кромешная тьма», «хоть глаз выколи», «непроглядная ночь» и, конечно, «черный как смоль» из-за похожей на деготь смолы сосен. «Небо черное как смоль», — заметил Пепис по возвращении домой в два часа ночи в 1666 году. Soche ciega означает по-испански «слепая ночь».
Из-за облаков зимой становилось теплее, но видимость в такие ночи значительно ухудшалась. Не только дальние объекты и их цвет — даже небо едва просматривалось. «Ночь была настолько темная, что я не видел собственной ладони», — сообщал лондонец в 1754 году36. Возможности для путешествия сразу ограничивались, так что большинство предпочитало спокойно оставаться дома. Некоторые, если могли, доставали факел или фонарь. «Нам пришлось обзавестись фонарем по причине кромешной темноты», — объяснял пастор Вудфорд в 1786 году. Но постоянно случалось так, что путешественников заставали врасплох тучи, неожиданно затянувшие все небо, или же порыв ветра, задувший свечу или факел. Минуя местечко Палезо во Франции, путники, у которых сломалась лампа, обошли всех обитателей постоялого двора в поисках фонаря. В результате они выменяли его на бутылку вина. «Мы достали фонарь со свечой из ситника внутри, но вскоре ветер задул и ее, и мы продолжили путь в темноте»37.
В темные ночи путешественники проявляли изрядную, хоть и примитивную, изобретательность. В 1661 году кавалькада, которую тьма застала в горах, послала впереди себя наездника на белой лошади, чтобы тот показывал доршу. «Мы ехали вслед за ним», — описывал это путешествие слуга Роберт Муди. Член другой компании путников вспоминал непроглядную ночь возле графства Дарем: «Мы были вынуждены ехать вплотную друг к другу, иначе потерялись бы в темноте». Когда тьма спускалась на плантацию, тетушка Сук из Джорджии «накидывала на плечи белый платок», чтобы вывести с полей рабов38. Специальные зарубки, сделанные на деревьях топором, помогали ночью найти дорогу в густом лесу. Опытные путешественники шли, ориентируясь по силуэтам деревьев, вырисовывающимся на фоне неба39. И наоборот, в местности, где почва содержала много песка или мела, люди, чтобы не сбиться с пути, смотрели под ноги. В долине известковых холмов Южной Англии жители сооружали земляные холмики, называвшиеся «нижние фонари»: они служили пометками на дорогах через поля. Александр Карлайл и его брат, направляясь на юг из Эдинбурга в 1745 году, двигались вдоль берега моря, «так как луны не было… а песок всегда немного светится во время отлива»40.
В самые ненастные ночи простой люд полагался на такие чувства, как слух, осязание и обоняние. Если сегодня значительную часть информации мы воспринимаем посредством зрения, то люди Нового времени ценили и остальные чувства, особенно ночью. В темные вечера им приходилось находить дорогу не столько с помощью зрения, сколько с помощью слуха. Ночью приходилось чаще прислушиваться. «У дня есть глаза, а у ночи уши» — гласит шотландская пословица. После заката необходимость полагаться на слух была столь важна, что в Восточном Йоркшире глагол «темнеть» (dark) означал «слушать» (listen)41. Ночью, отмечали современники, хорошо передаются звуки. Хотя влажный воздух мог их несколько приглушить, ослабление зрения значительно обостряло слух. В комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» Гермия говорит:
Ночная тьма глаза лишает зренья,
Но обостряет слух наш, без сомненья,
И, если нам мешает видеть ночь,
С двойною силой может слух помочь[32].
К тому же в ночной тишине отчетливее воспринимается резонанс отдельных шумов. Если звуков немного, то, внимательно прислушавшись, легче определить их источник и направление42.
К несчастью, слух, в отличие от зрения, является пассивным чувством, да и сам звук может быть неравномерным. Как недавно заметил незрячий Джон М. Халл, автор книги «Прикосновение к скале» (Touching the Rock), «звуки то появляются, то исчезают, в отличие от визуальных объектов». Ночные звуки возникают неожиданно. Однако человеческий слух проникает глубже, чем взгляд, не ограничиваясь отдельным направлением, и ему не мешают стоящие на пути препятствия, например дома или деревья. А с увеличением ночью предела слышимости звуки представляют собой «слуховые» эквиваленты различных предметов43. Компания путешественников, которую ночь застала на незнакомой дороге недалеко от шотландского городка Пейсли, «продолжала путь с огромной осторожностью и осмотрительностью, часто останавливаясь, чтобы вглядываться в даль и слушать». И если по шуму дождя и ветра можно было определить очертания окружающей местности, то знакомые звуки становились надежными проводниками. Всадники, направлявшиеся во Фрайбург, по стуку лошадиных копыт определили, что они въезжают в «большой город с мощеными улицами». Блеяние овец и мычание коров помогали определить, где ты находишься, так же как и звон церковных колоколов. В 1664 году житель Беркшира Ричард Палмер завещал некоторую сумму денег деревенскому церковному сторожу, с тем чтобы тот звонил в большой колокол каждый день в восемь часов утром и вечером не только для «своевременного отхода ко сну», но еще и для того, чтобы путешественники «имели представление о времени и не сбились с дороги». Лучше всего помогали собаки, лай которых пронизывал ночную тьму. Подобно сигналам маячка, эти звуки по мере приближения становились громче и чаще. «Мы сбились с дороги, — записал один из путешествовавших по Франции, — и около полуночи, ориентируясь по звукам собачьего лая, добрались до города Фонтинель». Американский колонист, живший в XVII веке в Мэриленде, заметил: «Поразительное дело! Обычно собаки отгоняют чужаков от жилищ, нас же, наоборот, они привели к домам»44.
Даже запахи помогали найти доршу ночью, когда нюх становился особенно чутким, а ароматы дольше сохранялись во влажном воздухе. «Весь воздух деревни пропитан запахом хмеля, выложенного на просушку», — записал Гилберт Уайт о позднем летнем вечере 1791 года. Благоухание жимолости, запах пекарни теплой ночью или же, наоборот, зловоние навозной кучи представляли собой невидимые указатели родных пенатов наравне с запахами конюшни, скота и домашней птицы45.
Осязание же, наоборот, помогало сориентироваться в закрытом пространстве, когда человек передвигался на ощупь, вытянув руки и осторожно переставляя ноги. «Лучше неспешно идти, чем под звездами ночь провести» — советовала поговорка. Лишившись способности видеть, люди полагались на свое тело и, главным образом, руки и ноги. «Мы пробирались на ощупь, как пара воров в гончарной лавке», — рассказывал житель Лондона. Некоторым иногда приходилось находить доршу, передвигаясь на четвереньках, как, например, писателю Артуру Янгу в Италии. Когда ночью его фонарь задуло ветром, ему пришлось ползти, чтобы не упасть с обрыва. Обычно кучера останавливали свои повозки, чтобы понять, какова дорога. «Мистеру Тэйлору, — рассказывал шотландский пассажир, — часто приходилось выходить из коляски, чтобы прощупать, не съехали ли мы с дороги»46. На хорошо утрамбованной дороге можно было определить окружающее пространство ногами или, на худой конец, пальцами, на «слепой» же дороге поверхность ничем не отличалась от обочины. Ровные открытые пространства, такие как пастбища или выгоны, также служили ориентирами по контрасту с ухабистыми, труднопроходимыми участками, хотя и на ровном месте можно было споткнуться. Отправляясь на визит к пациентке без фонаря, Марта Баллард, повитуха из Новой Англии, сняла башмаки и шла в чулках, чтобы чувствовать дорогу под ногами. «Пыталась как могла не сбиться с пути», — записала она, вернувшись целой и невредимой47.
Если городской пешеход ощущал, что тип мощения улицы изменился, то это значило, что он сбился с дороги, а ведь каждый стремился идти по центральным улицам. Вот что писал Джон Гэй о том, как по Лондону ходили ночью:
Пучки тончайших нервов есть в ногах,
Чтобы пройти по улице впотьмах.
И средь ночного мрака как-нибудь
Нам руки ощупью находят путь48.
Трости и посохи позволяли идущему еще лучше определять дорогу. Их носили представители всех сословий, используя как для передвижений, так и для самозащиты. «Вам, несомненно, приходилось идти ночью по неровной местности без света и, чтобы не упасть, использовать палку, — писал Декарт. — И вы, вероятно, заметили, что с помощью этой палки можно нащупать окружающие вас предметы и даже точно сказать, деревья это, камни, песок, вода, трава или грязь»49. С тростью или без нее, но пешие вылазки темными ночами — опыт неприятный, в особенности для аристократов, привыкших к езде верхом или в экипаже. Фанни Боскоуэн писала своему мужу Эдварду, адмиралу, в 1756 году: «Я приобрела такое отвращение к хождению на ощупь, что в конце концов зареклась наносить визиты в темное время суток».
Один путешественник в швейцарском городе Лозанне должен был, к своему величайшему смятению, «идти ощупью, как слепой»50.
IV
Всему свое время. И нет ничего нелепее, чем совершать поступки, не соблюдая интересов других людей, не зная меры, времени и места.
Сэр Роджер Лестрейнж (1699)51
Вобрав в себя мудрость прошлых поколений, традиции диктовали практически каждый шаг во время ночных путешествий, как кратких, так и продолжительных, — от блужданий по древним овечьим тропам до странствий по незнакомым лесам и полям. Несмотря на то что органы человеческих чувств помогали в освоении ночной тьмы, возникали и иные проблемы, касавшиеся тела, ума и души. Обычай определял не только вид освещения дороги, но и выбор способа передвижения, спутников, одежды, необходимых вещей, а также подходящего времени и конечной цели путешествия. Кроме того, существовали негласные правила, как себя вести при встрече с другими путниками и как просить о помощи, если собьешься с дороги. По мнению Торо, «наши действия вне дома ночью требуют и подразумевают гораздо больше продуманных усилий, чем действия, которые нам приходится совершать при свете дня»52.
Прежде чем отправиться в путь, тщательно продумывали, во что одеться. В течение дня обычно носили платье, соответствующее социальному положению и профессии. Аккуратность приветствовалась независимо от статуса. Многие из тех, кто зарабатывал на жизнь трудом, гордились своей одеждой. «Население Англии от бедных до богатых, — писал Тобайас Смоллетт, — отличается особенной аккуратностью в одежде». В газете London-Spy рассказывали о том, как люди «обильно намыливаются, намываются, обтираются и причесываются», лишь бы «иметь приличный вид при свете дня»53. Ночью внешность была не столь важна и стандарты не столь высоки. Некоторым тьма помогала скрыть свои слишком старые или грязные одежды, какие не наденешь днем. Один пьяный сквайр предпочел вернуться из лондонской пивной ночью, потому что «был слишком перепачкан, чтобы идти домой днем». «Ночью, — гласит итальянская пословица, — любая шапка сгодится»54.
Верхняя одежда становилась в общем менее разнообразной и более функциональной. Цвета были проще. Поскольку грязь и навоз лежали повсюду, среди людей обеспеченных к концу XVII века стали популярны кожаные ботинки и сапоги, а также гетры. Для защиты от холода и сырости мужчины и женщины носили фетровые плащи или накидки с капюшоном, застегнутые на пуговицы. «Большие накидки» {great cloaks), надеваемые преимущественно мужчинами, были толстыми, тяжелыми и свободными одеяниями, доходившими до середины икры у пеших путников и более короткими у всадников. Один приезжий заметил, что в Риме «большие накидки у всех прохожих на улицах». К концу того же века получили распространение пальто-шинели (great coats, watch coats) на случай скверной погоды. В «Приключениях сэра Ланселота Гривза» (1762) Смоллетт писал о человеке, «закутанном в пальто (great coat)». Робинзону Крузо после кораблекрушения удается спасти «пальто (watch coat), чтобы укрываться». Желая согреться, голландки носили под нижними юбками маленькие горшочки с горячими угольками или тлеющим торфом. Сицилийцы в холодные ночи привязывали такие же приспособления на запястья. Бедняки, у которых не было ни плащей, ни накидок, спасались от холода, надевая одну одежду поверх другой55.
Голову укрывали не менее тщательно. Говоря о «влажном ночном воздухе», один путешественник отмечал, что в Англии «принимают больше предосторожностей против простуды, чем в восточных странах против чумы». Пепис полагал, что он бы не простудился так сильно, если бы чаще носил парик. Женщины обычно накидывали шали, капюшоны и шарфы. Другие надевали льняные чепцы с лентами по обеим сторонам, которые завязывались под подбородком. Некоторые мужчины, не заботясь о моде, оборачивали вокруг головы шарф и загибали вниз поля треуголки. «Днем покрывай голову как хочешь, ночью — как можешь» — советовала пословица. Из опасения простудиться на ночном воздухе жители Рима прикрывали рот плащом, чтобы «создать пространство для дыхания». «Они поступают так, чтобы, находясь на улице, дышать воздухом комнатной температуры и укрыться от дурной погоды»56.
Тем, кто ночью путешествовал в одиночестве, скрыть свое богатство и высокое положение помогала простая одежда. Сэмюэл Джонсон утверждал, что его никогда не грабили, «потому что разбойники знали, что у него мало денег, да и внешний вид его говорил о том же». Джентльмен мог сойти за рабочего, обрядившись в лохмотья. Как гласила шотландская народная мудрость, «потрепанное платье — лучшая защита от грабителей». Кроме того, осмотрительные люди не носили при себе много денег и украшений. Когда Мэри Хикс спросили, как она решилась идти ночью по лондонским окраинам, «ибо это очень опасно», она ответила, что «ничего не боялась, потому что оставила деньги и кольца» в доме у подруги. Кто-то прятал деньги в складках плаща, в башмаки или чулки. В 1595 году в Италии на некоего польского пана, оказавшегося ночью в сельской местности, напали, выскочив из кустов, двое грабителей. Поляк предварительно не только обернул свои башмаки тряпьем, но еще и вшил 80 венгерских флоринов в чулки. «Трудно было такое предположить из-за моей плохой обуви и еще потому, что я шел пешком», — рассказывал он. Один из грабителей, пожалев бедолагу, дал ему две монеты, прежде чем скрыться!57
В передвижениях пешком, кроме маскировки социального статуса, было дополнительное преимущество. Лошади в темноте могли испугаться, а значит, при пеших переходах несчастных случаев происходило меньше. «Как можно быть уверенным даже в самой лучшей лошади?» — вопрошал опытный наездник Джон Бинг58. Иногда семьи отказывались от поездок в колясках, несмотря на все удобства. «Слишком темно для поездки в экипаже, — заключил пастор Вудфорд, собираясь восвояси после карточной игры в поместье местного сквайра. «Мы с племянниками надели пальто (great coats) и отправились ужинать домой пешком», — рассказывал он. К тому же, по мнению некоторых, пешему было легче обороняться. В 1729 году с ростом преступности в Лондоне кучера наемных экипажей стали жаловаться на сокращение числа клиентов. «Люди, особенно вечером, предпочитают ходить пешком, потому что так им сподручнее себя защищать»59.
Любое сухопутное путешествие всегда было предпочтительнее путешествия по воде. С учетом мелководья и песчаных отмелей ограниченная видимость делала плавание на судне крайне опасным. К тому же, если судно перевернется, шансов спастись было существенно меньше. Как-то августовским вечером 1785 года неподалеку от Лидса молодой кучер остановил свою повозку на берегу, чтобы напоить лошадей, но из-за быстрого течения полноводной реки лошади не удержались на ногах и увлекли за собой и повозку, и несчастного кучера. Как писала газета London Chronicle, «поскольку ночь стояла очень темная, не было возможности оказать ему сколько-нибудь действенную помощь»60.
Время тоже имело значение для путников. В доинду-стриальных обществах ночи, как и дни, были разделены на определенные периоды. У древних римлян таких периодов было десять, причем, в отличие от нашего деления на часы, они были разными по протяженности. От сумерек (crepusculum) до восхода солнца (conticinium) каждый из них соответствовал либо явлению природы, либо состоянию, в котором пребывал человек, например первый глубокий сон (сопсиbiuт). В свою очередь, средневековая Церковь устанавливала канонические часы для молитв и служб61. В английских семьях Нового времени ночь также разделялась на различные периоды. Обыкновенно они включали в себя «закат», «запирание дверей», «зажигание свечей», «отход ко сну», «полночь», «глухую ночь», «время первых петухов» и, наконец, «рассвет». Несмотря на то что к XVII столетию все большее распространение получало деление на часы и минуты, эти традиционные периоды представляли доступную всем сословиям систему отсчета времени. Ее полагали удобной даже те, кто мог позволить себе иметь часы и другие приборы измерения времени. Некоторые периоды были отмечены естественными переходами, что позволяло легче воспринимать их последовательность. Петухов за их пунктуальность прозвали «крестьянскими часами»62.
Другие фазы ночи, как, например, полночь, селяне определяли по луне и звездам. Когда пастуха Аканта в пьесе «Родон и Айрис» (Rodon and Iris; 1631) спрашивают, который час, он отвечает, что одиннадцатый, потому что «очень высоко стоит Орион». Знамениты своей точностью были Плеяды — скопление звезд в созвездии Тельца. Как писал Сэмюэл Пёрчас в 1613 году, «в народе их называли курица с цыплятами». Один бостонский автор в 1786 году рассказывал: «Бедный крестьянин, никогда не видевший часов, определит время с точностью до минуты по восходу и закату луны, а также по некоторым звездам». Городские жители, напротив, полагались на башенные часы и крики ночных дозорных. Во многих городах к XVI веку на церковных зданиях появились часы, хоть поначалу и не слишком надежные. Как-то темной зимней ночью 1529 года кёльнский студент Герман Вайнсберг проснулся и отправился учиться, не подозревая, что еще не было и часа ночи. Когда же башенные часы пробили час, он решил, что «они идут неправильно». Осознав наконец свою ошибку и обнаружив, что дверь здания заперта изнутри, он «стал ходить туда-сюда по улицам, чтобы согреться» и чуть не умер от холода63.
После полуночи каждый час таил в себе опасность, но были и такие, что внушали особый трепет. В Шотландии некий приезжий заметил, что путешественники, которые «так боятся ездить ночью, должно быть, смелеют по утрам, хотя стоит такая же темень». Больше всего людей страшила «глухая ночь» — период между полуночью и первыми петухами (около трех часов ночи), самое темное время суток. Его еще именовали «мертвое время» или «мертвый час». Никогда дороги не бывали столь пустынны, а опасности столь велики. Древние римляне прозвали этот промежуток «лишенным времени» (intempesta). «В безжизненной пустыне полуночи»[33], — говорил Шекспир. А в его поэме «Лукреция» (1594) есть следующие строки:
Вот ужасам полночным путь открыт,
Глубоким сном забыться все готовы,
Ни звездочки на небе не блестит,
Лишь волки воют да зловеще совы
Заухали, ягнят пугая снова…
Все праведные души мирно спят,
Не дремлют лишь убийство да разврат[34]64.
Хотя преступления чаще всего совершались до полуночи, в последующие часы риск подвергнуться нападению и быть ограбленным только возрастал. Во всяком случае, так считали все. К примеру, один лондонец между часом и двумя ночи обсуждал со своим собутыльником, «как опасно было бы» пойти домой «в такое время ночи». А приезжий, оказавшийся в Лондоне, написал: «Если не выходить очень рано или очень поздно, грабителей можно не бояться». После того как на стекольщика Менетра напали на парижской улице перед самой полуночью, он стал решительно «избегать поздних возвращений домой»65.
К тому же темные силы, согласно народной мудрости, блуждали в поисках жертвы именно в это время. Была «самая глубокая ночь», когда Джону Лаудеру из Массачусетса показалось, что в кровати его придавило что-то «ужасно тяжелое»: это был демон, усевшийся верхом ему на живот. Не только привидения и ведьмы спокойно разгуливали по земле до первых петухов — в эти часы правил сам дьявол. Однако с наступлением дня вся нечисть исчезала, как призрак в шекспировском «Гамлете» (ок. 1601). «Тогда не смеют шелохнуться духи»[35], — говорил персонаж пьесы Марцелл. Эти верования были столь же древни, как произведения испанского поэта IV века Пруденция. Столетия спустя Генри Бурн, антиквар из Ньюкасла, писал: «Вот потому-то в сельской местности, где жизнь вообще начинается рано, все с радостью идут работать на рассвете, но, если людям приходится выходить из дому затемно, им повсюду начинают мерещиться привидения». В определенное время года ночные часы становились еще страшнее. На Британских островах все знали, что, например, в канун Дня Всех Святых и Иванова дня нечисть приобретала особую силу. «Страшнее всего канун Иванова дня», — заметил в начале XIX века путешественник, посетивший Ирландию66.
Местность тоже имела огромное значение. Ночь совершенно преображала знакомые пейзажи, наделяя безобидные объекты зловещими чертами. В долине Йоркшира, например, древние развалины маленькой часовни были «лю-бимейшим местом мальчишеских игр», но, как повествует Уильям Хауитт, «ночью к ней и близко бы никто не подошел из-за обитавших там разных духов». Бурн писал: «Подобным историям несть числа, и едва ли найдется деревня, в которой или рядом с которой не было бы такого дома». И в самом деле, отмечал он, «в народе часто говорят, что через такое-то место опасно ходить ночью». Эти места считались заповедными, и их предпочитали обходить стороной. В конце XIX века собиратель фольклора Френсис Гроуз подсчитал, что на каждом церковном кладбище привидений набиралось почти столько же, сколько было в деревне прихожан. «Пойти туда ночью не отваживался никто, исключая разве что церковного сторожа»67.
Улицы крупных городов не порождали такого множества страхов. Несомненно, четко обрисованная «топография мира призраков», как позже охарактеризовал перечень страшных деревенских мест один ольстерский мальчик, в большинстве городов отсутствовала. Кроме церковных кладбищ и пустошей, страшных мест было мало, жители часто переезжали, а общественные места были слишком оживленными, чтобы там могли укорениться какие-то традиции. Иногда лишь дома с привидениями заставляли поволноваться, как, например, дом в Кембридже, откуда в 1690-х годах в течение двух недель доносились «странные звуки»68. Таким образом, в ночное время отдельные городские районы характеризовались не наличием сверхъестественных сил, а вероятностью совершения в них преступлений. В Лондоне было более чем достаточно опасных улиц, включая печально известный переулок Головорезов (Cut-throat Lane). В датском городке Роскильде жуткой репутацией пользовалась Воровская аллея. Ночью всегда было опасно ходить по дорогам, ведущим в город. «Из-за боязни быть ограбленным» Сайлас Невилл находил, что «очень неприятно ездить ночью одному» в экипаже, «особенно неподалеку от Лондона». Во время ночных поездок по дорогам к востоку или северо-востоку от Парижа, как и через гаагский «Лес», можно было потерять не только кошелек, но и жизнь. А маленький сомерсетский городок Веллингтон находился рядом с местечком под названием «Лес негодяя» (Rogue's Green), имевшим дурную славу из-за частых грабежей69.
Незнание не спасало от наказания. В период раннего Нового времени в сельской местности то тут, то там виднелись виселицы с трупами людей. Это были высокие деревянные столбы с одной или более перекладинами, с которых свисали разлагающиеся останки казненных преступников. Иногда, впрочем, виселицами служили и деревья. Бывало, трупы подвешивались в железных клетках или кандалах на многие месяцы и служили предупреждением как для «хищников», так и для «жертв». В деревне Брасселтон-Коммон скелет упал на землю только почти через четыре года, когда молнией раскололо виселицу на «тысячу щепок». Глядя на два трупа, вздернутые неподалеку от Ковентри, некий человек заметил: «Уберегая от злодейских нападений, они служат двойным предостережением: тем, кто занят таким же преступным ремеслом, и тем, кто отправился в путешествие». Предостережения были отнюдь не двусмысленными, так как виселицы ставились на том самом месте, где совершилось злодейство. Пересекая один из регионов Фландрии, англичанин Джон Лик увидел столько «несчастных негодников на виселицах», что пожалел, что не взял с собой оружия, — «однако с Божьей помощью мы прибыли беспрепятственно» за городские стены «еще до заката». Как правило, многие путешественники натыкались в темноте на мертвые тела висельников. «Я весь затрясся от ужаса», — писал Феликс Платтер, столкнувшийся почти лицом к лицу с таким покойником на одной из «опасных дорог» Франции70. Кроме всего прочего, виселицы являли собой жуткую дорожную карту наиболее опасных мест. Маленькие деревянные кресты, а в датских городах зажженные свечи служили той же цели, но они, конечно, не внушали такого же ужаса. Распространенное поверье, что вокруг виселиц блуждают призраки казненных злодеев, делало их еще страшнее. «Ночью эти места настолько страшны для людей пугливых и робких, — писал французский историк Ноэль Тайльпье в 1588 году, — что если они услышат чей-то голос неподалеку от повешенного, то решат, что это разговаривает его призрак или дух»71.
Там, где процветала преступность, люди часто путешествовали группами. Богатые ходили в сопровождении слуг. Но и остальные тоже избегали передвигаться в одиночестве, особенно в пустынной местности. В горах Шотландии традиционно не приветствовались одинокие ночные путешествия. В 1599 году Томас Платтер, направляясь в город Рочестер графства Кент, всю ночь ехал в повозке «через множество опаснейших мест», но, так как «повозка была полна людей», он не испытывал «ни малейшего волнения». Пепис прошел пешком от Вулиджа до Редрифа, что на южном берегу Темзы, под охраной нескольких человек. «Говорят, такое путешествие очень опасно предпринимать ночью одному», — признавался он. Паоло да Чертальдо советовал: «Не выходите за ворота, если с вами нет верного друга и большого фонаря». Или внушительного размера собаки. Отправляясь на пастбище к своим овцам в три часа ночи, Ричард Митчел в 1749 году взял с собой «работника» и «здоровенную собаку»72.
Слабых духом, без сомнения, укрепляло оружие. На значительных территориях континентальной Европы, где воры отличались особой жестокостью, большинство жителей выходили из дому вооруженными, причем не только знать, но и крестьяне, для которых носить кинжал или дубину было обычным делом. Во Франции сельчане, как правило, носили «двустороннюю палку», на которую сверху и снизу были надеты железные набалдашники. «От Вероны до Брешии, — заметил некий англичанин, оказавшийся в Италии в начале XVIII века, — все путники шли с оружием, так как ранее на этой дороге произошло немало грабежей». На Британских островах пешеходы в городах и деревнях принимали аналогичные меры. В странах, где ношение личного оружия было запрещено, соблюдение этого закона игнорировалось из-за слабости или безразличия ночной стражи. Даже в западных пригородах Лондона, где жили люди богатые, приехавший туда в 1750 году Джон Найвтон был вынужден брать с собой дубину или небольшой меч, особенно после наступления темноты73. В сельской местности преступность была развита меньше, хотя экипажи все равно ездили в сопровождении вооруженной охраны и часто с вооруженными пассажирами. Всю дорогу от Шотландии до Лондона Босуэлл держал з руке заряженный пистолет. «Последние два этапа пути, которые мы проделали в темноте, я очень боялся грабителей», — писал он74.
Кроме того, людям помогали заклинания и амулеты. Свечи и фонари, молитвы и четки — все шло в ход, дабы защититься в дороге от злых сил. Целому ряду заговоренных предметов приписывали священные свойства.
В целях большей безопасности на Сицилии к экипажам с обеих сторон прикреплялись картинки религиозного содержания. «Чаще всего это изображения Мадонны с Младенцем или душ в чистилище», — отмечал приезжий наблюдатель. Женщины в Верхних Пиренеях для защиты от злых духов окропляли свои сорочки святой водой. В Кёльне продавались бумажки, к которым, как уверяли, прикасались лица трех библейских волхвов. «Если носить такую бумажку в кармане, она защитит от всех опасностей и грабителей», — сообщал Твисден Брэдбери в 1693 году. Другие амулеты не были непосредственно связаны с христианской символикой75. В некоторых частях Франции считали, что ношение ремня или передника помогает отогнать оборотней. В болотистых местностях Восточной Англии веточки остролиста служили защитой от ведьм, а бретонские крестьяне знали, что свистеть в темноте нельзя, иначе к тебе тут же слетятся злые духи. На севере Англии, согласно одной рукописи раннего Нового времени, за этот проступок нарушителю полагалось «в качестве наказания» три раза обойти вокруг собственного дома. Чтобы отогнать духов, дети в Йоркшире учились складывать обе руки в кулак большими пальцами внутрь. С этой же целью повитухи в Льеже надевали какой-нибудь из предметов одежды наизнанку, так же поступали и рабы в ряде регионов Америки76.
Ночь диктовала людям иные правила поведения при встрече. Темнота препятствовала соблюдению обычных правил этикета, который регулировал многие аспекты повседневной жизни и предписывал обмениваться любезностями на оживленных улицах. Вместо этого, советовал Джон Гэй, «пусть бдительность всегда твои стопы направит». Не имея возможности составить представление ни об одежде, ни о нраве приближающегося пешехода, а уж тем более о его личности и намерениях, люди делали выводы на основании других признаков. Путники давали о себе знать походкой и голосом. Кашель или плевок тоже могли кое о чем сказать. «Для нас очень важно уметь внимательно прислушиваться, — писал Руссо в „Эмиле", — чтобы определить… насколько низок или высок совершивший эти действия встречный, насколько он близок или далек, насколько резки или спокойны его движения». Джон Бернап, рудокоп из йоркширской деревни Грассингтон, мог узнать лошадь доктора по «стуку копыт»77.
Чтобы избежать конфликтных ситуаций, при встрече с незнакомцами следовало держаться на расстоянии — лучше было обойти прохожего стороной и предоставить ему возможность обойти вас. Один писатель советовал: «Я бы всем порекомендовал не давать подходить к себе слишком близко, особенно в темное время суток». Американец Элкана Уотсон, заблудившись как-то ночью на сельской дороге во Франции, увидел приближающуюся повозку и бросился к ней, крича по-французски: «Стой, кучер! Стой!» Кучер же, как выяснилось, принял его за бандита. «В страхе, что он всадит в меня пулю, я пустился наутек под гору, а кучер погнал в гору, так сильно мы испугались друг друга», — писал Уотсон78.
Когда пути странствующих неизбежно пересекались, молчание встречного усиливало подозрения. Напуганный проходящим мимо человеком на рыночной площади Траунштайна, конторский служащий Андре Пиклер воскликнул: «Если не отзоветесь, я заколю вас!» Говорили коротко и по существу. «Кто здесь? Кто идет?» — вот самые распространенные вопросы. «Друг и сосед», — ответил вопрошавшему Уильям Мауфитт по дороге домой в 1645 году. Важны были как сами слова, так и интонация — уверенная, но без вызова. Робость не меньше, чем враждебность, могла привести к конфликту. Большинство путешественников предпочитали подстраховаться, выразительно бряцая оружием. Боясь быть ограбленными в сельской местности в Испании, Томас Платтер и его попутчики размахивали шпагами у себя над головой, «чтобы они сверкали в лунном свете». А вот водить холодным оружием по земле определенно означало «объявление войны». Чтобы не попасться разбойникам в скандинавской деревне, один путешественник в 1681 году советовал нескольким безоружным кучерам обзавестись белыми деревянными палками, «которые при свете луны можно было принять за мушкеты». Возвращаясь домой с заседания суда в городке Уотлингтоне, Томас Эллвуд повстречался по дорогe с грабителем. «Мой клинок вдруг так неожиданно сверкнул в темноте, — восхищался своей отвагой Эллвуд, — что поверг преступника в ужас и изумление». Майклу Кросби, шедшему воскресным вечером из пивной «Нора Черной Мэри», повезло меньше. Столкнувшись в близлежащем поле с вором, он объявил, что «предпочитает разойтись мирно», но был тут же атакован и ограблен. При любой стычке в ночи следует применять силу, предупреждал Руссо. «Смело хватайте того, кто испугает вас ночью, будь то человек или зверь. Держите и сжимайте его что есть мочи. А если будет сопротивляться, ударьте»79.
Встреча с потусторонними силами требовала иных защитных мер. Злых духов определяли по темному цвету и жутким звукам. Многие являлись в обличье змей, жаб или других существ. Вместо того чтобы бежать, нужно было перекреститься и произнести молитву. «Это крест, чтоб нечистый исчез», — говорили в Польше. Во Франции народная мудрость советовала не бояться. В Нижней Бретани злых духов предупреждали прямо: «Если ты от дьявола, иди своей дорогой, а я пойду своей». Когда одна испанка лунной ночью увидела «демона», перед тем как упасть в обморок, она помолилась Святой Троице, а немец, отец писателя Жана Поля, встречал чертей «с именем Бога или крестом» в качестве «щита». Некоторые смельчаки вели себя более враждебно и, по слухам, повергали в бегство самого Сатану. Феликса Платтера во время визита в Марсель, несомненно, утешало сознание того, что после одной такой встречи его швейцарского проводника прозвали Охотником За Дьяволом80.
Только в состоянии полного отчаяния люди решались ночевать под открытым небом. «Путешественник должен осмотреть все вокруг и спать чутко, как заяц» — гласила итальянская поговорка. Немецкий врач Иоганн Дитц, потерявшись в окрестностях Любека, так боялся провести ночь в лесу, что, собравшись с силами, дошел до ближайшего амбара (хотя и наткнулся там на спавшую в яслях шайку грабителей). А Томас Платтер, не успев войти в Мюнхен до закрытия городских ворот, нашел прибежище в приюте для прокаженных81. Заблудившиеся либо прислушивались к знакомым звукам, либо кричали «ау» в надежде разбудить какую-нибудь семью, живущую поблизости. Так, возвращаясь из Бирмингема в Ноттингем, переплетчик Уильям Хаттон потерялся в Чарнвудском лесу. «Я медленно блуждал, весь мокрый, опасаясь за свою жизнь и изо всех сил взывая о помощи, но безрезультатно». Когда Ульрих Брекер, будучи еще ребенком, потерялся, он увидел на другом конце поля двух человек и стал звать их на помощь. «Но никакого ответа не последовало, — вспоминает он. — Наверное, они приняли меня за какое-нибудь чудовище». Чтобы их могли услышать издалека, люди стреляли в воздух, подавая таким образом сигнал бедствия. В плимутской колонии в 1636 году стрелять ночью было запрещено, за исключением двух случаев: если следовало убить волка или «найти потерявшегося». Босуэлл, которого ночь застала на пути в Италию, выбрался на дорогу в город после того, как услышал несколько выстрелов. Сам он не стрелял, но, скорее всего, воспользовался чужим несчастьем82.
V
Я с трудом добралась до дому в ночи, оставшись целой и невредимой благодаря Господу нашему, который не позволяет ни людям, ни демонам творить все зло, на которое они способны.
Дама Сара Каупер (1704)83
Ни одно время суток так настоятельно не заставляло человека проявлять свой ум и изобретательность, как ночь. Темнота проверяла на прочность знание местных традиций, магических ритуалов, мира природы. И конечно, ночь испытывала душу человека или, по крайней мере, его религиозное рвение. Очень многие, успешно добравшись ночью до цели, возносили молитву Богу. Благодарность выражалась лаже за самые непродолжительные походы. Судя по дневникам того времени, это были не формально заученные фразы, а искренние слова облегчения. «Выехал домой, но дорога была темная и трудная, — записал викарий из Дербишира. — Но с Божьей помощью добрался невредимый и нашел всех в здравии». Томас Тёрнер писал: «Я вернулся домой в 09:10, слава БОГУ, целый и невредимый»84.
У этих мужчин и женщин были веские причины для благодарности. Несчастье могло постигнуть даже опытных путешественников, ибо ночь таила немало жестоких неожиданностей. Но некоторые ситуации трудно понять, во всяком случае современному человеку. Джон Пресси из Амсбери (Массачусетс) в 1668 году отправился в четырехкилометровый путь домой, «как только начали сгущаться сумерки». Места были знакомые, и он «легко разбирал дорогу под ярким лунным светом». Вдруг путешественник стал то и дело «сбиваться с пути». Увидев перед собой странные огни, в один из которых он ткнул посохом, Пресси свалился в яму. Неожиданно он обнаружил, что «на его левой руке стоит женщина». Однако, «охваченный ужасом», он все же умудрился добраться домой и своим видом перепугал всю семью. Другие несчастья, препятствовавшие планам путешественников, могли оказаться вполне предсказуемы. В ирландской деревне Дерин не многие, выбирая время для походов, следовали обычаю «лунного» Джона О'Донохью — этот человек был известен тем, что частенько ходил домой лунными ночами. «Пойду домой при луне», — говаривал он. Но как-то раз октябрьской ночью, возвращаясь из таверны, Джон свалился в канаву и утонул, ибо в тот вечер поддался другой своей привычке — выпил изрядное количество виски и пива. И эту его слабость ночь не простила. «Хотя была полная луна и света хватало вдоволь, — скорбел приятель погибшего, — в глазах Джона свет погас»85.

ТЕМНЫЕ ЦАРСТВА

Современная полуночная беседа. (1733).
Гравюра Т. Филлибрауна с живописного оригинала У. Хогарта.
Я проклинаю ночь, но она укрывает меня от дня.
Уильям Драммонд Хоторнден (1616)
В те времена яркий дневной свет был непреодолимой преградой на пути человека к уединению. Как в городах, так и в сельской местности превалировали отношения, основанные на личном общении, и большинство жителей были хорошо осведомлены обо всем, что происходило у соседей. Предоставляя людям моральную и материальную помощь, общины также устанавливали одинаковые стандарты поведения в общественной и частной жизни. Теоретически бдительность в борьбе с грехом была обязанностью каждого добропорядочного соседа. «Если кто-нибудь по соседству избрал ложный путь, предостерегите его с любовью и верой», — советовал Коттон Мазер из Новой Англии. «Соседство, — писали историки Дэвид Левин и Кит Райтсон, — предполагало не только взаимопомощь, но также и возможность поручительства или рекомендации и моральную общность»2.
По причинам личной корысти и из соображений общественной морали неподобающее поведение влекло за собой публичное разоблачение, что происходило чаще всего от любопытствующих взоров соседей и несдержанности их языков, нежели при содействии констеблей и церковных старост. Люди опасались, что проступки, совершенные в одной из семей, могут пагубно влиять на всю общину и наносить ей вред. Будь соседи менее зависимы друг от друга, эта угроза не страшила бы так сильно. В случаях сексуальных прегрешений приход отягощался незаконнорожденным ребенком, что предполагало финансовые трудности, а кроме того, навлекало гнев Всевышнего. В 1606 году группа жителей из Касл-Комба (графство Уилтшир) выступила с петицией, в которой осудила «мерзкий блудный акт» одной женщины, в том числе и по причине, что она навлекла гнев Господень, «павший на жителей города»3. Короче говоря, общественный контроль был необходим. «В Англии, — отмечал немецкий путешественник в 1602 году, — каждый житель связан клятвой пристально следить за соседскими делами»4.
Близкое сосуществование, будь то дома или в мастерской, уменьшало вероятность ненадлежащего поведения. Большинство жилищ были достаточно тесными. Во время поездки на Гебридские острова Джеймс Босуэлл и доктор Джонсон, предпочитающие более роскошные апартаменты, часто разговаривали друг с другом на латыни «из страха, что их могут подслушать в этих маленьких шотландских домишках». Любые секреты становились добычей прислуги, которая числилась в рядах самых заправских сплетников5. В ту эпоху ситуацию усугубляли узкие переулки, разделявшие здания, их тонкие стены с трещинами и неприкрытые окна. Только к XVIII веку шторы стали распространенным явлением в городских жилищах, в сельской же местности они по-прежнему были редкостью. В городах прикрытые занавесками в дневное время двери неизменно вызывали подозрение. Колонист из Новой Англии, заметив подобное в соседнем доме, назвал их «шторами блуда»6. Можно было, конечно, найти естественное укрытие в лесах и полях, но и они тоже не гарантировали защиту от надзора. В 1780 году один из авторов Westminster Magazin утверждал: «Человек в сельской местности не может с легкостью совершить аморальный поступок, не будучи замеченным и осужденным соседями»7.
Хорошая репутация у соседей отнюдь не была праздной заботой, особенно в небольших общинах, где все были тесно взаимосвязаны друг с другом. «Человека с дурной славой можно считать наполовину повешенным» — утверждала английская поговорка. Связи как личного, так и финансового характера зависели от чести и доброго имени человека, а доброму имени могли угрожать различные проступки, начиная от внутрисемейных свар, пьянства и заканчивая сексуальным распутством и воровством. «Дурная слава» часто служила основанием для обвинительного акта, и в ходе судебных разбирательств нередко запрашивались свидетельства соседей. Испорченная репутация обычно была невосполнимой утратой, несмываемым пятном, вызывающим всеобщее порицание. «По соседству в нем не видят честного человека, поскольку говорят, что он покупает ворованные вещи», — писала Энн Парфит про своего лондонского соседа в 1724 году. Шотландский священник высказывал следующее мнение о своих прихожанах в Инвереске: «Нет более эффектного контроля, чем мнение равных»8.
Люди из низших слоев общества подвергались наибольшему надзору. Разнорабочие, слуги, бродяги и рабы вызывали глубокие подозрения среди тех, кто стоял выше их на социальной лестнице. Настоящие нищие даже не подчинялись суду хозяев; «некому ими управлять», как заметил Джон Обри. «Низший класс в Англии, — расточал ругательства British Magazin, — это самая злобная, грязная, мерзкая и наглая разновидность человеческих существ». Нестабильность положения бродяг, не имеющих «ни очага, ни постели», разжигала страхи. Елизаветинец Николас Бретон писал о типичном нищем: «Обычно он зачат в кустах, рожден в хлеву, живет на дороге и умирает в канаве». В некоторых регионах социальные парии, такие как евреи, проститутки и еретики, должны были носить на одежде специальные «позорные знаки»9. В Аугсбурге на одежде нищих красовалась эмблема их общественного положения — Stadtpir. Проститутки должны были пришивать зеленую ленту, а евреи — желтое кольцо. В 1572 году в Англии был издан статут, требовавший, чтобы каждый бродяга был «как следует выпорот и чтобы ему прижгли каленым железом хрящ правого уха»10. И без того отмеченные лохмотьями и физической немощью, низшие слои, по общему мнению, отличались жуликоватой манерой поведения, приобретенной за долгие годы нищеты и опасностей. Некий ирландец замечал относительно таких же воров, как и он сам: «Если бы мы выходили на улицу днем, прозорливый человек легко угадал бы в нас разбойников по нашим лицам, такой уж у нас подозрительный, страшный и напряженный вид, и мы часто поворачиваемся спиной, крадучись через узкие улицы и переулки». Неудивительно, что бродяги мечтали о волшебных шляпах, которые делали бы их невидимыми для мучителей. Юноша из Германии рассказывал о белом порошке, который якобы с помощью дьявольских сил защищал его от человеческих взглядов11.
Было бы неверным считать, что приватность, возможность уединения — это современные преимущества, неизвестные или не оцененные предшествующими поколениями. Хотя их важность менялась в зависимости от места и времени, частная жизнь всегда обладала привлекательностью в глазах носителя западной культуры. Стремление к уединению было широко распространенным явлением в античном мире, а в эпоху позднего Средневековья оно стало еще более желанным, поскольку вместе с быстрым ростом личного благосостояния усиливались и собственнические интересы по его сохранению. Впервые использованные в XV веке слова «частная жизнь» (privacy) и «частный» (private) прочно вошли в речь во времена Шекспира, что и нашло отражение в его пьесах. Очевидно, что для людей раннего Нового времени пристальное внимание общины отнюдь не уменьшало притягательности одиночества. Скорее, наоборот. Местный контроль вкупе с угрозой наказания только повышал ценность изолированного существования. Особенно в ночные часы. «Будь скрытен, словно ночь», — советовал один из персонажей анонимно опубликованной пьесы «Бастард» (1652). «Ночь придает мне храбрости, — писал Джордж Герберт, — в темноте и одиночестве я осмеливаюсь делать то, на что не решусь в компании»12.
Разумеется, для личных удовольствий и публичных вольностей были поводы, вошедшие в повседневную практику. В католических землях существовали такие отдушины для праздничных увеселений, как масленичный карнавал, Праздник дураков и другие ежегодные гулянья. Народные развлечения предполагали изобилие еды и напитков, а также разнообразие спортивных состязаний и шумных игр. В период Масленицы, в дни, предшествующие Великому посту, городские жители шутили, устраивали розыгрыши и потешались над друзьями и животными. Кутилы также получали огромное удовольствие оттого, что выступали в новой для себя роли, разгуливая в костюмах представителей церкви и светских чиновников. «Иногда целесообразно, — писал французский правовед XVI века, — позволить людям повалять дурака и повеселиться, ибо, держа их в чрезмерной строгости, мы погружаем их в отчаяние»13.
В протестантских странах, таких как Англия, число дней поминовения святых и других религиозных праздников неизбежно сокращалось вследствие Реформации. Порицаемые за излишества и фривольность, некоторые торжества уступили место светским или протестантским аналогам, но в более сдержанной форме. «Священных и праздничных дней у нас стало значительно меньше», — отмечал елизаветинец Уильям Харрисон14. Даже в католических общинах среди простого люда такие паузы «вседозволенности» были непродолжительными, ограниченными, как и положено праздникам, определенным временем года. По мере того как духовенство и городские власти прилагали все больше усилий по наведению порядка, плотские излишества сходили на нет. Отметим, что только после наступления темноты веселье могло приобрести более неистовый, порой анархический характер. Так, в Оверни свадьбы, как правило, заканчивались насилием в вечернее время, а в некоторых частях Италии праздники Майского дня становились более необузданными именно в ночные часы. Во время Масленицы встревоженные власти в большей части Европы запрещали ношение масок после наступления темноты, дабы не провоцировать бесчинств и кровопролития. «Никому не дозволяется носить шпагу или иное оружие, будучи ряженым, а также заходить в любой дом, равно как и скрываться под маской после наступления темноты», — сообщал иностранец, пребывающий в Риме15.
Отметим вновь: ночная темнота уменьшала пределы видимого мира. Несмотря на опасности, которые таила в себе ночь, в доиндустриальную эпоху ни одно время суток не давало столько независимости людям. Свет отнюдь не являлся абсолютным благом, равно как и тьма — неизменным источником несчастий. «Днем, — замечал сатирик времен Реставрации Том Браун, — говорят скованность, церемонность и лицемерие». Внешность часто бывала обманчива, поскольку ее обладатели стремились именно к обману. «Все неестественно кругом», — вторил современник. Лишь после захода солнца появлялась возможность вести себя так, как в иных обстоятельствах было бы запрещено. Только ночь позволяла человеку выразить скрытые черты характера. «Ночь ведает обо всех твоих желаниях», — утверждал один из писателей. В лондонской песне есть такие строки: «С наступленьем ночи лица и сердца / Без промедленья сбрасывают маски», чтобы грешить «открыто без стесненья»16.
Притягательность ночного времени в значительной степени объяснялась тем, что ночь традиционно связывалась с распутством и беспорядком и при этом имела глубокий символический смысл. В народном сознании ночная тьма лежала за пределами цивилизованного мира. «Лишь день грешит», — писал Джон Мильтон. Закат представлял собой пограничное царство между вежливостью и свободой — в ее хороших и дурных проявлениях. «Метафоры имеют значение», — напоминал Бернард Бейлин, поскольку «определяют способ нашего мышления», тем более когда они становятся понятными в реальной действительности.
На практике причин привлекательности ночи было предостаточно, включая ту «естественную маску», которую она даровала людям вместо лживых личин, зачастую принимаемых днем.
«Теперь достаточно темно, — подтверждал лондонский писатель в 1683 году, — чтобы вернуться в чей-либо дом, оставаясь не замеченным соседями». Даже в ясные ночи опасность публичного разоблачения снижалась благодаря небольшому количеству прохожих. Поскольку люди в основном уже уединились в своих жилищах, общественное поведение неизбежно становилось частным, тем более, отмечала драматург Афра Бен, что «глаза смертных были накрепко заперты сном». Да и личные взаимосвязи ночью были результатом выбора, а не обстоятельств: люди общались с близкими друзьями и семьей, а не с товарищами по цеху или любопытным начальством. Темнота, как заметил писатель конца XVIII века, создавала «маленькие обособленные сообщества», стоящие вне системы повседневных отношений17.
Некоторым необъятность ночи дарила отчетливое чувство личного суверенитета. «Ночью все принадлежит мне», — заявлял Ретиф де ла Бретон. В своей прославленной поэме «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (The Complain; or Night Thoughts on Life, Death, and Immortality; 1742–1745) Эдвард Янг вторил: «О, сколь неслыханная радость! Какая полнота свободы духа! / Яне томлюсь в темнице ночи; /…я темнотой обласкан и укрыт». Несмотря на все страхи перед ядовитыми парами и небесными явлениями, смертные стремились покинуть дома, чтобы насладиться самыми величественными картинами. «Мы легко устремляем свой взор в небеса, — замечал Бернар ле Бовье де Фонтенель, — мыслим более свободно, поскольку по глупости воображаем, будто мы единственные, предающиеся здесь мечтам». Ночь не знала границ. Гёте одним лунным вечером в Неаполе был «ошеломлен ощущением бесконечности пространства». И речь не только о поэтах и философах. Один английский скотовод, шагая домой после веселой вечерней пирушки, воскликнул: «Эх, кабы мне столько жирных бычков, сколько звезд!» На что его приятель ответил: «А я всей душой мечтаю иметь луг величиной с небо»18.
НОЧНЫЕ ДЕЛА
Работа
I
Чем можешь быть полезен ты для всех живых существ? Какую пользу и доход ты можешь принести?
Хамфри Милл. О темноте (1639)1
Ночь, ко всему прочему, часто означала желанную передышку от тяжких дневных трудов. Для многочисленных тружеников она приносила освобождение не только от социального контроля, но и от изнурительной работы. «Приходит ночь, когда никто не может делать», — подтверждало Евангелие (Иоанн, 9:4). В ряде регионов Британии наступающий вечер традиционно называли «праздником слепца», что означало: для работы уже слишком темно. «Солнце за горизонт, работник — на свободу» — гласила испанская поговорка2.
В Средние века во многих отраслях ночной труд признавался незаконным. Городские уставы запрещали работу по ночам некоторым категориям ремесленников даже в зимнее время, когда темнота наступала рано, еще до «вечернего звона». В 1375 году власти Гамбурга требовали, чтобы осенью кузнецы прекращали трудиться, как только «солнце становится золотым», а зимой — «как только день уступает дорогу ночи». Но отнюдь не о физическом благополучии работников так сильно беспокоились средневековые правители. Наряду с возражениями религиозного характера против «осквернения ночи», речь шла и о повышении риска возникновения пожаров. Кроме того, ограничивая некоторые занятия дневным временем, города стремились упорядочить экономическую деятельность, поставить под контроль процессы ценообразования и налогообложения. Да и сами ремесленники порой сокращали часы работы, дабы обеспечить должное качество своим товарам.
Гордость, а равно и прибыль побуждала мастеров придерживаться мнения, что света свечей недостаточно для работы резцами, напильниками и другими инструментами. «Ночной труд — это бесчестье дня» — гласила известная поговорка. Начиная с XII века гильдии в Англии, как правило, запрещали труд в ночные часы. И прежде всего это касалось тех трудоемких занятий, которые требовали от ремесленников проявления острого ума, отличного зрения, а также хорошего освещения рабочего места. Французская «Книга ремесел» в XIII веке запрещала ювелирам, имеющим дело с золотыми и серебряными изделиями, трудиться в темноте, ибо «ночью недостаточно света и они не могут заниматься своим делом с надлежащим качеством и точностью». Во время уличного мятежа в Дижоне какой-то ножовщик был зарезан из-за того, что работал в поздний час. Беспокойство усиливали глубоко укоренившиеся подозрения относительно любой коммерческой деятельности, осуществляемой после захода солнца. И дело было не только в том, что ночью ожидали козней дьявола, но и в том, что ничего не подозревающие клиенты отдавали себя на милость нечестных торговцев, «не пренебрегающих жульничеством в своей работе», как клеймила их в 1345 году лондонская гильдия производителей шпор. «При свете свечи не стоит выбирать ни женщину, ни ткань» — предупреждала пословица3.
Но при этом далеко не вся работа в средневековом городе и деревне прекращалась с закатом солнца. Существовал ряд исключений, в том числе некоторые сельские занятия и ремесла, не требующие большого искусства. В бухгалтерских книгах крупной флорентийской текстильной компании XIV века термин notte, то есть «ночной», указывал на рабочих, которые трудились до полуночи. В Сент-Омере среди тех, кто в 1358 году был освобожден от необходимости заканчивать работу точно с вечерним колоколом, были матросы и ткачи. Средневековый поэт возмущался соседским кузнецом, который неохотно гасил огонь в кузнице: «Такого шума по ночам не доводилось слышать нам, / Работников вопящих гам, грохочущих ударов гром!» Даже портные и сапожники иногда продолжали выполнять при свете свечи простую работу. Временные ограничения снимались, если требовалось выполнить заказ для представителей знатных семейств, а также накануне рыночных дней и ярмарок. Так, однажды зимой Людовик XI позволил парижским перчаточникам работать до десяти часов вечера. И дело было не только в большом количестве заказов, но и в том, что хозяева считали: ночной труд необходим, дабы удерживать учеников от азартных игр. Наряду с другими средствами работа являлась и формой общественного контроля4.
Однако до наступления эпохи раннего Нового времени ночной труд использовался незначительно. С появлением же новых рынков и производителей экономическая деятельность в регионах стала расширяться по всем направлениям. Несмотря на постоянную опасность пожаров, гильдии и городские власти вводили менее строгие законы. В Швеции, например, производство пива было настолько важным делом, что пивовары работали ночь напролет. То же самое происходило в Амстердаме. Когда монах Вальтер Якобсзоон в 1573 году внезапно проснулся в два часа ночи от шума, он решил, что виной всему расположенная неподалеку пивоварня, «где разливали пиво по чанам». Разумеется, для большинства профессий дневные труды заканчивались с наступлением темноты — так, это было нормой для городского среднего класса. Строго говоря, английский «Статут о ремесленниках» 1563 года требовал, чтобы мастера и другие работники трудились весной и летом с пяти утра и до времени между семью и восьмью вечера, а осенью и зимой — с рассвета до заката (два с половиной часа отводилось на отдых и пищу). Во Франции XVII века распространенный термин «дневной работник» означал человека, трудившегося с рассвета до заката. Луи-Себастьян Мерсье, вдохновенно рассказывая о дореволюционном Париже, описал ежевечерний уход по домам плотников и каменщиков, обувь которых оставляла на земле следы от белой извести5.
И все-таки множество свидетельств указывает на то, что ночной труд был на удивление распространен в доиндустриальном обществе, особенно когда дни становились максимально короткими — в период с осени до весны. Несмотря на то что дневного света уже не было, как сельский люд, так и горожане еще долго трудились после наступления ночи. «В нашу эпоху ремесленники и те, у кого вообще есть какое-нибудь занятие в этом мире, — сетовал английский писатель в 1680 году, — развили у себя дурную привычку засиживаться за этим занятием допоздна». Большинство продлевало свой рабочий день на несколько часов, а некоторые работали и после полуночи. «Днем — сколько хочешь, ночью — сколько можешь» — подтверждала пословица XVII века. Шотландская же поговорка советовала: «Если ночью есть работа, коня — в стойло, а жену — в постель»6.
II
Что касается невоздержанности и неумеренности во сне, от этого зла нужда исцеляет большинство из тех, кто беден.
Уильям Беркитт (1694)7
Кто же трудился ночью и зачем? Чем было продиктовано решение работать: свободным выбором или необходимостью? Один из ответов на эти вопросы кроется в том, что рабочий график ремесленников был ненормированным. Не каждый час в сутках и не каждый день недели им приходилось в равной степени интенсивно работать. Воскресенье, естественно, приносило отдых от трудов. В другие дни, вместо того чтобы следовать раз и навсегда установленному режиму, люди придерживались индивидуального графика, выполняя почасовую (или поденную) работу в хижинах, небольших мастерских или на фермах. Согласно Е. П. Томпсону, «везде, где человек сам контролировал свою трудовую деятельность, модель рабочего распорядка представляла собой череду периодов интенсивного труда и праздности». Какова была доля таких людей в общем числе трудящегося населения той эпохи, сказать невозможно, но ясно, что многие предпочитали откладывать на вечер выполнение тех задач, с которыми не могли справиться раньше, работая в более спокойном темпе. Ведь дни проходили не только в трудах, но и в обмене сплетнями и выпивке8. К тому же некоторый род занятий, например, пекарское дело, в силу своей специфики требовал ночного труда, а в других отраслях вследствие внезапного наплыва срочных заказов рабочая нагрузка могла резко возрасти. Ассортимент и количество товаров определялись спросом. В Хертфорде ученик портного Джон Дейн «сидел за работой допоздна подряд три ночи», поскольку его хозяин «должен был пошить много сержантских мундиров». А стекольщик Жак-Луи Менетра посвятил целую ночь тому, чтобы закончить набор оконных стекол для церкви в Вандоме, так как обещал доставить их на следующий день. В 1722 году некий лондонский сапожник, «будучи обязан срочно изготовить пару туфель», трудился в своей мастерской почти до полуночи9.
Чаще всего, однако, на интенсивность труда в поздние часы влияли отнюдь не личные предпочтения ремесленников, интересы дела или «рабочая этика» доиндустриальной эпохи, а борьба за выживание. «День короток, а работа велика» — утверждала английская пословица. Вечера позволяли людям небольшого достатка по завершении тяжелой дневной работы найти приносящее прибыль занятие. Писатель елизаветинской эпохи Томас Деккер в своем эссе задавал риторический вопрос о значении свечи: «Сколько бедных ремесленников получили благодаря тебе большую часть своих доходов?» Житель Лондона, работник Томас Лонг, трудился две ночи кряду лишь для того, чтобы «подкопить деньжат» и заплатить к сроку ренту. «Тяжелейшая часть ежедневного труда, — заявлял преподобный Джеймс Клейтон, — нередко выпадает на долю наших бедняков именно в то время, которое Бог и природа определили им для отдыха». Так же в рассказе Франко Саккетти, написанном в XIV веке, персонаж по имени Бонамико спрашивает соседа: «Вы что, настолько бедны, что не можете прожить без работы по ночам?»10
В городах работающие ночью бедняки составляли лишь часть обширного круга трудящихся. Домашняя прислуга, которую держала примерно четверть английских семейств, в любой момент должна была явиться на зов хозяев. У некоторых слуг, таких как управляющие и горничные, были постоянные ночные обязанности, начиная с запирания дверей и окон и заканчивая подготовкой хозяйских спален и тушением свечей. Один голландский писатель жаловался, что после устроенной им дома пирушки с компанией вся домашняя прислуга занималась уборкой до двух или трех часов ночи. Люди, занятые физическим трудом за пределами жилых помещений, вроде носильщиков и извозчиков, порой усердно работали допоздна. Лондонский рабочий Джон Томсон был вызван в два часа ночи, чтобы погрузить балласт на борт пришвартованного на Темзе судна, где приливы, а вовсе не дневной свет определяли график движения кораблей. Точно так же действовали и рыбаки, занимавшиеся ловлей рыбы на продажу. По вечерам улицы городов наводняли торговцы-коробейники, такие как молодые oublieurs в Париже, продававшие вафли. На венецианских гравюрах Гаэтано Дзомпини можно видеть мужчин и мальчиков, при свете луны торгующих вразнос таким скоропортящимся товаром, как телячья кровь и свежие моллюски. «Налетай, покупай моих мидий! — кричит юноша. — Нет такой рыбы, что долго будет храниться!» В Риме уличные торговцы продавали бренди, будто бы помогавший справляться по ночам с «дурным воздухом»11. И повсюду рыскали в поисках тряпок и других потерянных в толчее предметов, которые можно было продать, так называемые hunters. Возвращаясь однажды вечером домой, Сэмюэл Пепис встретил мальчика, «который собирал лоскутки», в руках он держал фонарь. «Порой мальчик мог собрать три или четыре бушеля[36] тряпок в день и получить по три пенса за бушель», — изумлялся Пепис. Навозные кучи, если их перетряхнуть, хранили собственные небольшие сокровища. Люди рылись в мусоре у опустевших рыночных лотков, охотясь за корками хлеба, овощами и мясными ошметками. Другие собирали на улицах экскременты, чтобы затем продать их в качестве удобрения в деревнях. Сам навоз обращался в деньги. Гёте в Неаполе обнаружил мальчишек и сельских рабочих, «не желающих покидать улицы с наступлением темноты», — такова была «золотая жила» из «помета мулов и лошадей», которой можно было завладеть12.
Простой люд занимался различными делами, требующими элементарных навыков. Английские ткачи, вследствие бурного расцвета суконной промышленности, иногда сидели за станками до десяти вечера даже зимой. На континенте условия не сильно отличались. Мужчины-ткачи в Лионе, к примеру, работали с пяти утра до девяти вечера, такой же график был у женщин в шелкопрядильном деле. Портные, сапожники, войлочники и красильщики также терпеливо сносили многочасовой рабочий день. «Когда иной горожанин ложится спать, — утверждала шотландская поговорка, — сапожник только садится за ужин». Однажды январским вечером 1624 года в Гааге Давид Бекк, вернувшись домой после девяти вечера, обнаружил там «портного Авраама, который все еще трудился». В путеводителе XVIII века по лондонским торговым местам описывался труд свечников: «Их рабочее время таково, как позволяет сезон или насколько требуется товар, равно ночью и днем». Молодой человек по имени Том Паундэлл, почти слепой после перенесенной оспы, вечерами нарезал фитили для торговца свечами13.
Поздняя работа была обычной и для каменщиков, плотников, других мастеров-строителей. Разного рода рабочие трудились ночью в доме Пеписа на Сизинг-лейн. В канун Рождества 1660 года маляры закончили работу только в десять вечера. «В этот вечер я был избавлен от их и всей остальной работы», — с облегчением записал Пепис в дневнике. Из записи 1726 года Дэниэла Итона, сквайра из Нортгемптона, следует, что столяры часто работали при свечах, когда осенние дни становились совсем короткими14. Пекари трудились всю ночь, чтобы обеспечить утром покупателей теплым хлебом. «Он жжет полуночное масло для меня», — написал Мерсье о парижском булочнике15. В производстве эля и пива профессиональные пивовары после полуночи начинали трудоемкий процесс перемалывания солода, кипячения его в воде для получения мягкой массы, из которой отводилось сусло, подготовки хмеля (для пива) и добавления закваски16.
Стекольщики и железоплавилыцики по сменам дежурили возле полыхающих печей. Огонь в горнах горел круглые сутки, поскольку требовалось поддерживать высокую температуру; то же относилось к известковым печам и к покрытым торфом грудам дров, где производили древесный уголь. Селия Файнс обнаружила в прибрежном городке Лимингтоне рабочих, кипятящих большие котлы морской воды для выпаривания соли. «Они постоянно, днем и ночью, следят, чтобы в очаге горел огонь… они уходят в субботу вечером и гасят огонь и начинают вновь разжигать его в понедельник утром, а разжечь пламя — это немалая ответственность». За исключением Лондона, где существовали законы, защищающие от шума, поздними вечерами часто трудились кузнецы17. Ночами работали и мельницы, использовавшие природные силы ветра или воды, которые вращали их жернова. Так же как и отжимные прессы для производства оливкового масла действовали «днем и ночью» в Южной Франции, в Англии не останавливались зерновые мельницы. «Эти мельницы не перестают работать всю ночь, если только есть условия к тому, чтобы они крутились», — заметил йоркширский фермер в 1642 году. (А мельники, в силу своих ночных бдений, часто считались вовлеченными в колдовские дела.)18 Шахты и копи также функционировали всю ночь, ибо время суток ничего не значило для тех, кто работал в забоях, освещенных шахтерскими лампами. Таков был режим работы в медных копях в Центральной Швеции и на серебряных рудниках недалеко от Фрайбурга. В Корнуолле, по мнению одного писателя, «бедняки» зарабатывали «себе на жизнь тяжелым трудом, копая шахты и добывая олово и металл из земли днем и ночью». Уже тогда, в Европе раннего Нового времени, на примере этих зарождающихся предприятий — мельниц, кузниц и шахт — можно увидеть тот огромный вклад, который в будущем привнесет использование ночного труда в рост промышленного производства19.
Работники средней квалификации считали, что для большей части стоящих перед ними задач простейших источников света будет достаточно. Предпочтение отдавалось масляным лампам и свечам. На острове Мэн слово аrпапе на языке островитян означало «работа, производимая ночью при свете свечи». В Швеции мастера каждую осень приглашали учеников и подмастерьев к себе домой на шуточный праздник ljusinbrinning, то есть «обжиг», чтобы отметить наступление сезона работы при искусственном освещении. Немецкие ремесленники, напротив, праздновали пиром, называемым lichtbraten («обжигающий свет»), конец зимней темноты. Английские сапожники также устраивали в марте ритуал, известный как wetting the block («размачивание колодки»). В ту эпоху работягам приходилось пользоваться разного рода лучинами и даже, в некоторых случаях, довольствоваться лунным светом. Другой проблемой были расходы, связанные с искусственным освещением. Писатель елизаветинской эпохи проклинал высокие цены на сальные свечи, ведь это было «большой помехой для бедных тружеников, которые не спят по ночам». Распространенное выражение «не стоит свеч» означало работу слишком незначительную, чтобы гарантировать хотя бы покрытие расходов. И все же для многих ремесленников выгода превосходила траты. В народной песенке под названием «Восторг портного» работодатель объявляет:
В достатке мыла и свечей — всю ночь они горят.
Довольно света здесь — трудись, пока глаза не спят[37].
Действительно, газета London Evening Post сообщала в 1760 году: «Несколько месяцев в зимний сезон многие ремесленники работают по семь-восемь часов при свете свечей утром и вечером», даже несмотря на то, добавлял газетчик, что им «требуется большое их количество»20.
Из ночи в ночь усердно трудились и женщины. В отличие от мужчин среднего или низшего класса, которые в основном работали вне дома, многие горожанки, жены и дочери, полностью посвящали свои дни домашнему хозяйству, за исключением отлучек по повседневным делам, работ, выполняемых на улице, да визитов к ближайшей соседке. К концу XVI века женщин все чаще предостерегали от праздных шатаний «из дома в дом, чтобы послушать всяческие басни», как это делает Батская ткачиха в «Кентерберийских рассказах» (ок. 1387) Чосера. От добродетельной женщины ожидалось, что она будет скорее «трудиться дома», нежели «болтаться по улице». Ее моральные характеристики были, по общему мнению, важной частью хорошей репутации семейства, ведь ее поведение там контролировалось наиболее жестко. Пусть не хозяйка своего дома, а только жена, но тем не менее она была его хранительницей со всеми вытекающими из этого обязанностями. Приготовление пищи, уборка и уход за детьми требовали полной дневной занятости. Хотя многие женщины вставали раньше, чем их мужья, у них в течение дня было меньше шансов для отдыха. «Погода может даровать мужчинам небольшую передышку, — писал Томас Тассер в XVI веке, — но дела хозяйки не имеют конца»21.
Облегчение, которое приносила ночь, было скорее кажущимся. Если перефразировать слова современника, зачастую одна работа просто сменялась другой. Домашние дела неизменно продлевали дневной труд. «У хорошей жены свеча никогда не гаснет», — замечал Уильям Болдуин в романе «Остерегайтесь кошки» (Beware the Cat; 1584). Поздний июльский вечер 1650 года застал Джейн Бонд из Массачусетса за приготовлением пирога и сбором хвороста. Джейн Моррис из Лондона чинила белье с дневного времени почти до полуночи. Настолько широко была известна баллада XVII века «У женской работы не будет конца», что повивальная бабка Марта Баллард из провинции Мэн упомянула ее однажды вечером, делая записи в своем дневнике. «Счастлива та, — рассуждала Баллард, — у которой достанет сил досидеть до восхода». В самом деле, когда в 1739 году уилтширский разнорабочий Стивен Дак опубликовал свою прославленную поэму «Труд молотильщика», поэтесса Мэри Коллиер написала язвительный ответ ему: «С наступлением ночи мы измучены очень, / Только вряд ли мы сможем вздремнуть». В отличие от мужского труда, возражала Коллиер, «труды наши не знают начала и конца»22.
И правда, всегда находилось белье, которое требовалось постирать. Эта задача была не из приятных, да к тому же весьма трудоемкой. Воду нужно было привезти в чанах в дом и вскипятить, одежду отстирать, накрахмалить и выгладить. Чистящие средства, в отсутствие мыла, включали щёлок, мочу и даже помет, растворенный в холодной воде. В состоятельных домах бремя прачки несли на себе служанки. Стирка занимала столько времени, что ее, желая избежать в доме беспорядка, как правило, затевали поздно ночью. «Неприятности постирушки», — назвал Пепис ту неразбериху, что царила в его хозяйстве, когда однажды ноябрьским вечером он вернулся домой. Самые бедные женщины зарабатывали на жизнь стиркой у себя в жилище или — вариант более распространенный — приходя на дом в качестве прачек. Вдова Мэри Стауэр появилась в доме заказчика в Лидсе в два часа «в светлую лунную ночь». Энн Тиммс из Лондона утверждала: «Я стираю ради заработка, трудясь допоздна — до одиннадцати-двенадцати часов ночи»23.
Женщины вносили вклад в семейный бюджет и другими способами; среди вечерних занятий было изготовление эля и сыра. Мэри Коллиер жаловалась, рассказывая о пивоварении: «Если мы осмелимся уснуть, сусло закипит и выльется через край». Но чаще всего по ночам женщины пряли, вязали, чесали шерсть и ткали. Начиная с XIV века во многих регионах Европы стала распространяться надомная система организации труда, при которой городские купцы обеспечивали домашние хозяйства шерстью, льном и другим сырьем, чтобы впоследствии получить готовую продукцию. Изготовление тканей было одним из основных занятий как в городе, так и на селе. От Швеции до Апеннинского полуострова долгими зимними вечерами матери, дочери и служанки просиживали за прялкой или ткацким станком. Управляющий шотландского помещика советовал: «Когда служанки не заняты уборкой или другой срочной работой, усаживай их за прядение до девяти вечера». Рассказывая о своем детстве в Баварии, Жан Поль припоминал коровницу «за ручной прялкой в комнате для прислуги, освещенной настолько, насколько позволяли сосновые факелы». Все эти занятия не требовали много света. Что до вязания, то один священник из Абердина замечал, что многие его прихожане способны выполнять «работу весь зимний вечер при очень слабом свете, исходящем от нескольких кусков торфа». Значимость прядения как источника доходов в некоторых регионах Германии была столь велика, что вдовам разрешалось оставлять себе прялку, когда все другие пожитки продавались за долги. В Норидже, на востоке Англии, согласно переписи начала 1570-х годов, 94 процента всех бедных женщин занимались разными видами ткачества. В трудных экономических условиях прядение обеспечивало семьям жизненно важную поддержку. В 1782 году во время неурожая в Шотландии, сообщал местный житель, женщины вкладывали «больше в благосостояние их семей, чем мужчины… ежевечерне сидя за работой»24.
Наконец, именно в городской среде существовали сугубо «ночные профессии», которыми занимались преимущественно в темное время суток малоимущие, неспособные успешно конкурировать днем. Вместо отдыха этим бедолагам ночь предлагала возможность добыть средства к существованию. Например, помимо работы в ночном дозоре, оплачиваемой из общественных средств, можно было получить место частного «сторожа». Нанятый ремесленником и купцом, он охранял товары от разбоя, воровства и поджогов. Сторожа защищали мельницы, бухгалтерские помещения и конюшни. Во Флоренции частные охранники патрулировали склады. В 1729 году владелец лондонского угольного склада нанял четырех сторожей, так как часто терпел убытки от «пропажи угля». Хозяева использовали в этой же роли слуг. Среди населения, живущего близ Эдинбурга, был распространен, например, «обычай, согласно которому слуги мельника охраняли мельницы ночами по очереди». В Ньюкасле служанка мясника Кэтрин Паркер ночью «присматривала за его лавкой» на городском мясном рынке. Некоторые люди считали охрану своей истинной профессией. «Я сторож на складе оружия», — заявлял Джон Стабли, свидетельствуя в суде Олд-Бейли против вора25.
С другой стороны, «ночные люди» опустошали подземные выгребные ямы, или «погреба». Над каждой такой ямой в подвале или в саду стояла будка-уборная, называемая «гальюн» или «дом облегчения». Тассер советовал: «Пришла пора расчистить зловонные места, / На плечи темноты возложим тяжкий груз». В условиях быстрого роста городов ночные чистильщики играли важную роль — санитаров. Уже к XVI веку городские власти Нюрнберга нанимали «ночных мастеров» (Nachtmeistes) для очистки 50 общественных уборных. Конечно, многие муниципалитеты допускали выброс человеческих отходов по вечерам прямо на улицу; теоретически их должны были незадолго до рассвета убирать работники, именуемые мусорщиками. На деле города, подобные Лондону, не поощряли такую практику, рассматривая ее как угрозу для общественного здоровья, и в некоторых «продвинутых» домах все больше пользовались личными уборными. «Ночные удобрения» — таков был эвфемизм, придуманный для нечистот, которые чистильщики таскали в ведрах к поджидающим их телегам. Некоторые семьи, в том числе Пеписа, имели смежный с соседями подвал, что являлось для хозяев значительным преимуществом. «Итак, в постель, — написал Сэмюэл в июле 1663 года, — оставив людей внизу выносить дерьмо через дом мистера Тёрнера; и, таким образом, премного довольный, наконец-то в постель». Парижские власти в 1729 году приказали gadouards, то есть чистильщикам, опустошать выгребные ямы ночью, а кроме того, потребовали, чтобы работники следовали с грузом прямо к свалкам, не останавливаясь в тавернах с целью перекусить. В Англии, где поначалу все городские отходы вывозились в сельскую местность, стоимость транспортировки возрастала по мере увеличения территории и населения городов. К тому же, в отличие от других народов, таких как японцы, которые использовали человеческие отходы главным образом в качестве удобрения, в западных хозяйствах предпочитали удобрять землю экскрементами животных. В Лондоне же большая часть нечистот сбрасывалась в Темзу26.
Предосудительное отношение к этой работе нашло отражение в саркастическом прозвище, данном чистильщикам, — «золотоискатели». В Аугсбурге старшие чистильщики туалетов были известны как «короли ночи». Если яма долго стояла нечищеной, то работа могла оказаться крайне тяжелой. В доме Элизабет Дринкер в Филадельфии нечистоты собирались в течение сорока четырех лет, прежде чем в 1799 году выгребная яма во дворе была наконец вычищена. «Суровое испытание» выпало на долю пяти человек на двух телегах, которые работали две ночи подряд до четырехпяти часов утра. Дринкер впоследствии размышляла: «Если бы идеи свободы и равенства, о которых так много говорят, воплотились в жизнь, кого бы можно было найти для выполнения подобного рода изнурительных работ?» Риск был значительным; помимо прочего, работникам грозила смерть от удушья после спуска в яму, ведь из снаряжения имелся разве что фонарь. Gentleman's Magazin сообщал в июле 1753 года об истории, происшедшей в таверне «Потрепанный Дик» в Саутворке: «Первый человек, спустившийся в яму, преодолевая вонь, крикнул о помощи и тут же свалился лицом вниз; второй спустился, чтобы помочь ему, и тоже упал; затем вниз сошли третий и четвертый, но они были вынуждены немедленно подняться наверх; поскольку вонь от ямы меж тем довольно ослабла, они вытащили тех двух, что спустились первыми; но второй был уже мертв, а первый — едва жив и умер в тот же день»27.
С трупами дело обстояло примерно так же, как с человеческими нечистотами. Городские власти предпочитали заниматься самыми неприятными делами ночью. Так, во время эпидемий муниципалитеты дожидались темноты, чтобы избавиться от мертвых. Считалось, что риск распространения инфекции уменьшался, если на улицах было мало людей. Да и паники в обществе можно было избежать. Во время Великой чумы 1665 года, унесшей жизни около 56 тысяч жителей Лондона, по вечерам в начале улиц и переулков ставили «труповозки», чтобы семьи могли погрузить в них тела своих близких. Муниципальные власти в Баварии велели обматывать колеса таких повозок тряпками, дабы приглушить их звук. «Все эти необходимые работы, что вселяли ужас и были столь же отвратительны, сколь и опасны, проделывались ночью», — замечал Даниель Дефо в «Дневнике чумного года» (1722). Во время чумы также ночью сжигали одежду и постельное белье жертв эпидемии. Современник сообщал о вспышке эпидемии в Барселоне в середине 1600-х годов: «Если кто-либо умирал от чумы, его тело хоронили ночью на кладбище Назарет вместе с матрасом и простынями. На следующую ночь сжигали деревянный остов кровати, занавеси, одежду и все, к чему мог прикасаться больной человек».
Эти обязанности выполняли могильщики, которых в Англии называли vespillons, так как они трудились по ночам (от слова «вечерня» — vespers). В Италии их именовали «носильщики трупов» (beccamorti). Могильщики несли фонари как знаки предупреждения, иногда они были одеты в белое. Когда в Бостоне в 1764 году разразилась эпидемия оспы, им приказали класть каждое тело в просмоленную простыню и в гроб «глубокой ночью», при этом впереди повозки с трупом должен идти человек, «предупреждающий всех, кто проходит мимо». Пепис ограничил свои ночные странствия во время эпидемии в Лондоне в 1665 году. В один из таких выходов — «в большом страхе от возможной встречи с мертвецами, которых везли для сожжения», — он заметил «факел (который и служил знаком приближения процессии) вдалеке». «Благословение Господне, не встретил ни одного», — признавался он в дневнике28.
III
Многое лучше всегда совершается ночью прохладной…[38]
Вигилий (I в. до н. э.)29
«Мой труд ужасно утомляет меня», — жаловался Хай-рэм Харвуд, фермер из Новой Англии. «Ложись поздно, вставай рано». От американских предгорий до российских степей более трех четвертей населения работало на земле в качестве арендаторов, наемных рабочих, слуг, рабов и крепостных, в дополнение к небольшому количеству крестьян-землевладельцев, фермеров-йоменов и помещиков. С полей убирали лен, зерновые — овес, рожь, пшеницу, а также сено и другие корма для животных. Повсеместно возделывали огороды и фруктовые сады. На колониальных плантациях преобладали табак, рис, индиго и сахарный тростник. Для сельских жителей вечера были отнюдь не передышкой, а продолжением рабочего дня. Многим приходилось, по выражению одного фермера, «день и ночь» тщетно бороться за свое существование, едва сводя концы с концами и выбиваясь из сил, чтобы не увязнуть в долгах и не потерять свой скудный надел (чаще арендованный, чем собственный). Лондонский писатель, печатавшийся под именем Mus Rusticus, в 1770-х годах сокрушался по поводу бедственного положения типичного английского работника, который, «дабы содержать себя и свою семью», вынужден трудиться на более крупного землевладельца «с четырех утра и до восьми вечера, при тусклом свете». У человека, связанного с разведением скота или земледелием, вне зависимости от его экономического положения всегда находились неотложные дела. «Вы не отыщете ни одного прилежного надсмотрщика, который не бодрствовал бы большую часть ночи», — утверждал немец Якоб Андреас Крузий в 1660 году. Римский автор Колумелла (I в. н. э.) необходимым условием для успешного ведения сельского хозяйства считал наличие такого качества у работника, как бессонница, наряду с отвращением к вину и «сексуальным излишествам»30.
Ночью всегда находилось какое-нибудь занятие: забой скота, колка дров или сбор яблок — любую сложную работу можно было выполнить при минимальном свете. В мае 1665 года работник из Норфолка Томас Раст весь день собирал дрок, а вечером перевозил его к дому. Работники фермы, расположенной неподалеку от Абердина, в летние ночи нарезали брикеты торфа на топливо. Ночное время заставало Эбнера Сенгера из Нью-Гемпшира за починкой ограды, строительством свинарника и перетаскиванием бревен. «Я работаю до рассвета», — записал он в 1771 году, после того как весь вечер вскапывал сад. С поздней весны и до осени было нормой завершать работу в поле после наступления темноты, будь то пахота, сев, сенокос или сбор урожая. «Они закончили копнить мое сено ночью», — отмечал сельский викарий в дневнике31. В конце лета и в начале осени работники расходились по полям для уборки зерновых: это занимало много времени. «Сегодня ночью мы полностью убрали урожай», — записал поздним августом 1691 года житель Йоркшира. В некоторых районах континентальной Европы сезон сбора винограда определял весь распорядок жизни. Наблюдатель писал о Южной Франции XVII века: «Люди там крайне заняты с раннего утра и допоздна». Неожиданно налетевшая гроза могла погубить урожай, оставленный лежать на ночь. Да и для воров темнота облегчала задачу. Путешественник в Шотландии сообщал: «Ничего не оставляется в полях, и каждую ночь все, что собрано, свозится к дому и укладывается в хранилище». Управляющий поместьем так инструктировал прусских крестьян в 1728 году: «В период сбора урожая не может быть никакого четко установленного времени для тех, кто хочет работать возницей, оно полностью зависит от объема вашей основной работы»32.
Домашние животные также требовали пристального внимания. По возвращении с пастбищ коров кормили, поили и доили, вечером и утром. После уборки в стойлах следовало постлать чистую солому. Лошадей, свиней и домашнюю птицу — всех необходимо было накормить и устроить на ночь. Только в одиннадцать часов мартовского вечера Джон Браун, слуга из графства Камберленд, «взял немного соломы, чтобы почистить и устроить на ночлег» лошадь хозяина. Случалось, что животные болели, а рождение жеребенка или теленка требовало долгих часов дежурства возле стойла. Ранней весной постоянной заботы требовали новорожденные ягнята33. Порой скот вырывался на волю, вытаптывал поля и грядки. В Дорсете как-то весенним вечером 1698 года дойная корова Джона Ричардса, бексингтонская красная, свалилась в канаву. Так как невозможно было немедленно ее вытащить, пришлось наблюдать за ней всю ночь34.
Некоторые работы, например по уничтожению слизней или перенос пчелиных ульев, обычно выполнялись вечером. Осиные гнезда также лучше было сжигать после наступления темноты. Тогда же было легче всего ловить скворцов, воробьев и других «надоедливых» птиц с помощью фонарей и сетей. Хотя считалось, что влажный, прохладный ночной воздух вреден для человека, он, по мнению ученых, да и самих фермеров, обладал рядом благотворных свойств. Ди Джакомо Агостинетти в 1707 году советовал сеять просо «вечером, когда воздух прохладен», с тем чтобы «получить преимущества от ночной росы». А Адам Эйр из Йоркшира апрельской ночью 1648 году в своем огороде сажал семена горчицы и репы. Вечер был самым предпочтительным временем для полива зерновых, поскольку прохлада позволяла избежать испарения влаги. На плантации Лэндона Картера в Виргинии рабы ночью тщательно поливали молодые побеги табака, чтобы ускорить его созревание. «У нас полно народу, так что можно быстро справиться с целым полем», — хвастался в своем дневнике богатый плантатор. Генри Бест из Элмсуэлла в своей книге по ведению фермерского хозяйства советовал ночью вымачивать солому, предназначенную для покрытия крыши35.
К тому же, наблюдая за ночным небом, можно было определить погоду на следующий день, что считалось крайне важным. Люди верили, что по небесным «знакам» они способны предсказать все — от грозы до заморозка. Как поясняли в 1616 году авторы «Сельского дома» (Maison Rustique, or the Country Farm), хороший хозяин, «хотя от него и не требуется быть человеком книжной учености», должен «знать приметы, по которым предсказывают дождь, ветер, ясную погоду и другие сезонные изменения». Существовали разные приметы, но большинство людей предпочитали верить ночному небу. Житель Лондона, автор книги «Долговечное предзнаменование» (A Prognostication Everlasting; 1605) заявлял: «Наблюдай за звездами, чей вид известен тебе более всего. Если кажется, что они светят ярче, очень увеличены, сияют сильнее, чем обычно, — это предрекает сильный ветер или дождь в той местности, где они видны»36.
Лунный свет был помощником во многих делах. Когда было возможно, люди рыхлили, сажали и косили при естественном освещении. Бест писал про кровельщиков: «Ночью они не бросают работу до тех пор, пока вообще могут что-либо видеть». Сэнгер в зимнее время перевозил дрова на санях, и снег отражал лунный свет. В другой раз, однажды вечером, он нес бушель ржи на мельницу, а луна только народилась. «Я возвращался домой вечером сквозь грязь и слякоть», — жаловался он. Лунный свет становился особенно необходимым во время сбора урожая, когда работа в полях была самой напряженной. Каждый сентябрь в преддверии осеннего равноденствия полная луна в течение нескольких ночей светит дольше, чем обычно, благодаря малому наклону плоскости лунной орбиты по отношению к плоскости орбиты Земли. Хорошо известная в Англии как «урожайная луна» (harvest moon), в Шотландии она носила имя «луна святого Михаила» (Michaelmas moon). Фермеры по обе стороны Атлантики использовали лунный свет при сборе зерновых. «Иногда, — писал Джаспер Чарлтон в 1735 году, — сборщики урожая всю ночь возятся со своим сеном или зерном». Почти столь же полезной была «охотничья луна» (hunter's moon) в октябре, когда она вновь становилась полной. «Сентябрьская луна, — заявлял писатель, — укорачивает ночь. Октябрьская луна — это счастье охотника»37.
Рыбалка также выманивала сельский люд из дому. Помимо того что рыба служила пищей для самого рыболова, ночной улов можно было обменять или продать и тем самым пополнить скудный бюджет. Некоторые виды рыбы, например форель, легче было поймать после наступления темноты, при этом огни факелов служили двойной приманкой. В Средиземном море в утлых лодчонках рыбачили итальянские крестьяне. В озерах Шотландии с конца лета до начала весны с помощью сетей вылавливалось большое количество сельди. «Ее всегда ловят ночью, — обращал внимание житель Лохбрума, — и чем темнее ночь, тем лучше для рыбаков»38.
Для большинства сельских поселений ночью серьезную угрозу представляли дикие животные. Люди со сторожевыми собаками охраняли от них сады, поля и скот. По всей Саксонии крестьяне опасались оленей и диких кабанов из-за ущерба, который они наносили полям. Жители деревень по очереди дежурили «ночи напролет», звеня в колокольчики, чтобы спугнуть незваных гостей. Крестьяне на юге Норвегии охраняли от медведей скот и поля с зерновыми культурами. Но хуже всех были волки. Известно, что французские крестьяне использовали магические заклинания, дабы защитить от волков стада овец. Пастухи, вооруженные ружьями и посохами, всю ночь жгли костры, чтобы защититься от хищников и для тепла, и предупреждали криками жителей деревни, едва заслышав или завидев приближение стаи. (В сельской местности в Италии пастухи жгли небольшие костры, желая «прогнать» ночь.) Также для охраны стад были необходимы собаки, предпочтительно светлого окраса, чтобы их нельзя было спутать с волками. Иногда на псов надевали ошейники с шипами. Как писал Агостино Галло, мудрый пастух, «с целью уберечь свое стадо от волков и иных опасных зверей, должен соорудить защитную стену [загон для овец] и выставить славный и сильный караул из смелых собак устрашающего вида». Говорили, что фермеры Новой Англии для отпугивания волков намазывали головы овец смесью из пороха и дегтя39.
Не меньшую угрозу представляли и воры. Посетивший Францию путешественник обнаружил, что крестьяне, дабы защитить свой урожай от краж, ночами стояли на страже, пока зерно не созревало настолько, что его можно было убрать и перевезти к дому. Однажды зимней ночью Питер Батлер, нанятый охранять небольшую отару овец, заметил из-за ограды поля, как четверо воров схватили одну овцу. Луна только что взошла, «было светло как днем», а ружье Батлера дало осечку. Жестоко избитый, он был связан и оставлен умирать. Изнуряющая работа, которую проделывали одной октябрьской ночью 1555 года два брата-итальянца, не была для них чем-то необычным. Поднявшись с постелей после полуночи, Лоренцо и Джакобо Бок-карди из Фары провели остаток ночи, патрулируя дубовую рощицу и несколько полей. Из соображений безопасности они держались вместе. Если раньше братья чаще брали с собой холодное оружие, то в эту ночь они взяли с собой огнестрельное. Приключений было немало, в том числе им пришлось спугнуть компанию молотильщиков, которые выпустили своих лошадей покормиться в семейном винограднике Боккарди40.
Наконец, среди фермерских забот была и доставка урожая или скота на рынок, куда следовало прибыть за несколько часов до рассвета, чтобы успеть сторговаться с продавцами. В темноте двигались не только груженные фруктами и овощами телеги, но и небольшие группы скота. На каждое животное, чтобы оно не сбилось с пути и не потерялось, надевали колокольчик. Сельские жители направлялись в город ночью. С трех утра в Венецию прибывали крестьяне на лодках, «груженных всевозможными дарами природы», а один приезжий в Лионе был разбужен в четыре утра «пронзительными криками ослов и оживленной болтовней людей», перетаскивающих корзины. Сельский люд посещал города в рыночные дни и при яркой луне. Укрепленным городам приходилось открывать ворота задолго до утренней зари. Крупнейшие городские центры сильно нуждались в провизии, поэтому рынки работали ежедневно с раннего утра до захода солнца, если не позже. За одну только неделю, согласно подсчетам, сделанным в 1750 году, в Лондон с ферм доставили 1 тысячу бычков, 2 тысячи телят, 6 тысяч баранов, 3 тысячи ягнят, 350 поросят и свиней и почти 20 тысяч голов домашней птицы. «Целые дни труда, а затем столько времени в пути и столько бессонных ночей — и все ради того, чтобы доставить в этот город провизию», — изумлялась Сара Каупер. Крестьяне приезжали в Париж даже из отдаленных городов вроде Жизора и Омаля. «В час ночи в город прибывают 6 тысяч крестьян, доставляя запасы овощей, фруктов и цветов», — писал Мерсье. На центральном рынке в Лез-Алье он замечал: «Шум голосов никогда не умолкает, и свет почти не проникает туда; большинство сделок заключается в темноте, как будто эти люди принадлежат к совсем другой расе, скрывающейся в своих пещерах от лучей солнца. Торговцы рыбой, которые приходят первыми, по всей видимости, никогда не видят дневного света, они уходят домой, когда меркнут уличные фонари, незадолго до восхода; но если от глаз толку мало, уши служат им в полной мере: всякий орет во всю глотку»41.
Температура на улице начинала падать, и семьи посвящали вечера работе в доме. У французов есть поговорка «К очагу зимой, в поле и лес — летом». В равной степени она относилась к ночи и дню. Уже в I веке н. э. Колумелла писал в сочинении «О сельском хозяйстве» о «многих вещах, которыми можно успешно заниматься при искусственном освещении». Как и в городах, в селах распространены были прядение и ткачество. Приехавший в Швецию чужестранец обнаружил, что почти всякий крестьянин ночью — ткач, а некоторые настолько бедны, что, прочесывая шерсть, могут рассчитывать только на лунный свет. Когда торговые отношения захватили районы, отдаленные от города, сельские жительницы стали производить полотно для продажи на местных текстильных рынках. «Во многих частях Йоркшира, — писал в 1757 году Джозайя Такер, — шерстяное производство осуществляется руками мелких фермеров и фригольдеров[39]. Часть шерсти эти люди покупают, а часть производят сами; их жены, дочери и служанки прядут ее долгими зимними ночами»42.
Вечерами также чинили обувь и инструменты, штопали одежду, затачивали ножи. Можно было чесать лен или молотить зерно. Резали яблоки для сидра, толкли солод для эля и пива. Однажды в феврале преподобный Вудфорд поднялся в три утра, чтобы «сварить большую бочку [хогсхед] крепкого пива». Три дня спустя он вновь встал рано, на этот раз еще до часу ночи, чтобы сварить пива в два раза больше. Ретиф де ла Бретон в коротком рассказе «Жена пахаря» описывает зимние вечера, когда «парни, болтая, готовили стойки для виноградных лоз, а девушки чесали лен или пряли». Сэнгер, помимо того что трудился на собственной ферме, ночами подрабатывал у друзей и соседей: лущил зерно или колол дрова при лунном свете у открытых дверей. Однажды в начале апреля он написал: «Я всю ночь помогал Тилли варить сок»43. В колониях, расположенных в пределах Чесапикского залива, плантаторы порой заставляли рабов при свете луны или свечи обдирать табак или лущить зерно; а на плантациях Южной Каролины рабы зачастую лущили рис зимними вечерами, что, очевидно, было причиной их мноначисленных побегов44. Без сомнения, и другие работники, даже некоторые фермеры, ночами подумывали о том же.
IV
Работа ночью и работа днем — это не одно и то же.
Джон Тэйлор (1643)45
По истечении полного рабочего дня ночной труд мог быть смертельно опасным для человека. Длящаяся часами тяжелая работа изматывала и тело, и дух. В средневековой Франции текстильные рабочие объявили, что труд по ночам «опасен для них и представляет великую угрозу их телам». Много позже один лондонский писатель утверждал относительно типичного сельского работника: «Хотя ему необходимы отдых и передышка, он упорно продолжает трудиться и тем самым причиняет себе большой вред; это изматывает его, и приходят болезни и преждевременная старость». Каждую осень в Оверни во время молотьбы ночью крестьянам едва удавалось урвать «несколько часов сна». Столь суровые условия неизбежно вели к несчастным случаям, иногда к увечьям или смерти. Обычным инструментом, используемым на ямайских сахарных плантациях, которые посетила леди Наджент, был большой тесак, служивший для ампутации рук заснувших за работой рабов, чьи пальцы были искалечены жерновами. Она отмечала, что тесак был единственным средством, способным спасти им жизнь46.
Почти так же плохо обстояли дела с бедолагами, для которых ночное время и представляло «рабочий день». Современные исследователи открыли, что рабочие ночных смен сильно страдают от бессонницы, утомляемости и имеют проблемы с пищеварением. Самой глубокой ночью человек не должен бодрствовать или употреблять много пищи. Не соблюдая эти условия, люди нарушают циркадные ритмы, бросая вызов многим векам эволюции человечества. Никто не осознавал этого лучше, чем сами ночные работники.
В анонимном памфлете, выпущенном в 1715 году, парижские пекари-подмастерья сокрушались: «Мы начинаем день вечером, мы месим тесто ночью; мы всю ночь проводим взаперти», и никакой возможности прилечь. «Ночь, пора отдыха, — заявляли они в памфлете, — для нас время пытки». И правда, ночная работа была одной из причин, которыми современники объясняли вспыльчивость пекарей и их склонность к насилию на работе и в быту47.
И все же, несмотря на все тяготы, тяжелый труд и физическое истощение, ночное время давало рабочим некоторые преимущества. Во-первых, в жаркие летние месяцы вечерние полевые работы были менее изнурительными. Работники с радостью спали в сильную жару днем, чтобы ночью как следует потрудиться. Кузнецы и рабочие по металлу также извлекали выгоду из более низкой ночной температуры48. Над работниками некоторых специальностей ночью ослабевал контроль, что делало трудовой график относительно гибким и ослабляло дисциплину. В 1728 году слуга Френсис Биддл, которому было приказано «не спать каждую вторую ночь» и охранять в Лондоне товары своего хозяина, воспользовался случаем, чтобы стащить три бочки пива, два бушеля солода и три бочонка эля. Как правило, в темноте было легче украсть что-нибудь с рабочего места. В городах излюбленными объектами для воровства были склады лесоматериалов и причалы. Уязвимыми были суда, пришвартованные в Лондоне и других крупных портах. Морское ведомство в начале XVIII века пыталось ограничить работу в королевских доках дневным временем с целью пресечь «мошенничество и грабеж», «совершавшиеся с наступлением темноты». По ночам охранники арсенала в Венеции мало того, что пренебрегали правилами, запрещавшими сексуальные отношения в период службы, но и вывозили соучастникам в краже большое количество товаров в лодках49.
Ночь предоставляла значительные возможности для «сексуального разгула». В 1552 году в Нюрнберге, где прачки довольствовались лишь несколькими прачечными на берегу реки, эти заведения закрывались с заходом солнца, с тем чтобы «у прачек не было места для недостойного поведения». Подмастерье Джон Дейн имел любовное свидание с девицей, когда был один в мастерской хозяина в Берк-хамстеде, так как «большая часть людей была в постели». Хотя они «попроказничали вместе», он пусть неохотно, но отказался от ее притязаний на большее. Однажды лунным вечером 1662 года колонист из Массачусетса Исэй Вуд улегся прямо на улице с Мэри Пауэлл, которую мать послала к нему помочь лущить зерно50.
В то же время ночь часто означала работу на себя, а не на хозяина. Когда все дневные работы были выполнены, многие крестьяне-земледельцы обрабатывали собственные участки, — как правило, это были скромные наделы, арендуемые на различных условиях. Днем крестьяне работали на полях крупного землевладельца, при лунном свете вели свое хозяйство. Швейцарский пастух Ульрих Брекер, недовольный своим занятием — смотреть за козами, купил себе небольшой участок для расчистки. «В дневное время, — писал он, — я работал на отца, а как только высвобождался — на себя; даже при свете луны я был там, укладывая бревна и связывая хворост, который срезал и срубил, пока еще было хоть как-то светло». Нет сомнений, многие с нетерпением ожидали того дня, когда они CMOiyr и днем работать только на собственной земле. В 1800 году один из авторов английского сельскохозяйственного журнала жаловался: «Когда у крестьянина-батрака появляется больше земли, чем он и его семья способны обрабатывать по вечерам… фермер больше не может рассчитывать на него как на постоянного работника». Домашняя прислуга также трудилась по ночам на собственное благо. Будущая жена Томаса Платтера, служанка из Швейцарии по имени Анна, «частенько пряла ночами допоздна», делая хлопковую пряжу для своей хозяйки, но также изготовляя «довольно хорошее полотно» для себя. Когда Ульрих Брекер был еще ребенком и жил в доме деда и бабки, его мать ночью, «чтобы подзаработать пенни-другой за спинами… дедушки и бабушки… тайком пряла при свете лампы»51.
Таким же трудолюбием отличались и афроамериканские рабы, порой имевшие в своем распоряжении землю, на которой можно было развести огород или выращивать поросят и домашнюю птицу. Излюбленным временем суток рабов была ночь, когда они не работали на плантациях. Размер наделов мог варьироваться от крошечного клочка земли до довольно обширных участков пустоши. В 1732 году наблюдатель в Чесапике записал, что на огородах, обрабатываемых по воскресеньям или ночью, рабы выращивали картофель, горох, тыкву. Кроме того, что это делало разнообразным в общем-то скудное меню, огородничество обеспечивало рабов товарами для продажи на рынках (в Южной Каролине и на островах Вест-Индии), куда они регулярно поставляли свои продукты. Согласно одному свидетельству, рынок в Антигуа был местом «скопления многих сотен негров и мулатов», продающих «домашнюю птицу, поросят, козлят, овощи, фрукты и другие плоды». По вечерам рабы также занимались охотой и рыболовством, несмотря на то что им приходилось проделывать путь в целые мили по труднопроходимой местности. Натуралист Уильям Бартрам видел, как в Южной Каролине рабы возвращались «домой с лошадьми, нагруженными дикими голубями», которых они поймали с помощью «света факелов» в болотах. На Ямайке для тех работников, у кого были слишком скудные наделы, источником дохода служили пойманные в ночное время сухопутные крабы. «Толпы негров с соседних плантаций каждый вечер проходят мимо моего дома с фонарями и ведрами, следуя в крабовую рощу, что на той стороне, и возвращаются, нагруженные под завязку, незадолго до полуночи», — записал белый житель52.
Кроме всего прочего, ночью обычно размывались границы между работой и свободным общением. Труд и развлечение переплетались тогда больше, чем в любое другое время суток. Выполнение многих работ превращалось в коллективные мероприятия, отмеченные веселым компанейским духом. В Италии представители высших сословий осуждали крестьян за «разврат во время молотьбы и безнравственные игры». Женщины сходились вместе для стирки белья. В одну из летних ночей 1760 года в доме Элизабет Дринкер в Филадельфии сама хозяйка и другие женщины устроили «стиральное веселье». В Южной Шотландии, несмотря на зимнюю темноту, ловля сельди привлекала «мужчин и женщин всех возрастов, и в различных компаниях… они несли фонари с горящим древесным углем… и это сопровождалось разноголосыми выкриками соперничества, веселья и надежды». Не отличалась по духу и коллективная «чистка от листовой обертки» кукурузы в Америке в раннее Новое время (на Севере называемая husking, а на Юге — shucking), к которой обычно приступали после наступления темноты. Слуга в колонии Нью-Джерси описывал это так: «Соседи помогают друг другу очищать кукурузу от листьев, за что их угощают ромом и пуншем». В Массачусетсе пуританский богослов и религиозный лидер Коттон Мазер проклинал «разгул, который слишком часто сопутствовал работе по чистке кукурузы» — такова была праздничная природа этого занятия. Тщетно увещевал он местных фермеров: «Да обратится ночь ваших удовольствий в страх (курсив мой. — А. Р. Э.)»53
Несомненно, многие люди получали удовлетворение, разделяя однообразный утомительный труд с соседями и семьей, причем их товарищеские чувства нередко подогревались алкоголем. Но еще важнее было то, что ночное время по самой своей сути подразумевало освобождение от ограничений повседневной жизни, от бесчисленных правил и обязанностей, подавлявших желание радости и веселья. Ночь, кроме всего прочего, была состоянием духа. В обстановке дружественной поддержки и действенной помощи формальности отступали на задний план вместе с чувством страха и ощущением никчемности. В темноте, пока друзья смеялись и трудились вместе, ослабевали запреты. Валлийская поговорка подтверждала: «Утренний „Джон" становится „Джеком" ночью». Помимо других преимуществ, совместный труд позволял семьям экономить дорогую горючую жидкость, делясь друг с другом светом от единственного факела или лампы. Мужчины и женщины, в надежде избежать пронизывающего холода, теснились вокруг ровно мерцавшего огня в очаге. Нужно было устроиться поближе друг к другу, просто чтобы согреться, не говоря уже о том, чтобы делать работу. В условиях слабой освещенности и тесноты ночь могла быть временем глубокой интимности и товарищества. «Ночные речи не повторяются по утрам» — подтверждала английская пословица54.
Поражает повсеместное распространение подобных сборищ. Среди прочих доминировали, особенно в зимние месяцы, вечера, которые устраивали прядильщицы и вязальщицы. Их вариации весьма многочисленны, например veillees во Франции, Spinnstuben, Rockenstubert и Lichstuben в Германии, русские посиделки, veglia в Тоскане. На острове Гернси такие вечеринки были известны как vueilles, а в Исландии, начиная с XIII века, — kvoldvaka. На Британских островах такие вечера также были распространены: от ceilid-he или dirnedn в Ирландии и rockings в Шотландии до валлийских у noswaith weu — «вязальных ночей»55. Еще в середине XV века Эней Сильвио Пикколомини, будущий папа Пий II (1405–1464), путешествуя по Северной Англии, наблюдал, как большая компания женщин просиживала ночь у огня за разговорами и очисткой семян конопли. В других частях Англии прядильные вечера были менее заметным явлением, но на севере их продолжали устраивать и в XIX веке. Уильям Хауитт писал о деревенских жительницах Йоркшира и Ланкашира: «Как только становится темно и вся обычная дневная работа закончена, а маленькие дети уложены спать, они гасят огонь в очаге, берут накидки и фонари и отправляются со своим вязаньем в соседский дом, которому выпал черед принимать посиделки»56.
Такие вечеринки устраивались один или несколько раз в неделю и могли продолжаться до часу или двух ночи. Большая их часть, однако, начиналась сразу после ужина и заканчивалась задолго до полуночи. Приходили обычно человек двенадцать ближайших соседей, но были и те, кто проделывал путь в несколько миль, освещая себе дорогу фонарями. Согласно записям очевидца, ирландские крестьяне «частенько проходили три или четыре мили через болота и топи». Конюшни и коровники служили пристанищем наряду с домами и мастерскими. В морозные ночи животные, так же как и навоз, от которого исходил пар, давали дополнительное тепло. От очага в доме часто было совсем мало света и тепла. А недостатка в работе не было. Помимо трепки пеньки и лущения зерна, руки людей нужны были для чистки орехов и плетения корзин. Женщины, работавшие для себя или помогавшие друг другу, обычно сидели перед очагом за пряжей, вязанием, ткачеством или чесали шерсть, поскольку эти занятия требовали большего напряжения зрения. Ночью ладони и пальцы подменяли руки, плечи, ноги и спины57.
На таких сборищах люди не только делились слухами и сплетнями, там звучали и шутки в адрес местных властей, особенно религиозных лидеров. Один критик Spinnstuben, побывавший в немецких деревнях, возмущался: «Там ничего не происходит, кроме осмеяния людей и разрушения их репутации». Пользовались популярностью и волшебные сказки. В швейцарском городке Хитнау писатель Якоб Штуц, тогда еще молодой человек, слушал у очага сказки и истории «прядильщицы» по имени Барбара Отт, которая утверждала, что когда-то умела летать. Голоса становились все мягче, люди обращались к излюбленному ночному развлечению — рассказыванию историй: в ход шли легенды, сказки и былички о злых духах, вечные сюжеты, передаваемые вновь и вновь бывалыми рассказчиками с отличной памятью. «Так по ночам проникали в мою душу легенды прошлого», — заявлял шотландский поэт Джеймс Макферсон. В Дангивене (Ирландия) слушатели внимали старинной поэме столь часто, что ошибки в рассказе замечались сразу же. «Спор в таких случаях, — говорит наблюдатель, — разрешается голосованием собравшихся»58.
Человеку доиндустриальной эпохи темнота представлялась идеальным фоном для повествований. Как в западной, так и в других культурах пересказывание мифов и сказок издавна было окружено аурой священного ритуала и традиционно приберегалось для глубокой ночи. Тьма защищала сердца и умы от грубых примет повседневной жизни. Любая «сакральная функция», утверждал Даниэлло Бартоли в труде «Досуги мудреца» (La Ricreazione del Savio), «требует темноты и тишины». Плохо освещенные комнаты в домах раннего Нового времени словно были созданы для того, чтобы в них резонировал талант рассказчика. Такие сказители в большей части Ирландии носили название sean-chaidhthe, а в Уэльсе — cyfarwydd. В отсутствие отвлекающих факторов слово, произнесенное вслух, приобретало ночью необычайную ясность. Да и на слушание темнота вдохновляла не меньше, чем на полет фантазии. Слова, а не жесты формировали доминирующие в сознании образы. Кроме того, звук имеет тенденцию объединять «разношерстную» аудиторию. И дело не только в том, что его трудно проигнорировать, но и в том, что он способствует сплоченности, заставляя людей сближаться — в буквальном и переносном смысле. Вкупе с тусклым светом от масляной лампы или очага сам акт рассказывания историй создавал необыкновенно интимную обстановку59. К тому же ночь разворачивала драматические декорации для местных сказок. Учитывался также страх слушателей перед сверхъестественными явлениями. О сказках, слышанных в детстве в Ланкашире, Мозес Хип вспоминал: «Неудивительно, что жуткие истории, рассказываемые у широко открытой каминной решетки холодными зимними вечерами, когда ветер с болот завывал на улице, немало устрашали детвору». Там, равно как и в других местах, традиционными персонажами были ведьмы, духи и привидения, описывались также опасные встречи с грабителями и ворами. «Ничто так не распространено в сельской местности, — замечал Генри Бурн в 1725 году, — как традиция зимним вечером (курсив мой. — А. Р.Э.) сидеть всей семьей вокруг огня и рассказывать сказки о призраках и духах»60.
В историях постоянно присутствовали мотивы насилия, нищеты и стихийных бедствий. В ход также шли пословицы, моральные наставления и хитроумные загадки: полезные уроки в деле противостояния опасностям жизни наряду с колдовскими поверьями и обрядами. В книге «Жизнь отца моего» Ретиф де ла Бретон описывал, как долгими зимними вечерами слушал поучительные истории, которые содержали «самые возвышенные истины древних». Пожалуй, наиболее типичной была рассказанная неким работником история о встрече «ночного путника» с блуждающим огоньком. Завороженный светом, странник чуть было не утонул, его спасло только «прекрасное знание ручья, текущего через долину». По замечанию одного шотландского пастора, вдохновенные истории существовали «для украшения ужасов зимней ночи», поскольку повседневные события могли лишь в лучшем случае отличаться непостоянством. В некоторых легендах богатые и влиятельные люди утрачивали славу, в других — бедняки торжествовали победу в борьбе с невзгодами. Во время вечерних посиделок у себя в доме французский работник Робен Шеве, настоящий кладезь историй, вел как поучительные, так и забавные повествования. Ноэль дю Фэй так описывал это в произведении «Речи о простоте мастера Леона Ладулфи» (Propos Rustiques de Maistre Leon Ladulfi; 1548): «Славный Робен после воцарения тишины начинает дивный рассказ о временах, когда звери могли говорить (прошло уже два часа); или как лис по имени Ренар стащил рыбину у торговцев; или как тот же лис заставил прачек отбиться от волка, когда учился удить рыбу; или как кот и пес отправились в странствия; или о тайнике Аснетт; о феях и о том, что он часто разговаривал с ними запросто, даже во время вечерни, когда он проходит через подлесок и видит их танцующими возле фонтана Кормье под звуки волынки из красной кожи»61.
Многие сказки, корни которых уходили в историю войн прошлых поколений, повествовали об известных деяниях воинов-героев. Наверное, эпические сказания (от исландских саг до русских былин) слушатели принимали близко к сердцу повсюду. Уильям Хауитт замечал относительно вязальных вечеров в Йоркшире: «Здесь рождаются все старинные предания и традиция долины». Во мраке искусные рассказчики уводили податливые умы в царство чудес, столь далекое от повседневных трудностей. В Бретани, по свидетельству Пьера-Жака Эльяса, его дедушка, мастер по изготовлению деревянных башмаков, был хорошо известен своей способностью «превратить сборище крестьян в фермерском домике в собрание рыцарей и дам». Только тогда, размышлял Эльяс, сельские жители могли перестать беспокоиться о «цене на молочных поросят, о хлебе насущном или о воскресной мясной похлебке». В комедии Джорджа Пиля «Истории старых женушек» (The Old Wife's Tale; 1595) описана такая ситуация. Однажды зимним вечером Мадж, жена кузнеца, подначиваемая рассказать сказку у очага, начинает: «Давным-давно жил-был король, или лорд, или герцог, у которого была прекрасная дочь, самая прекрасная из когда-либо живших: белая как снег и румяная как кровь; как-то раз его дочь похитили, и он отправил всех своих подданных на ее поиски… Был там волшебник, и этот волшебник мог сделать все, что угодно, и он превратился в огромного дракона и унес королевскую дочь в своей пасти в замок, построенный им из камня…»62
Во многих регионах вполне привычным делом для женщин было собираться у соседей, взяв с собой прялки и веретена. В некоторых частях Франции специально для этих целей каждую зиму строили времянки, называемые «маленькие укрытия» (ecrignes). По описанию, сделанному в XVI веке Этьеном Табуро, некоторые из них, как, например, в Бургундии, по размерам едва превосходили палатку. Слишком бедные, чтобы обеспечить своим дочерям очаг, у которого можно прясть, виноделы использовали колья и возводили на улице небольшие «хижины», обложенные навозом и глиной, «так хорошо перемешанными, что стены становились непроницаемыми». Согласно более позднему свидетельству, в Шампани ecrignes, напротив, представляли собой «дома, вырытые под землей», и они тоже покрывались навозом. Лампа, принесенная одной из женщин, висела посредине. «Каждая приходит, неся свою прялку и веретено, скрестив обе руки на фартуке, в котором сложен набор необходимых принадлежностей, входит торопливо и усаживается на свое место»63.
Такие посиделки позволяли женщинам работать и общаться без мужчин. В течение дня подобные встречи были ограничены — пути женщин могли пересекаться на рынке, возле колодца или на общинных мероприятиях вроде крестин и поминок. Прядильные вечера способствовали возникновению долгих, часто очень бурных разговоров. Среди оживленного подшучивания, болтовни и пения женщины обменивались новостями. «Зимняя ночь — для чаши сплетен», — считал Николас Бретон. По свидетельству другого современника, там «делились сокровенным о детях, родне, соседях, о льне и пряже; о гусях, утках, курах и яйцах; о сбивании сыра и масла и, вероятно, знали, что сказать и о скисшем молоке, и о больной корове, поскольку причины всех несчастий крылись в деяниях злобной соседки». Слухи и сплетни формировали местные представления о людях и событиях. Рядовые женщины посредством одних лишь разговоров оказывали на жизнь общины большое влияние, которое не зависело от установленной официально власти мужчин. «Слова — удел женщин, дела же — мужчин» — утверждала итальянская пословица64.
Не менее важной для женщин была эмоциональная поддержка, оказываемая своим подругам по вечернему труду, ведь женское сочувствие представляло собой желанный противовес патриархальным устоям. Известно, что «многие камни, долго и тяжко лежавшие на сердце, были сброшены» с помощью «истолкований, объяснений, знаний и опыта присутствующих на посиделках женщин». Вдохновленные рассказами о деяниях библейских героинь, таких как Юдифь и Эсфирь, женщины обменивались практическими советами, в том числе делились магическими заклинаниями, приносящими семейное счастье. Среди откровений, изложенных в книге XV века «Евангелия от веретен» (Les Evangiles des Quenouille»), было заклинание для смягчения жестокого нрава мужей. С другой стороны, жены, склонные к мести, могли прибегнуть к такой формуле из сборника:
«Случись так, что женщина ночью до третьих петухов встанет, чтобы помочиться, и перешагнет через мужа, да будет вам известно, что, если какие-то из его членов одеревенели, они никогда не расслабятся, если она не вернется на свое место тем же путем». Женщины также узнавали, как отгонять демонов и способствовать зачатию: ночью, если хотелось родить девочку, утром — если мальчика65.
Такие «рассадники непослушания» доставляли мужчинам беспокойство. В XVI веке итальянский моралист бранил женщин за то, что они «весь вечер пересказывали грязные истории», а один немецкий писатель подметил «ревность мужчин, когда их верные половины покидали родные стены». Кроме того, прядильные вечера в силу самой своей природы разжигали страх перед шабашами ведьм. Некоторые общины пытались — впрочем, тщетно — запретить подобные «скандальные» сборища. И при этом явившиеся незваными мужчины рисковали, что их строго отчитают и даже побьют. В1759 году подмастерье Конрад Хюгель, явившись на Spinnstuben, был жестоко побит женщинами, вооруженными прялками. Три недели подряд он пролежал, будучи на краю смерти. Утверждая, что такое наказание было их «святым правом», поскольку Хюгель позволил себе неприличные заигрывания, женщины позже заявили, что «им следовало побить его еще больше»66.
* * *
Ночь хранила день. Соседские вечеринки и рабочие посиделки освобождали от самых срочных дневных занятий. Новости и слухи надо было переварить и обсудить до того, как они становились достоянием улицы. В значительной степени veillees и подобные сборища не только отражали общинное сознание, они также формировали и усовершенствовали его, оставляя в стороне мнения и вкусы социальной элиты. В более широком смысле такие мероприятия, сохраняя и защищая устное наследие общин доиндустриальной эпохи, были жизненно важными для передачи следующим поколениям древних традиций. «Вечерним развлечением вокруг любого очага был пересказ историй давних времен», — отмечал некий шотландский священник. Очевидно, вечерние посиделки помогали смягчить суровые будни, позволяя соседям разделить друг с другом и нужды настоящего, и память о славных деяниях прошлых лет. «Работа переставала быть тягостной», — писал посетивший Ирландию путешественник. Пока в очаге горел огонь, искусство мудрого рассказчика уносило счастливых слушателей в далекие страны и эпохи. На несколько бесценных часов в тусклой, продуваемой ветрами хижине крестьяне могли стать богачами или знатными господами и дамами. Современник писал о простом люде: «Народные сказки и истории, которые они слышат во время veillees, производят на них большее впечатление, чем проповеди священников»67.

ВСЕОБЩАЯ БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА
Социализация, секс и уединение
I
Ночь — благодетельница всего, что дышит: большая часть счастья на земле приходится на время ее правления.
Луи-Себастъян Мерсье (1788)
Разумеется, даже трудовой люд не всякий вечер посвящал работе. Как и более состоятельные семейства, бедняки использовали свободные часы в свое удовольствие. В балладе XVI века говорилось: «Наградой станут работяге по завершении трудов утехи радостные ночи и наслаждения покров». Значительная часть вечеров отводилась, прежде всего мужчинами, отдыху и развлечениям. «Бог установил отдохновение от тяжких забот», — утверждал голландский писатель2.
Если современные представления об отдыхе только начинали формироваться в доиндустриальный период, то традиционные понятия «праздности», «удовольствия» и «забавы» уже и тогда были общими для всех сословий. Саффолкский фермер Уильям Коу регулярно заносил в дневник записи о ночах, проведенных в «забавах». «До полуночи развлекался», — отметил он четыре разных случая в январе 1694 года. Городские и сельские работники днем на время прерывали свои занятия, чтобы перекусить и передохнуть, но эти передышки были, как правило, короткими, особенно для тех, кто зависел от хозяина или нанимателя. Подобно воскресным и праздничным дням, ночь представляла собой достаточно длительный период для того, чтобы расслабиться и получать удовольствия. Отсюда и ликующий рефрен, звучащий на маскараде XVII века, устроенном Компанией бакалейщиков Лондона: «Трудиться мы готовы целый день, / А ночь веселье дарит нам взамен. / Приносит шутки, табака дымок / И бурный наслаждения поток»[40]3.
Конечно, некоторые люди по возвращении домой просто валились с ног от усталости и едва могли подняться, чтобы поужинать, особенно это касалось селян, у которых летняя работа в поле забирала все силы. Джон Обри из Южного Уилтшира сокрушался, что работникам, «измотанным тяжелым трудом», не хватало «свободного времени для чтения и размышлений о религии, и они прямиком направлялись в постель отдыхать». Некий доктор из департамента Верхняя Луара в 1777 году описывал, как крестьяне «возвращались домой вечером, изнуренные, измученные и несчастные»4. И все-таки для подавляющего числа людей ночь представляла собой нечто большее, чем просто перерыв на сон между двумя рабочими днями. Несмотря на множество опасностей, именно ей, а не утру или дню отдавали предпочтение.
Среди представителей среднего класса были популярны карты, кости и другие азартные игры. Житель Сассекса Томас Тёрнер и его жена любили вист, брег и криббедж, а вот пастор Вудфорд часто играл в нарды. Выиграв два шиллинга в кадриль, он сообщал: «Сегодня вечером нам было очень весело, и мы засиделись допоздна». Как правило, присутствовала и выпивка. «Ни один из нас не ушел спать трезвым», — замечал Тёрнер после ночной пирушки с друзьями. В другой раз он писал: «Мы продолжали пить как кони… и петь, пока многие из нас не напились, а затем пустились в пляс, срывая парики, шляпы и колпаки. И продолжали в том же духе (своим поведением больше напоминая сумасшедших, чем людей, которые именуются христианами)». В ту эпоху в Новой Англии местные власти считали подобное поведение неправомерным, и судебные отчеты пестрели записями о разбирательствах касательно пьянства в «неподобающее время»5.
Подробный дневник голландского учителя Давида Бекка показывает, каким был уровень социализации у представителей среднего класса в Гааге начала XVII века. Судя по наблюдениям Бекка, лунными вечерами родственники и друзья часто навещали друг друга. Возможно, недавно овдовевший автор дневника являл собой несколько нетипичный пример человека, стремящегося уйти из дому, но исключением в среде своих женатых приятелей он отнюдь не был. Сеть его ночных знакомств обширна. Помимо своего брата Хендрика, дяди, матери и тещи, Бекк общался с многочисленными друзьями, включая оружейника, который однажды январским вечером пригласил его на «праздничный ужин по случаю забоя скота». Несмотря на происходившие время от времени уличные убийства и пожары, ночи были заполнены поздними трапезами, пересказами старых баек, музыкой и беседами у огня «о тысяче вещей». Рекой текли вино и пиво. «Разговаривали и вместе согревались», — записал Бекк о ноябрьском вечере «доброго веселья», проведенном у брата. Спустя несколько дней в доме своего портного он присоединился к компании, коротавшей время «за песнями, танцами, игрой на лютне и прыганьем, подобно непослушным гаагским детям». Он ушел только в два часа ночи, «очень пьяный»6.
Социальная жизнь Сэмюэла Пеписа в Лондоне эпохи Реставрации была во многом соизмерима с существованием подобного рода. Близкие друзья Пеписа отличались большей изысканностью, а сам он был гораздо свободнее в собственных вкусах, чем Бекк. Но в остальном их времяпрепровождение было сходным. Если Пепис не работал допоздна в морском министерстве и у него не были назначены деловые встречи, то он проводил ночи за картами, трапезой с обильной выпивкой и едой, слушая музыку, как дома, так и за его пределами. «Просидели за картами после ужина до двенадцати ночи; так что при луне домой и в постель», — записал он в январе 1662 года. В другой вечер он оказался в собственном саду с сэром Уильямом Пенном, комиссаром морского министерства, и обоим было наплевать на ночное небо. «Мы оставались там до полуночи, беседуя и распевая песни, прихлебывая большими глотками кларет[41], поедая ботаргу[42], хлеб с маслом, и светила луна. Так что в постель — очень даже нетрезвым»7.
В раннее Новое время множество людей собиралось в пивных. В крупных и малых селениях эти заведения представляли собой средоточие социальной активности мужского населения. Посетители приходили сюда по вечерам, дабы поиграть в азартные игры, обменяться новостями, пошутить, но прежде всего, чтобы отдохнуть от работы, семьи и повседневных забот. В отличие от постоялых дворов, которые предоставляли усталым путникам ночлег, еду и вино, пабы предлагали мужчинам места для встреч более комфортабельные, нежели в их собственных домах. На континенте разновидностью пивных были французские кабаре, немецкие Wirthaus и испанские venta. Обстановка там была скромной: стулья и столы, а также огромный очаг. В интерьере некоторых из них имелись деревянные перегородки для того, чтобы обеспечить относительную интимность. В Англии в последовавшие за Реформацией десятилетия популярность пивных росла по мере того, как в прошлое уходили традиционные народные развлечения — религиозные праздники и связанные с ними забавы. «Я за всю свою жизнь не видел столько таверн и пабов, сколько их в Лондоне», — изумлялся Томас Платтер. Еще в 1628 году Ричард Роулидж пояснял: «Когда людям повсеместно запретили ходить на привычные им старые, древние состязания и игры, что последовало? Ну конечно, постоянное пребывание в пивных…<…>…так что люди по-прежнему могли встречаться, публично ли развлекаясь вне дома или в уединении в пабе. <…> Раньше проповедники клеймили флирт и совместные танцы девушек и юношей, а сейчас им приходится обличать пьянство и распутство, которые втайне процветают в пивных»8.
Пабы обслуживали в основном низшие слои населения, тогда как постоялые дворы и таверны привлекали более зажиточную клиентуру. Хотя купцы, йомены и состоятельные ремесленники удостаивали пивные своим визитом, все же значительная часть посетителей происходила из крестьян, подмастерьев, слуг и прочего бедного трудового люда. Они были как холостыми, так и женатыми, молодыми и среднего возраста. Согласно данным ряда подробных исследований о питейных заведениях Лондона, Парижа и Аугсбурга, наибольшее число клиентов приходили под вечер. Тогда как дневные посещения, в перерыве между работой, обычно были кратковременными, вечерние визиты могли длиться часами. Один француз, посетивший Лондон в начале 1660-х годов, заметил: «Портной или башмачник, если только у него нет срочной работы, оставляет свои труды и вечером отправляется выпить», при этом «частенько» он возвращается «домой поздно». Корреспондент из London Chronicle проклинал «дурацкое развлечение — вечером просиживать в пабе по три-четыре часа». Употребление эля, хмельного пива или вина приносило европейцам чувство мгновенного удовлетворения. Польский поэт XVII века заявлял:
Да, наши господа есть бедствие великое для нас,
Поскольку обдирают и стригут, подобно овцам, всех подчас,
Нет мира нам и в мире не найти нигде желанной тишины,
Лишь с кружкой пива, все забыв, мы с господами перед
Господом равны[43].
Значение имела и питательная ценность напитков, «без которых крестьяне не смогли бы существовать, ибо их пища в основном состояла из продуктов, обеспечивающих плохой или недостаточный рацион», как утверждал один писатель. Пиво и эль были более безопасными для питья, чем молоко и вода, и к тому же они служили источником тепла, были «теплейшей подкладкой для шкуры голого человека», по выражению поэта Джона «Водного» Тэйлора9.
Столь же привлекательной была и возможность встретиться с товарищами, оказаться среди равных себе, пообщаться и выпить вместе с людьми «одного круга». «Добрая пьяная компания — это наслаждение для них; то, что они получают днем, они спускают вечером», — полагал Даниель Дефо. По мнению Джона Адамса, в колонии Массачусетс количество таверн увеличилось благодаря «бедному сельскому люду, уставшему от трудов и жаждущему компании». Пивные соревнования, распевание баллад, карты и домино, ритуал передачи друг другу трубки табака, тосты, произносимые за здоровье присутствовавших в переполненном питейном заведении, — все это укрепляло мужскую дружбу. Как пелось в песне «Добрый эль за мои деньги»:
Тепло и свет у очага, где можно тесным кругом
Всю ночь пить эль из погребка с надежным старым другом.
Рассказы слушать и считать в своих карманах убыль,
А утром дома вспоминать горевший славно уголь[44].
Можно было пожаловаться на домашние склоки, или «брачную ругань», как называл их один наблюдатель. Если языкам давалась воля, объектом насмешек становились все — хозяева, священники и землевладельцы. «Шумное веселье и кутеж, проклятия и выпивка одним залпом», — отмечал современник. Имела место и демонстрация силы духа, да и просто силы, что было важно для поддержания мужской репутации и поднятия самооценки. Отсюда прозвище Врежу-первым (Frappe-d'abord), заработанное одним французским наемным работником. В Англии некто рассказывал о группе постоянных клиентов, предававшихся «благородному искусству боксирования» и «демонстрировавших свои умения, сжимая кулаки и принимая боевую позу, как бы говорящую: мшу тебя вот так, а могу и вот эдак (курсив мой. — А. Р. Э.)»10.
Пивные также служили местом для проявления сексуальности. Клиентов-женщин было несравнимо меньше, и в социальном смысле они являли собой «смесь» из служанок, стареющих «девок» и проституток. «Содом в миниатюре», — назвал обстановку в пивных писатель. (В провинциальном Массачусетсе у таверн была сходная репутация. В 1761 году Адамс жаловался: «Вот где благодатная почва для болезней, вредных привычек, зачатия бастардов и выдумывания новых законов!») В переполненных, плохо освещенных помещениях мужчины и женщины пили, флиртовали и предавались ласкам, как это изображено на картинах Яна Стее-на, Адриана ван Остаде и других художников европейского севера. В 1628 году английский критик требовал разобрать перегородки для того, чтобы предотвратить сексуальные игры. Судебные записи свидетельствуют также, что парочки совокуплялись в близлежащих уборных и на чердаках. В умеренную погоду и прилегающая к пивной дворовая территория обеспечивала подходящие темные местечки. Даже церковный двор, находящийся по соседству, использовался для сексуальных сношений. Например, Сару Бэдретт из Честера «поймали за развратом» предположительно во дворе церкви Святого Иоанна, едва она покинула «постоялый двор вдовы Кирк». Менее стеснительной была влюбленная парочка — Джон Уилкинсон и Эллен Лэйтуэйт. В 1694 году в пабе Уигана после трех часов взаимных ласк («она теребила его член, а он держал руку в разрезе ее юбки») Джон «познал» Эллен «плотски» возле стены. Обычно подобные встречи были мимолетны и не предполагали последующих ухаживаний, а тем более заключения брака. В конце концов, пивные и задуманы были как альтернатива семейной жизни. Многие ухажеры зарабатывали себе дурную репутацию, нашептывая ложные обещания молоденьким женщинам. Вот как описывалось это в балладе конца XVII века:
Бывает, что в таверну с Бетти я иду
И как любовник с ней себя веду.
Ее готов я обнимать и целовать.
К ней прижимаюсь и клянусь,
Что день придет, и я женюсь…
Неведомо когда[45]11.
II
Ничто так не искушает и не заряжает жизненной энергией молодого человека, как благоприятная обстановка ночи, действие вина и женские чары.
Бакхилид (V в. до н. э.)12
Несмотря на строгие меры, ограничивающие сексуальную активность, ночь была благоприятным временем для того, чтобы заводить разного рода романтические отношения. Как Церковь, так и государство осуждали внебрачные связи, секс до свадьбы и супружеские измены. Законы, свободно проведенные в жизнь на закате Средневековья, после Реформации оказались в зоне повышенного внимания со стороны Католической и Протестантской церквей. С точки зрения христианского учения даже публичное проявление чувств — поцелуи и ласки — считалось грехом. Генуэзец Ансальдо Чеба предупреждал: «Нет другой страсти, которая бы столь препятствовала горожанину в приобретении и применении тех добродетелей, что необходимы для благополучия его республики, чем чувственная любовь»13.
Безусловно, существовали различия в отношении к сексуальным связям, прежде всего между городом и деревней. Социальная принадлежность также имела значение. В большинстве состоятельных семей Европы было принято необычайно строго контролировать процесс ухаживания за молодой девушкой. «Даже в нашей провинции люди с положением и весом в обществе стремятся к тому, чтобы их дочери выходили замуж за мужчин, которые их ни разу не видели», — замечал колонист из Массачусетса. По сравнению с Центральной и Северной Европой, где на отношения полов смотрели более терпимо, обычаи у средиземноморских народов отличались консерватизмом. Но эти различия затрагивали не характер отношений, а степень их интимности. Повсюду неженатые люди не могли демонстрировать свои чувства на публике. С регулярными свиданиями мирились только тогда, когда отношения переходили в стадию формального ухаживания и пара открыто заявляла о своих чувствах. Сексуальные контакты были запрещены, исключения делались изредка в тех случаях, если речь шла о скором заключении брака. Когда Агнесс Беннет из Девоншира дразнили по поводу ночи любви, проведенной с ее женихом Джорджем Пирсом, она ответила, что «это было не так, как между двумя влюбленными… что они были безвозвратно избраны в супруги друг другу»14.
Не соблюдать принятые правила поведения было рискованно, особенно это касалось женщин, ибо их сурово наказывали. В дневное время надзор со стороны соседей и необходимость работать сводили на нет возможность сексуальных отношений между людьми средних и низших сословий. «Свет и похоть — смертельные враги», — замечал Уильям Шекспир. Если не считать пивных, надежные укрытия были малочисленны даже в сельской местности. В леске неподалеку от Тура Жак-Луи Менетра и его компаньон «заметили молодого пастушка и юную пастушку в действии». Запаниковав, паренек сбежал голышом, оставив свою возлюбленную, чем не преминул воспользоваться Менетра: «Я развлекся с девчонкой наполовину с охотой, наполовину насильно». В другом случае самого Менетра и некую замужнюю даму застали в момент близости, хотя, казалось бы, они были «не на виду», на склоне холма возле Бельвиля. «Это преподало мне урок», — признавался он позже15.
Ночь же, напротив, казалась любовникам особенно привлекательной. «Удовольствие, в котором отказывает день, всегда таит в себе тьма», — витийствовал поэт Томас Йалден. Валлийская поговорка звучала более откровенно: «Похотливые и дурные любят долгие ночи». Темнота не только предоставляла «для любви то время, которое день не может ей позволить», она еще и давала любовникам естественное укрытие. «Ночь ослепляет все завистливые глаза», — замечал анонимный автор произведения «Царство вожделения» (Lusts Dominion; 1657). Поля, церковные дворы, подвалы и сараи становились местом воплощения любовных желаний. Так, в 1682 году в Массачусетсе Томас Уэйт и Сара Гоуинг отправились в заброшенную пивоварню. В городах влюбленных влекли парки и аллеи. В 1656 году Питер Хейлин писал о мужчинах и женщинах на Пэлл-Мэлл в Орлеане: «Если только тепло и сухо, вы точно обнаружите их там, парочками, в любой час ночи». Годились и плохо освещенные улицы. В XVIII веке путешественник, посетивший Рим, записывал: «В самую темень тайные любовные свидания на улице довольно часты у людей низшего сорта». Действительно, независимо от статуса римские парочки в случае приближения к ним прохожих с фонарями, стремясь оградить свое уединение, как правило, требовали: «Уберите свет!» (Volti la luce!)16.
Помимо всего прочего, темнота создавала атмосферу интимности, в которой слова любви произносились свободнее. Слабый свет свечи или лампы сближал парочки как физически, так и эмоционально. Один итальянский писатель заявлял: «Темнота облегчила задачу высказать все». Видимость ухудшалась, и важную роль начинали играть слух, прикосновения и запахи, в большей степени способные вызывать эмоции. «Речь милой серебром звучит в ночи», — восклицает Ромео, обращаясь к Джульетте[46]. Правда и то, что погашение свечи или лампы в смешанной компании было действием, «заряженным сексуальностью». Когда Эстер Джексон в массачусетской таверне затушила свечу, другая женщина воскликнула, что «она бесстыжая потаскуха или бесстыжая жена». Эстер, хотя и была замужем, быстро вышла на улицу рука об руку с моряком17.
Несмотря на строгую мораль, адюльтеры были довольно распространенным явлением. В Англии «Темным негодником» (Dark Cully) называли женатого человека, который встречался со своей любовницей «только ночью из-за страха разоблачения». «Прелюбодей ожидает сумерков», — предупреждал писатель, перефразируя строку из Книги Иова[47]. Судя по дневниковым записям, отнюдь не одна супружеская пара нарушила обет верности. Батт Халер из Базеля, будучи женат и имея двоих детей, увиваясь за молоденькой женщиной, танцевал в ее доме на каталонских коврах, «для того чтобы не беспокоить ночью соседей». Совершенные под покровом тьмы адюльтеры были постоянным источником насмешек в литературе, от комических рассказов Джеффри Чосера до неистовых эпопей Даниеля Дефо и Генри Фил-динга. Страницы романов, пьес, строки стихов содержат немало историй о ночных связях, персонажах, ошибочно принятых за других людей или перепутанных постелях. Некоторые «случайные приключения», естественно, были намеренными. Автор произведения «Ошибка в темноте» (Mistaking in the Dark; 1620) писал:
Мужчин не трудно сбить с пути — все знают, по ночам
Соблазн притягивает их, как мотыльков свеча.
Напрасно добрая жена супруга ждет домой:
Ему служанка поцелуй подарит в час ночной[48].
Сочинения Боккаччо, Саккетти и других итальянских писателей изобилуют сценами ночных свиданий. Популярными персонажами были неверные жены, привечающие любовников в отсутствие ничего не подозревающих мужей. Действия хитрой прелюбодейки подчинялись неким стандартным правилам, включавшим подкуп слуг и запирание дверей спальни на засов. Любовникам же всегда наказывали приходить в темноте, дабы избежать любопытных взглядов соседей18.
Супружеские измены Пеписа казались бесчисленными, ибо он редко упускал возможность потискать чью-то жену или вдову, если та была не прочь. Легкой добычей становились горничные вроде Деб Уиллет, которая перед сном вычесывала ему вшей. «Сегодня вечером я hazer [приневолил] Деб tocar [потрогать] mi [мою] штучку рукой, после чего я почувствовал упругость в нем — к большому удовольствию», — записал он, смешав несколько языков, в августе 1668 года. Даже по относительно легкомысленным стандартам времен Реставрации, многие поступки Пеписа были импульсивны и безрассудны. За то время, пока он вел дневник (1660–1669), у него имелись сексуальные контакты более чем с пятьюдесятью женщинами, причем с некоторыми — неоднократные, а собственно совокупление — более чем с десятью из них. Как деловой человек, которому часто приходилось посещать различные окраины Лондона, он имел особые преимущества в плане использования укромных местечек; некоторые из любовных свиданий Пеписа происходили прямо в пути, за занавесками наемных экипажей. И все-таки свои самые страстные встречи Пепис зачастую приберегал на темное время суток. Визиты в дептфордский дом «миссис Бэгуэлл», супруги корабельного плотника, наносились ночью, и чем темнее она была, тем лучше. Пепис писал об одном из июньских вечеров: «Поскольку стало темно, я, как и было условлено, andar а lа [пришел пешком в] дом Бэгуэлл; и там, после игр и besando [поцелуев], мы отправились a su cama [в ее постель] и там fasero la grand cosa [свершили великое дело]». Во время другого визита он сначала «погулял взад и вперед по полям, пока полностью не стемнело». Менее удачным было вечернее посещение другого «прибежища» — причала «Старый лебедь» на Фиш-стрит-Хилл, где он обнаружил свою возлюбленную Бетти Митчелл сидящей у дверей. «Было довольно темно, я остался и поговорил с ней немного, но no bezar la [без каких-либо поцелуев]»19.
Большое беспокойство взрослым доставляли отнюдь не собственные аморальные проступки, а сексуальная активность молодежи. Поведение подростков после наступления темноты вызывало всеобщую озабоченность, причем тайный побег и незаконный брак волновали в меньшей степени, чем возможности для плотской вольности. Считалось, что никакая иная возрастная группа не была столь подвержена чувственным страстям. Вне обычной работы холостая молодежь общалась по праздникам и во время других событий, когда собиралась вся община. Ночью контроль со стороны взрослых ослабевал. В 1583 году в период традиционного сбора цветов накануне Майского дня пуританин Филип Стаббс жаловался: «Я слышал, и этому можно доверять… от людей, имеющих солидный вес и репутацию, что из 40, 60 или 100 девушек, идущих на ночь в лес, едва ли треть возвращается домой неиспорченными». Кроме ярмарок и праздников, молодых людей привлекали свадьбы, когда пение и танцы длились чуть ли не всю ночь. «Взгляните, насколько более развратен и пьян вечер, чем утро, как много в нем порока, невоздержанности и невоспитанности», — бушевал священник Майлс Кавердейл в XVI веке. В Нидерландах прохожий иностранец обнаруживал парочки, «танцующие ночь напролет», после того как «их отцы, матери и все остальные ушли спать»20. В 1618 году представители католического синода в Армаге (Ирландия) высказывали возмущение по поводу частого исполнения «непристойных песенок и жестикуляции», которая «была бы недопустима даже на праздничном собрании». «Темные дела, — утверждали они, — состоят в союзе с мраком»21.
Прядильные посиделки предоставляли регулярные возможности для веселья и ухаживаний в зимний период на территории большей части Европы. Парни составляли компанию девушкам в домах и в хлевах, помогали работать, слушали истории, а возможно, и подыскивали подходящего брачного партнера. Посетивший в 1677 году остров Гернси путешественник писал о незамужних женщинах: «Эти смотрины они используют для осуществления далеко идущих замыслов, а именно повстречаться или сблизиться с ухажерами, которые обычно не торопятся заключать помолвку, а после этих встреч многие пары женятся». Молодые люди во Франции время от времени получали разрешение присутствовать даже на девичьих посиделках. В XVI веке Этьен Табуро отмечал: «На сих девических собраниях можно обнаружить большое количество юношей и любовников». Шли часы, и вскоре прядение и вязание уступали место играм вроде жмурок и разговорам, изобилующим «грязными двусмысленностями (double entendres)». Популярно было и пение, только негромкое, чтобы не напугать скот. К вящему беспокойству взрослых, некоторые песни были откровенно эротического содержания. Среди молодежи был любим ритуал, когда девушка роняла свою ручную прялку, чтобы посмотреть, кто же из поклонников поднимет ее. Серьезнее были претензии, когда кто-либо из парней внезапно тушил свет, «показывая тем самым, что единственная их цель — завершить темные делишки», как утверждал французский кюре в конце XVII века. Власти с тревогой говорили о возможности группового соития22.
Тем не менее значительная часть прядильных вечеринок в какой-то мере контролировалась родителями. Напротив, стихийно организованные в сараях и хлевах молодежные танцевальные вечеринки были лишены подобного надзора. «Приди, мы будем пить ночь напролет, а женатые пусть все проспят», — читаем в балладе XVII века. Парочки в испанском городе Куэнка проводили ночи в танцах и веселье в склепах. В Кембридже (Массачусетс) 20 парней, в основном белые и чернокожие слуги, развлекались по ночам в течение четырех месяцев, танцуя и потребляя сидр и ром бочонками. (Днем же, утверждал современник, «те же молодые люди должны были проходить мимо девушек как квакеры и не замечать их вовсе».) Религиозные и светские власти критиковали молодежные танцы за то, что их устраивали тайно и они противоречили установленным порядкам. Так, власти Берна эдиктом 1627 года заклеймили «непристойные песни и танцы, проводимые вечером и ночью», а один английский писатель вопрошал: «Найдутся ли такие поцелуи и лобзания, такие сексуальные прикосновения и тисканье друг друга, найдутся ли столь грязное ощупывание и нечестивое трогание, которые бы не практиковались на этих танцульках?» Возможностей для проказ становилось тем больше, чем было темнее. «Никогда не пляши в темноте» — предостерегала пословица XVII века. Неудивительно, что власти деревень порой пытались ограничить встречи молодежи дневным временем, веря, подобно немецкому пастору, что «девушкам и юношам» в «надлежащее время суток» следует «отправиться домой к своим мастерам, господам и хозяйкам». В начале 1600-х годов в швейцарском городке Виль пытались ввести правило, согласно которому поклонник мог посещать одну девушку только пять раз в год и все ухаживания должны заканчиваться до наступления темноты23.
Поразительно, насколько охотно молодые пары бросали вызов темноте. Элизабет Дринкер волновалась о своем сыне: «Если парень находит объект ухаживаний далеко от дому, ему следует делать свой визит коротким, а не шагать две мили домой пешком одному в темноте; ведь должен иметь для него хоть какое-то значение риск повстречать злонамеренных личностей или подхватить простуду». Но такие опасности редко останавливали. Для молодежи темные ночи отнюдь не были устрашающими. Как повествуется в балладе XVIII века «Блуждающие девы из Абердин», девицы надевали белые передники, служившие для ухажеров опознавательным знаком. «Вот девушки прекрасные сияют нам в ночи», — говорилось в стихотворении. В глостерширской общине Дерсли мужчины «вытаскивали подолы своих рубах». Поговаривали, что эти так называемые фонари Дерсли служили проводниками для всех желающих присоединиться к компании женщин24.
Темными ночами молодые мужчины радовались возможности показать свою силу. В стихотворном произведении, написанном Джоном Добсоном, прославляется мужество деревенского парня по имени Робин.
Не страшен Робину ни зверь, ни темнота, ни призрак,
Когда исполнить хочет он милашки Сью капризы[49].
Поздно ночью, когда все общественные мероприятия заканчивались, появлялось больше возможностей для близости — шанс проводить «свою избранницу домой в темноте». Так, в XVII веке йомен Леонард Уиткрофт после танцев охотно прошел со своей подругой из Дербишира несколько миль, провожая ее домой. «Ночью возвращались домой вместе, и немало слов любви было сказано между нами, и не было нехватки в проявлениях этой любви». В произведении «Жизнь простого человека» (The Life of Simple Man; 1904) работник Тьеннон с теплотой целует свою возлюбленную Терезу после того, как они вместе побывали на veillee и возвращались домой под мелким холодным дождем, благодаря чему дорогой он мог продемонстрировать свою отвагу. «В эту темную зимнюю ночь с ветром и дождем мое сердце было наполнено голубым небом», — свидетельствует он25. Такова была сила слепой любви, проявляемая промозглыми вечерами французской сельской молодежью.
III
Постель — это лучшее место для ухаживаний.
Бардус Аохвид (нач. XIX в.)26
Отчасти как реакция на проявление сильных чувств у юношей и девушек, а также как попытка взрослых контролировать их действия, в раннее Новое время возник обычай «связки» (bundling). Общий его смысл состоял в том, что парам позволялось оставаться вместе на ночь в доме родителей девушки и не вступать при этом в половой контакт. Bundling — промежуточное звено в цепи ухаживаний — следовал за периодом сватовства, когда юноша и девушка уже встречались на публике и могли прогуливаться вдвоем. Как только заигрывания вызывали взаимные чувства, молодым разрешалось «связываться». Впрочем, это не предполагало никаких обязательств, хотя надежды на брачный союз в данном случае были высоки.
Вопреки широко бытовавшему мнению и несмотря на повсеместную распространенность этого обычая в Новой Англии, bundling не был американским изобретением. Его происхождение покрыто мраком, но ясно, что истоки следует искать в европейских крестьянских традициях. Что касается Британских островов, то наиболее популярен этот обычай был в Уэльсе. Даже в конце XVIII века местный житель утверждал, что «во многих городках страны традициям bundling остаются верны». На Оркнейских островах в Северном море парни и девицы, как правило, встречались на куче снопов, называемых «длинной кроватью» (lang bed);, в южной части Шотландии говорили, что bundling был «обычаем именно этой местности», хотя шотландская Церковь сопротивлялась его распространению. В 1721 году, представ перед церковным судом за то, что делил постель с Изобел Миди, работник Дункан Маккарри протестовал: «Были и многие другие, которые возлежали вместе так же, как и мы». В Ирландии один путешественник тоже обнаружил традиционный подход к ночным визитам «у простого люда»27.
Свидетельства касательно Англии более разнообразны. То, что bundling (или «засиживание») было популярно на севере, не подлежит сомнению. В 1663 году, например, Роджер Лоу, молодой торговец тканями из Ланкашира, устроил «на некоторое время засиживание» с Мэри Нэйлор. «Это была первая ночь в моей жизни, которую я провел без сна за ухаживаниями», — бегло записал он в дневнике. Гораздо позже городской чиновник из Йоркшира заметил, что «в этой стране существует практика, когда парни и девушки с согласия глав их семей или иных старших остаются ночью наедине». Что касается других частей страны, то сведения о таком обычае существенно разнятся. К примеру, в деревне Даллингхэм (Кембриджшир) Уолтер Эпплйард регулярно навещал свою подругу в доме ее матери. Согласно одной записи, он «много раз оставался там на всю ночь и много раз — на большую часть ночи и не допускал, чтобы она ушла спать; иногда с ними сидела служанка, а иногда — никого вовсе не было». Томас Тёрнер из Сассекса дважды проводил ночь со своей будущей невестой, а Уиткрофт неоднократно проделывал то же самое со своей возлюбленной из Дербишира. «Я остался на всю ночь снова с моей драгоценной и главной радостью, выражая ей мою любовь различными сладостными способами»28.
Повсеместно в Европе практиковались различные формы bundling среди простонародья. Исключение составляли средиземноморские культуры, где привычным способом ухаживания были ночные серенады в исполнении молодых людей. Bundling существовал в Скандинавии и в некоторых местностях Нидерландов, где был известен под названием «болтовня» (queesting). Ночные ухаживания в неменьшей степени были приняты в Германии и Швейцарии; действительно, один из сельских священников после объезда паствы отмечал в своем отчете, что среди молодежи обычай под названием «движение на свет» (zu Licht gehen), то есть к спальне возлюбленной среди ночи, «рассматривался как право и свобода» парня. А в Савойе XVII века современник писал об обычае albergement: «Совершенно нормально для молодых крестьян ночью оставаться допоздна в компании девушек на выданье и, ссылаясь на то, что их дома находятся далеко, просить о гостеприимстве и стремиться разделить с девушками постель», в чем, как правило, «девушки не отказывают»29.
Ночная форма ухаживания, по-видимому, повсеместно следовала единой схеме, что свидетельствует в пользу общности европейской народной культуры. Для юношей излюбленным временем посещения были субботние и воскресные вечера. Причем некоторые проникали в спальни девушек через незапертые окна, освещенные свечами. Как пелось в одной кембриджширской песенке: «Хоть ярок лунный свет в ночи, / Тебя влечет огонь свечи»[50].
Немецкий трактат утверждал, что молодому человеку, имеющему гордость, обязательно следовало забраться в дом возлюбленной, дабы доказать свою доблесть. В то же время почти всегда встреча молодых проходила с разрешения родителей. В самом деле, среди прочих преимуществ обычай bundling позволял поставить процесс ухаживания за дочерьми под контроль30. Разумеется, некоторые парочки встречались тайно, пока родители спали, но риск был очень велик; к тому же существовала угроза для парня быть принятым за вора. В 1717 году священник из Сомерсета, разбуженный от сна, заметил при лунном свете двух парней, пересекающих двор. Он выстрелил в обоих (одного убил) только для того, чтобы убедиться — незваные гости отправлялись любезничать с его служанками. Современник свидетельствовал: «Таков был обычай — посещать служанок, пока господин и госпожа были в постели, а те [служанки], чтобы приветить своих кавалеров, имели обыкновение припрятывать пиво, эль, сидр, хлеб и сыр для своих ночных приключений»31.
Родительский контроль требовал, чтобы правила ночных ухаживаний соблюдались как в одежде, так и в поведении. Основанием для подобных ограничений был категоричный запрет на половые отношения, которые уменьшали шансы девушки на замужество. От юношей в Савойе требовали приносить клятву в том, что они не посягнут на девственность девушки, а кавалеры Новой Англии непорочность «рассматривали как священный кредит». В некоторых местностях от обеих сторон ожидалось, что они будут сидеть, но чаще молодые лежали рядом друг с другом в постели девушки. Скромность требовала, чтобы юноша снял лишь камзол и туфли, если он вообще что-то снимал. В Норвегии молодая девушка, незнакомая с обычаями той деревни, откуда был ее ухажер, громко запротестовала, когда он начал стягивать куртку. «Стянешь свою куртку, — воскликнула она, — а там и брюки снимешь!» Девушки оставались в сорочках или нижних юбках, которые в Уэльсе порой связывались снизу. В Шотландии, наоборот, связывались бедра девушки с целью символически отметить важность целомудрия. Немецкий путешественник сообщал об Америке той эпохи: «Говорят, что если обеспокоенная мать имеет хоть какие-то сомнения относительно добродетели дочери, то она принимает меры предосторожности, засовывая обе ноги дочери в один большой чулок». В Новой Англии также в ходу были «доски для bundling», которые использовались, чтобы разделять молодых в постели32.
Не многие парочки умудрялись заснуть. В Нидерландах, согласно свидетельству Файнса Морисона, ночи посвящались «пирушкам и совместным разговорам». Предполагалось и физическое общение, но в малых дозах, если не во время первого визита, то в ходе последующих: оно включало в себя теплые объятия и поцелуи. «Обжимания и бесстыдства» — так это описывалось в одном валлийском стихотворении. Зачастую далее следовали формы сексуальной игры, не предполагающие соития как такового, но «подходящие вплотную к тому, что предназначено исключительно для брака», как замечал некий французский путешественник, посетивший Америку. У скандинавов довольно ясно оговаривалось, какие части тела можно ласкать, как, впрочем, и у русских. Так, в XIX веке ухажерам в некоторых российских губерниях запрещалось трогать грудь своих подружек. (С другой стороны, в одном из сел Новгородской губернии допускалось, чтобы парень трогал гениталии девушки.) Среди крестьянского населения, для которого грубые игры были равносильны выражению страсти, нежные ласки порой уступали место увесистым шлепкам. Более того, пошлепывание друг друга по задней части трактовалось как испытание здоровья любовника и его физической выносливости, что имело важное значение при выборе потенциальных суженых в сельских общинах. На случай если, несмотря на предосторожности, сексуальные игры выходили бы за пределы дозволенного, поблизости должны находиться члены семьи: порой родители бодрствовали в той же комнате, что и дуэньи, сопровождающие повсюду девушек. По большей части доверяя честности дочерей, отцы и матери всегда готовы были вмешаться, если в этом возникала необходимость. «Горе ему, — рассказывал современник, — если хоть малейший крик исходит от нее, ибо тогда все обитатели дома врываются в комнату и бьют любовника за его чрезмерную пылкость»33.
Но даже самые достойные намерения могли быть сметены внезапным приступом страсти. «В уютной постели может произойти много несчастий», — предупреждала валлийская песенка, а написанная в Коннектикуте в 1786 году баллада подтверждала: «Ни пуговица, ни шнурок, ни даже запертый замок / Не смогут вожделение сдержать»[51].
По обе стороны Атлантики моралисты предсказывали наихудший исход, если «пламя» находится «слишком уж близко к труту», по выражению одного французского рассказчика. Уцелевшая статистика, пусть и скудная, подтверждает, что страхи были небезосновательны. Вне зависимости от комбинации причин, которые к тому приводят, показатель численности внебрачных рождений в Новой Англии в XVIII веке значительно возрос — приблизительно в то же самое время, когда получил широкое распространение обычай bundling. Один из противников писал:
Обряд столь мерзкий есть причина
Созданья без любви семей,
Скандалов в доме, препирательств,
Супружеских измен, предательств,
Зачатья во грехе детей[52].
По обретении Америкой независимости почти треть невест в селах Новой Англии были беременны до свадьбы. Как, впрочем, и многие европейские девушки. «Это совершенно обычное дело, — отмечал некий путешественник в Уэльсе, — когда человек появляется на свет спустя два или три месяца после брачной церемонии, и это последствия bundling». Сколько союзов заключалось из-за преждевременной беременности, сказать невозможно. Вполне вероятным кажется утверждение некоторых историков, согласно которому пары вступали в плотские отношения только в случае, если брак уже маячил на горизонте. С этой точки зрения не столько беременность была причиной брака, сколько матримониальные планы были обязательным условием совершения полового акта. Отмечая популярность bundling в Америке, один европеец сообщал, что, как только «поклонник обещает жениться», его пассия «отдается без всякой осторожности»34.
Несмотря на протесты, периодически раздававшиеся со стороны церковных властей, в некоторых частях Европы традиции bundling сохранялись вплоть до XIX века. Без сомнения, частично своей популярностью они обязаны укоренившейся вере, разделяемой многими поколениями, что юношеские ухаживания должны проходить дома под родительским надзором. Некий немец в XVI веке записал: «Когда родителей спрашивают об отношениях между ними [молодыми], они отвечают „спящие целомудренно" (caste dormiunt); эта игра лишена низости, так как из нее подготавливаются и берут начало добрые и счастливые браки»35. К тому же, по мнению некоторых, bundling был придуман, чтобы сократить расходы семьи на «огонь и свечи» для влюбленной парочки. Впрочем, последнее утверждение никак не объясняет, почему молодежь ложилась в постель в теплые летние вечера или как влияет свет свечей на то, сидит ухажер или лежит. Ну и по крайней мере один наблюдатель размышлял, а не является ли bundling просто «хитрой уловкой с целью узнать, будет ли жена плодовитой»36.
Более очевидное объяснение столь продолжительной популярности обычая кроется в двойной функции ночных визитов. С одной стороны, они предоставляли молодым парам возможность уединиться в защищенном от любопытных друзей и соседей месте, но не всегда могли защитить их от подглядывания и подслушивания. Эбнер Зенгер, фермер из Нью-Гемпшира, следил за домом своей возлюбленной Нэб Уошберн, когда там появлялся его главный соперник Анкшен. «Я выследил, как Анкшен при всем параде еще до рассвета вышел из дома старика мистера Уошберна», — дулся Зенгер однажды утром. Но в большинстве случаев темнота и домашние стены даровали парам необычайную степень уединенности, особенно важную для той эпохи. «Давай задуем свечку» — таков был стандартный рефрен в песне под названием «Лондонский подмастерье», описывающей, как парочка любовников сбежала от любопытных взглядов «подсматривающих» прохожих37.
Но еще существеннее было то, что период bundling служил своего рода испытательным сроком, позволявшим молодым людям, «обнимаясь, и дурачась, и болтая до зари», как описывал это швейцарский пастух Ульрих Брекер, определить, насколько они подходят для брачного союза. Он с теплотой вспоминал об ухаживаниях за своей ненаглядной «Анни»: «У нас были тысячи и тысячи видов любовных разговоров». В недвижной темноте среди нежных слов и страстных объятий таился редкий шанс поглубже познакомиться с характером и темпераментом нареченного или нареченной. Современник из Новой Англии сообщал: «Девушки стремятся только понравиться и используют свою свободу в общении с мужчинами, чтобы сделать правильный выбор, ведь от него зависит их будущее счастье». Значение имела и сексуальная совместимость пары. Юноша из Кембриджшира взывал к своему скептически настроенному духовнику: «Но, викарий, ведь вы бы не стали покупать лошадь, не проехав на ней верхом, чтобы увидеть, какова она на ходу». Действительно, в ряде регионов Германии ночи ухаживаний, известные как «приветственные ночи», сменялись «стадией» более значимых «испытательных ночей», которые впоследствии могли привести к заключению брака. Если же такие ночи не заканчивались женитьбой, то, за исключением случаев беременности, они не вызывали никакого стыда или чувства бесчестья ни у одной из сторон, и каждый был волен начать новые отношения38.
IV
Этот объемный том посланий, последняя версия которого сейчас как раз копируется, письмо за письмом несет свидетельства того, какие размышления приходили ко мне глубокой ночью.
Лаура Черета (I486)39
«А для мудрости какое время драгоценные ночи?» — вопрошал святой Кирилл Иерусалимский. Помимо всех возможностей, которые ночь предоставляла для любовных похождений и дружеских посиделок, она также давала людям, жившим в доиндустриальную эпоху, беспрецедентную свободу для познания собственной личности. Численность людей, отводивших вечерами не один час для размышлений в одиночестве, постоянно возрастала, что в конечном счете приводило к росту самосознания. Эта часть суток казалась им особенно подходящей для раздумий, а святые мужи знали об этом уже многие столетия. Тишина создавала идеальную обстановку для наблюдений за собой, да и ограничивающих обстоятельств было несравнимо меньше. «[Ночь] гораздо более подходит для работы разума, чем какое-либо другое время суток», — выразил свое мнение один французский писатель XVII века. Автор книги «Досуги мудреца» (La Ricreazione del Savio) замечал: «День исчисляется трудом, ночь — раздумьями. Шум полезен для первого; для второго же — тишина»40.
Естественно, представители средних и высших классов, удалившись в свои спальни, имели прекрасные условия для погружения в собственный мир. Чем ниже человек стоял на социальной лестнице, тем меньше предоставлялось часов и пространства для одиночества. И все-таки уже в середине XVII века многие семьи рабочих проживали в домах с более чем одной комнатой, к тому же в приятные вечера выдавался случай удалиться в сарай или хлев. В конце XV века парижский слуга Жан Стандонк работал днем в монастыре исключительно для того, чтобы вечерами подниматься на колокольню и читать при свете луны книги. Томас Платтер, ученик веревочных дел мастера, вопреки воле своего хозяина нередко поднимался в ночной тишине, чтобы в тусклом сиянии свечи учить греческий. Чтобы не поддаться сонливости, он держал во рту куски сырой репы или камешки, а то и холодную воду. (Известны случаи, когда люди обматывали голову мокрыми тряпками, чтобы не заснуть.) Очевидно, что широко известная пословица «Ночь — добрая советчица» имела смысл для представителей разных социальных слоев41.
Чтение становилось все более привычным времяпрепровождением, несмотря на огромную массу безграмотных.
Бедняки знакомились с печатным словом в основном сообща, например благодаря чтению вслух в ходе прядильных посиделок и других встреч в узком кругу. Причем в раннее Новое время число грамотных людей увеличилось в большей степени, чем можно было бы предположить. На закате эпохи Средневековья не многие из тех, кто не принадлежал духовному сословию, умели читать и писать, но Реформация и развитие книгопечатания сильно ускорили рост грамотности. Уже к XVII веку значительное количество йоменов и квалифицированных ремесленников в английской сельской местности были хотя бы минимально образованными, равно как и многие горожане мужского пола. Женщинам повезло меньше, поскольку их образовательные горизонты были очень ограничены, но существовали и исключения из общего правила. Драматург эпохи Стюартов сэр Уильям Дэвенант писал о «тех печальных историях любви, которые были излюбленным чтением невинных девушек в долгие зимние вечера». В целом уровень грамотности был выше всего в Северной и Северо-Западной Европе, что отчасти объяснялось распространением пиетизма — протестантской доктрины, придававшей особое значение индивидуальному изучению Писания. Хотя и в ряде других регионов уровень этот значительно поднялся в течение XVIII века42.
В образованных семьях основной переход от чтения вслух к чтению «про себя» произошел еще в XV веке. Постепенно и другие читатели освоили эту технику, предоставляющую человеку некоторую степень свободы. Революционное по масштабам, чтение «про себя» давало возможность легко и быстро изучать книги. Не менее важно, что это позволяло им исследовать тексты самостоятельно, отдельно от семьи, друзей или хозяев. По мере того как все большее число людей размышляли над книгами и самостоятельно формировали свои взгляды, чтение становилось занятием чрезвычайно интимным, личным. Как писал Никколо Макиавелли в письме от 1513 года, «когда приходит вечер, я возвращаюсь домой и погружаюсь в мои штудии. Вначале я снимаю повседневные грязные, потные одежды и облачаюсь в платье придворного, и уже в этих более внушительных одеяниях я предстаю при античном дворе. Мудрецы приветствуют меня, и я вкушаю пищу, которая предназначена лишь для меня, для которой я был рожден. И там я осмеливаюсь говорить с ними и вопрошать о мотивах их действий. И они, по своей человечности, отвечают мне. И на четыре часа я забываю о мире, не помню неприятностей, не боюсь нищеты, не трепещу перед смертью: я полностью поглощен ими»43.
Многие отводили для чтения час или два перед сном, помимо другого времени суток. Согласно инвентарным хозяйственным записям, личные библиотеки зачастую располагались в спальнях. Пепис, к примеру, часто читал ночами. «Я опять к своей книге, дочитал до конца „Жизнь мистера Хукера" — и в постель», — записал он 19 мая 1667 года. Иногда вечерами он просил слугу почитать ему вслух. В течение девяти лет, пока он вел дневник, Пепис прочел приблизительно 125 книг, большую часть из них целиком. Его вкусы были разнообразны. Наряду с традиционными трудами по истории и теологии он читал научную и художественную литературу. Давида Бекка книги порой занимали и после полуночи. «Пришел домой в одиннадцать вечера, прочел целиком Евангелие от Иоанна», — отметил он в 1624 году в один из ноябрьских вечеров. В излюбленное «меню» этого начинающего голландского поэта входили стихи Якоба Кат-са и Пьера де Ронсара. Юношеские вкусы Джона Кэннона из Сомерсета — это и оккультные книги, и Аристотель, и Библия. В шестнадцать лет он изучил книгу о повивальном искусстве с целью познать «запретные тайны природы». Трудолюбивый крестьянин, он жадно читал, несмотря на неодобрение дяди, нанимавшего его для работы. «Невзирая на все мои тяжелые и трудоемкие занятия, — отмечал Кэннон в 1705 году, — я никогда не пренебрегал книгами, изучение которых умножало мое разумение, находил возможности для чтения и днем, но в основном ночью, когда все точно уже были в своих постелях и я мог сидеть допоздна»44.
В ту религиозную эпоху ночное одиночество обычно посвящалось личному общению с Богом. После Реформации число богословов, придававших огромное значение самостоятельным духовным актам индивидуума, постоянно росло. Несмотря на разницу в религиозных доктринах, протестантские и католические лидеры в равной степени стремились укрепить личную связь человека и Бога посредством молитвы. И чаще всего люди совершали молитвы вечером, готовясь ко сну. От них ожидалось также, что до вознесения молитвы некоторое время будет посвящено чтению религиозной литературы и размышлениям над событиями, происшедшими днем. «Благочестивые раздумья и отрешенные мысли готовят нас к молитве», — отмечала Сара Каупер45. Еврейские богословы поощряли ночные бдения, следуя май-монидеанской концепции, что «человек получает большую часть мудрости, обучаясь по ночам». Как утверждал раввин XVIII века Ионатан Эйбеншюц, Бог, наказывая «первого человека» за его «грех», отвел день для труда. Длинные зимние ночи, наоборот, были предназначены для изучения Торы. «Бог затемнил свой мир, чтобы человек мог учиться» и «сконцентрировать и сосредоточить свой разум на мыслях о Боге», разъяснял Эйбеншюц46.
Люди читали несмотря ни на что, в том числе опасности и расходы, которые нес читающий, чтобы осветить место для книги. В XVIII веке Томас Райт вспоминал о своем детстве, прошедшем в Йоркшире, о том, как он при свете свечи склонялся над Библией в постели. «Так я обычно читал до полуночи, часу или двух ночи, пока не засыпал, и опасная же это была привычка». А некоторым молодым людям приходилось заботиться об освещении самим: они отыскивали в мусоре огарки, сосновые сучки или крохотные кусочки сала. Франсуа-Рене, виконт де Шатобриан, казалось бы отпрыск аристократического семейства, был вынужден в годы студенчества воровать огарки свечей из часовни, дабы читать проповеди Жана-Батиста Массийона, знаменитого епископа Клермонского. Фридриху Бехайму, немецкому студенту XVI века, просто повезло. Проживая в городке Альтдорфе, он получал посылки от своей матери из Нюрнберга с большими свечами. «Купи себе несколько маленьких свечек, — советовала она ему в 1578 году, — и используй их, когда не читаешь и не пишешь, так чтобы большие свечи сохранялись для учебы»47. Но плохое искусственное освещение, каков бы ни был его источник, оказывалось для читателей помехой. Пепис с возрастом все сильнее страдал из-за «больных глаз» и перестал вести дневник в 36 лет, опасаясь, что может вовсе ослепнуть. Поздние часы, проведенные за работой в конторе, были основной причиной ухудшения зрения, но книги усугубляли ситуацию. «Мои глаза, перегруженные работой, начинают болеть, как только свет свечи падает на них», — жаловался он в 1666 году. Ланкаширский доктор сетовал на снижение остроты зрения из-за «занятий чтением и письмом при свете свечи», несмотря на его попытки использовать «толстые свечи» и «поддерживать стабильный свет»48.
Некоторые же люди поздние часы посвящали письму. Про полуночные сочинения говорили: «попахивает свечками». Неудивительно, что именно этих часов жаждал автор «Ночных раздумий», поэт Эдвард Янг. В Оксфорде, чтобы стимулировать творческий процесс в дневное время, Янг задергивал шторы и зажигал лампу. Джон Мильтон, позже полностью ослепший (как он полагал, из-за детской привычки читать в постели), сочинял стихи ночью, а утром по памяти диктовал их писцу. Дневники становились все более популярными среди тех, кто желал излить мысли на бумагу. Эти записи редко предназначались для глаз членов семьи и для посторонней образованной публики; некоторые авторы дневников, вроде Пеписа, вели зашифрованные записи. Бекк ночами не только читал книги и вел дневник, но и изливал свои эмоции в поэзии. Будучи вдовцом, он проводил целые часы, сочиняя элегии своей почившей жене Рултье. «До часу ночи я писал вторую элегию на смерть моей дорогой усопшей супруги», — записал он в своем дневнике от 2 января 1624 года. Письма, адресованные ближайшим знакомым, также служили средством выражения личных мыслей. В конце XV века письма были одной из радостей Лауры Череты, молодой жены итальянского купца. Ей приходилось не только вести свое хозяйство, но и поддерживать родительский дом, так что свободной по вечерам, особенно от мужской половины семейства, она оставалась нечасто. Редкие часы, предназначенные для взращивания ее многочисленных талантов, отдавались чтению («мои милые ночные бдения за книгой») и шитью. Кроме того, свои художественные способности она проявляла при вышивании изысканной шелковой шали, украшенной образами диких животных, и это занятие доставляло ей особое удовольствие. Она признавалась близкому другу: «Мое твердое правило — оставлять ночь для запрещенной работы — позволило мне создать полотно, которое содержит гармоничную композицию цветов. Работа заняла три бессонных месяца». Но превыше всего Черета ценила написание длинных, в высшей степени интроспективных писем, наполненных аллюзиями из классики. Вот что она сама говорила в одном послании: «Если не использовать ночь настолько продуктивно, насколько это в моих силах, то у меня не будет свободного времени для собственных изысканий и науки. Я очень мало сплю. Для тех из нас, кто прилагает свои умения в равной степени на благо семьи и для личных трудов, время — ужасно скудный ресурс. Но, бодрствуя ночью, я краду время, будто отрезаю кусочек от остальных суток»49.
* * *
Таковы были основные занятия людей той эпохи в свободные ночные часы. Они предпочитали не предаваться сну сразу после захода солнца, а, пребывая в хорошем настроении, продлевать вечер в компании братьев по духу — с семьей, друзьями или любовниками. В отличие от образованного меньшинства, которое, подобно Лауре Черете, погружалось с головой в свои одиночные занятия, многие люди ночью получали удовольствие от нехитрых развлечений и попойки. Ночью в тесных жилищах и пабах было столь же оживленно, сколь и тускло освещено. «Песня легче льется ночью, — гласила пословица, — чем она же при свете дня». Умеренность, провозглашалось в одной польской песенке, существует «для дня, вечер и ночь должны быть для веселья». Следует сказать, что наибольшую свободу ночь приносила отнюдь не представителям среднего класса вроде Давида Бекка или Сэмюэла Пеписа, а тем, кто находился на противоположных концах социальной лестницы. Ночь, общая благодетельница, для большинства была временем, в котором правили независимость и вседозволенность, но для патрициев и плебеев она имела иное, особое значение. Как ни парадоксально, самое глубокое значение темнота имела именно для убогих и сильных мира сего. В балладе XVI века пелось: «Благодарим тебя, о ночь, / Час радостей — запреты прочь! / Ей все равно, богат ты или беден»[53]50.

БЛАГОРОДНЫЕ ГУЛЯКИ
Принцы и пэры
I
Давай же эту ночь мы, как бывало,
В веселье проведем. — Позвать ко мне
Моих военачальников унылых. —
Наполним чаши. Бросим вызов вновь
Зловещей полночи[54]1.
Уильям Шекспир (1606–1607)
В эпоху позднего Средневековья царство ночи принадлежало принцам и рыцарям. Отдаленные замки с башнями и парапетами, освещенными пылающими факелами, стояли погруженные во тьму, словно одинокие аванпосты света. Ночные демонстрации княжеской власти, праздничные вечера, когда знать пировала в огромных залах своих замков, были подобны роскошным спектаклям, где все говорило о вседозволенности. Открытые очаги, свечи и факелы, освещавшие грандиозные пиры, богато «сдобренные» развлечениями, свидетельствовали о феодальной расточительности. Так, в 1389 году король Франции Карл VI (1368–1422) и его окружение в течение четырех суток отмечали праздник Сен-Дени [святого Дионисия Парижского]. После дневных турниров ежевечерне следовали пир и попойка. На четвертый день, сообщал летописец, «лорды, превратив ночь в день, позволили себе все возможные излишества застолья и напились до такой степени, что некоторые из них, забыв о присутствии короля и уважении к его персоне, осквернили святость религиозного события и предались распутству и прелюбодеянию»2.
В XVI веке, когда появилась прослойка придворной аристократии, развлечения знати стали более утонченными. По мере формирования сильных национальных государств уменьшалось число военных рыцарских состязаний; жизнь аристократов кружилась в водовороте придворных увеселений, интеллектуальных и художественных забав. В то же время рост городов приводил к тому, что, развлекаясь по ночам, человек чувствовал себя менее изолированным. Устраивая грандиозные иллюминации, представители привилегированных классов заявляли о своем богатстве и влиянии, вечера они также оставляли для личных забав, «продлевая» свои «удовольствия», если перефразировать некоего комментатора. И хотя изначально для потех двора охотно использовался и день, все же ночь больше привлекала королевское окружение. Один немецкий писатель отмечал: «Другие люди спят, а они бодрствуют и предаются своим увеселениям». Именно развлечения отличали элиту от низших сословий, приговоренных ко сну необходимостью. «В ночи мы не смеемся, / Но любим и храпим», — острит простолюдин из пьесы «Две брентфордские королевы» (The Two Queens of Brentford; 1721). И наоборот, другой наблюдатель пишет в середине XVII века: «Придворные обоих полов превращают ночь в день, а день — в ночь»3.
По всей Европе, от Лондона до Вены, ночная темень служила фоном для роскошных увеселений придворной знати. Во флорентийской опере «Лошадиный танец» (The Horse Dance) 1661 года, представленной в саду позади дворца великого герцога, свыше тысячи факелов окружали место действия, а «табун лошадей» гарцевал под музыку более чем двухсот альтов и скрипок. «Не выразить словами», — восхищался этим зрелищем английский путешественник. Огромной популярностью пользовались представления-фейерверки, равно как и театральные постановки с использованием новой техники освещения сцены. Ни одна хвалебная песнь не провозглашала так страстно любовь аристократии к ночи, как «Балет Ночи» (Le Ballet de la Nuit; 1653) Исаака де Бенсерада. Поставленный в честь Людовика XIV, он был самым изысканным из ранних балетов Бенсерада. В этом барочном спектакле, предполагавшем пышные костюмы и роскошные декорации, в нескольких ролях представал молодой король собственной персоной. Как и полагалось, в финале монарх водружал на себя украшенный плюмажем головной убор, олицетворяя тем самым восходящее солнце. Хотя некоторыми персонажами «Балета Ночи» были нищие и воры, спектакль, демонстрировавший восхитительную картину ночной жизни, изобиловал античными божествами, танцующими на фоне изображавших небеса богатых декораций. Представленный неоднократно, балет имел огромный успех при дворе4.
Балы, концерты и опера числились среди основных ночных развлечений городских патрициев, с комфортом разъезжавших в каретах в сопровождении вооруженной охраны и факельщиков. «Показная пышность и великолепие, экипажи, праздники… балы», — сказал об этом писатель. К концу XVII века в моду у знати вошли прогулки в экипажах в общественных местах. Среди излюбленных мест были Прадо в Мадриде и Сейнт-Джеймс-парк в Лондоне. В 1697 году путешественник писал о Форхауте в Гааге: «Всякий стремится к тому, чтобы окружающие восхищались богатством ливрей и количеством лакеев»5. В начале XVIII века элегантных развлечений стало еще больше, так появились иллюминированные увеселительные сады вроде парков Рэнла и Воксхолл в Лондоне. «Рэнла, — восклицает восхищенный зритель в романе Тобайаса Смоллетта „Путешествие Хамфри Клинкера", — подобен зачарованному дворцу волшебника, разукрашенному чудными картинами, резьбой и позолотой, освещенному тысячью золотых фонарей!..»[55] Элегантность ставилась во главу угла. Как-то раз англичанин Уильям Бекфорд и его компаньон, приглашенные в Палермо на вечерний праздник, известный как «собрание» или «беседа» (conversazione), обнаружили, что у них нет экипажа. Встревоженный перспективой публичного бесчестья в случае, если иностранцы прибудут пешком, их сопровождающий, сицилиец Филипп, во избежание позора решил проявить чудеса героизма, и они отправились в путь без факелов сквозь лабиринт темных переулков, «известных ему одному». Тем временем от Лондона до Москвы приобрели необычайную популярность ассамблеи (встречи представителей привилегированных слоев). В 1717 году путешественник наблюдал подобные ежевечерние собрания в Париже, то же самое увидел приезжий в Праге. Один лондонский писатель заявлял: «Чрезвычайно частое посещение маскарадов, игорных домов, оперы, балов, ассамблей, увеселительных садов и прочих „атрибутов светского шика" служит доказательством того, что вы обладаете вкусом к элегантной жизни»6.
Действительно, даже похороны по причине их торжественности представители некоторых аристократических семей любили устраивать ночью, что иному наблюдателю казалось нарочитой демонстрацией состоятельности и привилегированности. «Столько великолепия, сколько может желать людское тщеславие», — насмехался некий лондонец в 1730 году. На похоронах кардинала Ришелье в 1642 году кортеж освещали более двух тысяч свечей и факелов. В Германии ночные похороны (Beisetzung) стали завидной почестью в среде придворной лютеранской элиты. В 1686 году саксонская консистория жаловалась курфюрсту Иоанну-Георгу III (1647–1691), что «постоянно растущая практика ночных захоронений… превращает христианские похороны в низкий плотский спектакль»7.
II
Пришла волшебная пора венчать мир чувственных услад,
Ночь превратить в слепящий день, а день облечь в ночной наряд.
Готовься все перемешать: и Маску, и полночный пир,
Все развлечения подряд, что нас ведут в желаний мир[56].
Иатэниел Ричардс (1640)8
В эпоху раннего Нового времени маскарад занимал исключительное место среди развлечений. Если на континенте он был известен уже давно, то в Англии получил распространение как светское увеселение со времен царствования Генриха VIII (1491–1547). Поэт-елизаветинец Томас Кэмпион писал о «юношеских забавах, маскарадах и придворных зрелищах». Сначала маскарады устраивали при дворе или в имениях знати; они представляли собой драматические спектакли, в которых гости играли и танцевали в костюмах. Однако довольно скоро отношение к маскарадам изменилось, и их стали ценить прежде всего за возможность танцевать и вести беседы, скрыв собственное лицо под маской. Достигаемая таким образом анонимность была главной интригой празднества. Отсюда правило, согласно которому во время маскарада не следовали этикету официального представления друг другу, что невозможно себе представить в будничной жизни9.
Для того чтобы понять причину чрезвычайной притягательности маскарада, важно обратить внимание на существование множества ограничений в жизни аристократии. Родовитость и хорошие манеры определяли поведение знати; в выборе слов, жестов и поступков следовало руководствоваться детально разработанными нормами. Успех при дворе обеспечивался владением таких качеств, как скрытность и самоконтроль, проявляемых прежде всего в присутствии более влиятельных персон. Принятые правила полностью ре1улировали бытовое поведение человека, распространялись даже на кашель и отхаркивание. Следование церемониалу было необходимым условием для продвижения при дворе, искренность при этом в расчет не принималась. В учебнике этикета начала XVII века среди наставлений можно прочесть: «Придворный должен быть услужливым по отношению к леди и порядочным женщинам, почтительным к высшим чинам, любезным среди советников, вежливым среди равных, приветливым к нижестоящим и учтивым со всеми». Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасл, противопоставляла аристократические манеры «природному поведению» низших классов: «Тогда как в общении крестьян из глубинки присутствуют добросердечие и непринужденность и они способны объединяться в дружеском веселье и расставаться, любя друг друга по-соседски, то общение людей более высокого положения стеснено церемониалом, они вынуждены вести формальную беседу и по большей части расстаются врагами». Короче говоря, повышение по службе и собственно статус придворного во многом зависели от умения человека театрально «само-преобразоваться» и четко следовать придуманной им роли10.
В раннее Новое время маскарады же, напротив, являлись отдушиной в удушающей атмосфере дворцовой жизни. То были зрелища в барочном духе, утопающие в свете восковых свечей, с пышными костюмами из шелка и атласа. Но на определенном уровне маскарады означали резкий уход от придворного этикета. Когда люди утрачивали свою идентичность, социальная иерархия размывалась — и все участники обретали равный статус. Последствия этого в среде привилегированной аристократии и так были весьма значительны, но время принесло еще большие перемены. К началу XVIII века в Лондоне стали устраиваться полуночные маскарады, открытые для широкой публики, то есть для тех, кто купил билет, был в маске и безоружен. Во время одного такого празднества бальная зала была освещена 500 свечами, а на женщинах было «большое разнообразие костюмов (многие из них роскошные)». Разумеется, такой маскарад оставался благородным развлечением, но с огромными возможностями для равноправия. «Территория свободы» — так сказал современник о типичном маскараде.
Подписные маскарады устраивали не только в Лондоне, но и в других крупных городах. В 1755 году один автор из манчестерской газеты предсказывал прямые последствия увлечением такого рода: «Дома, в которых устраиваются маскарады, правомерно назвать „лавками", где возможности для проявления аморальности, для богохульства, разврата и практически любого вида порока продаются любому, кто готов стать клиентом; и за небольшую сумму в 27 шиллингов самая распутная куртизанка, самый развратный повеса или обыкновенный жулик покупают привилегию общения с первыми пэрами и леди королевства»11.
Наиважнейшей из всего была свобода, обеспеченная анонимностью масок. На смену фальши и запретам приходили искренность и непосредственность; скрыв социальную идентичность, можно было раскрыть свое внутреннее состояние. «Надеть маску на лицо» означало «снять маску с разума», писал Генри Филдинг в сатирической поэме «Маскарад» (The Masquerade; 1728). Разговоры были более смелыми и динамичными. Как писали в Mist's Weekly Journal, правилом считалась «абсолютная свобода выражения мысли». Флирт становился более дерзким, а насмешки менее сдержанными. Хорошие манеры, строго регулируемые придворным этикетом, уступали место поведению, провоцирующему интимную близость. Автор из Gentlemen's Magazine сокрушался: «Здесь можно удовлетворить любое низменное желание; совершите, даже на словах, любое развратное, нескромное или сумасбродное действо — ничья репутация не пострадает». Противники маскарадов громко жаловались на вольности, которые позволяли себе мужчины и женщины, причем последние, теряющие, как говорил современник, «привычную маску невинности и скромности», подвергались большим нападкам за пренебрежение традиционной моделью поведения. Альковы и сады предоставляли возможность для интимных встреч, при этом участники «встречи», видимо, не снимали маски. «Плодят бесстыдство и похоть, совершают непотребные и вопиющие мерзости, вступая в беспорядочные контакты, прикрываясь масками», — клеймил поэт12.
Кроме того, ведь имелись и костюмы. Человек раскрепощался, надевая маскарадный костюм вместо черного шелкового плаща. Вне всякого сомнения, некоторые личины принимали для смеха, и это опять-таки служило дополнительным источником раздражения для критиков, особенно когда высмеивались церковные власти или правящие круги. Но часто гости просто реализовывали свои фантазии; облаченные в костюмы, они до некоторой степени менялись, поддавшись магии перевоплощения. На одну ночь человек мог превратиться в нищего или принца или, если уж на то пошло, в демона или божество. Джозеф Эдисон, комментатор из газеты Spectator, считал, что маскарады позволяли людям одеваться так, как им «диктовало их настроение». Гости появлялись в образах исторических персонажей вроде Генриха VIII или шотландской королевы Марии Стюарт или облачались в абстрактные наряды, например костюмы Дня или Ночи. Обычными были наряды, образцами для которых служили простонародные одеяния. Молочницы, пастухи и пастушки, проститутки и солдаты — все они становились популярными персонажами. Часто переодевались в костюмы противоположного пола. Король Франции Генрих III (1551–1589) обычно надевал женское платье с глубоким вырезом, чтобы «была видна его шея, увешанная жемчугами». Гораций Уолпол однажды появился наряженным престарелой женщиной. В 1722 году один писатель ругался: «Женщины, похотливые женщины, облачаются в мужскую одежду, чтобы можно было выражать более свободно свои порочные желания, в том числе и к представительницам своего же пола; а мужчины одеваются в женские одежды, чтобы обменяться потоками непристойных и соблазнительных — для них — разговоров»13.
Таким образом, маскарады были вечерами потрясающей вседозволенности. И все-таки эти светские развлечения представляли собой короткие передышки в круговороте реальной жизни, были всего лишь преходящими причудами, спорадически устраиваемыми в течение года. Будучи роскошным поводом выставить напоказ свое богатство и привилегии, со всеми их пышными буфетами и восковыми свечами, маскарады отнюдь не воплощали истинный дух равенства. Вопреки опасениям критиков, любая угроза социального равенства была в лучшем случае эфемерной. Господа и дамы неизменно отправлялись с маскарадов тем же способом, что и прибывали на них, — в каретах, сопровождаемых множеством лакеев. Как заметил один датский писатель, «слуга ничем не хуже своего господина, но только, — добавлял он, — пока длится маскарад»14.
III
О ночи молчаливый мрак,
Вооружи меня презрением к богам
И безрассудным мужеством людей,
Я свой восторг бросаю к их ногам,
Приветствую я бравых крикунов,
Способных хитростью остановить
Потусторонних сил несметный рой
И ночи напролет гулять и пить[57].
Томас Гофф (1631)15
Что еще, помимо маскарадов, напрямую влияло на образ жизни высших классов, так это возможности, которые предоставлял вечер для совершения буйных эскапад. Распутники из высшего общества награждались различными «титулами»: щеголь, денди, задира, горлопан и ухажер. Для них убежищем от строгостей придворной жизни служила не парчовая маска, а естественная маска темноты. Они использовали ночь как время безграничной свободы. То были отпрыски благородных семейств, объединенные пренебрежением к светскому обществу. Ни один город не может здесь претендовать на монополию — почти на каждую европейскую столицу, а также большие и средние города приходилась своя доля антиобщественного поведения аристократов. В Нью-Йорке в 1744 году доктор Александр Гамильтон повстречал «троих молодых шалопаев», решительно настроенных заняться «развратом»; в Филадельфии шестеро молодых людей, «одетых как благородные господа», грубо обошлись с женщиной, прежде завалив ее на землю. И хотя некоторые эпохи, например Реставрация в Англии в конце XVII века, были свидетелями значительного роста численности таких щеголей, трудно обнаружить период, когда их не было бы вовсе16.
Их поведение обнаруживало яростный индивидуализм, презирающий лицемерие и подчинение общепринятым нормам социума, стремящегося к благосостоянию и богатству. Виновными в конечном счете признавались придворные, клерикалы и торговцы, поскольку все они предавались притворству в жизни и следовали фальшивой пристойности. Щеголи полагали, что рыцарские идеалы личной чести давно уже уступили место подобострастию, хорошим манерам и желанию выслужиться перед королем и двором. В 1761 году беспутный поэт Чарльз Черчилль опубликовал своего рода оду разгульной жизни — поэму «Ночь», где, в частности, говорилось:
Трудиться — вот участь бездушных рабов.
Зачем создала их природа?
Достался им день для тяжелых трудов,
Нам выпала НОЧЬ — для свободы[58].
Такие люди, «неискусные в обмане», были «слишком решительны», чтобы «выносить обиды», «слишком горды, чтобы льстить, слишком честны, чтобы лгать, слишком прямодушны, чтобы ублажать», по крайней мере в темное время суток, когда в наименьшей степени чувствовалась гнетущая атмосфера дня. Но все же гораздо важнее для них была спровоцированная ночью оголтелая погоня за удовольствиями. Наслаждение, свободное от социальных обязательств и ограничений. Автор «Распутника» (The Libertine; 1683) утверждал: «Пусть россказни про небеса достанутся глупцам, / А мир с утехами его вполне подходит нам»[59].
Генри Пичем, в ужасе от подобного распутства, оповещал в своем сочинении «Совершенный джентльмен» (The Compleat Gentleman; 1622), что «быть пьяным, сквернословить, таскаться по проституткам, следовать моде и ничем не заниматься — в настоящее время это признаки и приметы, характеризующие значительную часть нашего дворянства»17.
В крупных или малых городах такие юноши обычно днем спали, а после заката пьянствовали и дебоширили. Некоторые откровенно резвились на аристократических собраниях, шокируя «менее развращенных». На концерте в 1706 году герцог Ричмонд предложил погасить свечи, чтобы гости «могли делать все, что им вздумается», однако это вызвало возражения здравых людей, «ведь присутствовало так много их жен и родни». Чаще всего молодые люди отказывались от приличных развлечений в угоду непристойным, предпочитая получать удовольствие от грубой обстановки борделей и пивных. «Пропить свой ум и растранжирить свое имение» — так выразился об этих задирах один из критиков. Сэмюэл Джонсон окрестил их «уличными лордами, переполненными до предела дурачествами, юностью и вином». В 1730 году лондонская газета утверждала: «Есть некое наслаждение в кратковременном падении на дно»18.
На самом деле можно заподозрить, что, несмотря на ярко выраженную антипатию к бедным, элита часто завидовала их «вульгарным развлечениям». Такова была, судя по уцелевшим фрагментам, тема комедии Ричарда Стила «Джентльмен» (17??). «Я думаю, вы счастливее нас, господа», — говорит сэр Гарри Северн слуге Тому Димплу, прежде чем спуститься с ним в «низший мир» для ночного разгула. В 1718 году герцогиня Орлеанская поверяла своему другу: «Крестьяне из Шветцингена и Офтерсхайма часто собирались вокруг меня и вели беседы, и с ними мне было гораздо веселее, чем с герцогинями из cercle[60]». Предания говорят, что даже император Священной Римской империи Карл V (1500–1558) пришел в восторг от вульгарных манер простолюдина, с которым однажды вынужден был коротать ночь под Брюсселем. Рассказывают, что Карл от души хохотал над грубой речью крестьянина, пока тот мочился, не подозревая о том, кем на самом деле являлся его собеседник. «Ты пердишь», — упрекнул его Карл, на что крестьянин огрызнулся: «Хорошая лошадь всегда пердит, пока мочится!»19
Джеймс Босуэлл, будущий владелец наследственного имения Охинлек, периодически извлекал удовольствие из связей с уличными девками. Будучи с визитом в Германии, он записал в дневнике: «Вечером почувствовал острую нужду пройтись, посмотреть на проституток Дрездена и развлечься, как я это делал в Лондоне. Низко. Низко». «Низкий кутеж» не только сулил плотские радости, но и был крайне привлекателен сам по себе, поэтому иногда Босуэлл прибегал к переодеванию. В июне 1763 года в Лондоне, в празднование «Ночи рождения Короля», он надел поношенный темный костюм с «грязными штанами из оленьей кожи и черными чулками». Решительно настроенный «побыть мерзавцем и увидеть все, что только можно увидеть», он прошелся по всему городу от шлюхи к шлюхе, попеременно называясь то цирюльником, то солдатом, а молодой проститутке с улицы Уайтхолл даже представился разбойником с большой дороги! «Я вернулся домой около двух часов ночи, очень усталый», — записал он. Даже священники нарушали свои обеты, развлекаясь в пивных и борделях. В XVII веке во Фландрии два официальных лица, декан Генри Уиггерс и каноник Арнольд Крайтерс, во время своих «ночных забав» в тавернах не только пили и играли в азартные игры, но также плясали и дрались. «Проткни его насквозь!» — кричал каноник своему другу в один из бурных вечеров, проведенных в таверне «Корона», пока тот дрался с противником. Путешественники объясняли недостаток фонарей на улицах крупных итальянских городов якобы желанием католических прелатов обделывать свои интимные делишки в темноте. Вот как высказался об этом один из посетителей Рима: «Сама по себе темнота улиц была подозрительна, ибо и к жизни ее вызвали помыслы не слишком духовного свойства»20.
Скрытая прелесть ночи не была чужда и женщинам благородного происхождения. Помимо бремени придворного этикета, они несли еще и бремя семейных ограничений. Их жизнь крутилась вокруг дома даже в большей степени, чем у простых женщин, а возможностей для личной реализации или независимости было еще меньше. Героиня баллады «Гибель любви» жалуется на насильственные браки, от которых страдают девушки:
Ах, лучше быть прислугой-замарашкой
Или посудомойкой-нищей. Право,
Счастливицы они, ведь им не страшно
Любить всех тех, кому они по нраву[61].
Выйдя замуж, сокрушалась Маргарет Кавендиш, женщины вынуждены были «постоянно жить как на маскараде», пряча свое истинное лицо. В «Речах» (Orations; 1662) Кавендиш одна из героинь замечает, что мужчины «охотно похоронили бы нас в своих домах или постелях, как в могиле». В результате, возмущалась она, «мы пребываем в таком же незнании самих себя, в каком они — нас»21.
Жены и дочери из семей знати посвящали день домашним заботам, а ночью, несмотря на традиционные запреты, старались покинуть дом без сопровождения. В одном из художественных произведений XVII века героиня советовала другой: «Раз он отбирает у тебя свободу днем, бери ее сама ночью». Персонаж поэмы Джованни Боккаччо «Корбаччо» (II Corbaccio; ок. 1365) изумляется способности женщин, отправляющихся на тайные встречи, преодолевать ночью огромные расстояния, несмотря на присущие им страхи перед «призраками, духами и привидениями». Известно, что некоторые жены прикрывались чужими именами. В 1559 году лондонский драматург Джордж Чапмен писал о «сотне леди в этом городе, которые пляшут и веселятся в компании щеголей всю ночь, а утром возвращаются в постель к мужу такими невинными, словно их только что окрестили». Частые гостьи на таких «благородных увеселениях», как маскарады, аристократки, по слухам, также играли в азартные игры, шумно веселились и занимались проституцией. Например, во времена Реставрации таковыми были неразборчивые придворные дамы вроде Барбары Палмер, графини Кастлмэйн, которую вожделел Сэмюэл Пепис. Ее любовь к азартным играм была столь велика, что поговаривали, будто она «за одну ночь могла выиграть 15 тысяч фунтов, а на следующую, вновь проведенную за игрой, проигрывала до 25 тысяч». Апрельским вечером 1683 года три «благородные дамы из Кембриджа», облаченные в мужские костюмы, били окна и нападали на проходящих мимо женщин. Сообщали, что госпожа де Мюран, проживающая отдельно от своего супруга, графа де Руссийона, распевала со своей любовницей «похабные песенки по ночам, да и в остальные часы тоже» и даже «мочилась из окна» своего парижского дома после «продолжительного дебоша». Несомненно, что, в то время как в литературе получили распространение женоненавистнические настроения и страх перед женской неверностью, некоторым женщинам ночь предоставляла определенную долю личной свободы, причем не только дома, но и за его пределами. Монтескьё говорил про утро: «Часто день мужа начинается тогда, когда заканчивается день жены»22.
Однако «спуститься» по социальной лестнице человеку состоятельному было не так-то просто. Ночное веселье, особенно в незнакомой обстановке, грозило множеством опасностей, в числе которых был и путь по грязным и плохо освещенным улицам. В пьесе «Сквайр Олдсапп, или Ночные приключения» (Squire Oldsapp, or the Night Adventures; 1679) персонаж по имени Генри жалуется: «А, чума на эти ночные блуждания; человек испытывает больше трудностей, погуляв, возвращаясь домой, чем получает удовольствия во время развлечений». Босуэлл вернулся домой после одной из своих пьяных вылазок «весь в грязи и синяках». Женщины без сопровождения, даже посещающие приличные за-ведния, подвергались риску насмешек и глумления, а то и того хуже. В 1748 году леди Шарлотта Джонстон и две ее подруги углубились в «темные аллеи» лондонского парка Воксхолл, который служил излюбленным местом тайных ночных свиданий. Каковы бы ни были их резоны (возможно, любопытство похотливого свойства), их ошибочно приняли за проституток, и полдюжины пьяных учеников начали их преследовать и напали. К тому же одно дело было одеться бандитом, а другое — вести себя подобно бандиту. Лондонский студент-правовед Дадли Райдер не мог произнести ни слова, как только приближался к проституткам. «Я впадаю в странное смущение и спешку, когда подхожу к шлюхе, и не мшу понять, как свободно разговаривать с ними», — признавался он в дневнике. Босуэлл, имея дело с проститутками, находил трудным скрывать свою истинную сущность, хоть и был одет в потрепанное платье. «Несмотря на мой наряд, — писал он позже с плохо скрываемой гордостью, — меня всегда принимали за переодетого джентльмена»23.
Были неизбежны и конфликты на социальной почве. Некий ирландец писал о каком-то манерном джентльмене, который, проведя «целый день в ненавистной им компании», ночью, напротив, вращался «в компании, где столь же искренне ненавидели его». Френсис Вудмаш в состоянии опьянения утверждал, что он «дворянин, ученый человек» и говорит по-латыни, чем восстановил против себя торговцев, сидящих за большим столом в одном из лондонских пабов. Последовавший затем шквал оскорблений («болван», «пьянчуга», «ирландский бандит») Вудмашу удалось остановить, только заколов одного из обидчиков шпагой. Видимо, часто многие щеголи свободно веселились с теми, кто ниже их по статусу, до того момента, пока страсти не вскипали.
Один «очевидец» сообщал газете о вечере в пабе «Ковент-Гарден»: «Задиры, шлюхи, сводни, сутенеры, лорды, франты, щеголи, игроки, скрипачи, певцы, танцоры и т. д. — все странно перемешано. Порой вы обнаружите лорда, увлеченного разговором со сводней, члена парламента, объясняющего проститутке суть своих привилегий, очень благоразумного сутенера, возмущающегося беспорядками в разговоре с повесой, шлюху с бездельником, денди с мясником, и при этом все они, как говорится, приятели не разлей вода до тех пор, пока джентльмен не напьется; тогда хулиганы, жулики, шлюхи, мошенники, сутенеры и т. д. берутся за свое ремесло — устраивают суматоху, как они это называют, и принимаются стричь деньги с тех, у кого они есть. Тут-то и начинается волнующее зрелище: шпаги, трости, шляпы, парики и вообще все летит в разные стороны; кругом окровавленные носы, фингалы, проломленные черепа, разбитые стаканы, бутылки и прочее»24.
Для пьяных щеголей никакая проделка не казалась чересчур вопиющей, если в жертву приносились пристойное поведение и человеческие приличия. В Лидсе поздним вечером «молодые джентльмены» в качестве развлечения вытаскивали людей из постели, принося им ложные вести о каком-либо умирающем друге или родственнике. В июне 1676 года распутник Джон Уилмот, второй граф Рочестер, совместно с тремя товарищами, напрасно проведя время в поисках «шлюхи», жестоко избили констебля в Ипсоме. До этого они уже поиздевались в таверне неподалеку над несколькими скрипачами, «подбрасывая» их в «покрывалах за то, что те отказывались играть». А до конца этой же ночи Рочестер еще успел спровоцировать драку с ночным дозором, в результате которой один из его приятелей был заколот. Даже Пеписа, отнюдь не образец добродетели, порой повергали в шок такие истории. Однажды сей представитель среднего класса услышал, что двое забияк, сэр Чарльз Сэдли и лорд Бакхерст, бегали «с голыми задницами всю ночь» по улицам Лондона и «в конце концов нарвались на драку и были избиты дозорными». В другой вечер Пепис заметил, как «двое денди и их лакеи» тащили «миленькую девицу» с применением «некоторой силы». («Да простит меня Господь, — признавался он, — за мысли и желания, которые я испытывал, а именно находиться на их месте».) Куда более трагической была судьба хозяйки провинциального паба, которая пыталась прекратить шум, производимый «компанией хлыщей». Вслед за своей мебелью она вылетела из окна верхнего этажа и погибла25.
Жестокие столкновения были неизбежны и между самими щеголями, ведь они отказывались не только от строгих правил, принятых в среде аристократов, но и от защиты. Избытки юношеских сил тратились на дуэлях и в пьяных драках, так что ночные эскапады казались еще более героическими. Граф Рочестер писал: «Я расскажу вам вот что: однажды напали на шлюх. / Сводники разбежались, в их комнатах грохот и стук, / Окна разбиты вдребезги, охраны простыл и дух»[62].
Некий путешественник, находясь в Лиссабоне, жаловался на поздние ночные «ссоры беспутных забияк, которые рыщут по улицам в поисках приключений». Насилие по большей части было спонтанным и ничем не спровоцированным. Однажды декабрьской ночью 1693 года трое вооруженных шпагами людей прошагали по Солсбери-корт в Лондоне, громко утверждая, что «да будь они прокляты, если не убьют всякого, кто встретится им на пути, и выкрикивая: „О да! О да! О да!"» Вандализм был в порядке вещей: разбивались окна, уличные фонари, ломались двери. Хуже всего приходилось молодым женщинам, которых избивали и домогались. Некоторых вытаскивали в темные переулки прямо из постели. Ночной дозор, как символ королевской власти, также был излюбленной мишенью, тем более что дозорные, как правило, были людьми преклонных лет. В пьесе «Игрок» (The Gamester; 1633) Джеймса Ширли говорилось о «…задирах, что безумствуют / В борделях и выламывают окна, устрашая улицы, /И в час полуночный они констеблей хуже, а порой / Набрасываются на невинных дозорных».
После одного из маскарадов банда щеголей, включая герцогов Монмута и Ричмонда, смертельно ранила дозорного; такое же преступление вменялось герцогу Йоркскому до того, как он взошел на трон под именем Якова II (1633–1701). В свою очередь, апрельской ночью 1741 года небольшая группа молодежи под предводительством двух французских дворян совершила нападение на дом мэра Либурна, при этом сначала они использовали топор, а потом и вовсе взялась за таран26.
В некоторых городах банды образовывались из благородных забияк и зависимых от них слуг и лакеев. Слабоорганизованные, они тем не менее приобрели громкую репутацию за насилие. В Амстердаме ночью на невинных прохожих нападали члены «Проклятой шайки». Тем же самым занималась банда «Меловики» в Дублине. Итальянские города также страдали от бандитских вылазок молодых дворян. В конце XVI века путешественник обнаружил, что во Флоренции «джентльмены разгуливают группами по ночным улицам, со шпагами и притушенными фонарями; я имею в виду, фонарями, наполовину светящимися, наполовину темными, при этом яркой стороной они направлены к джентльменам, чтобы видеть дорогу, а темной — от них, чтобы никто не видел их; и если случается, что одна компания встречает другую, то джентльмены поворачивают свои фонари светлой стороной к лицам тех, кого повстречали, дабы опознать их… и если только те не оказываются уже знакомыми или приятелями, то редко обходится без драки или, по крайней мере, шумной ссоры».
Живописец Караваджо принадлежал к римской группе щеголей, охотившихся за проститутками и соперничавших с «обладателями шпаг». «Без надежды, без страха» («Nec spe, пес metu») — таков был их девиз. В 1606 году после убийства в драке члена другой группы Караваджо был вынужден бежать в Неаполь27. В Лондоне в 1623 году сформировалась группировка «Охотничьи рожки», в которую, по слухам, входили отбросы «таверн и прочих скандальных мест» и которую возглавляли «разные рыцари, молодые дворяне и джентльмены». В поздние годы Лондон страдал от банд «Чистильщиков» и «Хулиганов», члены которых вскрывали себе вены с целью «наглотаться собственной кровушки». Пепис описывал вечер, когда «молодые задиры» из шайки «Любителей игры в мяч», возглавляемой Рочестером, отплясывали голыми в компании проституток. Самый серьезный страх внушали «Мохоки»[63], которые приняли это название вскоре после широко известного визита в Лондон четырех ирокезских вождей. В течение нескольких месяцев 1712 года город пребывал в ужасе от зверств банды. Помимо того что они резали ножами лица прохожим, они переворачивали вверх ногами женщин, «дурно обращаясь с ними, да еще и в варварской манере». Число «мохоков» было столь велико, язвил автор одной листовки, что дозорные опасались арестовывать их. Джонатан Свифт, озабоченный собственной безопасностью, решил ночью ездить только в экипаже и рано возвращаться домой. «Им не удастся изрезать мне [лицо], — писал он, — оно мне нравится таким, какое есть сейчас, пусть даже экипаж будет стоить мне по меньшей мере пять шиллингов в неделю». Сара Каупер сокрушалась: «Обычаи индейских дикарей те[перь] становятся достижениями английских графов, лордов и джентльменов»28.
В английской литературе нет другой пары пэров, которая бедокурила бы так славно, как принц Гарри и его упитанный компаньон Фальстаф. В первой части «Генриха IV» (1598) мы обнаруживаем их в сговоре с другими разбойниками, планирующими «забавы» ради нападения в темноте на состоятельных путешественников. Фальстаф заявляет принцу: «Значит, у тебя нет решимости рискнуть на 10 шиллингов? Тогда нет у тебя никакой чести. Ты не мужчина, и не товарищ, и уж во всяком случае не принц королевской крови»[64]. Были такие «представители королевской крови» и в реальной жизни, например венгерский король Матьяш I Корвин (1440–1490), французский король Франциск I (1494–1547) и герцог Миланский Франческо Сфорца, который по ночам переодевался уличным торговцем. Говорили также, что, хотя брат Карла VI, герцог Орлеанский, «днем казался набожным», он «тайно» вел «очень распутную жизнь ночью», много пил и веселился с проститутками. Король Дании, Норвегии и Швеции Кристиан II (1481–1559) в бытность свою принцем покидал монаршие покои ради пирушек в копенгагенских тавернах, предварительно подкупив стражу, чтобы та открыла ворота замка. Кристиан IV (1577–1648) был известен тем, что бушевал на улицах, выбивая окна, подобно другим молодым аристократам. То же рассказывали и о Генрихе VIII, чьи юношеские «блуждания» вдохновили на создание широко известной сказки «Король и сапожник», опубликованной в XVII веке. Карл II (1630–1685) во время одной из своих «ночных прогулок» с Рочестером будто бы посетил бордель в Ньюмаркете в «своем обычном облачении» — и лишь для того, чтобы проститутка вытащила из его кармана кошелек. Пожалуй, самыми известными были эскапады французского короля Генриха III, набожного католика днем, а ночью кутившего на улицах Парижа в окружении преданных придворных — «миньонов». Современник жаловался: «Их занятия — азартные игры, богохульство, прыжки, пляски, склоки, прелюбодеяния и следование повсюду за своим королем»29.

ВЛАСТИТЕЛИ НОЧИ
Плебеи
I
Не можешь днем — иди сквозь мрак ночной[65].
Уильям Шекспир (1596)]
Ночь совершила революцию в социальной сфере. Если темнота позволяла сильным мира сего превратиться в плебеев, то она же даровала силу легионам слабых, тем, кто расхаживал «по улицам… с такой выправкой и таким гордым видом, — жаловался один из писателей, — словно собирался задеть звезды короной, водруженной на его голову». Множество людей в Европе и Америке, освобождаясь от долгих часов тяжкого отупляющего труда, с заходом солнца вновь обретали цель существования. Ночное время манило главным образом свободой — как от работы, так и от общественного надзора, и этот призыв находил горячий отклик в среде низших сословий. Люди были вольны выбирать, с кем провести эти часы, они часто ограничивались встречами с семьей и друзьями, равными им в социальном отношении, и избегали столкновений с представителями высших рангов. «Никто не может ночь рассеять взором, / Чтобы следить за нами или нас хулить», — писал Джон Клэр, в прошлом крестьянин из Нортгемптоншира, занимавшийся посадкой живых изгородей. Способность ночной темноты скрывать видимый мир делала ее еще более привлекательной. Под черной краской ночи скрыты знаки, обозначающие присутствие институциональной власти и наличие привилегий и вселяющие страх наряду с почитанием и уважением. Гербы и кресты отступали во тьму, ратуши и тюрьмы давили меньшим грузом, а церковные шпили больше не доминировали в пейзаже. «Все беды тяжкие поглощены забвеньем ночи, — писал Чарльз Черчилль, — вместо них по воле вымысла господствует веселье»2.
Определенно ночь готовила убежище для всех без разбору. Маргинальные меньшинства, вынужденные днем скрывать свою сущность, с наступлением темноты обретали решимость, с успехом избегая ограничений Церкви, государства и общественных предрассудков. В Англии ночи использовались политическими аутсайдерами вроде якобитов не только для тайных встреч; в беспокойную эпоху враждующие группировки под прикрытием темноты распространяли листовки провокационного содержания. Так, в течение всего нелегкого периода, охватывавшего события «Славной революции» 1688–1689 годов, улицы Лондона под утро находили покрытыми листовками. В 1714 году, во время династического кризиса, предшествовавшего воцарению Ганноверов, графиня Мэри Каупер отмечала: «Не проходит и ночи, чтобы не было воплей о том или ином скандальном памфлете»3.
Подобно ранним христианам, скрывавшимся от преследований римлян, по ночам собирались религиозные диссентеры[66]. В Средние века тайные собрания были уделом катаров, вальденсов и прочих еретических сект. Их противники распускали слухи о полуночных оргиях. В 1427 году монах Бернадино из Сиены писал об одной из сект: «Глубокой ночью все они, мужчины и женщины, собираются вместе в помещении, и знатную же „кашу" они заваривают». При закрытых дверях совершали богослужения, готовили акты неповиновения криптоевреи, например испанские мараны (крещеные евреи, тайно исповедовавшие иудаизм). В начале XVII века в Севилье две ночи подряд на дверях церкви Сан-Исидро появлялись плакаты, вопиющие «Да здравствуют заветы Моисея! Они неоспоримы!». Однажды поздним вечером 1551 года небольшая группа итальянских евреев, отмечая праздник Пурим, свободно разгуливала по пустынным улицам Рима и даже в какой-то момент нарядилась ночными дозорными4.
После Реформации протестантские меньшинства, опасаясь преследований, также прибегли к ночным службам, в том числе по случаям бракосочетаний и похорон. Говорили, что французские протестанты (гугеноты) получили свое прозвище оттого, что устраивали ночные собрания в городе Туре, по улицам которого якобы бродил призрак средневекового монарха, короля Гуго. Правда это или нет, но тайные встречи для чтения и дискуссий были обычным явлением во французских городах. Анабаптисты Страсбурга, преследуемые властями, собирались для богослужений в лесу. В 1576 году очевидец наблюдал, как 200 мужчин и женщин молились и слушали проповеди, пробравшись в сопровождении охраны к месту встречи тайными «тропами и объездными дорогами». «Множество зажженных свечей выглядели как волчьи глаза, темной ночью сверкающие среди деревьев и кустов». Возможно, какие-то огни и были волчьими глазами5.
В Британии ночью периодически встречались для совершения мессы и причастия диссиденты[67]. В 1640 году джентльмен из Монмута писал о некой вдове: «Ее незаконно похоронили в церкви ночью, поскольку она была папистка». Когда после гражданской войны Кларендонский кодекс установил главенство Англиканской церкви, многочисленные нонконформисты были вынуждены вновь скрываться. Дневник Оливера Хейвуда из Йоркшира изобилует рассказами о походах в частные дома, где он проповедовал, причем некоторые из них были так переполнены последователями, что невозможно было войти. Годы спустя, во время очередного всплеска англиканских преследований, манчестерский сектант Томас Джолли писал: «Угроза полностью лишиться привилегий заставила нас встречаться в основном в вечернее и ночное время, следуя примеру ранних христиан»6.
Лишенными благ дневного света были жертвы тяжелых болезней вроде проказы, а также и другие страдальцы, презираемые днем из-за своего физического уродства. Во время вспышек чумы городские чиновники часто запрещали жертвам эпидемии и их семьям выходить из дому. Двери их жилищ заколачивались снаружи, а начиная с 1519 года в Лондоне их отмечали красным крестом и горестным изречением: «Помилуй нас, Господи!» Зачастую запертые внутри люди не могли получить ни свежей воды, ни пищи, не говоря уже о помощи друзей. Тем не менее ночью некоторые члены таких семей умудрялись выбраться наружу для того, чтобы либо навсегда переселиться в сельскую местность, либо вернуться домой до рассвета с припасами. Во время эпидемии во Флоренции дробильщик золота Алессандро Конти в отчаянной попытке спасти сына спустил его однажды ночью из окна своего дома. Даниель Дефо вспоминал о времени Великой чумы в Лондоне, как ночами «по улицам бегали больные люди» и справиться с ними властям было практически невозможно7.
Гомосексуалисты были еще одной маргинальной группой, избегавшей света. К XVI веку и даже ранее в таких европейских городах, как Флоренция, Венеция и Женева, уже существовали гомосексуальные сообщества, а к 1700-м годам их примеру последовали Лондон, Париж и Амстердам. Во многих местностях содомия считалась тяжким преступлением, каравшимся смертью; в Англии она была признана таковой по настоянию Генриха VIII. В 1726 году в Лондоне был проведен рейд по более чем двадцати гомосексуальным борделям, известным как «молли-хауз». В доме Маргарет Клэп, где стояли «кровати в каждой комнате», будто бы каждый вечер собиралось 30–40 мужчин. Да и не важно, о каком именно месте шла речь, — ночь в любом случае трактовалась как самое безопасное время для сексуальных контактов. В Тоскане слово «ночь» (la notte) было популярной метафорой содомии. На закате эпохи Средневековья флорентийский суд, отвечающий главным образом за преследование гомосексуалистов, назывался «Судебные службы ночи». Излюбленными местами парижских гомосексуалистов были общественные парки, где заросли кустарника и деревья обеспечивали укрытие в лунные вечера. Однажды летней ночью 1723 года, прогуливаясь в Тюильри, аббат де ла Вьевиль сказал товарищу: «Я вижу вас тут каждый вечер. Если хотите, пойдемте со мной под тисовые деревья, ибо здесь оставаться нельзя: луна светит слишком ярко, а вокруг слишком много людей». Гораздо реже случалось так, что ночь готовила гомосексуалистам собственные ловушки. Так, Джакопо ди Николо Пануцци в сгущающейся темноте флорентийского вечера предложил молодому мужчине деньги в обмен на услуги «постыдного содержания» и только после этого обнаружил, что «юноша» был констеблем8.
II
Покуда грешные созданья с утра до вечера кутят, К ним милосердно мирозданье, и крепким сном тираны спят[68].
Энн Финч (1713)9
Религиозные и политические меньшинства, больные и немощные, гомосексуалисты были путниками в ночи, но не постоянными ее обитателями. Они не предъявляли прав на ночной мрак, просто каждый из них стремился, как гласила французская поговорка, прорыть «нору в ночи», или, по выражению одного испанского раввина, «укрыться от мира». Разрозненность лишь усугубляла их безликость. Иную картину являл пласт людей, которым ночное время предоставляло новые возможности и которые чувствовали себя ночью царями, а не беженцами10.
Мало кто ждал заката с большим нетерпением, чем нищие и бездомные. В сельской глубинке эпохи раннего Нового времени наряду с батраками и терпящими нужду крестьянами можно было встретить бродяг и попрошаек, многие из которых стали жертвами войны или экономических неурядиц. Будучи преимущественно холостыми мужчинами, они устремлялись в города. Даже по скромным подсчетам численность бедняков в периоды экономического кризиса составляла 20–30 процентов от общего городского населения. Имея мало шансов на получение работы, эти несчастные, по словам Даниеля Дефо, и представляли «тех убогих, что действительно испытывают крайнюю нужду и страдают от бедности»11.
Ночью обездоленные мужчины и женщины обретали храбрость. Благодаря темноте бесконечное количество людей освобождалось от контроля вышестоящих, в том числе хозяев. «Днем они прячутся в своих берлогах и норах, а ночью рыщут по окрестностям в поисках добычи», — пылал гневом современник. Состоятельных горожан тревожили передвижения нищих по улицам, они часто сравнивали их с совами, волками и другими хищниками, ведущими ночной образ жизни. «Злобные ночные птицы», — ворчал некий комментатор. «Они как звери, что выходят ночью за добычей», — заявлял Соломон Стоддард из Массачусетса. Подобные сравнения свидетельствовали о дерзости нищих и их силе. На картинах столь разных художников, как Лео-нарт Брамер, Давид Тенирс Младший и Иоганн Конрад Зее-катц, мы видим не только ночные «жилища» бедняков, но и места, куда они любили прийти, чтобы выпить в компании товарищей. «[Они] те, кто уже снял свои дневные маски и больше не пытается скрыть похотливые желания или нищету», — замечал Оливер Голдсмит в 1759 году12.
Вечерние часы были привлекательны для юных противников патриархальной системы отношений — ремесленных учеников, студентов и прочих молодых людей, вынужденных подчиняться в силу возраста, а не из-за классовой принадлежности. Молодежь вызывала у взрослых постоянную тревогу. По мнению ученого XVI века Роджера Эшама, возраст между семнадцатью и двадцатью семью годами является «самым опасным в жизни человека». Моралисты предупреждали о неуемном темпераменте юношей и необходимости строгого контроля над ними. Молодые люди из низших слоев населения часто становились учениками и несколько лет обучались ремеслу или торговому делу. Таким образом, за их поведением наблюдали как в рабочее, так и в свободное от труда время. По всей Европе институт ученичества рассматривали как распространенный метод социализации молодежи, а также как источник дешевой рабочей силы. И хотя большинство учеников не доводили обучение до конца, в одном только Лондоне к началу XVII века их насчитывалось до 25 тысяч, что составляло примерно 12 процентов городского населения. Предполагалось, что они проживают в доме своего хозяина и у них мало свободного времени, разве только часы для приема пищи и полуденного отдыха13.
Многие из тех, кто днем находился под зорким оком хозяев, в ночное время бежали от них. Lying-out[69] — таков был термин, применяемый для обозначения ночных вылазок «подчиненных лиц», вылазок, которые нередко совершались в нарушение принятого в доме «комендантского часа». «У них нет сил, чтобы сносить распоряжения родителей или хозяев, а также ограничения и рабочий режим, которые они им навязывают», — замечал современник в 1705 году. Самозваные «хозяева ночи», эти молодые люди внушали страх городским обитателям на протяжении всего раннего Нового времени. Коттон Мазер проклинал «группы буйных молодых людей» в Бостоне, в том числе и собственного сына Инкриза (Кресси). В Германии протестантский синод возмущался: «Приличные люди больше ни в чем не могут быть уверены, они должны опасаться самых позорных оскорблений и даже физической расправы». В 1673 году сэр Уильям Дэвенант писал о Лондоне: «Порядком строгим славился наш город, / Но мятежи ночные и разбой / Нас ввергли в хаос. Здесь теперь опасней, / Чем на галере, где творится бунт»[70]14.
Необыкновенные возможности таила в себе ночь и для прислуги. Система услужения была столь распространенной в Европе, что даже в бедных домах иногда трудилась хотя бы одна служанка. В Париже XVIII века проживало 40 тысяч домашних слуг и по меньшей мере столько же — в Лондоне. Как и ремесленных учеников, слуг брали в основном молодых, в возрасте от пятнадцати до тридцати лет. Они часто меняли работу. В отличие от института ученичества, услужение редко становилось ступенькой к достижению имущественной независимости. Условия работы были очень тяжелыми. Прислуга безоговорочно подчинялась воле хозяев и часто подвергалась оскорблениям, как словесным, так и физическим. Служанки нередко становились жертвами сексуального насилия. Еще хуже была участь тех, кто находился в услужении у американских колонистов. Связанные договором сервитута[71], они служили хозяевам от трех до пяти лет. Изгнанные из Британии преступники трудились на условиях сервитута в течение семи лет. При этом жизнь их была куда более счастливой, чем у африканских рабов, чье нищенское существование, особенно на плантациях Юга, усугублялось неимоверно тяжелым трудом и суровой дисциплиной15.
И все-таки по вечерам, когда дневные работы закончены, господам было очень сложно удержать своих работников дома. В 1675 году Генеральный совет Массачусетса официально подтвердил наличие «вреда от отсутствия по ночам прислуги в семьях, в которых ей надлежит все время быть». Сара Каупер с горечью жаловалась на «бесстыжих тварей, которые уходят туда, куда им вздумается». В Шотландии, сообщал некий викарий, «зимой фермер часто вынужден вставать с постели в три или четыре часа, чтобы впустить слуг, которые всю ночь где-то пировали»16. Не меньшую склонность к ночным прогулкам проявляли и черные рабы. «Невольники обоих полов часто бродят по ночам, — сообщал представитель белого населения Барбадоса, — направляясь к живущему где-то далеко родственнику или возвращаясь от него». Корреспондент Boston Evening-Post бурно протестовал против «великих беспорядков, чинимых неграми, которым их неблагоразумные хозяева позволяют выходить по ночам». Одним словом, «ночь была их днем», заметил один плантатор из Северной Каролины17. К тому же ученики, слуги и рабы, помышлявшие о побеге, с наибольшей вероятностью могли осуществить задуманное лишь после заката, чтобы впоследствии днем скрываться в лесах и болотах, а ночью пускаться в путь, ориентируясь по звездам. В марте 1588 года в Германии два юнги бежали с речного судна в Бонн «под покровом ночного мрака», но утром были обнаружены и схвачены. Одна из американских газет предупреждала в объявлении о сбежавших слугах: «Предполагается, что передвигаться они будут в основном ночью»18.
В некоторых отношениях представители этих четырех групп — молодежь, слуги, рабы и нищие — имели мало общего. Кто-то из них находился на периферии общественной жизни того времени, кто-то был частично интегрирован в нее. Судьба рабов из Каролины в значительной степени отличалась от удела белых, даже если они принадлежали к самым низшим классам. Равно как и перспективы, ожидавшие закоренелых бродяг, радикально отличались от перспектив молодых слуг. Внутри групп существовало деление по роду занятий, этнической принадлежности, полу и вероисповеданию. Среди рабов большое значение придавалось их происхождению, были ли они креолами или урожденными африканцами. Но порой эти группы пересекались, а «границы», отделяющие их друг от друга, стирались. Так, например, в бунтах ремесленных учеников в Лондоне будто бы участвовали «жалкие приживальщики» и «ничейные люди». И все же, несмотря на различные обстоятельства, все эти группы имели одну общую черту. Вместо того чтобы жить в «едином мире», они жили в двух, то есть двойной жизнью. Дни, тянувшиеся в страхе и нищете, уступали место ночам, обещавшим удачу и равные возможности. Испытывая неприязнь к дневной реальности, только по вечерам они наслаждались жизнью с себе подобными, следуя собственным правилам игры. Бывший раб из Северной Каролины вспоминал: «Мы, рабы, ненавидели восход солнца, ведь он означал еще один тяжелый рабочий день, и мы были очень рады, когда солнце садилось». Некий священник из Новой Англии так писал о молодежи: «Поскольку они изнывают под гнетом ограничений (курсив мой. — А. Р. Э.) в течение дня, то, обретя свободу ночью, творят безумства, подобно тому как вода, хлынувшая через запруду, сметает все на своем пути»19.
Невзирая на бесчисленные угрозы, которые таила в себе ночь, низшие слои общества были хорошо приспособлены к существованию в темноте. Многие отлично ориентировались на местности и были осведомлены об опасностях, исходящих от мира природы. Как слуги, так и ученики неоднократно проходили свои селения вдоль и поперек, выполняя поручения хозяев или разыскивая их после наступления темноты. В колониальной Виргинии хозяин раба, погибшего ночью на лугу при возвращении с соседней плантации от своей жены, посчитал, что тому виной был алкоголь, «ибо он [раб] прекрасно знал здесь каждую пядь земли». Сама по себе выпивка должна была ослабить ночные страхи людей, по крайней мере некоторых. Однажды в Сомерсете темной ночью отец юного Джеймса Лэкингтона «выпил слишком много эля, чтобы вообще чего-либо бояться». «Ночь не ведает стыда, — гласила народная поговорка, — а любовь и вино — страха»20.
Для выходцев из низов мир продолжал «движение» и после захода солнца. Если позволяла погода, друзья и родня собирались небольшими компаниями на природе после полуночи. Смех и дружеское общение, подогретое элем, пивом или вином, оживляли эти часы. «Каждый вечер в любой деревне, — писал Джованни Джелси об итальянских крестьянах в XVII веке, — вы можете видеть, как они вместе пируют и пляшут, причем эти вечеринки продолжаются далеко за полночь. Смеясь нам в лицо, они от души веселятся». Работники и бедняки Рима собирались на Пьяцца На-вона, тогда как их собратьев в Париже влекли парк Тюильри или Люксембургский сад. Иезуиты в Баварии видели в подобных «ночных сборищах» «обычай, укоренившийся среди крестьян», а путешественник, посетивший Лиссабон, писал, что весельчаки «резвятся, пляшут и звенят своими гитарами от заката до рассвета». Житель Лондона жаловался на «шайки пустых, пьяных, распутных негодяев и игроков», которые ежевечерне собирались на открытых площадках21. В домах, сараях и конюшнях играли в карты и кости, делились историями и слухами, пели насмешливые песенки. Констебли в Беркшире однажды ночью обнаружили шесть парочек, «выплясывавших голышом». В балладе XVII века есть такие строки:
Пускай ленивцы-богачи
Бездумно пьянствуют в ночи,
А днем пусть дрыхнут на печи.
Куда уж им — бедняг подагра гложет!
А кто в дневной трудился час,
Пускается ночами в пляс
И до утра — иначе он не может!
А уж красоток обнимать
И губки девичьи ласкать
Умеем мы получше, чем вельможи!22
Рабы очень часто отправлялись на свидания друг с другом в соседние владения, особенно если они были супругами и принадлежали разным хозяевам. Джордж Такер, правовед из Ричмонда, свидетельствовал, что их «развлечения» включали исполнение «легендарных баллад» и «рассказов, в которых чередовались диалоги и пение». «Ночь принадлежит им», — считал он. Посетивший Виргинию путешественник сообщал, что нередко раб, вместо того чтобы после окончания трудового дня предаться отдыху, «выходит ночью из дому и, как бы душно ни было, проходит пешком шесть или семь миль, чтобы принять участие в негритянских танцах, где он пляшет с поразительной живостью, не жалея сил». Чтобы избежать встреч с хозяевами, принимались меры предосторожности. Выходцы из Западной Африки научили остальных использовать в качестве «подслушивающего устройства» чайники или кастрюли. Если их перевернуть вверх дном, можно было услышать человеческие голоса и другие звуки. Используя традиционные знания, рабы определяли время по луне и звездам и возвращались домой до зари. Наряду с лунным светом дорогу освещали древесные факелы, они же согревали в прохладные вечера. «Эти старые добрые сосновые пучки горели долго и давали отличный яркий свет», — рассказывал бывший раб23.
Разумеется, низшие сословия жаловали и питейные заведения. Излюбленные их места, такие как таверна «Дикарь» в Лилле или «Воровской бар» и «Шлюхи Евы» в Амстердаме, не давали простора для воображения. В 1590-х годах в «Темном кабинете» в Аугсбурге пряталась известная банда грабителей. Наибольшим злом в глазах представителей высших классов были пабы, открытые почти всю ночь. В Англии многие из этих «ночных подвальчиков», как их прозвали с начала XVIII века, выглядели как убогие, плохо освещенные лачуги. По контрасту с другими питейными заведениями они были доступнее по ценам и менее привлекательны для людей, находящихся на более высокой социальной ступени. Воняющие табачным дымом, рвотой и мочой, они имели стабильный поток клиентов, желающих провести предрассветные часы за выпивкой. Так, хозяин пивного погребка Джошуа Трэверс пьянствовал с товарищами до шести утра в лондонском пабе «Три кинжала». «Здесь [на вас] осыпается целый град ругательств и проклятий, непристойностей и ахинеи, богохульства и похабщины», — замечал житель Лондона. В Париже кутилы часто отказывались покидать кабаре в час закрытия. «Большинство владельцев кабаре, — жаловались власти в 1760 году, — не запирают свои заведения на ночь и обслуживают людей любого звания, часто давая приют распутным женщинам, солдатам, нищим, а порой и ворам». В середине XVII века «ночлежки» (sleeping houses) в Страсбурге подвергались нападкам за «все виды разврата, запрещенные танцы, чрезмерное пьянство, чревоугодие и веселье». В Виргинии плантатор Лэндон Картер не одобрял распространения в колонии «ночных лавок», популярных среди рабов и белых бедняков в качестве приемных пунктов для ворованных вещей. Эти лавки сбывали ром. Кроме того, их хозяева продавали «кому угодно что угодно». «В лучшем случае они тор1уют краденым», — бранился Картер24.
III
Даже у самых незначительных и заурядных представителей рода человеческого в ночном мраке разыгрывается фантазия.
Томас Гарди (1886)[72]25
«Кто зло творит, света не любит» — утверждала шотландская поговорка. Помимо взломщиков, грабителей и других закоренелых преступников, немало людей использовали преимущества вечерней темноты с противоправными целями. Мелких жуликов было гораздо больше, хоть они и не вызывали такого страха. Ограничения социального и юридического характера для бедных были слабее. Так, именно ночью, дабы не платить приходские сборы, хоронили умерших в семьях неимущих. Ночные похороны имели и дополнительное преимущество: место захоронения было защищено от воров, которые и сами зачастую пребывали в нужде. Грабители могил по ночам воровали одежду и гробы, а так называемые воскресители выкапывали только что захороненные на погосте тела, чтобы продать их медикам для последующего вскрытия на учебных занятиях26. С наступлением темноты находящиеся в бедственном положении матери избавлялись от новорожденных, о которых сами не в состоянии были позаботиться. В Лондоне местом, где находили брошенных младенцев, была Королевская биржа. В Париже несчастные матери оставляли с младенцами и записки, называя в них пол ребенка, дату рождения и имя. К началу XVIII века больница для подкидышей в Париже, одно из множества подобных заведений по всей католической Европе, ежегодно принимала около 2 тысяч брошенных младенцев. В провинции детей оставляли иногда вдоль дорог. Однажды темным зимним вечером 1760 года новоиспеченная мать Джейн Брюэртон из йоркширского городка Чэпелл-Аллертона положила свою незаконнорожденную дочь на обочину дороги и, отойдя недалеко, стала выжидать. Вскоре ребенка обнаружила некая пара27.
Те бедолаги, которые считали себя слишком гордыми, чтобы просить милостыню днем, заполоняли улицы городов в отчаянном поиске хлеба после захода солнца. Монах Вальтер Якобсзоон так писал о некой монашке в Амстердаме: «Она выходила ночью, в темноте, поскольку днем ей было стыдно, ведь в душе она оставалась вполне благовоспитанной»28. Во тьме предпочитали передвигаться должники, а также все, кто опасался ареста и тюрьмы. Томас Деккер писал, что ночью «банкрот, преступник и всякий должник, из страха перед арестом проведший весь день дома, подобно улитке, начинает выползать из своей раковины». При свете луны, «стараясь перевезти хозяйство с наименьшим шумом», сбегали многие арендаторы, неспособные заплатить ренту29. В темное время суток неимущие получали возможность незаконно вселиться в пустующие строения — городские сараи и конюшни или в амбары, а также другие постройки в сельской местности, — пусть даже всего на одну ночь. Деккер утверждал, что йомены «не осмеливались им препятствовать» из страха перед поджогом. В некоторых западных областях Англии и в Уэльсе скваттеры[73] предъявляли права на более длительное проживание. Местный обычай неизвестного происхождения (под названием caban unnos) позволял человеку занимать кусок пустоши или общинных земель, построив за одну ночь торфяную хижину. Работу с помощью семьи и друзей следовало завершить в промежутке между сумерками и рассветом30.
Ночь предоставляла богатые возможности для занятий колдовством. Неимущие и обездоленные прибегали к помощи магии по обе стороны Атлантики, особенно в периоды роста нищеты и отсутствия поддержки со стороны частных благотворителей. «Бедность, — писал в XVI веке некий авторитет в области ведовства, — часто служит источником многих зол, которые люди не выбирают по собственной воле и вынуждены терпеливо сносить». Те, кто находился на грани разорения, по ночам охотно вовлекались в «торговлю сверхъестественным», возлагая надежды на магические заклинания и веря, что с их помощью можно обнаружить закопанное где-то золото и серебро. В заговорах, используемых Гансом Генрихом Рихтером, кузнецом-инвалидом, проживавшим в Пруссии XVIII века, следует искать как христианские, так и языческие корни. Лучшее время для поиска кладов наступало после полуночи. Предпочтение одних ночей перед другими объяснялось прямой зависимостью успеха мероприятия от той или иной фазы луны. Крайне необходимым условием была и тишина. В качестве защиты от демонов на месте, где предположительно были зарыты сокровища, чертили один или несколько кругов. Власти сильно беспокоились по поводу возможности обращения кладоискателей за помощью к злым духам. Так, в Англии статут от 1542 года угрожал смертной казнью тем, кто «вызовет и станет заклинать духов» с целью «получить в корыстных целях сведения о месте, в котором сокровища из золота или серебра должны или могут быть обнаружены»31.
Для некоторых наиболее отчаявшихся мужчин и женщин чародейство было средством отмщения гонителям или соседям, якобы не замечающим несчастий других людей. Когда однажды ночью вустерширский фермер схватил старуху с целой охапкой ворованного хвороста, она тут же упала на колени, воздела руки к небесам и стала просить, чтобы «тому всегда было холодно и он никогда бы не испытал на себе тепло огня». Другие практиковали прокалывание восковых фигурок шипами или взывали к самому Сатане. Рабы прибегали к помощи магии, чтобы избавиться от гнета хозяев. В Кентукки Генри Бибб, имея «великую веру в заклинания и волшебство», научился у другого раба, который был старше его по возрасту, готовить колдовское варево. Он подогрел смесь из свежего коровьего помета, красного перца и «волос белого человека», превратил ее в мелкий порошок и рассыпал ночью в спальне своего хозяина; и все это производилось с целью, как писал позже Бибб, помешать «тому когда-либо впредь обижать его любым способом». Более нелепым был план, вынашиваемый немецким слугой Иохан-несом Бутцбашем. Чересчур опасаясь бежать от хозяина по суше, он собрался нанести визит «старой ведьме» в надежде заполучить «черную корову, на которой мог бы сбежать по воздуху»32.
Колдовство применялось в любые часы, но считалось, что оно наиболее действенно в период, когда в воздухе носятся духи. Народ верил, что некоторые проклятия и заклинания надо произносить обязательно ночью. Многие соседи относились подозрительно к одиноким женщинам, которых они встречали на улицах после наступления темноты. В Новой Англии женщин нередко предупреждали, что их «ночные блуждания» способны вызвать подозрения в ведовстве. Когда в 1692 году во время процессов над салемскими ведьмами семнадцатилетнюю Лидию Николс спросили, «как она не боялась проводить ночи в лесу в полном одиночестве», она ответила, что «ничего не боялась», ибо «продала дьяволу целиком свое тело и свою душу». В 1665 году колонист из Коннектикута по имени Джон Браун был обвинен в том, что однажды поздно ночью в доме своего соседа нарисовал дьявольский символ для своего брата. Согласно свидетельству очевидца, «он подошел к двери и выкрикнул своему брату, чтобы тот посмотрел на звезды, потом сказал, что он [Сатана] был там в звездах, затем зашел внутрь и сжег бумагу, сказав, что если бы он не сделал этого, то дьявол явился бы во плоти»33.
Однако ни одно из этих ночных занятий — будь то черная магия или другие темные делишки — так сильно не привлекало людей, как мелкое воровство. Слуги, рабы, ученики, работники, крестьяне — все были повинны в незначительных кражах. «Они берут все, что плохо лежит!» — восклицал Артур Янг об ирландских бедняках. Автор поэмы «О природе простолюдинов» (De Natura Rusticorum; XIV в.) бранил итальянских крестьян:
В XVIII веке в Париже две трети всех мелких краж совершали работники, ученики и подмастерья34. Наряду с хищениями, производимыми в местах работы, процветали и домашние кражи, в которых повинна была прислуга. Как-то вечером Сэмюэл Пепис обнаружил в своем погребе исчезновение половины запасов вина. Пропажу он объяснил полуночными пирушками слуг: «…после того, как мы уже были в постелях», — ворчал он. Воровство, распространившееся среди прислуги, вынудило парламент принять в 1713 году драконовский закон, предусматривающий за кражу из жилища товаров на сумму, превышающую 40 шиллингов, смертную казнь. Избежать этого наказания не могло даже духовенство35.
В сельской местности особенно привлекательными для воришек были зерно и скот. Крали также ульи, садки для рыбы, вывешенное на просушку белье недельной стирки. «Никогда не оставляй свое белье висеть после наступления темноты», — советовал один из авторов. Землевладельцы присматривали за посевами, но поля были слишком большими, а ночи — слишком темными. В 1709 году в шотландском приходе Каткарт некая Агнесс Парк таскала у соседей горох, бобы, капусту, солому и солод из пивоварни. Путешественник в Ирландии обнаружил: «Репа крадется целыми повозками, и два акра пшеницы могут быть опустошены за ночь». В семьях, не владеющих собственной землей, пищей для скота обычно служила ворованная трава. Иногда крупный рогатый скот выпускали ночью пастись на соседские пастбища. Ради молока от чужих коров порой ломали загоны; виргинский плантатор Лэндон Картер жаловался, что его рабыня Крисс подбивала своих детей «доить мою корову ночью». Пожалуй, самыми ценными считались лесные деревья, растущие или срубленные: летом необходимые для приготовления пищи, зимой — еще и для тепла. Люди не только собирали упавшие от ветра сучки, но и «отсекали» от деревьев зеленые ветви или разбирали до остова изгороди чужих владений. «Ворота могли быть порублены на части и развезены в разные стороны так же быстро, как их поставили; бревна диаметром с человеческое тело и требующие как минимум 10 человек, чтобы сдвинуть их с места, исчезали за одну ночь», — сообщал Янг36.
Большая часть ворованных предметов предназначалась для домашнего обихода, но какие-то из них всплывали на местных рынках. Например, в 1664 году Норфолкский суд обвинил трех женщин в ночной краже у соседа гороха, который они якобы собирались скормить своим свиньям, а остаток продать на рынке. В Америке рабы и свободные чернокожие оживленно занимались товарообменом, продавая семьям и мелким торговцам краденые продукты наряду с плодами, собранными с собственных участков. Моравский путешественник, оказавшись в Виргинии, обнаружил, что вечером чернокожие «болтаются повсюду», и поэтому он счел, что в колонии полно воров. Джордж Вашингтон обвинял в пропаже овцы рабов, которые совершили эту кражу при помощи собак: «Просто поразительно, как им подчиняются их псы». Житель Мэриленда заявлял о неких трех чернокожих: «Хорошо известно, что ночью эти трое негров воруют домашнюю птицу и созревшие плоды с целью продать все это на городских рынках»37.
В сельской местности по вечерам многих из дому влекло браконьерство: арендаторы, крестьяне и слуги отправлялись на промысел с ловушками, сетями и ружьями. Некоторые, не владея никаким ремеслом, были попросту бродягами. В 1599 году сэр Эдвард Кок описывал браконьеров в Стаффордшире как «беспутных, мятежных и неуправляемых людей, в основном ночных бродяг и воров». Охота была запрещена не только в оленьих парках, принадлежавших аристократам, но также часто и в королевских лесах. Обычно жертвами браконьеров становились кролики, зайцы, куропатки, фазаны и олени. Некоторые виды ночной рыбалки также были незаконны, хотя и широко практиковались. Охотничье законодательство в Европе считалось более строгим, чем в колониальной Америке, хотя в Виргинии и Каролине существовал закон, согласно которому запрещалась охота с огнем — индейский ночной способ ловли, когда охотники использовали горящие факелы для ослепления загнанного зверя. Кроме того, такая охота увеличивала риск пожаров, а за оленей порой ошибочно принимали лошадей и скот38.
В сельской Англии браконьерство было излюбленным времяпрепровождением, а зачастую и важным источником дохода. В народной балладе под названием «Линкольнширский браконьер» есть такие строки:
Когда-то в славном Линкольншире я подмастерьем был
И господину своему семь долгих лет служил,
До той поры пока не стал я браконьером сам.
Все расскажу тебе сейчас, поверь моим словам:
Нет для меня другой мечты, чем полнолунья ночь,
Всегда готовая в делах «охотничьих» помочь…[75]
Разумеется, молодые люди были лучше подготовлены к «лесному ремеслу»: они владели знаниями о переменах погоды, о фазах луны, о запахах животных, а также прекрасно были осведомлены о поведении егерей. «Родители тщательно наставляют своих детей», — отмечал современник. Годы спустя отошедший от дел браконьер вспоминал свое детство: «Мы знали каждый дюйм местности, и темнота была нашим другом»39.
Столь же удобным ночное время было и для контрабанды. Это преступление было распространено на всем Европейском континенте. На Британских островах контрабанда достигла масштабов эпидемии в XVIII веке. После введения пошлин на импорт таких товаров, как бренди, табак и чай, в незаконную торговлю включились тысячи людей. Контрабандисты разгружали товары, как правило по ночам, по всему побережью Британии, но особую славу приобрел южный берег. Остров Мэн и Нормандские острова служили перевалочными базами. Через наземную сеть посреднических пунктов и распространителей большая часть контрабанды оказывалась в крупных городах. Лондонская газета писала в 1738 году: «Наступившие темные ночи как будто предназначены для замыслов контрабандистов, джентльмены этой профессии усердно извлекают из них пользу и провозят в город значительное количество чая и других дорогих товаров». Так, Джозеф Джуэлл, сын беркширского торговца лошадьми, подростком работал на владельца постоялого двора, чей дом служил «укрытием для контрабандистов». «Мой хозяин занимался контрабандой на свой страх и риск, — записывал позже Джуэлл в автобиографии, — так что ночью мне часто приходилось возить чай, алкоголь и т. д. Обычно у меня с собой был кнут с двумя фунтами свинца, зашитыми в его широкий конец, это было оружие на случай встречи с акцизными чиновниками». Для того чтобы спрятать свой «товар», он надевал «длинный широкий плащ»40.
В свою очередь, возникла оживленная нелегальная экспортная торговля шерстью, известная в народе как «совиная» преимущественно из-за ночных операций. По той же причине алкоголь, поставляемый на побережье Сассекса или Кента, нарекли «лунным светом». Именно на этих берегах действовали крупные и порой жестокие банды контрабандистов, вроде той, что промышляла в Хаукхёрсте в 1740-х годах. Местных жителей это, правда, не особо волновало, в основном они приветствовали появление на рынках более дешевых товаров. Приходский священник Вудфорд, например, ночью периодически пополнял свои запасы джина при содействии деревенского кузнеца, также прозванного Лунным Светом, который просто оставлял алкоголь на его крыльце. «Почти все утро был занят тем, что разливал по бутылкам два бочонка джина, который доставил сегодня очень рано Лунный Свет», — писал Вудфорд в дневнике. Джуэлл в один из своих многочисленных «ночных рейдов» проделал путь длиной 15 миль, с тем чтобы доставить контрабандные товары некой пожилой даме. Контрабандисты внушали так мало страха, что под них замаскировались даже взломщики, объявившиеся в саффолкском городке Орфорде в 1782 году. Поэтому «никто не заметил их появления», и по ночам воры успешно проникали в некоторые дома. В других местностях, если только не осмеливались вмешаться деревенские жители, контрабандисты порой наряжались призраками или распространяли слухи о пещерах, где якобы обитали привидения. «Призраки, чародеи и ведьмы были лучшим и самым дешевым средством охраны от бродяг, блуждающих ночами», — рассуждал впоследствии ветеран контрабанды41.
Большинство контрабандистов были из бедных семей. Подобно поставщику Вудфорда, они являлись мелкими сошками, статистами, надеющимися за счет контрабанды увеличить свои скудные доходы. Местная контрабанда во Франции преимущественно осуществлялась наемными работниками и крестьянами, часто из числа женщин и детей. Однажды декабрьской ночью 1775 года 300 человек, в основном крестьяне, ожидали прибытия груза с табаком на бретонском берегу. Вооруженные пистолетами и дубинами, они вымазали свои лица черным, чтобы быть менее заметными в лунном свете42.
Ночная вольность была порождена прежде всего экономической необходимостью. Казалось естественным, что в ситуации непрекращающейся борьбы за средства к существованию бедняки занимались браконьерством, контрабандой или кражами пищи и топлива. По мнению Тобайаса Смоллетта, «все простые люди — воры и попрошайки, и я полагаю, что таковые все те, кто крайне нуждается и живет в нищете». Порой мужчины и женщины шли на преступления, считая делом чести и собственного достоинства добывать пищу и кров для своей семьи, чем сводить концы с концами. Или, как выразился очень бедный школьный учитель Джон Кэннон, они отстаивали право любого «бедолаги» на то, чтобы на него «не мочились». В 1752 году Джон Уилкс, собираясь ограбить лондонский экипаж, объяснял другу: «Я задолжал ренту моему лендлорду, и, чтобы выплатить ее, ты должен помочь мне ограбить экипаж, а через пару ночей мы станем жить как настоящие люди». Подобным же образом грабитель Дэниэл Драммонд пытался завербовать себе в сообщники работника из Лидса, уверяя, что «если им удастся добыть достаточно денег, чтобы хватило на дорогу до Лондона, то они смогут зажить как люди». Воровство помогало залечивать комплексы, присущие тем, кто имел положение прислуги или раба, — ночью к ним возвращалось то, что у них отнимали днем. В конце XVII века управляющий одним имением сообщал: «Поголовно все люди ломают и воруют изгороди и охотятся на нашей территории, как будто хозяин — всеобщий враг». Многие годы спустя в английской деревне Бауэрс-Роу девизом браконьеров был лозунг: «Он грабит нас весь день, мы будем грабить его всю ночь». Несмотря на риск разоблачения, некоторые браконьеры хранили оленьи рога в качестве трофеев, напоминающих о собственных «похождениях». В 1641 году в Восточном Сассексе Томас Биш похвалялся перед друзьями, что «он будет ежегодно добывать две пары [рогов] от самцов и две — от самок на землях сэра Ричарда Уэстона и что однажды ночью он уже убил там четырех оленей»43.
Как заметил адвокат (avocat) парижского парламента (Верховного суда), «ночь часто одалживает свою вуаль для продажной любви». В отличие от браконьерства, мелкого воровства и контрабанды, которые нередко служили дополнительным источником дохода, многим обнищавшим женщинам в возрасте от пятнадцати до тридцати лет проституция давала основные средства к существованию. В XV и XVI веках, по мере того как все больше женщин прекращали заниматься привычными для них ремеслами и торговлей, эта тенденция усилилась. В переписи 1526 года сообщалось, что проститутки составляли почти десятую часть 55-тысячного населения Венеции. В любом крупном городе и множестве провинциальных городков обитало изрядное их количество. Некоторые из них жили в борделях, но большинство «населяло» улицы и пивные заведения. В 1681 году некто, оказавшийся в Норидже, сообщал: «Этот город кишит пабами, и говорят, что всякий паб заодно является и публичным домом». Уже к концу XVII века проститутки наводнили Бостон и Филадельфию, а в 1744 году друг сообщал доктору Александру Гамильтону относительно Нью-Йорка, что после наступления темноты прогулка в парке Бэттери «была для чужака верным способом встретиться с куртизанкой». Даже по заниженным оценкам, в Лондоне того времени обитало около 3 тысяч проституток. Корреспондент газеты Public Advertiser сообщал, что вечером «практически невозможно» пройтись по городу и «не услышать от них какого-нибудь грубого словечка или не натолкнуться на сцену самого гнусного разврата»44.
Для молодых малообразованных женщин, пребывающих в нужде, альтернатив занятию проституцией практически не существовало, разве что тяжелый труд в качестве служанки или швеи. И хотя многие из них становились жертвами насилия и венерических заболеваний, но в своем ремесле, не контролируемом патриархальными отношениями, они обретали редкую степень независимости. «Свобода — самый ценный бриллиант, которым владеет куртизанка, ибо содержит в себе все, чего она желает», — замечает куртизанка, одна из действующих лиц пьесы «Светильник» (La Lucerna; 1630) Франческо Поны. Такая женщина «неподвластна была тирании мужа или родителей». Очень уязвимые, в отличие от большинства женщин, проститутки, особенно уличные, не ограниченные правилами, царившими в публичных домах, были в то же время и самыми независимыми. Хозяйки своих тел и своего труда, они сквернословили, были задиристы и прямолинейны — одним словом, были «нахалками». «Шлюха — не женщина, — комментировал один из писателей, — поскольку она должна отказаться от всех тех недостатков, что делают их пол слабым и ничтожным»45.
Судя по судебным разбирательствам, проводимым в лондонском Олд-Бейли, проститутки были склонны к насилию. Тогда как некоторые из них находились под защитой сутенеров мужского пола, основная их часть работала сама по себе. Они не только воровали часы и деньги у клиентов, слишком пьяных или усталых, чтобы беспокоиться об этом, но еще и прибегали к грубой силе: ранили своих жертв или связывали им руки, пока шарили по карманам. В 1743 году Джон Кэтлин свидетельствовал против двух женщин, одна из которых сначала его «крепко обхватила руками», а затем «они вспороли мне штаны и вытащили деньги». Джозеф Лейсби был ограблен двумя проститутками в переулке. Одна из них удерживала его силой, пока другая убегала: «Она обругала меня и не отпускала; это внушило мне такой ужас, я уж думал, что она перережет мне горло»46.
Ночное насилие часто являлось следствием демонстрации силы в компаниях молодых людей. Столицы и провинциальные местечки, города от Падуи до Нью-Йорка — все в различной степени страдали от ночных потасовок между юношами, разминающими мышцы, причем их численность значительно превосходила число гуляк-аристократов. В бандах преобладали ремесленные ученики и наемные работники, чей боевой дух изрядно подпитывался молодостью; временами к ним присоединялись слуги, а в колониях — рабы и свободные чернокожие. Достаточно типичной была жалоба лейпцигского муниципалитета в начале XVIII века: «Поздно вечером многие ученики, парни, горничные и прочий неженатый народ болтаются без цели на улицах и совершают многие непотребные вещи», кричат и «носятся повсюду». В XVIII веке волнения в различных районах французского города Лаваль происходили «почти каждую ночь». Такую молодежь называли «ночные бродяги» (coureurs de nuit). В итальянских городах молодежные банды были известны как nottolones. Один чиновник в 1605 году переживал за жителей Ковентри, которые «не чувствуют себя в безопасности, даже засыпая в собственных домах», из-за «распутных молодчиков». В ремонстрациях[76] говорилось о «ночных беспорядках и разгуле», о «буйных компаниях мужчин, детей и негров». В пиренейской деревеньке Лиму дюжина молодцов якобы ежевечерне собиралась «в одном частном доме, где они и решали, какое безобразие учинить в эту ночь»47.
Для достижения максимального эффекта необходим был шум, и чем громче, тем лучше. Злобные ругательства, непристойные баллады и отдельные выстрелы служили глашатаями ночного царства молодежи, бросавшей вызов жителям респектабельных районов и возвещавшей о сопротивлении их господству днем. Молодые люди в Германии заслужили дурную славу тем, что распевали йодлем (Jauchzen). В Дании излюбленным «ритуалом» была безумная беготня по городу (grassatgang). Даже житель маленькой швейцарской деревеньки жаловался в 1703 году: «Молодые неженатые парни со свистом и криком носятся по улицам, издавая ужасные вопли и распевая йодлем». Часто какофонию усиливали горны, трубы и другие музыкальные инструменты, а также городские колокола, звон которых сонные горожане иногда принимали за пожарную тревогу. Возле здания суда в Филадельфии каждую ночь собиралось «много негров и прочих» с ведрами, используемыми в качестве барабанов. Еще более дерзкой была реакция рабов одной из ямайских сахарных плантаций на несчастный случай, в результате которого утонул племянник надсмотрщика. Томас Тистлвуд (сам надсмотрщик) записал в дневнике: «Вчера между восьмью и девятью вечера слышал звук выстрела у реки, а потом ночью на реке напротив хижин наших негров палили из двух ружей, громко выкрикивали „ура!" после каждого выстрела, полагаю радуясь смерти моего родственника. Странное бесстыдство»48.
Часто за этим следовали акты вандализма. Основной удар принимали на себя жилища: стены забрызгивались грязью и экскрементами, медные дверные молотки выдирались из петель, а окна разбивались камнями. Перед входной дверью могли повесить мертвую кошку. Особенно страдали уличные фонари. И дело было не только в том, что молодежь впадала в неистовый восторг от битого стекла, но и в том, что тусклое свечение ламп угрожало лишить банду анонимности. В одну из мартовских ночей 1752 года манчестерские хулиганы совершили массовую кражу дверных молотков, предварительно разбив «множество фонарей на большей части главных улиц». Вскоре после установки верхних фонарей в Париже в 1667 году, вышло предписание, угрожающее наказанием «пажам, лакеям и другим людям, ведущим дурную жизнь, возмутителям общественного спокойствия, тем, которые разобьют фонари». А когда в Лавале купец вышел из дому, дабы проверить, что за беспорядки происходят на улице, какой-то юнец подстрекал своих товарищей «подстреливать любого, у кого есть свеча»49.
Сельская местность также не была избавлена от подобной напасти. Жертвами ночного хулиганства становились сады, дома, а также амбары и прочие подсобные строения. В XVII веке в одной из деревень компания молодых людей несколько раз навещала аккуратный фермерский двор, «чтобы освободить животы». Проказники рядились вурдалаками и прикрепляли свечки на спины животных, чтобы они выглядели как призраки. Хуже было, когда травили рыбу в пруду, выкорчевывали деревья и поджигали скирды сена. В «Легенде о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга сельский персонаж Бром Боне и его «буйная ватага» однажды ночью так разнесли здание школы Икабода Крейна, «что бедный школьный учитель готов был подумать, что у него в школе справляли шабаш колдуны и волшебники здешних мест»50.
Проверяя собственную смелость и физическую силу, банды время от времени дрались друг с другом на улицах, с гордостью демонстрируя свои раны на следующее утро. Ночь была их испытательной площадкой. Неожиданно замеченная компания из соседнего прихода или деревни неизменно мобилизовывала молодежь. В 1633 году на острове Гернси священники жаловались на молодых людей, шатающихся «большими компаниями от прихода к приходу и от места к месту, вследствие чего часто происходят всяческие стычки, произвол и дебош». В 1673 году группа слуг из Нортгемптоншира, возвращаясь однажды весенней ночью со свежим пивом, была жестоко избита вооруженными кольями соперниками из деревни. «У слуги мистера Бакстера, — сообщал Томас Ишэм из Лэмпорта, — фактически перелом костей черепа с пробоинами в нескольких местах»51.
Случайные прохожие тоже становились жертвами кровопролития. Так, однажды ночью в 1513 году компания мюнхенских подростков решила «избить до смерти первого встреченного ими на улице». Отпустив однорукого беднягу, они решили «испытать мужество», напав на слугу герцога Вюртембергского. Джон Ивлин обнаружил, что студенты Падуи «вечерами позволяют себе варварские вольности». Он и его товарищи были вынуждены вооружиться пистолетами, чтобы «защитить» свои двери. Большинство людей по понятным причинам предпочитали держаться подальше от мародерствующих банд. Как-то вечером Пепис, опасаясь «шляющихся повсюду» ремесленных учеников, решил, что должен возвратиться домой до темноты52.
Обычно банды демонстрировали склонность к дискриминации. Излюбленными мишенями становились путешественники и прочие чужаки. «Небезопасно для чужестранца, а тем более для англичанина, гулять по этому городу после ужина, когда простой люд в основном подогрет выпивкой», — открыл для себя, находясь в Гамбурге, Файнс Морисон. Легкой добычей были девочки-подростки, хотя, как правило, сексуальная энергия находила выплеск в «играх» вроде толкания их по кругу (от одного к другому) и растрепывания волос. Но были известны и тяжкие случаи. В XV веке ремесленники и чернорабочие Дижона приобрели дурную славу из-за групповых изнасилований. В год случалось не меньше двадцати нападений, и, вероятно, половина всего мужского населения города в юном возрасте «развлекалась» подобным образом. Прогуливаясь ночью по Гааге, Давид Бекк и некая супружеская пара были окружены шестью, а то и большим количеством слуг, которые, по ошибке приняв даму за проститутку, пытались отбить ее для себя. В Лондоне часто совершались нападения на девушек-служанок, а в XVII веке в Массачусетсе у молодой женщины вырвали из рук фонарь, после чего к ней пристала «компания грубых парней», один из которых несколько раз «засовывал руку под» ее «фартук и произносил гадкие и мерзкие слова». Дефлорация молодых девушек по своей сути была диким глумлением над установленным порядком, который предусматривал сохранение их доброго имени до замужества; тем позорнее было, если насильниками являлись мужчины, занимающие очень низкое положение в обществе53.
Каждую ночь риску подвергались даже «столпы существующего порядка», включая купцов, лавочников и представителей местных властей. Ночь обнажала социальные конфликты. «Нет такого оскорбления, которое бы не досталось мне», — горевал сборщик соляной подати в Лиму. В сельской общине Отельфинген у казначея, подвергшегося «мести Ночного Парня», сломали изгородь и разбросали по земле восемь вязанок дров. Банды терзали и священников всех мастей. «Это как искать пасхальные яйца», — описывали в 1529 году швейцарские работники свои планы по выманиванию «мерзких священников» из «их тайных укрытий». Мало кто избежал этой участи, и не важно, насколько праведным был человек. В 1718 году в Норфолке небольшая группа молодежи проникла в церковь сразу после полуночи. Они трезвонили в колокола, пили крепкое пиво и ломали церковные скамьи, а кроме того, развели огонь на колокольне, чтобы приготовить бифштексы. Вооруженные банды Дижона — malvivantz — были виновны в том, что разбивали окна в домах «уважаемых горожан», включая «господ из парламента». Женатые мужчины представляли в неменьшей степени соблазнительные мишени. В одной французской деревне этим «образцам пристойности» из среднего класса кричали: «Вон в постель! Вон в постель!» — едва заставали на улице в поздний час. Так, некий сердитый юноша орал: «Я не стану тебя слушать! Ты женат! Давай вали спать к своей женушке!»54
Рабы и свободные чернокожие не столь часто прибегали к насилию из-за риска ухудшить свое положение. Нападения на белых были редки, хотя случались и поразительные исключения. Закон, принятый в 1703 году в Массачусетсе, упоминал «великие беспорядки, дерзости и взломы», совершенные ночью «индейцами, неграми и мулатами — слугами и рабами». В 1752 году в графстве Нортумберленд (Виргиния) раб по имени Дик ударил спящего хозяина по голове плотницким топором. Менее двух лет спустя в Бриджтауне (Барбадос) четверо чернокожих под предлогом «множества бед», которые они претерпели «за прошедшее время», свалили с ног, избили и наконец зарезали «белого человека, который спокойно проходил мимо них однажды ночью». На Николаса Крессуэлла, прогуливавшегося как-то вечером с другом на Барбадосе, «несколько негров» обрушили настоящий «каменный дождь из-за мангровых зарослей». Годы спустя в Бостоне чернокожий, обменявшись оскорблениями с несколькими белыми джентльменами, бормотал, удаляясь: «Если бы только была ночь и у меня в руках оказалась хорошая палка, как бы я заставил удирать этих ублюдков!» Но вместо этого при свете дня он был арестован и наказан за свою наглость55.
В раннее Новое время ночной ландшафт de facto контролировался низшими сословиями, вынуждавшими прохожих сворачивать с выбранных ими путей. Они не пользовались традиционным «оружием слабых» — не прикидывались больными и не волочили ноги, к чему охотно прибегали в дневное время с целью обмануть существующие общественные порядки. И они не актерствовали, как делал порой веселящийся народ на ритуальных празднествах вроде карнавала56. Банды, настойчивые в достижении собственных целей, агрессивно заявляли о своих правах на темное время. Френсис Плейс, «портной с Черинг-кросс», вспоминал, как он и его товарищи-ученики ходили «вечером к бару Темпла (Общество адвокатов)», устраивали там гам и расчищали от людей тротуар между пабом и Флитским рынком». Описывая одну такую эскападу, современник поведал, что они нападали на «всякого, кто попадался», били фонари, пинали «шлюх» и бранились с дозорными. Насилие провоцировал даже самый незначительный упрек в адрес молодежи: «валили с ног всех», кто осмеливался «бросить вызов» им, писал некий человек о лондонских ремесленных учениках. Падуанские студенты бродили по улицам, когда им вздумается. Приезжий замечал: «Никто не осмеливается выходить в город после наступления темноты из-за страха перед школярами и им подобным, которые, одевшись в черное и вооружившись карабинами и пистолетами, шляются взад-вперед компаниями по 20–30 человек почти всю ночь». В колониальном городе Чарлстон (Южная Каролина) вечерами беспрепятственно разгуливали даже рабы и свободные чернокожие. Именно это побудило большое жюри осудить буйное поведение рабов на городских улицах «в любое время ночи». Власть молодых и бедных была сильнее всего в городских предместьях, где в основном они и проживали. Но и маленьким общинам не удавалось избежать насилия. Когда мастер-портной в Лиму покинул безопасные стены своего дома, чтобы посмотреть на источник шума на улице, его встретил град камней. «Ты, ублюдок, — крикнул ему молодой парень, — как ты смеешь вылезать против такой большой банды! Я тебе и городу нос утру»57.
Банды неимущей молодежи вселяли такой ужас, а численность их была столь велика, что только самые смелые и отчаянные ночные дозорные осмеливались бросить им вызов, особенно в ситуациях, когда речь уже не шла о спасении чьей-то жизни. Согласно отчетам XVIII века, стражники в Лавале часто отступали с целью «избежать большей опасности». В Бостоне троим дозорным, повстречавшим банду молодежи в два часа ночи, пригрозили шпагой, и они были вынуждены отказаться от ареста юнцов: «…один из дозорных, сильно испугавшись, выкрикнул: „Убивают!" — другие два, за неимением подмоги, оставили молодых людей и удалились». Плохо вооруженные и малочисленные дозорные сами являлись излюбленными мишенями. Куда им было восстанавливать общественный порядок — на них самих нападали или, как хвастались бандиты, «устраивали им головомойку». Компания молодых людей в Ковентри, «раскидав дозор», отправилась в «паб, чтобы отметить победу». Не храбрее была и стража в лондонском Сейнт-Джеймс-парке, «кишевшем» проститутками. «Что могут сделать полдюжины мужчин, наполовину заморенных холодом и голодом, с четырьмя или пятью десятками падших женщин, чье ремесло делает их отчаянными?» — вопрошал корреспондент одной из газет в 1765 году58.
Некоторых районов, вроде Блэк-Бой-Элли в Лондоне, официальные лица избегали любой ценой, опасаясь града из обломков кирпича и бутылок. Если днем там еще висели фонари, то ночью им приходил конец. Куда более жуткими были ночные пабы, которые сэр Джон Филдинг объявил «ужасом дозорных». Стража жаловалась на одно такое местечко: «Мы боимся зайти туда в любое время суток по любому поводу, ведь, как только мы заходим, все свечи тут же гасятся и констеблей жестоко избивают»59. В сельской глубинке власти справлялись не намного лучше. В Южной Англии контрабандисты нахально нападали на драгун. «Зачастую их атакуют ночью в таких количествах, — рассказывал Даниель Дефо, — что они не осмеливаются сопротивляться, а если рискнут, то их ранят и избивают, а иногда и убивают». В Испании, отмечал некий путешественник, крестьяне, трепетавшие при виде «штыка в дневном свете», становились «дерзкими в часы темноты, вооружившись ножами»60.
Нельзя утверждать, что каждый город или деревня оглашались ночами триумфальными воплями молодчиков из низших слоев. Типичный работяга многие вечера проводил, распластавшись в кровати, восстанавливая силы перед следующим изнурительным днем. А если и не так, то обильная выпивка, флирт и «рейды» по соседским садам всегда больше привлекали людей, чем демонстративное насилие и хаос. По всей вероятности, случай, когда слуга и двое его приятелей из Эссекса отправились после свадьбы ночью 1600 года на соседское пшеничное поле ловить кроликов, был гораздо более распространенным. Джозеф Мэйетт, бекингемширский работник с фермы, вспоминал об одном похожем воскресном вечере: «Я отправился в город, где встретился с девушкой, что работала на моего хозяина во время сенокоса, и оставался с ней до полуночи, потом я оставил ее и хотел вернуться домой, но встретил по дороге двух своих товарищей, и вместо этого мы порешили пойти и обобрать грушевое дерево». Проделав это, Мэйетт вернулся в сад спустя несколько ночей лишь для того, чтобы бежать оттуда, когда там появились другие воры61.
Несмотря на смешанный в расовом отношении состав некоторых колониальных банд, говорить о существовании единой ночной контркультуры не приходится. Вместо этого доминировала группа взаимопроникающих субкультур, более или менее сплоченных. Мало где появлялись группировки, которые по длительности существования или уровню дисциплины, достигнутой в своих рядах, могли сравниться, например, с французскими организованными молодежными группами, активно участвовавшими в ночных беспорядках, или с «ночными королевствами» рабов в Вест-Индии, с их монархами, войсками и флагами. В 1805 году на острове Тринидад был раскрыт заговор рабов, составленный несколькими «королями», каждый из которых имел собственную свиту и армию62. И все-таки большинство ночных банд, основанных на случайных связях, не могли похвастаться ни принятой системой рангов, ни церемониальностью. В отличие, скажем, от гильдий, в них не существовало строгой иерархии, не были унифицированы условия членства, не был закреплен свой код поведения. Это кажется естественным, учитывая, какое значение в банде придавалось личной независимости и самоутверждению. С другой стороны, члены группировок были связаны общими дружескими узами. Передвигающиеся небольшими группами бродяги, как правило, называли себя «братством» и «товарищами по дороге», а некоторые клялись «своей душой» никогда не предавать собрата. Некий автор утверждал в 1647 году: «„Братская привязанность" в среде лондонских учеников была столь сильна, что они инстинктивно следовали девизу „Вали его, он обидел ученика"». Как-то зимней ночью 1749 года в Париже компания молодых слуг увидела, как городская стража ведет в тюрьму троих солдат. Один из юношей воскликнул: «Мы должны напасть на этих ублюдков! Мы не можем им позволить спровадить за решетку трех славных парней!» Находившийся неподалеку кучер был готов присоединиться к потасовке, и хозяину-буржуа с трудом удалось сдержать его. Представителей низших слоев объединял единый сленг, они распевали известные только в своем кругу песни, делили друг с другом одни и те же убежища и привычные места регулярных ночевок, куда добирались, используя хорошее знание местности. Так, одна лондонская газета писала о «диалекте ночных пивнушек». Использование своего арго не только усиливало социальные связи, но также скрывало смысл разговоров от «лучших» сословий63.
Главное, что объединяло столь различные субкультуры, — наличие общих врагов и сходное восприятие мира, где царили свобода от видимых ограничений и чувство превосходства над любыми хозяевами: взрослыми, родителями, работодателями и владельцами; ночь укрепляла и усиливала эту ментальность, создавая определенный опыт, отличающийся от опыта дневной жизни. Как гласит итальянская поговорка, «Собаки Касасерро днем готовы убить друг друга, а ночью идут грабить вместе»64.
IV
.. Ночью все создания спят;
Лишь недовольный участью своей
Бранится, ропщет…
Джон Марстон (ок. 1600)65
В альтернативном мире ночи по обе стороны Атлантического океана обитали вполне устойчивые группы населения раннего Нового времени. Можно лишь предполагать, какое влияние ночная вселенная оказывала на характер повседневной жизни, не исключая вопрос: имела ли она какую-то положительную ценность в системе господствующего порядка отношений? Ведь известно, что некоторые молодежные группировки вносили свой вклад в дело общественного контроля, наказывая прелюбодеев, жестоких мужей и рогоносцев за нарушение общепринятой морали. Такие обычаи общественного порицания, как Charivaris[77] во Франции, mat-tinata[78] в Италии и Skimmington ride в Англии, служили для того, чтобы подвергнуть провинившихся соседей наказанию «похабной музыкой», осмеянием, а иногда и физической расправой, что часто происходило ночью. Эти традиционные «обычаи» напоминали о святости брака, ведь и сами молодые люди в один прекрасный день собирались жениться. Известно, что по той же причине холостяцкие банды из соперничающих общин сражались друг с другом, защищая непорочность местных девушек. К тому же банды ремесленных учеников иногда до основания разрушали публичные дома. Очередной такой «рейд» заставил Карла II воскликнуть в недоумении: «Зачем же они тогда туда ходят?»66
И все-таки кем они были: сторожевыми псами нравственности или волками в овечьих шкурах (что, пожалуй, ближе к истине)? Остается большая вероятность, что праведный пыл нередко служил лишь предлогом для проказ, по замечанию историка Дэниэла Фабра, усмотревшего противоречие в «достижении порядка через беспорядок». В стихотворении начала XVIII века «Выбор распутника» имелись строки о пьяных выходках молодежи во время нападения на бордель:
Изрядно нагрузившись алкоголем,
Решили, что кутить мы будем вволю!
Разбить окно, затеять перебранку,
Подраться — вот гулянка так гулянка![79]
Светские и религиозные лидеры во Франции, начиная с XVI века, осуждали charivaris, несмотря на традиционно благие цели, которые преследовал обычай. С точки зрения властей «сии ночные сборища» слишком часто вырождались в беспорядки. «Драки происходят регулярно», — замечал Феликс Платтер, находясь во Франции67. И, кроме того, степень влияния этих народных обычаев, будь они даже воплощением общепринятых ценностей, была незначительной по сравнению с количеством хулиганских выходок, когда банды творили насилие и провозглашали лозунги, противоречащие установленному порядку.
Угроза ночного насилия сплачивала людей и в политической жизни. В английских и американских крупных городах, особенно в XVIII веке, военные победы служили для уличных толп естественным поводом для ночных гуляний; жители должны были выставлять в окнах зажженные свечи, а те, кто не проявлял таким образом солидарность, рисковали, что их дома забросают камнями. Очевидец писал о толпе, настроенной антиирландски и бушевавшей как-то летним вечером в Лондоне в 1736 году: «Поздно ночью на улицах собрались сотни нарушителей покоя и провозгласили закон собственного сочинения, а именно что каждый англичанин должен зажечь огонь в своем окне; а затем пронесся крик „Покончим с ирландцами!" (курсив мой. — А. Р. Э.)». Каков бы ни был источник волнений, «толпа» после наступления темноты не столько охраняла закон, сколько брала улицы под свой контроль68.
Видимо, в глазах властей предержащих ночное время выполняло хорошо известную функцию «клапана безопасности» — концепция, знакомая той эпохе. Смиряясь с человеческой склонностью к греху, сторонники видели благо в том, чтобы направлять низменные инстинкты смертных туда, где они приносят наименьший вред установленному порядку, — отсюда «послабляющая» значимость праздников, ведь там можно было выпустить пар. Один петиционер, защищая Праздник дураков перед парижским факультетом теологии в 1444 году, аргументировал: «Такое развлечение необходимо, поскольку глупость, представляющую собой нашу вторую натуру, нужно проявлять публично хотя бы раз в год. Винные бочки взорвутся, если время от времени не открывать пробку, чтобы впустить немного воздуха»69. В сельской Англии в конце сбора урожая фермеры обычно устраивали для своих работников вечерние праздники. На этих «урожайных пирушках» в атмосфере доброго товарищества щедро угощали едой и напитками. Генри Бурн писал: «На таких празднествах слуга и хозяин уравниваются, и во всех действиях они выступают с равной свободой». Но конечно, такие праздники, даже вместе взятые, были мимолетной передышкой, и их временная природа подчеркивала необходимость вновь возвращаться к нормальной жизни. Как заметил Генри Фил-динг в 1751 году: «Народные развлечения были ограничены и связаны с определенными сезонами». Вслед за карнавалом наступали «спартанские порядки» Великого поста. Уилт-ширский поэт Стивен Дак писал об «урожайных пирушках»: «Утро придет и развеет ночного веселья дух. / Солнцу пора на небо, а нам — возвращаться к труду»[80]70.
Ночь, напротив, не была ни вырванным из общей картины эпизодом ритуальной вольности, ни кратковременным бегством от реальности. Для значительной части населения в эпоху раннего Нового времени она представляла собой альтернативную реальность, самостоятельное царство, которое без колебаний бросало вызов установкам повседневного трудового мира. Некий житель Мэриленда сказал о рабах: «Хотя рабы принадлежат вам весь день, ночь все меняет». Да и ночные излишества не ограничивались только часами темноты. Отзвуки вечернего веселья доносились и после восхода солнца. «На следующее утро, — констатировал один из писателей состояние типичного ремесленника, работающего по найму, — ему слишком дурно и слишком не хочется работать». Уильям Уэст, подмастерье у лондонского ножовщика, возвращаясь домой после «веселых загулов», как правило, вонял спиртным, «бранился и, проклиная все на свете, разбрасывал свои инструменты». Украденный скот и урожай, одурманенные слуги, изнуренные рабы, сломанные ограды и разбитые окна, не говоря уже о всякого рода порезах, царапинах и синяках, — таков перечень урона, наносимого темнотой, что подтверждалось поговоркой елизаветинской эпохи: «Ночные праздники — большие грабители, / Кутежи слуг разоряют хозяев»71.
Хозяева часто испытывали раздражение по поводу гуляний зависимых от них людей. Жалобы на «вредных» и «бесстыжих» работников, которые были столь же «дерзкими» и «наглыми», сколь «вороватыми», эхом проносились и по ту сторону Атлантики. Один мастер из Лидса в отчаянии отхлестал так своего слугу, что тот не мог встать с постели. Другие принимались навешивать на двери замки. Джона Клэра, когда он был учеником садовника, каждую ночь запирали в сарае, дабы предотвратить кражу плодов72. Тем не менее работники регулярно «надували» хозяев, как правило, пока те спали. Многие слуги имели доступ к ключам. Клэр вылезал из окна, пользуясь «всякой возможностью» посетить близлежащую деревню для «полуночных увеселений». Более того, если работник находил условия жизни слишком строгими, то в будущем мог предпочесть службу у другого хозяина, как, очевидно, многие и поступали. «Болтались от места к месту», — пыхтел от злости один критик. Ричард Уилкинсон, услышав, как приятель жалуется на наказание за ночную прогулку, резко возразил: «Да какая тут проблема? Хозяев больше, чем приходских церквей»73.
У рабов, разумеется, такой возможности не было, но при этом, если они задумывали сбежать, на их пути возникало не так уж много препятствий, ведь жилища рабов на плантациях всегда стояли отдельно от домов их хозяев и надсмотрщиков. Хозяин мало что мог предпринять. Лэндон Картер, который в целом смирился с ночными блужданиями рабов, как-то вечером заключил одного из них — Джимми — под домашний арест только потому, что тот накануне заявил о хромоте, которая не позволяла ему работать. «Те, кто не могут работать на меня, — ворчал Картер, — не могут, значит, не обманывая меня, проходить ночью по две-три мили». Джордж Вашингтон в бытность свою президентом приписывал «усталость и сонливость» рабов «ночным блужданиям и другим занятиям, которые делают их неспособными к выполнению дневных обязанностей». Вашингтон, как плантатор, постоянно отсутствующий на месте, выражал тревогу по поводу масштабов воровства, процветающего среди рабов, в чем он винил ночные «увеселения» нерадивых надсмотрщиков. А в XIX веке хозяева стали систематически распространять среди рабов истории о привидениях, дабы отпугнуть их от ночных прогулок, причем духов нередко изображали надсмотрщики, заворачиваясь в белые простыни74.
Повсеместное ночное веселье также тревожило и власть. Пусть некогда ночь и служила для «выпускания паров», но со временем эта ее функция сошла на нет. В отличие от отдельных преступных деяний, насилие, регулярно совершаемое бродячими бандами, порождало страх перед общественными беспорядками, особенно если в качестве жертв нападения выбирались самые именитые горожане: в этом случае разве что чувство личной обиды превосходило оскорбление, нанесенное официальной власти. Иногда, все еще надеясь навести порядок, власти предпринимали попытки вернуться к средневековым ограничениям и вводили комендантский час. В городах принимались законодательные акты, предусматривающие ограничительные санкции по отношению к неимущей молодежи. В XVI и XVII веках во время периодически вспыхивавших мятежей власти Лондона тщетно пытались навязать комендантский час ремесленным ученикам. В Братиславе начала XVIII века муниципалитет грозил призывом на военную службу беднякам, евреям и другим обнаруженным на улице ночью «людям, способным вызывать беспорядки». Так же и в американских колониях по всему восточному побережью слуг, рабов, свободных чернокожих, индейцев и подростков настоятельно призывали возвращаться домой как можно раньше, обычно к девяти вечера75.
Вместо того чтобы выполнять функцию «клапана безопасности», ночная вседозволенность открывала дорогу еще большему беспорядку. Ночь не только предлагала альтернативный образ жизни, после наступления темноты чаще всего проявлялась и организованная жестокость в среде низших классов. Мрак служил для этого наилучшей декорацией — по понятным причинам, а также по тактическим соображениям. В Британии давняя традиция ночного веселья и неповиновения привлекала в равной степени ремесленных учеников, ткачей из Спиталфилдса, якобинцев, а также вандалов, разрушавших дорожные заграждения, изгороди и каменные ограды. Член банды «Уолтхэмские черные» хвастался в 1723 году, что «можно было поднять за ночь до 2 тысяч человек». Нередко темнота служила прикрытием для выработки какого-либо плана в различных местностях. Так, молодой Джон «Майкл» Мартин, член тайного общества «Объединенные ирландцы», существующего с середины 1790-х годов и борящегося за независимость Ирландии, выходил из дому, когда засыпали его родители. «Встречи назначались каждую ночь, — вспоминал он позже, — в основном в разных местах — иногда неподалеку от дома моего отца, но зачастую — в нескольких милях от него»76.
Ночь была также временем, которое повсеместно предпочитали поджигатели — от устроителей пожаров на табачных полях в Чесапике до банд mordbrenner в Центральной Европе. В 1729 году приходский священник одной гемп-ширской деревни жаловался: «Едва наступает ночь, как всеми нами овладевает ужасное предчувствие, что наши дома и амбары могут сгореть»77. В 1712 году в Нью-Йорке около 30 рабов подожгли здание и затем убили несколько белых жителей, привлеченных к тушению пожара. Бунты рабов каждый раз приходились на глубокую ночь, например заговоры на Барбадосе (1675 и 1816), восстание Стоно в Южной Каролине (1739), мятеж Такки на Ямайке (1760) и восстания Габриэля Проссера (1800) и Нэта Тёрнера (1832) в Виргинии. Большинство заговоров предполагало организацию тайных встреч по ночам для выработки стратегии восстания, причем связные порой проходили много миль в сплошной темноте, а в Вест-Индии заговорщиков созывали, стуча в барабаны и трубя в морские раковины. Нередко полночь становилась отправной точкой для насилия, совершаемого ранним утром. Накануне Американской революции рабы так прочно ассоциировались с ночным сопротивлением, что некоторые роялисты мечтали заручиться их поддержкой против своих врагов — вигов. Один тори из Мэриленда будто бы заявил: «Если бы у меня в распоряжении было еще несколько белых, готовых присоединиться ко мне для обеспечения безопасности, я смог бы заполучить всех негров, а от них было бы больше пользы ночью, чем днем от белых»78.
Темнота не только предоставляла бунтовщикам укрытие от посторонних глаз и возможность впоследствии неожиданно выступить, но и давала другие преимущества. Например, в 1653 году в Англии общинники из болотистой местности в полночь наголову разбили военную охрану, призванную защищать место дренажных работ в Норфолке. Незнакомые с местным ландшафтом, солдаты, «растерявшись в ночи», слабо защищались. Луддиты знали, что даже отдаленные звуки приближающейся кавалерии можно было лучше услышать в глухой темноте. Порой в качестве поддержки привлекали и магические силы. Участники восстания 1712 года в Нью-Йорке верили, что «волшебный порошок» сделает их непобедимыми. Ночами, предшествующими неудачному бунту рабов на Антигуа в 1736 году, колдун проводил ритуальную присягу среди заговорщиков. Мятежники из сельской глубинки Южной Ирландии, так называемые Белые Парни, чьи ночные собрания привлекали сотни последователей, даже называли себя «эльфами», стремясь тем самым поддержать свой моральный дух и устрашить противников. Годы спустя по тем же причинам французские крестьяне-бунтовщики, наряжавшиеся в белые одежды, приняли прозвище Demoiselles (Белые Феи из Прошлого). Поскольку ночь для низших сословий воплощала день, она же стала для них излюбленным временем для того, чтобы поднять мятеж. Луддиты, на протяжении многих вечеров проводившие подготовку к восстанию в темноте, вещали в песне арендатора:
Ночь за ночью — тишина кругом,
Ночь за ночью — месяц за холмом,
Ночь за ночью — с палкой ли, с ружьем —
Нашу волю мы вершить идем![81]79

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

В комнате проститутки. Из серии «Прилежание и леность» (1747). Гравюра Джордана с живописного оригинала У. Хогарта
Половину своих дней мы проводим на земле во мраке, и брат смерти забирает у нас треть нашей жизни.
Сэр Томас Браун (б. д.)1
“Что общего имеет ночь со сном?»[82] — спрашивал Джон Мильтон. В эпоху зарождения человечества, по-видимому, на удивление мало. Вопреки общепринятому представлению, наши самые далекие предки, скорее всего, инстинктивно не ложились спать с наступлением темноты. По предположению некоторых современных физиологов, доисторические народы пришли к тому, чтобы отводить ночь для отдыха, постепенно. Только с течением времени эти первые поколения научились избегать страхов, которые таит в себе мрак, устраиваясь на ночлег в пещерах, служивших убежищем от рыскающих в поисках пропитания хищников. Казалось, сон сокращал ночное время и делал его более безопасным. Скорее не сама ночь — согласно Талмуду, часть суток, созданная для отдыха, — а инстинкт самосохранения требовал спать в эту пору. «Человек спал ночью, — заметил Стенли Корен, — поскольку заниматься чем-либо другим было бесполезно и слишком рискованно». Интенсивная физиологическая активность во время сновидений, вероятно, сообщала телу чуткость и проворность, делала его способным дать быстрый отпор надвигающейся опасности. Неравномерность работы сердца и дыхания, резкость мышечных усилий и движений глаз — все это позволяло потенциальной добыче проснуться готовой к схватке или к бегству2.
Развивался ли «дневной человек» постепенно или же, наоборот, будучи генетически связан с первой утренней зарей, появился практически сразу, несомненно лишь то, что к началу раннего Нового времени ночной покой стал неотделим от естественного хода жизни. Несмотря на высокий уровень человеческой активности после наступления темноты, никогда не возникало никаких сомнений в том, что для отдыха самыми подходящими оставались вечерние часы. «Мы должны следовать природе, — утверждал манчестерский врач Томас Коган, — бодрствовать днем и спать ночью». Поэтому в воображаемом мире Leigerdumaynians, где деятельность начиналась лишь в ночное время, царствовали воры, ростовщики и мошенники. «Они ненавидят солнце и любят луну», — отмечал сатирик елизаветинского времени Джозеф Холл3.
Не многие свойства сна прошедших эпох удостоились изучения с тех пор, когда в 1753 году Сэмюэл Джонсон выразил сожаление, что «такому свободному от предрассудков и беспристрастному благодетелю» суждено было «повстречать столь мало историков». Сон ускользал от их внимания даже более, нежели сама ночь. «Наша история в целом, — сокрушался ученый XVIII века Георг Кристоф Лихтенберг, — это только история бодрствующих людей». Сон в доиндустриальных сообществах остается в значительной мере неизученным, и лишь тема сновидений привлекает к себе неизменное и пристальное внимание4. Историческое безразличие вызвано отчасти кажущейся нехваткой источников, отчасти нашим ошибочным представлением, что современники редко размышляли над общеизвестной, но все же скрытой от бодрствующего мира формой существования. Однако на самом деле среди таких несопоставимых свидетельств, как дневники, медицинские книги, произведения художественной литературы и судебные показания, затеряны обыденные упоминания о сне, зачастую ничтожно краткие, но все же познавательные. Эта пользующаяся неизменным вниманием тема постоянно занимала мысли людей.
К тому же относительное спокойствие сна сегодняшнего притупило восприятие значимости сна прошлого. Вслед за шотландским церковным деятелем Робертом Вудроу историки, кажется, пришли к заключению, что «в действительности сон едва ли можно признать неотъемлемой частью нашей жизни». Лишенный драматизма и интенсивности часов бодрствования, сон пострадал от соединения его с ленью и бездеятельностью. Тогда как наша повседневная жизнь подвижна, изменчива и в высшей степени разнообразна, сон, наоборот, кажется пассивным, монотонным и бедным событиями, а эти качества вряд ли способны привлечь внимание историков, посвятивших себя составлению карты перемен, происходящих с течением времени, ведь идущий быстрее — лучше. «Не мшу понять, как спящий может кого-нибудь заинтересовать», — заявляет Порко, персонаж комедии «Всепоглощающая страсть» (The Universal Passion; 1737), и такая позиция легко могла бы объяснить наше нынешнее неведение5.
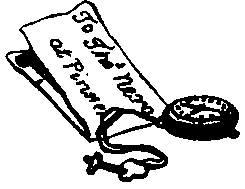
ТАИНСТВА ОПОЧИВАЛЬНИ
Ритуалы
I
В организации животных нет ничего более удивительного, чем сон.
Weekly Register, or Universal Journal (22 сентября 1738 года)'
Среди влиятельных ученых ночной глубокий сон считался опасным не только для ослабленных душ, но и для физического здоровья. В период позднего Средневековья большинство медиков разделяли мнение Аристотеля, что импульс сна возникает в брюшной полости в результате процесса, называемого «сгущением» (concoction). Как объяснял Томас Коган в работе «Прибежище здоровья» (The Haven of Health; 1588), стоит только пище перевариться в желудке, как пары поднимаются к голове, «где холодный мозг замораживает их, прекращается доступ к ощущениям, что и вызывает сон». Считалось, что к отдыху располагают именно эти более всего способствующие сгущению свойства, а не только ночь «с ее влагой, тишиной и темнотой»2. Согласно Уильяму Воэну (1607), помимо других благотворных воздействий, сон «усиливает дух», «успокаивает тело», «уносит печаль» и «освобождает разум от ярости». Как гласит итальянская пословица, «Кровать — это лекарство»3. Одновременно считалось, что тот, кто ложится спать рано, извлекает из сна максимальную пользу. «Если мы рано засыпаем и рано просыпаемся, мы встаем свежими, веселыми и активными», — заявлял автор книги «Простой способ продления жизни» (An Easy Way to Prolong Life; 1755). Насколько распространенным было это представление, свидетельствуют такие поговорки, как «Иди в кровать с ягненком, а поднимайся с жаворонком» и — задолго до того, как это усвоил Бенджамин Франклин, — «Рано ложиться и рано вставать — здоровья, богатства, ума набирать»4.
В ретроспективе остается неясным, какое именно время подразумевалось предписанием «рано ложиться»; возможно, на самом деле решение этого вопроса покоится за плотно закрытыми глазами очевидца. Какое время отдыха считалось предпочтительным по народной традиции — час захода солнца или несколько более поздняя пора? Еще одна пословица утверждает: «Час сна до полуночи равен трем часам после полуночи»; здесь имеется в виду, что «рано ложиться» может означать нечто абсолютно иное, чем уединение с наступлением темноты5. И хотя современники по привычке превозносили благотворное воздействие сна на здоровье человека, они значительно чаще порицали чрезмерный сон. Цель сна, подчеркивал автор книги «Неотъемлемый долг человека» (The Whole Duty of Man; 1691), — восстанавливать «наши бренные тела», чтобы «сделать нас более активными» духовно и физически, а «не более ленивыми». Воспитанные в духе суровой трудовой этики, пуритане в Англии и Америке часто бранили то, что Ричард Бакстер назвал «излишней вялостью», это же можно сказать и о множестве других, кто к XVI веку все четче осознавал ценность времени. Большинство порицало неумеренный сон за его греховную связь с ленью и медлительностью, но он также считался опасным и для здоровья человека. К губительным последствиям сна, наряду с сексуальной невоздержанностью, относили нарушенное пищеварение, малокровие и беспокойные состояния души. «Чрезмерный сон влечет за собой болезни и боль, он притупляет разум и наносит вред мозгу», — утверждалось в «Школе добродетели» (Schoole of Vertue; 1557). Как отмечал автор, гораздо лучше «высвобождать от сна столько времени, сколько позволяет наше здоровье, и не расточать его на так схожее со смертью состояние мрака». Именно для того, чтобы «высвобождать больше времени» (курсив мой. — А. Р. Э.), в 1680 году английский пуританин Ральф Торсби решил вставать каждое утро в пять часов и изобрел первый будильник. «Как много потрачено драгоценного времени!» — сожалел он, проснувшись6.
Какой же, по мнению моралистов и врачей, должна быть продолжительность сна? Некоторые специалисты, к примеру врач тюдоровского времени Эндрю Бурд, считали, что сон необходимо принять за обязательную «составляющую человека». В качестве исключений один из авторов выделил грузчиков, чернорабочих, каменотесов и моряков: им требовался сон, превышающий рекомендованную восьмичасовую норму7. Другие вносили сезонные поправки, например спать восемь часов летом и девять часов в пору длинных зимних вечеров. В особом случае Джереми Тэйлор, бывший капеллан Карла I (1600–1649), предписал всего лишь трехчасовой ночной сон8. Обычно авторы не только в Британии, но и на континенте настаивали на продолжительности отдыха от шести до восьми часов, за исключением экстренных обстоятельств вроде болезни, уныния или попросту обильного ужина, когда допускался более долгий сон. Основная часть этого потока чернил выражала главное убеждение, состоявшее в том, что не более чем от одной четверти до одной трети из каждых двадцати четырех часов должны быть отведены для ночного покоя9.
По крайней мере таковы суждения авторов о предмете сна. Несмотря на то что книги по медицине широко перепечатывались — «Цитадель здоровья» (Castel ofHelthe) Томаса Элиота, появившаяся в 1539 году, выдержала в XVI веке более дюжины изданий, — трудно определить их роль. Формировали ли эти мнения народные нравы или, что кажется возможным, наоборот, отражали их, так или иначе, известные афоризмы содержали в себе схожие взгляды на необходимую продолжительность сна. Пословица «Шесть часов сна для мужчины, семь — для женщины и восемь — для глупца» имеет множество вариаций. Пословица «Природа требует пяти часов, обычай использует семь (курсив мой. — А. Р. Э.), лень — девять и злобливость — одиннадцать» отлична по содержанию, но идентична по интонации. Врач Гульельмо Гратароло в «Руководстве по здоровью для магистратов и студентов» (A Direction for the Health of Magistrates and Students; 1574), по существу, провел различие между восьмичасовым сном, продолжительность которого соответствует «общепринятой норме», и более долгим сном, практиковавшимся в «древние времена» согласно рекомендации Гиппократа10.
Следует уточнить, что некоторые работники, изнуренные за день тяжелым трудом, ложились спать рано, особенно в сельских местностях летом. Зимой низкая температура воздуха подчас торопила семьи улечься в постель. Педагог Давид Бекк в один из январских вечеров раньше времени отправился ко сну, «из-за холода будучи не в силах что-либо делать»11. И по крайней мере некоторые шли спать, чтобы сэкономить топливо для тепла и света. Персонаж комедии эпохи Реставрации «Прожектеры» (The Projectors; 1665) наставляет: «Ешь мало, пей еще меньше и спи много, дабы сберечь огонь и свет горящей свечи»12. Однако не многие из тех, кто не принадлежал к высшим слоям общества, могли позволить себе спать больше шести-восьми часов, еще меньшее количество людей — целую ночь, поскольку как работа, так и необходимость общения требовали личного драгоценного времени.
Дневники, в основном отражавшие положение дел в высших классах, не только сообщали о продолжительности сна, но и указывали на то, что общепринятое время отхода ко сну приходится на интервал между девятью и десятью часами. «Эта семья ложится спать между девятью и десятью», — отмечала Сара Каупер. Таковым было правило, которое, вероятно, применимо и к другим слоям общества. «Бесштанное время» — словосочетание, распространенное в некоторых частях Германии, — означает «девять часов»; между тем английская поговорка XVII века поучала: «Тот, кто ужинает в шесть и ложится в десять, проживет немало лет — десять раз по десять». Посмотрите, писал житель Лондона в 1729 году, «на жизнь аккуратного, честного человека, весь день усердно занимающегося своим ремеслом… который проводит вечер в невинной радости в кругу семьи или, быть может, с соседями либо с собратьями по ремеслу, иногда посидит час или два в пивной и оттуда идет в постель к десяти часам, а на работу — к пяти или шести». Объявление в приемной датского пастора гласило: «Останетесь до девяти — вы мой друг, до десяти — хорошо, а пробудете до одиннадцати — вы мой враг»13.
Конечно, множество людей продолжали бодрствовать после десяти часов не только по привычке, но и потому, что их внутренние часы были весьма неточны. Хотя писатель Томас Тассер советовал «зимой ложиться в девять, а летом в десять», сезонные изменения представляются нам незначительными. Важнее то, что, как и в других традиционных культурах, время сна зависело не столько от привычного режима, сколько от наличия дел. Сэмюэл Пепис, в поздние часы разрывавшийся между соблазнами плоти и бременем управления, имел особенно беспорядочное расписание. Другие, и в сельской местности, и в городах, тоже работали или общались в предназначенное для сна время. «Всегда, когда это возможно, иди в кровать в десять или раньше», — писал сассекский лавочник Томас Тёрнер. Несмотря на то что он старался позволить себе семь-восемь часов сна, его обязанности приходского служащего и любовь к выпивке, помимо других «непредвиденных» случаев, препятствовали отдыху. Однажды в декабре после вечернего приходского собрания он вернулся домой около трех часов двадцати минут [ночи] не очень трезвым. «О, спиртное, — простонал он, — какие сумасбродства заставляет оно нас совершать!»14
II
О Господи, сейчас, когда наступает тьма, знак ужаса, смерти и скорби, знак того, что мне следует лежать и спать в постели, которая сродни могиле, где тело мое будет словно отдыхать после жизни, позволь Святому Духу оградить, защитить, направить и успокоить меня, чтобы ни угрызения совести, ни нападки Сатаны, ни искушения греха, ни похоть плоти, ни праздная лень, ни печальные сны не могли потревожить меня.
В. Ф. (1609)15
В 1764 году читатели London Chronicle узнали о том, что близ французской деревни Мон «выдающийся соня» в течение пятнадцати лет изо дня в день спал с трех часов утра до восьми-девяти часов вечера. Подобные загадочные истории о сне, в том числе о нарколепсии и лунатизме, получали пространные толкования как в произведениях литературы, так и в прессе. Многие сочинения Шекспира — и «Макбет», и «Генрих V», и «Юлий Цезарь» — явно обращены к популярной теме сна. И не только сновидений, по праву являвшихся неиссякаемым источником вдохновения. Оливер Голдсмит подробно изложил на страницах Westminster Magazine рассказ о Чирилло Падовано, благочестивом падуанце, который во сне совершил кражу из монастыря и разграбил кладбище, погубив «все то хорошее, о чем молился днем». Джеймс Босуэлл, считавший сон «одним из самых необъяснимых и удивительных» чудес природы, записал в своем дневнике, что однажды, когда он и еще один атторней[83] спали в своих кроватях, они провели слушание судебного дела16.
В основном эти диковинные случаи были связаны с заблуждениями, рожденными на призрачных территориях, разделяющих сон и явь. Значительно ближе большинству людей было качество их собственного отдыха. «Крепкий сон — сокровище» — гласила итальянская поговорка. А Николас Бретон считал плохой сон одним из самых крупных «несчастий в жизни человека». В конечном счете, объяснял некий французский автор, «сон и бодрствование — это стержни, на которых держится все в нашей жизни, и если что-то разладится в них, то смятения и беспорядка следует ожидать и в остальном». Значимость сна состояла в том, что он породил типологию более утонченную, чем та, которую, по обыкновению, мы используем сегодня. Получившие широкое распространение выражения «спит как собака», «как кошка» или «как заяц» относятся не только к чуткому, но и к беспокойному сну. «Он такой осторожный, — писал церковник Томас Фуллер, — спит, как заяц, с открытыми глазами». «Ты спишь, как собака на мельнице» — говорится в шотландской пословице17. Более предпочтительным был «мертвый», или «глубокий», сон, который Босуэлл назвал «абсолютным, бесчувственным и бессознательным». Самым желанным все же был сон одновременно глубокий и продолжительный, или, как о нем иногда писали, «спокойный» и «тихий». «Спокойный сон, — отмечалось в старинном тексте, — пусть краткий, приносит больше пользы»: мысль, которая подтверждается современными исследованиями, показывающими, что состояние человека по утрам — отдохнувшим он себя чувствует или нет — зависит от количества его пробуждений в течение ночи18.
В семьях затрачивалось очень много времени на обеспечение спокойствия и безопасности сна. Перед тем как лечь спать, домочадцы исполняли положенные ритуалы. Безусловно, такое привычное, если не вынужденное поведение помогало унять тревоги, идущие от уязвимости сна. «Мы можем обеспечить свою защиту, но не рассчитывать на нее», — заметил поэт XVIII века. Даже Босуэлл, деятель эпохи Просвещения, известный своей космополитичностью, писал о «мрачных» ночах, когда он «боялся лечь и погрузиться в беспомощность и забытье». Из-за Сатаны и его приверженцев — «противника, который всегда бодрствует», негодовала Сара Каупер, — духовных опасностей было множество. Верования XVII столетия уподобляли дьявола льву, по ночам расхаживающему взад и вперед вблизи овчарни. Психическое и физическое истощение ослабляло защитные силы человека, противодействующие невоздержанным страстям, в том числе пороку «самоосквернения». Писатели предупреждали, что мягкая постель способствует возбуждению плотских желаний независимо от того, спит человек или нет. Богослов XII века Алан Лилльский убеждал христиан «обуздать волнения плоти и нападки дьявола — то, чего более всего надо страшиться и избегать во мраке этого мира»19.
Не меньшую опасность представляло то, что угрожало жизни и могло нанести увечье. Перед сном двери и ставни неоднократно проверялись. Писатель Джордж Герберт утверждал: «Многие ложатся в постель здоровыми, а находят их мертвыми». Такова была ужасающая судьба семьи Хеген из Франконии: Ханс, его жена, трое сыновей и служанка таинственным образом умерли во сне в сочельник 1558 года. За день до этого все они были «бодры, здоровы и пребывали в хорошем расположении духа». Когда их тела были обнаружены, они имели «естественный цвет» и у них отсутствовали какие-либо повреждения. Автор конца XVI века напоминал читателям, что на протяжении истории, начиная с убийства Ишбошета и кончая исчезновением волос Самсона, люди во сне становились жертвами своих врагов; с таким же успехом, вероятно, он мог включить сюда и нелепую смерть Сисеры, и обезглавливание Олоферна20.
Готовясь ко сну, семьи принимались за «охоту», чтобы очистить мебель и постельные принадлежности от блох (pulex irritans) и клопов (cimex lectularius), которые в XVI веке уже появились в Британии. Вшей (pediculus humanus) необходимо было вычесывать и выискивать в одежде и на коже. Возможно, французское выражение «грязный, как гребенка» (sale сотте ип peigne) восходит к этому ночному занятию. Клопы были везде, особенно там, где поблизости находились собаки и скотина. Чтобы отпугнуть комаров, члены семей, населяющих болотистые местности Восточной Англии, подвешивали в ногах своих постелей большой кусок коровьего навоза, а Джон Локк советовал для защиты от укусов насекомых класть рядом с кроватью листья фасоли21.
Простыни вообще никогда не стирали («Грязь лучше, чем смерть», — заметил Джон Бинг), а в холодную погоду постели необходимо было согреть при помощи наполненных углем медных кастрюль или, в скромных жилищах, горячими камнями, завернутыми в тряпье22. Температура воздуха опускалась очень быстро, поскольку домашние очаги засыпали, чтобы не дать догореть последним тлеющим уголькам и не допустить воспламенения. «Домострой» советовал вечером еще раз обойти вокруг дома, осмотреть его и определить по запаху, где остались непотушенные печи.
Некоторые домочадцы произносили обращенные к очагам заклинания. «Спи, моя печь, как мышка в гнездышке», — уговаривал латышский стишок; между тем в английских семьях, согласно Джону Обри, перед молитвой оставляли в золе отпечаток креста. К тому же гасили большую часть огней. «Каждый вечер, когда мы ложимся спать, под нами и вокруг нас не существует ничего, кроме топлива», — предостерегал писатель жителей городских каркасных домов23.
В спальне, дабы «не впустить зловредный воздух ночи», запирали не только окна, но и двери. Если в доме имелись занавески, их необходимо было задернуть, чтобы предотвратить ревматические болезни, которым подвержены спящие при лунном свете. Пепис, чтобы не простудиться, пробовал в постели связывать себе руки. Для защиты головы обычно использовались ночные колпаки. «Нет ничего более полезного, чем хорошо укрыть голову от сырого ночного воздуха», — провозглашал Босуэлл24. В семьях среднего и высшего классов одежда для сна, вошедшая в употребление в XVI веке, включала в себя простые предметы, главным образом женские сорочки и мужские блузы. Женщины очищали лицо от косметики, что дало повод Испанцу (Spaniard) пошутить: «Почему после того, как они вводят нас в заблуждение весь день, им хочется быть чистыми ночью?» Представители низших классов использовали грубую «ночную одежду», спали раздетыми на «голых» кроватях либо оставались в «дневном платье», что было вызвано желанием или сэкономить на одеялах, или быстро встать утром. Маргарет Роулендсон, служанка из Вестморленда, «не снимала одежду, поскольку должна была по утрам рано вставать и приниматься за стирку». Находясь на колониальной границе, молодой Джордж Вашингтон писал, что спал в одежде, «как негр»25.
В состоятельных семьях перед сном, вероятно, мыли ноги, выколачивали и перестилали постели и ставили ночные горшки — все это делала прислуга. Лоуренс Стерн относил эти и другие рабские обязанности к «таинствам опочивальни». Об одном из пареньков на обучении Пепис писал: «Сегодня вечером приходил мальчишка, его сестра должна была рассказать ему, как готовить меня ко сну»; такие приготовления включали в себя пение для господина или чтение при ночнике, который обычно представлял собой короткую свечу или фитиль в просверленном держателе. По общему мнению, мало кто мог сравниться с Генрихом VIII, чья кровать каждый вечер при помощи подушек, льняных простыней и прекрасных шерстяных одеял «приводилась в боевой порядок» десятью слугами, — только после этого нижний матрас пронзали кинжалом, дабы убедиться в отсутствии убийцы26.
Чтобы смягчить приступы тревоги, некоторые, перед тем как ложиться спать, принимали лекарство, которое во Франции называлось dormitoire. Популярным снадобьем среди имущих был лауданум, его изготавливали из опия и разбавленного спирта. Сассекский торговец Сэмюэл Джейк в качестве снотворного клал себе на лоб и виски листья ядовитого растения паслена. Считалось, что маленькие мешочки с анисовым семенем, прикрепленные к каждой ноздре, или ткань с завернутыми в нее ромашкой и хлебом, пропитанная уксусом и привязанная к подошвам ступней — «так, чтобы только можно было терпеть», — тоже способствовали улучшению сна27. Алкоголь оказывал двойное действие: он побуждал ко сну и снижал чувствительность тела в холодные ночи. Файнс Морисон говорил, что немцы «не позволяли кому бы то ни было ложиться спать» на трезвую голову. Обычно перед сном употребляли «сонный напиток» (Schlafdrincke). Сколько мужчин и женщин ложатся спать пьяными? — задавала риторический вопрос лондонская газета28.
С другой стороны, здравый смысл подсказывал не позволять себе тяжелых ужинов во избежание расстройства желудка. Дичь и говядина были по меньшей мере рискованной пищей, после приема которой невозможно было быстро заснуть. Как утверждал Стивен Брэдвелл, «после ужина должно пройти не менее двух часов». Даже во второй половине XVIII века, когда высшее общество начало высмеивать эти «плебейские заблуждения», многие остались верны устаревшим обычаям. Например, из дневника Сайласа Невилла известно, что он не ел вечером мяса, а Томас Тёрнер по средам вообще обходился без ужина. «Легкий ужин — чистые простыни» — гласит английская пословица29. К тому же авторитетные медики, как некогда и Гиппократ, утверждали, что для хорошего пищеварения спать надо на правом боку — по крайней мере до тех пор, пока съеденная за ужином «пища не опустится в желудок». Тогда она «приблизится к печени, которая для желудка — как огонь под котелком, и желудок сможет ее переварить», объяснял ученый начала XVI века. Для того чтобы избежать ночных кошмаров, апоплексии и других расстройств, не следовало спать на спине. «В таком положении многие засыпают как мертвые», — свидетельствовал английский врач Уильям Баллейн30.
Глава семьи отвечал за ночной покой домочадцев и руководил их молитвами перед сном. Легендарная сила молитв — ночного «затвора» человека — вызывала во сне благочестивые мысли. К XVI столетию вечерние молитвы стали общепринятыми. Во многих домах молились все вместе, включая прислугу, рука об руку. Семейные молитвы могли либо заменять, либо дополнять молитвы личные. Однажды в воскресенье Пепис отказался читать молитвы своей семье только потому, что выпил «слишком много вина, — из страха, что слуги почувствуют, в каком я нахожусь состоянии». Исаак Арчер, молодой слуга из Восточной Англии, отмечал: «Наши парни имели обыкновение молиться вместе», хотя его самого иногда не допускали. «Они сказали, что Бог не поймет меня из-за того, что я заикаюсь», — объяснил он в своем дневнике31.
Протестантские и католические молитвы имели определенные различия. Воздавая благодарение за духовное водительство, прося мирного сна и моля о прощении за моральные проступки, большинство из них обращались к Богу также и за защитой от ночного зла. Известная молитва «Сейчас я ложусь спать, я молю Господа хранить мою душу» относится к Средневековью. В некоторых молитвах формулировались понятия о «темных деяниях» или о «телесных и духовных врагах»32, но чаще в них явно были выражены ночные страхи. В молитве XVII века содержалась просьба об избавлении «от внезапной смерти, пожара и воров, ураганов, бурь и прочих ужасов»33. Известно, что сельские семьи во Франции хранили святую воду рядом с постелью, чтобы вдруг не сразила смерть. В древней молитве говорилось: «Святую воду я беру. Если внезапно смерть возьмет меня, пусть это будет моим последним таинством». В Анжу считали, что ведро воды, оставленное на ночь в кухне, позволяло душе очиститься после смерти34.
К тому же в менее богатых семьях, собираясь ложиться спать, прибегали к колдовству. Помимо снадобий против ночного недержания мочи и заклинаний, ускоряющих отход ко сну, члены семьи произносили магические слова, предотвращавшие ночные кошмары. «Ни один дурной сон не потревожит его постель, он никогда не ступит на темную землю ада», — успокаивала старинная валлийская молитва. На большей части Европы считалось, что если каждый вечер класть перевернутый башмак в ногах возле постели, то он будет средством защиты. Сара Каупер, истинная англиканка, в своем дневнике рассказывает о тайных попытках ее служанки при помощи этой уловки устранить желудочные колики хозяйки. Каупер настаивала на «бессмысленности данного деяния» и запретила служанке оказывать помощь, считая, что сие исходит от дьявола и что она не должна быть признательна ему за любое благо, каким бы оно ни было. Любопытно, что, отказавшись от помощи, как заметила Каупер, она была «сильно осмеяна некоторыми» за свое невежество35.
III
Пусть кровать будет широкой и длинной и такой высоты, чтобы можно было легко упасть в нее.
Томас Коган (1588)36
Сон занимал центральное место в жизни людей доиндустриальной эпохи; это подтверждается тем особым значением, которое придавалось кровати — как правило, самому дорогому предмету домашней обстановки. В период между XV и XVII столетиями европейские постели постепенно превратились из соломенных тюфяков, лежавших прямо на земляном полу, в деревянные сооружения, укомплектованные подушками, простынями, шерстяными одеялами, покрывалами и «перинами», набитыми тряпьем и клочьями шерсти. Уильям Харрисон в 1557 году вспоминал о своей юности: «Наши отцы, да и мы сами, часто ложились на соломенных тюфяках, на грубых циновках, покрытых одной лишь простыней, под одеялами из войлока или покрывалами… и вместо валика под голову клали большую круглую колоду. <…> Подушки предназначались только для рожениц». По мнению Харрисона, постельные принадлежности относились к тем «вещам», которые «в Англии менялись самым непостижимым образом». В зажиточных домах в середине XVI века появились высокие кровати с пологом, перинами и тяжелыми занавесями, предохранявшими от сквозняков, насекомых и любопытных глаз. Для них требовалось такое обширное пространство в интерьере, что у богатых тосканцев каждая кровать почиталась «комнатой». Постельное белье включало в себя льняные простыни, а также шерстяные и стеганые одеяла37.
Повышению качества кроватей в XVI столетии способствовали и другие нововведения для домашнего уюта и комфорта. Кроме труб, которые помогали сберечь тепло дыма, идущего из каминов, к ним относились межкомнатные перегородки, облегчающие распределение внутреннего пространства, и остекление окон, благодаря которому увеличивалось количество тепла и света. Усвоение этих и других усовершенствований в обстановке дома ускорил в конце XVII века крутой перелом в массовом потреблении, вследствие чего бытовые удобства становились все более доступными для широких слоев населения по обе стороны Атлантики. Однако ни одно из этих достижений в материальной сфере не пользовалось такой популярностью и не доставляло столько наслаждения, как улучшение постельных принадлежностей. Кровати называли в числе первых пунктов завещаний любимым наследникам, равно как и в числе первых приобретений молодоженов. В скромных домах кровати иногда составляли более трети стоимости всего семейного имущества. Хотя в бедных семьях их каркасы часто изготовляли самостоятельно, кровать, как правило, была тем предметом мебели, который при вступлении в «мир товаров» покупали первым. В 1598 году приезжий из Германии был удивлен, увидев английские кровати, «покрытые гобеленом даже в домах фермеров». Один историк материальной культуры был недалек от истины, когда пошутил, что период раннего Нового времени можно назвать эрой Кровати38.
Семьи вкладывали средства в кровати не только как в свидетельство социального престижа, но и для собственного физического удобства. Безусловно, на протяжении жизни кровать выполняла множество функций. Там большинство людей были зачаты и рождены, там они болели и выздоравливали, любили и умирали. «Близко подойдя к постели, можно увидеть все — от человеческого блаженства до человеческой скорби», — писал Исаак де Бенсерад. Но никакая другая роль не могла сравниться с повседневным назначением кровати — благоприятно воздействовать на сон. «Поскольку нет ничего более святого и праведного, чем спокойный сон, — отмечал голландский врач XVI века Левинус Лемниус, — человеку необходимо иметь полное удобство и спать в мягкой постели». Другой врач заявлял: «Кровать должна быть мягкой, хорошо застеленной и приподнятой в ногах». Необходимость возвышения объяснял в 1625 году Стивен Брэдвелл: «Чем ближе к земле, тем воздух смертоносней; и прямое воздействие холодной почвы представляет собой большую опасность». Кроме того, поднятый каркас кровати хозяина позволял на день задвигать под нее низкую кровать слуги39.
Тем не менее основная часть населения, относившаяся к низшим слоям общества, продолжала страдать, пользуясь рваными одеялами и грубыми матрасами, ибо многим семьям было трудно позволить себе эти предметы первой необходимости. В Глостершире в конце XVII века большинство оставленных семьями описей имущества на сумму менее 50 фунтов стерлингов (ткачей, мелких фермеров, беднейших слоев ремесленников) включали в себя матрасы и кровати, но не простыни. Дом ткача в Гастингсе, который посетил поэт Джон «Водный» Тэйлор, был лишен каких-либо удобств: «Есть лишь пол в жилище том, / Нет столов и стульев в нем, / Нет клочка соломы даже, чтоб прилечь»[84]40.
В Шотландии и Ирландии целые семьи спали на земляном полу, устланном камышом, соломой и вереском. Дело было не только в стоимости кроватей, но и в том, что они занимали много места в тесных жилых помещениях. В конце XVII века в Ирландии путешественник обнаружил, что «в лучших хижинах находилась одна кровать с перьевым матрасом, изредка больше, ибо перья стоили слишком дорого; она предназначалась для мужа и жены, все остальные спали на соломе, на одной простыне и под одним одеялом, у других были только одежда и одеяло, чтобы накрыться. В хижинах редко был какой-либо пол, кроме земляного». Как ехидно пошутил писатель Нед Уорд, «кровати стояли на таком прочном основании, что только землетрясение могло сдвинуть их с места» (курсив мой. — А. Р. Э.)41.
Мало чем отличались места для прислуги, за исключением тех, кому позволяли спать с кем-либо из членов семьи хозяина. «Что до слуг, — писал Харрисон в начале XVI века, — хорошо, если у них было чем укрыться, поскольку подстелить что-то под себя, дабы защитить тело от колкой соломы, протыкавшей ткань тюфяка своими острыми концами, они часто не имели возможности». Даже к XVIII веку самые удачливые слуги во Франции получили лишь узкие койки, на которые клали соломенные матрасы. Между тем служанка из Лондона Мэри Клиффорд, прежде чем ее избили до смерти в 1767 году, часто была вынуждена спать в господском винном погребе, «иногда» в качестве постельных принадлежностей имея «обрывок мешка» и «обрывок одеяла». Однажды вечером Пепис также заставил свою служанку, маленькую девочку, после побоев лечь в подвале. Ученики и подмастерья устраивались спать там, где позволяло пространство, в том числе на полу в мастерских своих хозяев. Больше всех повезло парижским подмастерьям-пекарям, которые спали в мешках из-под муки, забравшись на теплые печи42.
Нищим и бродягам было хуже всех. Городская беднота спала в проемах дверей, выходивших на улицы, или, если посчастливится, на примыкавших к витринам деревянных прилавках (bulks) или под ними — эти нищие получили в Англии прозвище «балкеры». Французский поэт XV века Франсуа Вийон писал об «отверженных под мясными прилавками». В 1732 году в Лондонском суде муниципального Совета отмечалось, что «бездомным детям позволено ночевать на помостах, прилавках и в других местах на городских улицах». Затем в течение нескольких лет молодых бродяг находили спящими в дуплах деревьев в Гайд-парке. Тележки для перевозки сена, конюшни и амбары служили «гнездами» для городских бродяг; например, в 1636 году близ Тьюксбери в амбаре, «голыми в соломе», были обнаружены 30 человек — мужчины, женщины и дети. «Ложиться по знаку звезды» (coucher a Venseigne de I'estoile) — французское выражение, касающееся судьбы бесчисленных нищих. Между тем многие из «беднейшего слоя» в столь отдаленных друг от друга местах, как Неаполь и Филадельфия, находили себе убежище в пещерах43.
Нехватка постельных принадлежностей означала, что семьи низших слоев, как правило, спали по два, три и более человек на одном матрасе, включая остающихся на ночь посетителей. Ночлег не только в одной комнате, но и под одним одеялом помогал сберечь топливо и приносил желанное тепло холодными ночами. Итальянская пословица настоятельно советовала: «В узкой кровати занимай середину»44. Вероятно, большинство родителей спали отдельно от детей, вышедших из младенческого возраста, хотя некоторые европейские крестьянские семьи, насчитывающие пять или шесть человек, делили одну кровать. Это не вызывало большого недовольства. «Помните ли вы те широкие постели, в которых так удобно было спать всем вместе?» — спрашивал своего собеседника Ноэль дю Фэй, сказочник XVI столетия. В бедных семьях, как заметил французский историк Жан-Луи Фландрен, общая постель имела особую ауру. Часто, будучи единственным, помимо стола, местом встречи домочадцев, она являлась неотъемлемым источником сплоченности семьи45.
«То pig» — распространенное британское выражение, означающее «спать вместе с одним человеком или более», когда каждый член семьи имеет определенное место в соответствии с возрастом и полом. Согласно записям одного из очевидцев начала XIX века, в ирландских семьях «ложатся, как заведено, по порядку — старшая дочь у стены, дальней от двери, затем все сестры соответственно возрасту, затем друг за другом мать, отец и сыновья и затем посторонние — странствующий коробейник, или портной, или нищий». Мужчины, располагавшиеся ближе к двери, прежде чем лечь спать, обеспечивали безопасность домочадцев. Что еще более важно, женская часть семьи была изолирована как от приглашенных гостей, так и от непрошеных посетителей. Вынужденный ночевать в доме у знакомого, Жак-Луи Менетра спал с краю, хозяин в середине и жена хозяина — у стены46.
В крестьянских семьях на ночь под свой кров брали домашних животных — общепринятая практика, сохраняющаяся в традиционных обществах по сей день. Кроме того, что находившиеся рядом животные обеспечивали защиту от грабителей и воров, они давали тепло, хотя «их экскременты были омерзительны». Как сообщают, в Уэльсе XVIII века «каждое строение» представляло собой Ноев ковчег, ведь, помимо прочего, считалось, что молоко станет лучше, если коровы будут смотреть на огонь. К тому же доить их в помещении было проще. Часто скот в домах привязывали к похоронным дрогам, хотя известно, что свиньи бродили свободно. В Шотландии и некоторых частях Северной Европы кровати с занавесями сооружались в толще стены, отчасти для того, чтобы получить дополнительное пространство для животных. По свидетельству посетителя Гебридских островов в 1780-е годы, коровью мочу обычно собирали в лохани и выливали, а навоз убирали только один раз в год47.
IV
Кровать — это лучшее место встречи человечества.
Сэр Томас Овербери (1614)48
Даже состоятельные люди, находясь вне дома, иногда ночевали в общей постели. Правила поведения требовали, чтобы спящие вместе, особенно посторонние, выполняли общепринятые условности. Новые нормы вежливости в западном обществе распространялись и на сон. «Хороший, внимательный сосед» должен был лежать смирно, на своем месте, не натягивать на себя одеяло и «пожелать» своему компаньону «спокойной ночи», «когда тот скажет все, что хотел». Во французском разговорнике, составленном для английских путешественников, среди допускаемых хорошим тоном упреков значатся: «Вы плохой партнер», «Вы тянете одеяло на себя» и «Вы только и делаете, что брыкаетесь». Мало кто защищал свои привилегии столь же рьяно, как Филипп Орлеанский, единственный брат Людовика XIV. Его жена, герцогиня, признавалась: «Когда его светлость спал в моей постели, я должна была лежать так близко к краю, что иногда во сне падала, ибо его светлость не любит, чтобы до него дотрагивались; и если оказывалось, что случайно во сне я вытянула ногу и прикоснулась к нему, он будил меня и полчаса бранился»49. К XVIII веку среди представителей благородных классов стало распространяться презрительное отношение к совместному сну, что, быть может, и породило пренебрежительное выражение «постельная охапка». Ни в одной другой сфере жизни доиндустриальной эпохи растущая ценность личного уединения среди высших слоев общества не заявляла о себе так явно. Сюда прибавлялся голос большинства религиозных лидеров, осуждавших мораль семей, пользующихся общей постелью50.
Тем не менее зачастую даже в домах среднего класса ночлег в общей постели почитался за благо. Сон рядом с родственной душой, будь это член семьи, слуга-ровесник или друг, давал преимущества, не ограничивавшиеся удовольствием, полученным от тепла другого, или экономией средств, затраченных на персональную кровать. Это также обеспечивало ощущение безопасности. Чтобы подавить общее чувство страха, друзья и родственники спали под одним одеялом, особенно по ночам, предвещавшим нечто дурное. Босуэлл, охваченный «мрачным ужасом» при наступлении ночи, уговаривал одного из друзей разделить с ним ночлег, поскольку не мог отважиться остаться один. В другой вечер, поговорив о привидениях («Я боялся, что призраки вернутся на землю»), он снова попытался найти себе компанию. Так же боялся дьявола и пенсильванец Исаак Хеллер; на ферме, где ему довелось работать, неоднократно, «чтобы не ночевать в одиночестве… он вставал и шел спать с чернокожими»51.
Вдвойне трогательной была свойственная партнерам по ночлегу тесная привязанность друг к другу, чему благоприятствовали долгие доверительные разговоры. Конечно, некоторых беседа очень утомляла. Ричард Бакстер по вечерам заставал работников «такими выбившимися из сил и изможденными тяжелым трудом», что «у них закрывались глаза», а лондонский разносчик пива в 1758 году свидетельствовал: «Наша работа так тяжела, что мы, как только ложимся в кровать, сразу засыпаем»52. Но большинство членов семей доиндустриальной эпохи, вероятно, не стремились быстро уснуть. Тогда как средняя продолжительность засыпания составляет от десяти до пятнадцати минут, три века назад этот период мог быть значительно более долгим. Недавно проведенное исследование, проходившее в воссозданных условиях ночного сна до появления искусственного освещения, показало, что участники эксперимента, после того как ложились спать, продолжали бодрствовать в течение двух часов. Вероятно, в прошлом гораздо более привычным был режим, которого придерживалась послушная дочь в «Нравах эпохи» (The Manners of the Age; 1733): «В кровати она в восемь часов, молилась о том, чтобы лечь в семь, а засыпает — в девять». Элизабет Дринкер отмечала: «Я ложусь спать около одиннадцати часов и редко или, можно сказать, даже почти никогда не засыпаю до полуночи»53.
Сколько бы ни длилась конечная фаза бодрствования, совместный сон предоставлял человеку надежного товарища, доверие к которому определялось степенью близости, недоступной в дневное время. «Большинство людей, — писал эссеист, — следуют природе, только пока они в ночных рубашках», тогда как «всю активную часть дня они играют роли». Стремление к общению, свойственное партнерам по ночлегу, может пролить свет на загадочное выражение «blanket fair»[85], которое в Шеффилде, в других частях Англии означало «отход ко сну»54. Некоторые компаньоны редко раскрывали свою душу или выказывали «расположенность к беседе», как, например, дорсетширский соколиный охотник, объяснявший свое нежелание разговаривать любовью к чтению по ночам. Но в большинстве случаев их отношения представляются прочными, они называют друг друга «товарищ по ночлегу» (bedfellow) или «компаньон», ухаживают друг за другом во время болезни и делятся секретами. Не имея возможности посещать школу, в XVI веке подмастерье Саймон Форман «ночами брал уроки» у своего партнера по ночлегу Генри, который ходил в «бесплатную школу» днем. В сказке эпохи Реставрации «Принцесса Клория» (The Princess Cloria; 1661) мужской персонаж Локринус выражает удивление, что государственный муж Геркромбротус разговаривал «так нежно и доверительно, как будто эту ночь мы должны были провести в одной кровати». Напротив, люди, спавшие в одиночестве, в том числе и привилегированные особы, могли испытывать значительный дискомфорт. Леди Ньюпорт, семидесяти одного года от роду, поразила свою подругу Сару Каупер тем, что, находясь одна в постели, приставала с разговорами к попугаю55.
Лежа бок о бок в темноте, партнеры испытывали более сильное желание нарушить общепринятые социальные нормы. Слуги-мужчины, пользующиеся одной постелью, могли быть вовлечены в гомосексуальные отношения. Подобным образом, когда подневольные мужчины и женщины в маленьких семьях спали все вместе, это нередко приводило к появлению на свет незаконнорожденных детей56. Совместный сон мог также извратить отношения между хозяином и слугой. Однако, какими бы иерархическими, лишенными заботы друг о друге ни были взаимоотношения домочадцев в течение дня, постель часто меняла их характер. В «Английском мошеннике» (The English Rogue; 1671) госпожа, обычно спавшая вместе со служанкой, «очень свободная во всех» своих «суждениях», знакомит ее «с разнообразными приемами» обольщения «возлюбленных». Менее изысканным является ночное «состязание в выпускании газов» между госпожой и горничной, о котором повествует песенка эпохи Реставрации «Она пошла, когда стемнело, спать». Ложась вместе с хозяйками, служанки по ночам были избавлены от плохого обращения своих мужей. Говоря кратко, словами автора «Гимна темноте» Томаса Ялдена, «Свет различает, а ты равняешь». Авторы книги о правилах поведения считали необходимым напомнить партнерам по ночлегу, что нужно уступать тому, кто чем-либо превосходит другого: «Каждый раз, когда ты ложишься с человеком, который выше тебя рангом, узнай у него, какая сторона кровати ему больше нравится». Госпожа де Лианкур советовала своей внучке никогда не спать в одной постели с прислугой, поскольку слуги будут «вести себя не как должно, не уважительно по отношению к тебе, а наоборот, и не станут соблюдать чистоту и благопристойность»57.
Более всего менялись отношения между мужем и женой. Они несли в себе редкую потенциальную возможность физической и эмоциональной близости. Как и днем, некоторые мужчины оставались бездушными — грубыми, эгоистичными и глухими к просьбам своих жен. Сильвия в «Атеисте» (The Atheist; 1684) обличает типичного супруга, «тупого и никуда не годного, он ложится в кровать вялый и ничего не хочет, ворочается, ворчит, храпит». Еще меньше повезло Мэри Артур из Массачусетса, которая в 1754 году была «вышвырнута» своим мужем из кровати с такой силой, что жилец, находившийся совершенно в другой части дома, испугался землетрясения58. Однако, вынужденные проводить врозь большую часть дня, в ночное время супружеские пары предавались тихим беседам, играм и сексуальному наслаждению. Интимные ночные разговоры посвящались событиям дня или — чаще всего — неотложным делам. Во «Втором рассказе монахини» из «Кентерберийских рассказов» Чосера служанка Цецилия говорит мужу:
Лорд Уористон «долго рассуждал» со своей женой о библейском стихе, тогда как Пепис получал «большое удовольствие от разговоров и рассуждений» в постели. У Босуэлла, неверного супруга, подобно Пепису, усиливалась депрессия, если он находился вдали от своей «доброй постели» и «дорогой жены»59.
Когда утомленные души укладывались спать, традиционные различия в положении жен и мужей сводились на нет и в патриархальной семье наступали редкие моменты автономии женщины. Половые границы восстанавливались. Пребывание в постели в темноте побуждало жен к выражению интересов, неподобающих в другие часы. «Женщины знают время своего ремесла, — заявил Джошуа Суитман в 1702 году, — ведь ночью они сделают из мужчины воск». Легендарными приемами были лесть и хитрость, равно как и воздержание от сексуальных отношений или вызывающая жалобы мужей «холодность» в постели. «Всячески избегайте раздора в спальне, — рекомендовал специалист мужчинам, — чтобы доставляющее удовольствие событие поднимающейся нежности» не превратилось еще в одну неприятность. «Пятнадцать радостей брака» (б. д.), женоненавистнический труд эпохи позднего Средневековья, подробно излагает тактику, которой, по слухам, пользуются жены для свободного манипулирования своими мужьями60. Больше всего досаждало брюзжание, хорошо известное как curtain или boulster lecture — «альковная нотация». «Это метод, относящийся к правам женщин», — провозглашает мисс Плимлиммон в «Валлийской наследнице» (The Welch Heiress; 1795). В дневнике неизвестного, хранящемся у Джона Элиота из Коннектикута, содержится ясная оценка того авторитета, которым пользовались некоторые женщины. «Ее альковные нотации, — писал он о своей жене, — очень часты, суровы и длинны (через раз, а то и каждый раз или из ночи в ночь нам обоим почти совсем не удавалось заснуть), читаются самым отвратительным и оскорбительным языком… в них ворошатся старые истории о первой и второй жене, первом и втором ребенке и т. д.». Помимо упреков в адрес Элиота за прошлые женитьбы и презрительного отношения к его успехам в постели, жена иногда настаивала на том, чтобы он спал в другой комнате; то же самое делала супруга дорсетширского джентльмена Джона Ричардса, изгоняемого в столовую или погреб61.
Постель была самым подходящим местом для проявления беспощадной жестокости к мужьям, что, правда, случалось редко. Здесь мужчину легко было отравить, поэтому никогда они не были столь уязвимы. Обиженная жена из Йорка предупредила своего грубого супруга, «что она, если захочет, ночью в постели может убить его». В Германии Маргарета Крафт из Гальбаха «вскоре после соития» убила своего второго мужа топором, укрыв потом в погребе навозом его расчлененные останки. В 1737 году в Коннектикуте муж — видимо, он храпел — получил от жены в раскрытый рот совок горячих углей, тогда как в Дерби подружка подмастерья чулочника по имени Сэмюэл Смит, когда тот лежал и спал в темноте, резанула его ножом по пенису. Она была недовольна тем, что «он добивался ее несколько лет и часто обещал на ней жениться, но всегда обманывал». Только потеряв «большое количество крови» и «испытав сильную боль», Смит «понял, что был не прав»62.
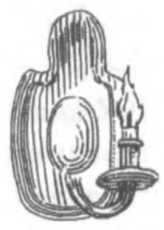
РАСПУСКАНИЕ СВЯЗАННОГО РУКАВА
Тревоги
I
Счастливы те, кто могут во сне избавиться от своих проблем.
Гийом Буше (1584–1598)1
В современных концепциях сна доиндустриальной эпохи безоговорочным остается безрадостное убеждение в том, что наши предки, часто за неимением чего-то другого в их скудной жизни, наслаждались спокойным отдыхом. Хотелось бы думать, что, несмотря на каждодневные несчастья доиндустриального существования, по крайней мере большинство семей спали до рассвета в свое удовольствие. Вечерняя тишина вместе с подавляющей темнотой благоприятствовали необычайно умиротворенному отдыху изнуренных работой простых мужчин и женщин. Признанный современный специалист в области сна, воссоздавший эту «простейшую модель отдыха», характерную для периода, когда жизнь проходила на открытом воздухе, недавно восторженно писал: «По ночам нас освещают одни лишь звезды, заботливые руки матери-природы укачивают нас, отправляя назад, к сновидениям древних. Совсем неудивительно, что мы просыпаемся наутро с ощущением свежести и полноты жизни»2.
Наша ностальгия глубоко уходит корнями в западную литературу. Поскольку в течение XVI века тема умиротворяющего сна бурно развивалась в художественной литературе Англии и большей части континентальной Европы, она стала излюбленным сюжетом всех форм литературного восхваления, особенно драмы в стихах и поэзии. Сэмюэл Джонсон позже утверждал, что, поскольку поэтам требовалась «передышка от мысли», естественно, их «сильно волновал» сон, который не только давал «отдых, но нередко» уводил «их в более счастливые сферы». Житейские невзгоды еще более способствовали превращению постели в оазис безмятежности, «единственный источник спокойствия» поэтов, как называл ее немецкий врач Кристоф Вирсунг3. Авторы символически прославляли сон в качестве святилища, в котором заперты «чувства от своих забот». Макбет в знаменитом отрывке говорит о сне, «распутывающем клубок заботы». «О сон! — восклицал Уильям Маунтфорт, — только ты лечишь травмированные и расстроенные души!»4 Нет ничего удивительного в том, что писатели постоянно уподобляли сон нежному объятию смерти — «la mort petite»[87], по выражению французского иезуита Луи Ришеома. «Они так схожи, что я не осмеливаюсь довериться ему, не помолившись», — заметил сэр Томас Браун5.
Однако сон приносил счастье не только привилегированным особам. То, что Эдмунд Спенсер назвал «забывчивостью сна», подобно смерти, как ничто другое, было присуще абсолютно всем. В эпоху, когда социальное различие, чин, продвижение по службе, как правило, властвовали в западных обществах, сон делал «несчастных равными счастливым». Сэр Филип Сидней назвал сон «богатством бедняка, свободой узника, беспристрастным судьей высших и низших». Для Санчо Пансы в «Дон Кихоте» (1605) сон — это «весы и гири, уравнивающие короля с пастухом и простака с разумником»[88]6. Естественным следствием этого положения, восходящего к средневековой концепции «справедливого сна», было убеждение в том, что самым крепким сном действительно обладали люди с простой душой и мозолистыми руками — трудящиеся классы общества. Французский поэт писал о «сладком сне», который восстанавливает «отдыхом утомленные члены рабочего человека». Падающие от усталости простые крестьяне не брали с собой в постель никакие тревоги, нарушавшие сон богатых и влиятельных людей. В «Генрихе V» Шекспир писал:
Ничтожный раб вкушает дома мир,
И грубому уму не догадаться,
Каких забот монарху стоит отдых,
Которым наслаждается крестьянин[89]7.
Разумеется, сон дарил утомленным мужчинам и женщинам всех рангов как некоторое освобождение от дневных тягот, так и заработанную тяжелым трудом передышку. Редкой была семья в начале Нового времени, которая не взвалила бы себе на плечи свою долю несчастий — как незначительных, так и серьезных. Главное воздействие сна было не просто физиологическим, но психологическим. Так, на сленге, распространенном в Восточной Англии, «заснуть» — это «забыть мир». По предположению Сары Каупер, если сон можно считать одним из блаженств жизни, то только потому, что «его удовольствия чисто негативны». «Когда наши души истощены, — заметила она, — мы хотим спать так же, как старики хотят умереть, только потому, что мы измучены нашим теперешним состоянием» (в действительности Каупер жаловалась, что ее муж, сэр Уильям, как правило, рано ложился спать, чтобы избежать ее общества). Даже полуночникам сон иногда давал случайное пристанище. Переживший, кроме всего прочего, «пьяный бред», Джеймс Босуэлл прокрадывался «в кровать» с целью спастись от ярости своей жены. «Я говорю „в", — признавался он позднее, — поскольку это было истинное убежище»8.
Возможно также, что успокоение, которое люди получали от сна, находилось в обратно пропорциональной зависимости от качества их жизни, ибо те, кто стоял ниже на социальной лестнице — к примеру, слуги и рабы, — мечтали о постели больше других. Французский священник отмечал: «У государя нет преимущества перед подданными, когда и он, и они спят». В постели короли отрекаются от короны, епископы — от митры, господа — от слуг. «Сон не имеет хозяина» — утверждала поговорка рабов Ямайки. В отличие от периода бодрствования, заполненного тяжелым, нудным трудом, отход ко сну при наличии тонкого матраса из соломы для большинства работников был истинным наслаждением, тем более что удобная мебель требовалась не многим. «Наш люд спит как мертвый», — пожаловался Сэмюэл Пе-пис, попытавшийся однажды ночью разбудить своего слугу. А когда в другой вечер его жена безуспешно звала прислугу, звоня в колокольчик, Пепис поклялся приобрести еще один колокол, большего размера9.
Но обычно давал ли сон подлинное убежище человеку? В эпоху, предшествующую появлению сонных пилюль, подушек для тела, затычек для ушей, наслаждалось ли большинство людей умеренной надеждой на спокойный отдых? Если одна из характерных особенностей сна состоит в том, что он воздвигает барьер между здравым умом и внешним миром, то другая — в том, что защитные сооружения сна легко преодолеть. Драматург эпохи Елизаветы I Томас Нэш писал: «Наши мысли встревожены и раздражены, когда они переходят от труда к покою», а Сара Каупер заметила в своем дневнике, что «даже сам сон не вполне свободен от тревоги»10.
II
Пусть ни горестных стенаний, ни скорбных слез
Не будет слышно всю ночь ни внутри, ни снаружи.
Эдмунд Спенсер (1595)11
Не в силах противостоять идиллическим стереотипам покоя в более простые времена, сон в период раннего Нового времени был в значительной степени подвержен постоянным нарушениям — вероятно, гораздо чаще, чем сегодня. Описани я прошлого содержат такие прилагательные, как «беспокойный», «встревоженный», «напуганный». В религиозных поверьях XVII века говорилось об «ужасах, зрелищах, шумах, сновидениях и болях, которые тревожат множество людей» во время отдыха. «Наш сон, — заметил литератор Френсис Куорлз, — часто сопровождается страхами, вносящими сумятицу в ночные сновидения и приумножающими опасности». Некоторые отрывки из старых дневников изобилуют жалобами на неполноценный сон. По мнению Питера Оливера, «лучший ночной отдых» означал «ни разу не проснуться с того момента, когда лег в постель». Среди «неприятностей», постигших человека, прибывшего в колонию Делавар, были «ночлег в одной кровати с очень беспокойным мужчиной», «вонь свечного нагара», «клопы», «комары», «ворчание и стоны спящего в соседней комнате постояльца» и «мяуканье кошки», которую приходилось дважды выгонять вон12.
Все слои общества страдали главным образом от болезней. Чаще всего по ночам не только случались параличи, острые сердечные приступы, но и проявлялись признаки других недугов, таких как мигрень, сердечная недостаточность, изжога, подагра, обострения болезни желчного пузыря и зубной боли, а также язвы двенадцатиперстной кишки и желудка13. Жертвы заболеваний дыхательных путей иногда подвешивали к кровати «слюнявчики» — если не для большего удобства, то для исследования мокроты на содержание крови. Постельные принадлежности, изобилующие домашними клещами, и поза ничком вызывали астму. Муж Элизабет Фрик страдал астмой, которая была настолько тяжелой, что он более двух месяцев спал, сидя на стуле, а дежурившие возле постели удерживали его голову в вертикальном положении. Конечно, совместный сон только усугублял распространение заразных инфекций. По сообщению шотландского пастора, «соединение больных и здоровых в одной постели» явилось единственной причиной эпидемии чахотки в его приходе в Шотландии14.
Ночью болезнь протекает тяжелее, поскольку чувствительность к боли возрастает. Каупер, которая, как и многие, кто вел дневник, оставила живые свидетельства своих ночных бед, не сомневалась в том, что боли у нее в спине усиливались «в ночную пору», так же как и зубная боль, обострившаяся однажды вечером, перед тем как у нее удалили «пенек». Измучившись подобным образом, массачусетский священник Эбенизер Паркман ночью намазал себе лицо смесью из коровьего навоза и свиного жира. «Какой бы отвратительной она ни казалась, — утверждал он, — это принесло мне облегчение». Ввиду отсутствия медикаментов и процедур, доступных нам сегодня, физические расстройства вызывали длительную потерю покоя или, в лучшем случае, сна, который лишь изредка оставался ненарушенным. Отсюда валлийский афоризм: «Нахождение врозь поможет удержать заразу и сон», а также замечание Томаса Легга, автора книги «Жизнь низов, или Одна половина мира не ведает, как живет вторая половина» (Low Life or One Half of the World Knows Not How the Other Half Live; 1750), наблюдавшего жителей Лондона в час-два ночи: «Здесь больные и увечные люди, которые созерцают свои собственные недуги, изнывают от них и молятся о дневном свете»15.
Болезнь увеличивала тревогу и уныние — именно эти коварные причины в первую очередь вели к расстройству сна. «Пробуждение, вызванное постоянными заботами, страхами и несчастьями, — это симптом, от которого страдают главным образом меланхоличные люди», — писал Роберт Бёртон в «Анатомии меланхолии» (The Anatomy of Melancholy; 1621). Бессонница была одним из самых распространенных симптомов у душевнобольных пациентов целителя XVII века Ричарда Нэпиера. За несколько десятилетий было осмотрено около 2 тысяч мужчин и женщин, и среди них свыше 400 (20 процентов) жаловались на бессонницу. Всевозможные неприятные чувства, от скорби до злобы, нарушали покой. Обремененный долгом, бьющийся изо всех сил фермер Ульрих Брекер оплакивал весь свой «скорбный труд и множество бессонных ночей». Шотландский пастор Джордж Ридпат однажды пожаловался, что из-за волнения он наслаждался «скудной половиной своего обычного сна в течение девяти-десяти дней». «Когда телесный недуг ослабевает, — сетовала Сара Каупер, — душевная боль усиливается… [чтобы] нарушить мой ночной покой»16.
Если, как утверждали древние авторы, богатые страдали от нарушений сна, вызванных душевным стрессом, то низшие классы были обеспокоены различными психическими расстройствами, прежде всего депрессией. Вероятно, самыми «возбудимыми» и подверженными бессоннице были те, кто обладал наименьшими ресурсами для преодоления жизненных проблем. Очевидец заметил по поводу городской бедноты: «Они спят, но их сон прерывается из-за холода, грязи, криков, и детского плача, и множества других беспокойств»17. Ежевечернее погружение бедных семей в болезненный мрак могло лишь усилить уныние и тревогу, особенно когда наступала зима, la mauvaise saison[90]. Очевидцы ощущали связь между депрессией и темнотой задолго до появления клинического диагноза «сезонное эмоциональное расстройство» (SAD), при котором депрессия в северном климате обусловлена аномальным уровнем мозгового гормона мелатонина, вызванным недостатком света. «Грязь, темнота, спертый вонючий воздух очень вредны», — отмечал французский врач XVI века Андре дю Лорен. По мнению ученого-медика Бенджамина Раша, депрессия была единственной причиной физических недугов, которые, как казалось больным, усиливались по ночам. «Очень часто, — говорил он, — на смену ночным жалобам и раздражению с первыми утренними лучами солнца приходит спокойствие» 18.
Из всех свойственных смертным эмоций страх чаще других нарушает сон. Среди млекопитающих самым хорошим сном наслаждаются прежде всего те, кто имеет безопасное убежище, в основном хищники, в то время как животные, подверженные большему риску, спят более чутко. Мужчины и женщины раннего Нового времени не были исключением. «В безопасности человек крепко спит», — заметил сэр Томас Овербери. Тревоги людей, усиливающиеся ночью по самым разным причинам, в том числе из-за ослабления действия надпочечных гормонов между четырьмя и восьмью часами утра, усугубляются уединенностью в ранние утренние часы. «Одиночество, ночь и страх, кажется, удваивают опасность», — писал Генри Невил Пейн. Георг Кристоф Лихтенберг записал: «Я лег спать, будучи довольно спокойным относительно определенных вещей, а затем, около четырех часов утра, они стали меня страшно волновать — до такой степени, что я в течение нескольких часов вскакивал и ворочался; только в девять или чуть раньше во мне начали появляться безразличие и оптимизм»19.
Не все страхи были безосновательными. Мерещились подлинные опасности, заставляя людей ложиться с краю, кто-то спал, как говорится во французской пословице, «оставляя один глаз открытым» и «кулаки сжатыми». Дадли Райдер, ночуя в своем лондонском доме, постоянно вскакивал с кровати, поскольку оставил шпагу на нижнем этаже, где воры могли ее украсть. Незнакомые звуки неизменно заставляли домочадцев покидать постель. В Гааге Давид Бекк, услышав среди ночи «волнение и шум», голым выскочил из постели вместе со своим напарником — один был вооружен ножом, другой железной лопатой — только для того, чтобы обнаружить играющее кошачье семейство20. Кому-то не давала заснуть всем известная боязнь демонов. В дневнике, который с юных лет до старости вела поселенка из Коннектикута Ханна Хитон, рассказывается о ночных схватках с Сатаной, часто приводивших к потере покоя. Об одной из ночей она записала: «Мне показалось, что дьявол трогает мою одежду, я вскочила и в ужасе выбежала, а потом всю ночь смотрела в окна, желая увидеть, не грядет ли на Суд Христос». «Многие не могут уснуть из-за ведьм и колдовства, весьма обычных в некоторых местах», — заявил Бёртон21.
Даже когда сон наступал, всегда существовала опасность ночных кошмаров, многими воспринимавшихся не как неприятные сновидения, а как попытки злых духов задушить свою жертву. В Западном Корнуолле выражение «nag-rid-den» (букв.: «верховая лошадь») — общепринятый термин, обозначавший жертву ночных кошмаров. Письменное наставление 1730 года обязывало прислугу по ночам быстро собираться в случае, если ее зовут, ибо «много жизней уже потеряно из-за ночных кошмаров, когда необходима экстренная помощь; и человек, у которого сил хватает только на то, чтобы позвонить в колокольчик, может умереть от удушья, пока служанка протирает глаза, зажигает свечу или приводит в порядок свой чепец». Вероятно, из-за того, что младенцы часто умирали в колыбели, считалось, что дети подвержены особому риску. В «Маскараде королев» (The Masque of Queens; 1609) Бена Джонсона ведьма похваляется: «Когда ребенок спал, ночью я высосала его дыхание»22.
III
Тот, кто остановится в гнилом, разрушенном доме, будет плохо спать в бурную ночь.
Томас Адамс (1629)1'
Вызывающая тревогу окружающая обстановка обостряла физические и психические недуги. За редкими исключениями, спальные помещения были непригодны для спокойного отдыха. Фасады большинства городских домов выходили на улицу, и даже те здания, обитатели которых могли позволить себе ставни и застекленные окна, были недостаточно изолированы24. Слух обострялся не только вследствие плохой ночной видимости, порой он становился для спящего основным связующим звеном с внешним миром25. Все это не имело бы такого значения, если бы в больших и малых городах по ночам не было столь шумно из-за дерущихся пьяниц, работающих без отдыха ремесленников и прибывающих со своей продукцией после полуночи жителей деревень. Похоронные звоны извещали о смерти кого-нибудь из соседей. В звуковом ландшафте городских окрестностей эти шумы усиливались оттого, что постройки были деревянными. В пьесе «Источники Ипсома» (Epsom-Wells; 1673) о провинциальном городке говорится: «Здесь всю ночь так безобразно шумно»; в то же время Буало недовольно отзывался о Париже: «Господи, какой он шумный! Что за скорбные стенания лезут мне в уши и не дают сомкнуть глаз?» По мнению одного из жителей Лондона, в 1700 году это был город, «где покой и тишина в самую темную ночь не смеют высунуть голову наружу»26. Хотя сильнейшую тревогу вызывал резкий звон пожарного колокола, имеющего «такой особенный, торопливый монотонный звук»27, обитатели городов самую большую досаду приберегали для ночных дозорных. Многие никак не могли привыкнуть к их крикам. Исключение составляла Элизабет Дринкер, которая в 1794 году писала: «В отличие от многих, меня никогда сильно не беспокоили обычные ночные звуки, если я могла их объяснить и они не были слишком громкими». Иногда ее сон тоже прерывался: однажды вечером Дринкер услышала «вопль на улице, вой собак и удары, как мне показалось, в нашем доме»; несколько позднее раздался «крик о пожаре». «Не спала, — записала она в своем дневнике, — ни единого часа в течение всей ночи»28.
Более уединенными были вечера в сельской местности — с ее рассредоточенным населением, обширными пустыми пространствами и гораздо меньшей суетой. «Половина обитателей желала бы послать нас к дьяволу», — ворчал Уильям Бекфорд, когда его попутчик кашлял ночью по прибытии в отдаленный испанский городок. Но все же сон мог быть нарушен: если не голосом человека, то звуками, издаваемыми другими представителями животного мира — от лягушек и кузнечиков до лающих собак, томящихся от любви котов и не осведомленной о времени страждущей домашней скотины. В молочном регионе Восточной Англии распространенное выражение «час быка» означало «полночь» — время, когда волы, вызывая самок, мычали во все горло. И наоборот. Некий автор дневника из Сомерсета жаловался: «Несмотря на раннюю пору, нас сильно беспокоили возня и рев коровы под окном. Наша корова производит столько шума, надо отправить ее к быку»29.
В некоторых домах, особенно в тех, что были сконструированы из крепившихся в земле деревянных рам, крысы и мыши так возились, что стены и балки, казалось, того и гляди, обвалятся. «Мы могли бы отдохнуть, — заметил в 1677 году шотландский путешественник, — если бы мыши не устроили свидание над нашими головами». В старых домах рассохшиеся бревна, непригнанные доски, расхлябанные двери, сломанные окна и дырявые дымоходы создавали собственную какофонию. В холодную погоду было еще хуже. Скрипели не только замочные скважины, но и дверные петли с засовами, крыши протекали. «Черепица и солома — это материалы, к которым ураганы и бури испытывают антипатию, — говорил Джордж Вудвард из Восточного Хендреда. Неудивительно, что члены семей, однажды разбуженные бурей, отказывались вновь идти спать, пока ветер и дождь не стихнут. В 1703 году Томас Нэш, его жена и служанка проснулись от «яростного урагана» около двух часов ночи и были «не в состоянии лечь в кровать из-за сильного шума, скрипа черепицы и боязни, что мой дом рухнет на меня. Я спустился в гостиную помолиться»30.
Низкая температура воздуха не давала спать зимой, особенно после того, как в XVI, XVII и XVIII веках Западная Европа и северная часть Северной Америки пережили малый ледниковый период. Теплые времена года сократились, зимы, как правило, были сырыми, и Темза замерзала 18 раз. Для большинства млекопитающих, в том числе и людей, наиболее благоприятной для сна является температура воздуха, колеблющаяся от 70 до 85 градусов по Фаренгейту, при этом оптимальная температура — 77 градусов[91]. При температуре значительно ниже комфортной термальной зоны человека сон становится более чутким и фрагментарным, что хорошо было знакомо людям раннего Нового времени, дрожавшим от холода в не защищенных от непогоды домах с земляным полом. Согласно Коттону Мазеру, в одном из январей в Массачусетсе стоял такой холод, что замерзала влага, выступающая на концах торчавших из пламени поленьев. Даже в комфортабельных жилищах зимой чернильницы, сосуды с водой и ночные горшки иногда за ночь промерзали. В 1767 году Dillenius жаловался лондонским читателям Lloyd's Evening Post: «Часто я не могу заснуть часами из-за того, что у меня мерзнут ноги. Я кутаюсь в любую одежду. Я согреваю свою постель до тех пор, пока не появится возможность к ней прикоснуться. Поставленный в безвыходное положение, всю зиму я дрожу каждую ночь». «Мне слишком холодно, чтобы ложиться спать», — заметил пастор Джеймс Вудфорд. Видимо, по той же причине многие не хотели по утрам расставаться с одеялами31.
Разумеется, в первую очередь наслаждались насекомые. В постельном белье находили себе печально известное пристанище вши, блохи и клопы — несвятая троица энтомологии раннего Нового времени. Появление раздражения на коже, по всей вероятности, обусловлено сочетанием ее чувствительности, обостряющейся к одиннадцати часам вечера, с предрасположенностью человека к зуду. Спящим британцам не приходилось страдать от тех паразитов, включая тарантулов и скорпионов, которые досаждали европейцам, жившим в теплом климате, например в Италии. Им не приходилось бороться и с ненасытными комарами, из-за которых, главным образом летом, пользовались дурной славой английские колонии в Северной Америке; хуже того — Джон Харроуэр, слуга из Виргинии, однажды ночью нашел у себя под подушкой змею. Однако то, что люди в Британии по отношению к постельным паразитам часто употребляли военные термины, к примеру «войска», «отряды», «укомплектованный полк» и «целые армии» клопов, говорит о многом. Томас Легг в произведении «Жизнь низов» (Low-Life) писал о «бедняках, которые иногда, находясь в постели… нащупывали спички, чтобы зажечь огонь и начать охоту на клопов». В уличной балладе под названием «Как 25 шиллингов были издержаны за неделю» упоминаются «три фартинговые свечи для еженощной ловли клопов и блох». Естественно, «охотники» должны были подсчитать стоимость искусственного освещения, отсюда предостережение — «извести свечу и найти блоху»32.
Реже спать мешали сами постели, по крайней мере среди зажиточных слоев населения. Невзирая на величину затраченных сумм, толщина и многослойность матрасов, вероятно, не была столь важна, — как ни странно, спящие, наоборот, пробуждались, ибо мягкость ограничивала их движения. Некоторые жаловались на жесткие постели и подушки без перьев, но эти недовольства были вызваны тем, что путешественникам приходилось спать в непривычной обстановке. Потребности отнюдь не «бедного человека» Джона Бинга, будущего виконта Торрингтона, были настолько велики, что он находил постельные принадлежности («первое удобство жизни») недостаточно хорошими «почти в каждом доме», где он «когда-либо появлялся». Он никогда не спал в постели, отличавшейся от его собственной — «шириной шесть футов и с гладким, мягким матрасом». В основном все зависело от культурных предрассудков. Мишель Монтень свидетельствовал: «Немец заболеет, если вы положите его на матрас, так же вы подорвете здоровье итальянца, постелив ему перину, и француза — положив его на кровать, не имеющую занавесей». В 1646 году, находясь в Швейцарии, Джон Эвелин страдал оттого, что вынужден был спать на «постели из листьев, так шуршавших и коловших сквозь чехол мою кожу». Тем не менее представители швейцарских высших классов предпочитали матрасы, набитые буковыми листьями, а не соломой33. К сожалению, участью людей доиндустриальной эпохи были убогие жилища и постели, соответствовавшие их скудным запросам. Вопреки утверждению Джона Локка, что, если сон крепок, «не важно, на чем человек лежит — на мягкой постели или на жестких досках», спать на тонком матрасе, тем более на жесткой поверхности, должно быть, менее удобно человеку, чье тело истощено и имеет минимальную жировую прослойку34.
Даже добротные матрасы не всегда были удобны для множества людей, спящих в одной постели. «Уложены как селедки», — писал Давид Бекк об одной из ночей 1624 года, которую он провел, лежа между двумя компаньонами. Французская песенка, названная «Одному спать лучше, чем вдвоем», сетовала: «Один кашляет, другой говорит, одному холодно, другому жарко, один хочет спать, другой — нет». Хуже всего было, когда с непривычки партнеры ворочались. Вынужденный однажды ночевать вместе с другом, Пепис «всю ночь едва мог заснуть, поскольку кровать была плохая и партнер был плохой». Так же и шотландско-американский врач Эндрю Гамильтон как-то ночью в Делаваре пытался заснуть в общей комнате с двумя компаньонами, один из которых, «ирландский католик», постоянно вскакивал и ворочался, «выкрикивая: „Господи помилуй!"»35
Из-за влажности воздуха ночные горшки воняли. Женщины, жившие вдвоем в гостиничном номере, «ощущали такое дикое зловоние», что поначалу «какое-то время обвиняли друг друга», пока не обнаружили отхожее место в изголовье своих кроватей. Песенка эпохи Реставрации «Аминте как-то ночью случилось помочиться» описывает в раблезианских деталях разговор двух компаньонов, проснувшихся оттого, что им понадобилось на горшок; один бранит другого: «Та буря разразилась где-то сзади, / И, хоть ее любезно скрыли от моего взора, / Испорченный воздух возмутил мой нос». Горничная в гостинице сообщила путешественнику, спросившему о ночном горшке и уборной: «Если вы не увидите их, вы почуете их запах»36. Конфуз происходил, когда горшки оказывались перевернутыми или разбитыми. Еще более рискованной была надежда на писсуар, часто имеющий форму маленькой фляжки37. Альтернативным, особенно среди низших классов, был способ помочиться за входной дверью или, что было более распространено, — в очаг. Томас Тассер негодовал: «Некоторые делают ночным горшком камин, и он пахнет, как мерзкая клоака». Не имея ночного горшка, Пепис «гадил в камин» дважды за ночь, в то время как йоркширский работник Абрам Ингэм, чтобы «отливать», пользовался «башмаком на деревянной подошве». В случае если не удавалось ничего другого, итальянская поговорка наставляла: «Вы можете пописать в кровать и сказать, что вспотели»38.
IV
Как можно хорошо себя чувствовать,
Когда смертельно хочется спать?
Колли Сиббер и сэр Джон Вэнбру (1728)39
Для того чтобы скрыть гнилостные запахи и чтобы наличие уборных не ощущалось в спальнях, в богатых семьях стало популярным возжигание благовоний. Козимо, герцог Тосканский, по-видимому, ставил свой стульчак, или переносной туалет, в спальне слуги40. Но тогда и это, и многое другое было недоступно низшим слоям, лишенным благоприятных условий для сна. Хотя вредные запахи вторгались в их жилища чаще всего остального, они не были защищены ни от резких звуков, ни от холодного воздуха, ни от ненасытных паразитов. Как правило, сон семей, относящихся к низшим классам, больше, чем у кого-либо, был подвержен нежелательным воздействиям. По поводу высокой стоимости тихих квартир в Париже Буало писал, что «сон продается, как все остальное, и вы должны платить золотом за свой отдых»41. Нервозным персонам, имеющим возможность приобрести две кровати, Бенджамин Франклин советовал «получить большое удовольствие: проснувшись в жаркой постели, встать и перейти в холодную». И, не желая беспокоить жену во время болезни или беременности, такой муж, как Пепис, всегда мог удалиться в другую комнату. Действительно, в XVIII веке аристократические супружеские пары во Франции обычно имели раздельные спальни. Бедным же семьям не было позволено ни наслаждаться занавешенными от сквозняков постелями, ни действовать подобно замученному клопами джентльмену из колониальной Северной Каролины, который поменялся кроватью со своим слугой42.
По-видимому, как часто утверждали поэты и драматурги, усталость и чистая совесть трудового населения помогали преодолеть те неудобства, которые оно испытывало по ночам. Учитель из Виргинии Филип Фисиан много вечеров до изнеможения занимался научной работой, чтобы сделать свой сон «крепким и беспробудным», а также невосприимчивым к «проклятым клопам»43. Но, скорее всего, более достоверным, хотя и менее известным, чем подавляющее число стихотворений, является отрывок из «Жалоб нищеты» (The Complaints of Poverty; 1742) Николаса Джеймса:
Тревогами и горем изнурен,
Он жаждет погрузиться в долгий сон.
Но блохи, отыскавшие приют
В его постели, снова тут как тут.
То детский плач, то холод каждый раз
Сомкнуть всю ночь не позволяют глаз[92].
Джордж Герберт тоже писал в 1657 году о «многих», кто «тяжело работал весь день, и, когда наступала ночь, их страдания усугублялись голодом и потребностью в отдыхе».
Автор «Страны рабства» (L'Etat de Servitude; 1711) жаловался: «На чердаке без двери и замка, / Открытом холодам всю зиму, / В ужасной, отвратительной мансарде / Матрас прогнивший брошен на полу»44.
Сон — богатство бедняка, свобода узника? Нет, так может показаться, если иметь в виду общепринятое представление о сне, но не ситуацию, когда человеку выпадает лишь постоянно прерываемая передышка от тягот, которыми наполнен день. Что касается физического восстановления, то если большинство людей и не испытывали длительных пробуждений, то одни только повторяющиеся «краткие возбуждения», каждое из которых длилось, как правило, несколько минут и не ощущалось даже самим спящим, могли взвалить на сознание и тело огромную ношу45. Далекие от того, чтобы наслаждаться безмятежным отдыхом, простые мужчины и женщины, видимо, страдали от плохого сна и чувствовали себя при пробуждении на рассвете такими же усталыми, как при засыпании. Поэтому труднее всего было проснуться, особенно когда недостаток сна накапливался изо дня в день, а господа, как всегда, не проявляли сочувствия. Вернувшись в свой лондонский дом однажды вечером и найдя своего «человека» спящим, Уильям Бёрд II тут же устроил ему порку, как и йоркширский фермер Адам Эйр своей служанке за ее «медлительность». Порой веселье в позднее время могло только усугубить усталость учеников ремесленников, слуг и рабов46.
Если верить жалобам, труд работников был беспорядочным и поведение вялым — один из сельских тружеников назвал это «безжизненной медлительностью». «В полночь ему надо спать», — ворчал епископ Пилкингтон, отзываясь о типичном работнике конца XVI века. Хотя более ранние историки объясняли такое поведение тем, что оно было порождением доиндустриальной этики труда, скорее нужно учитывать хроническую усталость, от которой, вероятно, страдала основная часть населения в период раннего Нового времени. Действительно, краткий дневной сон, судя по всему, был распространен больше, чем сон, ограниченный ночными часами, который практикуется сегодня в большинстве западных обществ47. Несомненно, изнеможение вызывало и другие признаки потери сна, в том числе утрату стимула и физического здоровья, а также повышенную возбудимость и социальную несовместимость. Болонский викарий сказал о бессоннице среди бедняков: «Кто может растолковать, что наносило больший вред — сон в постели грязнее мусорной кучи или невозможность укрыться?»48

СОН, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ
Ритмы и обличения
I
Мы просыпаемся, и вокруг нас только один общий мир, но, когда мы спим, каждый из нас обращается к собственному, тайному миру.
Гераклит (ок. 500 г. до н. э.)1
"Я проснулся, но еще не время вставать, к тому же я еще не выспался… Я проснулся, но не чувствую ни боли, ни страдания, ни страха, присущих тысячам людей». Такова молитва XVII столетия, предназначавшаяся для глубокой ночи. Будто бы недоставало болезней, скверной погоды и блох — в доиндустриальных обществах существовала еще какая-то иная, даже более заурядная причина нарушения сна, хотя не многие из современников считали ее таковой. Это ночное прерывание сна было настолько привычным, что в ту пору оно редко становилось предметом обсуждений. Редко подвергалось оно и внимательному изучению историков, еще реже — систематическому научному исследованию. Но сельские жители в начале XX века знали о нем как о неотъемлемой обыденности более ранней эпохи2. Некоторые, вероятно, так считают и сегодня.
До окончания раннего Нового времени ночной сон у западных европейцев, как правило, делился на две части, интервал между которыми, продолжавшийся час или чуть больше, проходил в тихом бодрствовании. Ввиду отсутствия подробных описаний ключ к пониманию существенных черт этой сложной структуры отдыха дают фрагменты источников на нескольких языках — от юридических показаний до дневниковых записей и произведений художественной литературы. Начальная фаза сна обычно считается «первым сном» или, реже, «первой дремотой», или «глубоким сном»3. На французском языке этот термин звучит как premier sommeil, или premier somme4, на итальянском — primo sonno, или primo sono5, на латыни — primo somno, или concubia node6. Следующая фаза получила название «второго», или «утреннего», сна, тогда как пробуждение между ними не имеет никакого названия, кроме общего термина «бодрствование». В двух текстах упоминается время «первого пробуждения»7.
Продолжительность обеих фаз сна была приблизительно одинаковой, при этом какое-то время после полуночи занимало бодрствование, а затем вновь наступал период отдыха. Не все, конечно, спали по одному расписанию. Чем позже вечером человек ложился спать, тем позже он просыпался от начального сна; или если он засыпал за полночь, то мог не проснуться до рассвета. Так, в «Рассказе сквайра» из «Кентерберийских рассказов» Канака вечером заснула «вмиг, как только легла в постель» и проснулась от «первого сна» ранним утром; а ее компаньоны, уснувшие гораздо позже, «проспали все до той поры, как новый день воссиял»[93]. В сатире Уильяма Болдуина «Остерегайтесь кошки» (Beware the Cat) описывается ссора между главным героем, «только что отправившимся спать», и двумя его соседями по комнате, которые «уже спали» своим «первым сном»8.
Мужчины и женщины относились к обеим фазам сна так, будто перспектива пробуждения в середине ночи была общеизвестной и не требовала разъяснения. «В полночь, когда вы пробуждаетесь от сна», — писал поэт эпохи Стюартов Джордж Уитер, а по мнению Джона Локка, «то, что все люди спят с перерывами» является обыденной стороной жизни, распространяющейся также и на гораздо менее разумные создания9. По свидетельству каталонского философа Раймунда Луллия, primo somno продолжался с середины вечера до раннего утра, тогда как Уильям Харрисон в своем «Описании Англии» (Description of England; 1557) рассказывал о «глухой, или глубокой, ночи, то есть полуночи, когда люди спят своим первым, или глубоким, сном»10.
То, что «первый сон» длился определенный период времени, а за ним следовал период бодрствования, подтверждалось свидетельствами из повседневной жизни. Обычно в описаниях говорится, что проснувшиеся «имели», «приняли» или «получили» свой «первый сон». В шотландском юридическом документе начала XVII века упоминается Джон Кокберн, ткач, «уснувший первым сном и позднее пробудившийся», в то время как в «Трактате о привидениях» (A Treatise of Ghosts; 1588) Ноэля Тайльпье прямо упоминалась «полночь, когда мужчина просыпается от первого сна». «Итак, я поспал первым сном, — заявляет главный герой пьесы „Эндимион" (Endimion; 1591), — который был коротким и спокойным»; а слуга Клаб из пьесы Джорджа Фаркера «Любовь и бутылка» (Love and a Bottle; 1698) говорит: «Думаю, что я заснул первым сном после полуночи». «Я чувствую себя более бодрым, — заявляет Рампино в „Несчастных влюбленных" (The Unfortunate Lovers; 1643), — чем больной констебль после первого сна на холодной скамье»11.
Хотя встречаются описания, в которых соседская ссора или лающая собака преждевременно будили людей от их начального сна, огромное количество сохранившихся свидетельств указывает на то, что обычным было естественное пробуждение, а не пробуждение вследствие нарушения или прерывания сна. Действительно, медицинские книги XV–XVIII веков часто советовали для лучшего пищеварения и более спокойного отдыха лежать на правом боку во время «первого сна» и «после первого сна переворачиваться на левый бок»12. И даже несмотря на то, что французский историк Эмманюэль Ле Руа Ладюри не занимался изучением более поздней эпохи, в его работе, посвященной Мон-тайю XIV века, отмечается, что «время первого сна», как и «середина первого сна», — это привычная часть ночи. Действительно, хотя выражение «первый сон» употребляется не так часто, как «сумерки» (candle-lighting), «глубокая ночь» (dead of night) или «рассвет» (cock-crow), до конца XVIII века оно остается общепринятым определением времени. Как написал в «Демонолатрии» (La Demonoldtrie; 1595) Николя Реми, «наступают сумерки, затем ночь, темная ночь, затем время первого сна и, наконец, глубокая ночь»13.
На первый взгляд перед нами попытка представить эту особенность нарушенного сна как культурную реликвию раннего христианства. Со времени, когда святой Бенедикт в VI веке потребовал, чтобы монахи вставали после полуночи для чтения библейских стихов и псалмов («Ночью мы поднимемся для исповеди Ему»), это правило, как и другие правила Бенедиктинского ордена, распространилось на растущее число франкских и германских монастырей. В эпоху высокого Средневековья Католическая церковь активно поощряла среди христиан молитву ранним утром как средство обращения к Богу в часы, когда еще темно. «Ночные бдения, — объявил Алан Лилльский в XII веке, — были учреждены не без причины, это означает, что мы должны встать в середине ночи и пропеть ночную службу, дабы ночь не прошла без богословского восхваления». Самым известным сторонником этого уклада был святой Хуан де ла Крус, автор трактата «Темная ночь души» (The Dark Night of the Soul; ok. 1588), однако в Англии как среди католиков, так и среди англикан, и в XVII столетии все еще раздавались голоса, предписывающие поздние ночные бдения. Хотя пуританский богослов Ричард Бакстер считал «щегольством и оскорблением Бога и нас самих думать, что нарушение сна — это вещь, сама по себе угодная Богу», более широко было распространено убеждение, выраженное автором «Полуночных мыслей» (Mid-Night Thoughts; 1682), что «духовно возрожденный человек считает самым подходящим временем для того, чтобы возвысить свою душу до Небес, момент, когда он просыпается в полночь»14.
Несмотря на то что христианские учения, несомненно, популяризировали императив ранней утренней молитвы, сама Церковь не была инициатором введения практики разделенного на части сна. В какой бы мере ни «колонизировала» она период бодрствования между фазами сна, упоминания о «первом сне» предшествуют ранним годам становления христианства. Этот термин использовали в своих произведениях не только такие далекие от Церкви фигуры, как Павсаний и Плутарх, но и классические авторы, в том числе Ливий в своей истории Рима, Вергилий в «Энеиде» (оба сочинения относятся к I в. до н. э.) и Гомер в «Одиссее», написанной в конце VIII или начале VII века до н. э. И хотя в Ветхом Завете не содержится прямых упоминаний о первом сне, предположительно существует несколько таких мест, в том числе Книга Судей (16:3), где Самсон встает в полночь, чтобы разрушить городские ворота Газы15. Напротив, не далее чем в XX веке отдельные незападные культуры с религиозными верованиями, отличными от христианства, по-прежнему демонстрируют фрагментарный характер сна, удивительно похожий на сон европейцев доиндустриаль-ной эпохи. Например, в Африке антропологи обнаружили деревни Тив, Хагга и Джи/ви, которые после полуночи чудесным образом оживают благодаря проснувшимся взрослым и детям. О производящих продукты питания фермерах из Тива в заметке от 1969 года говорилось: «Ночью они просыпаются когда хотят и разговаривают с любым, кто тоже проснулся в этой хижине». В Тиве также используются термины «первый сон» и «второй сон» для обозначения традиционных периодов времени16.
Таким образом, остается неразрешенным главный вопрос — как объяснить странную аномалию или, на самом деле, скорее истинное таинство цельного сна, который мы имеем сегодня? Есть все основания считать, что структура разделенного на части сна, наблюдаемого у многих диких животных, до наступления раннего Нового времени долго была естественной для нашего ночного отдыха и зародилась одновременно с человечеством. Как показали недавние эксперименты, проведенные в Национальном институте психического здоровья в Бетесде (Мэриленд), объяснением тому, вероятно, служит темнота, доминировавшая в жизни людей ранних исторических эпох. Попытавшись воссоздать условия «доисторического» сна, доктор Томас Вер и его коллеги обнаружили, что субъекты, на протяжении нескольких недель лишенные по ночам искусственного света, могут демонстрировать нарушенный сон, практически идентичный сну семей доиндустриальной эпохи. Не имея искусственного освещения около четырнадцати часов каждую ночь, субъекты доктора Вера сначала два часа лежали в постели без сна, потом спали четыре часа, снова просыпались, чтобы два или три часа спокойно отдохнуть и расслабиться, и опять засыпали на четыре часа, прежде чем пробудиться окончательно. Показательно, что имевший место период «спокойного бодрствования» обусловлен «полностью эндокринологией», при этом заметно повышался уровень пролактина, гормона слизистой, который более всего известен как стимулятор лактации у кормящих матерей; он же позволяет курам спокойно сидеть на яйцах продолжительное время. Действительно, Вер уподобил этот период бодрствования чему-то вроде измененного состояния сознания, схожего с медитацией17.
Все согласны с тем, что современное освещение или его отсутствие оказывает огромное физиологическое воздействие на сон. «Каждый раз, когда мы включаем свет, — заметил хронобиолог Чарльз А. Цейслер, — мы неосознанно принимаем лекарство, влияющее на то, как мы будем спать», при этом к самым явным последствиям относятся изменения уровня мозгового гормона мелатонина и температуры тела. Людей, живших в доиндустриальную эпох)’, участников экспериментов Вера и незападные общества (все они до сих пор испытывают нарушенный сон) объединяет отсутствие искусственного света, что в период раннего Нового времени тяжелее всего сказывалось на низших и средних классах18. Интересно, что упоминания о разделенном на части сне наиболее очевидны в материалах, написанных или продиктованных представителями всех слоев общества, за исключением самых богатых. Они редко встречаются среди огромного вала личных документов, оставленных представителями высших классов, особенно начиная с конца XVII века, когда и искусственное освещение, и мода на «позднее время» неуклонно распространялись в кругу зажиточных семей. Оставившие подробные дневниковые записи Пепис и Босуэлл, по их собственному признанию, редко просыпались в середине ночи. Хотя они и не были слишком богатыми, оба вращались в высших эшелонах лондонского общества, покровительствуя светским ночным клубам и домам. В 1710 году Ричард Стил недовольно говорил: «Кого не удивит это извращенное пристрастие тех, кто считается самой изысканной частью человечества, тех, кто предпочитает солнцу битумные угли и свечи и меняет такие светлые утренние часы на удовольствия полуночных пирушек и попоек?»19
II
Есть немалая польза в том, чтобы оказаться в постели в темноте, еще раз представить себе основные черты изученных ранее форм или других заслуживающих внимания вещей, вымышленных изобретательной фантазией.
Леонардо да Винчи (б. д.)20
После полуночи в домах доиндустриальной эпохи обычно начиналось волнение. Многим из тех, кто покинул свои постели, попросту необходимо было помочиться. Врач Эндрю Бурд советовал: «Пробудившись от первого сна, помочитесь, если чувствуете, что ваш мочевой пузырь полон». Англичанин, посетивший Ирландию около 1700 года, «сильно удивился, услышав, что люди ходят к очагу в центре дома, чтобы справить малую нужду в золу», он тоже за неимением ночного горшка «был вынужден кое-что предпринять»21. Однако некоторые, встав, пользовались случаем покурить табак, проверить время или поддержать огонь. Томас Джабб, обедневший портной из Лидса, поднявшись около полуночи, «пошел на Каулейн и, услышав, как часы пробили двенадцать», вернулся «домой и снова лег спать». В дневнике Роберта Сандерсона записано, что он, разбуженный однажды «во время первого сна» своей собакой, в другие ночи вставал и, оказав помощь больной жене, садился выкурить трубку. Старинная английская баллада «Старый Робин Портингейл» советовала: «Пробудившись от первого сна, / Вы должны выпить что-нибудь горячее, / Тогда, пробудившись после следующего сна, / Вы почувствуете, что ваши беды ушли». Врачи советовали принимать в этом промежутке времени некоторые виды лекарств, в том числе снадобья от несварения желудка, язв и оспы22.
Других ждала работа. Доктор Тобайас Веннер из Бата настоятельно рекомендовал: «Студентам, которые вынуждены не спать и заниматься по ночам, лучше делать это после первого сна, когда в них больше бодрости». По свидетельству бывшего компаньона по постели, Сет Уорд, будучи епископом Солсбери, часто «после первого сна» в целях уединения для занятий «поднимался, зажигал свет и, когда догорала свеча, возвращался в кровать до наступления дня». Таким же был режим Эмара де Районе, президента парижского парламента. Фермер XVII века Генри Бест из Элмсуэл-ла взял за правило вставать «где-то около полуночи», дабы не позволить бродившему скоту нанести вред его полям23. Женщины покидали постели, чтобы, помимо ухода за детьми, выполнить несметное количество домашней работы. Джейн Эллисон, служанка из Вестморленда, встала однажды между полуночью и двумя часами, чтобы сварить порцию солода для своего господина. «Часто мы поднимаемся в полночь», — жаловалась Мэри Коллиер в «Женском труде». О крестьянках в «Видении о Петре Пахаре» говорилось: «Сами они тоже страдают от голода, / И тревоги зимой, и бессонных ночей, / Когда надо встать с постели, качать колыбель, / Также чесать шерсть, латать и мыть, / Растирать лен, и мотать пряжу, и лущить камыши». Достаточно сказать, что домашние дела не знают границ24.
И самые стойкие души, отдохнув, продолжали бодрствовать. Говорят, Томас Кен, епископ Бата и Уэльса, «обычно вставал очень рано и никогда не засыпал вторым сном».
В романе «Приключения Перигрина Пикля» (1751), принадлежащем перу Смоллетта, врач советует главному герою «вставать сразу после первого сна и для физической зарядки идти на утреннюю прогулку»25. Такой же бодрящей была привычка Бенджамина Франклина принимать холодные воздушные ванны, что, по его мнению, было лучше моды на купание в холодной воде в качестве «тонизирующего средства». Находясь в Лондоне, он вставал «рано почти каждое утро», садился голый в своей спальне и около часа либо читал, либо писал. «Если затем я возвращался в постель… что иногда случалось, — объяснял он знакомому, — я прибавлял к ночному отдыху один-два часа такого приятного сна, какой только можно вообразить»26.
Беднякам, проснувшимся глубокой ночью, предоставлялись возможности иного рода. Ночь была самым подходящим временем для уединения, с тем чтобы совершать мелкие преступления: хищение из судовых верфей и других предприятий города, а в сельской местности — кражу дров, браконьерство или налет на фруктовые сады. Возможно, шотландский суд преувеличил, утверждая, «что это известная воровская хитрость — лечь спать вечером и встать утром в присутствии других», дабы утаить «проступки, совершенные в ночное время», хотя скрытое противозаконное деяние наутро, как правило, становилось очевидным. В 1727 году Гилберт Ламберт, работник из Грейт-Дрисфилда, около полуночи «поднял с постели» своего друга Томаса Николсона, чтобы тот помог ему пригнать «группу овец», которая, как потом обнаружилось, была краденой. «Некоторые просыпаются, — утверждал Джордж Герберт, — для того чтобы замыслить или сотворить озорство или более серьезное преступление». Преподобный Энтони Хорнек осуждал «бандитов с большой дороги и воров», которые «встают в полночь, чтобы грабить и убивать людей!». Примеры тому найти не трудно. Жена Люка Эткинсона, обвиненного в совершении убийства ранним утром в Северном Ридинге, в Йоркшире, призналась, «что такое случалось и раньше: он поднимался по ночам и, оставив ее в постели, шел к домам других людей». А в 1697 году, когда мать юной Джейн Роут, «проснувшись после первого сна… встала с кровати и курила трубку возле очага», двое мужчин-сообщников «позвали ее в окошко и велели собраться и выйти», как они задумали втроем накануне утром. Мать наказала девятилетней Джейн «лежать смирно и ждать ее возвращения», однако женщина несколько дней спустя была найдена мертвой27.
Возможно ли, что люди вставали для того, чтобы творить магию? Не обязательно верить в шабаши ведьм, чтобы признать достоверными описания колдовства, к которому в какой-то мере причастны и небольшие группы родственных духов. Обвинения в колдовстве, как, например, в «Демонолатрии» (La Demonoldtrie) Реми и «Своде колдуний» (Compendium Maleficarum; 1608) Франческо-Мариа Гваццо, содержат увлекательные свидетельства о женщинах, оставлявших свое место подле спящего мужа якобы для того, чтобы поздней ночью посещать сборища. Заготовщик древесного угля из Феррары, например, заявил, что, притворившись крепко спящим, он видел, как его жена встала с кровати и, намазавшись чем-то из «спрятанной вазы», «моментально исчезла». В Лотарингии всем известная «ведьма» созналась, что она околдовала своего мужа, чтобы тот не проснулся во время ее отсутствия: «Намазав свою правую руку той же мазью, какой она намазывала себя, когда собиралась на шабаш, она неоднократно ущипнула его за ухо». И в голландской деревне Остбрюк одна вдова, по свидетельству ее слуги, думая, что все заснули, обычно шла в конюшни заниматься черной магией28.
Никто лучше Церкви не был осведомлен о злых силах глубокой ночи. «Могут ли люди прерывать свой сон, замышляя темные дела, — спрашивал преподобный Хорнек, — и не следует ли нам прерывать его, чтобы творить дела, подобающие чадам света?» С тем же пылом в конце XVI века Амадор Арраис, епископ Португальский, подчеркивал необходимость ночной бдительности: «Не только правители, капитаны, философы, поэты и главы семейств просыпаются и встают посреди ночи… но также воры и разбойники… и не должны ли мы ненавидеть сон, прокладывающий путь пороку? Не должны ли мы бодрствовать, остерегаясь головорезов, которые не спят, чтобы убить нас?» Конечно, не было недостатка в молитвах, предназначенных для чтения, «когда вы проснетесь ночью» или «при первом пробуждении» — в пору, которую не следует путать ни с рассветом, ни «с подъемом», ибо для нее прописаны совершенно другие религиозные обряды. Молитвы напоминали осторожным мужчинам и женщинам о прославлении Бога, губительной природе Сатаны и о необходимости противостоять «огненным стрелам дьявола», «стрелам искушения» и «порочным вожделениям»29. Согласно свидетельствам, многие использовали для молитвы утренние часы. В цикле, состоящем из трех стихотворений, «Ожидание Бога в ночи» (Watching Unto God in the Night Season) Уильяма Каупера пересказываются его полуночные молитвы. Один из родителей поучает дочь: «Самое полезное время для тебя и для нас — это, должно быть, середина ночи, когда мы все улеглись, когда пища переварена, когда все труженики завершили свою работу… и никто не будет смотреть на тебя, кроме Бога». Автор «Полуночных мыслей» «так привык к раздумьям по ночам (во время первого пробуждения), что они стали казаться ему приятнее сна»30.
Большинство людей, проснувшись, по-видимому, не покидали свои постели или покидали ненадолго. Помимо молитвы, они беседовали с партнером по ночлегу или осведомлялись о здоровье его ребенка или супруги. Лежа со своей дочерью Сарой, Мэри Сайкс «после первого сна почувствовала», что та «дрожит и держит руки сложенными вместе», и спросила, «что ее беспокоит»31. Часто между супругами происходила сексуальная близость. Как рассказала одна из жен, у ее мужа была «привычка, проснувшись, ощупывать меня, а потом он снова засыпал». Луи-Себастьян Мерсье шутил по поводу стука парижских экипажей: «Торговец просыпается после первого сна, разбуженный их звуком, и поворачивается к жене, отнюдь не лишенный определенных желаний». Согласно древнему еврейскому поверью, половые сношения «в середине ночи» заставляли мужей забыть о «людской молве» и «других женщинах»32.
Для нашего понимания демографии раннего Нового времени значимо, что разделенный на части сон, вероятно, увеличивал способность супругов зачать детей, ибо отдых обычно благоприятствует усилению репродуктивности. Действительно, французский врач XVI века Лоран Жубер пришел к выводу, что интимная близость ранним утром давала возможность пахарям, ремесленникам и другим труженикам иметь множество детей. Из-за того что усталость не позволяла работникам заниматься сексом, как только они ложились в постель, интимная близость происходила «после первого сна», когда они «испытывали большее наслаждение» и «делали это лучше». «Сразу после этого, — советовал Жубер страстно желающим зачать, — если возможно, снова засыпайте, а если нет, то, по крайней мере, оставайтесь в постели и расслабьтесь за приятной беседой». Подобным образом врач Томас Коган советовал совершать половой акт «не перед сном, а после того, как переварится пища, незадолго до наступления утра, и потом немного поспать»33.
Вероятно, даже еще чаще люди использовали этот таинственный интервал уединения для того, чтобы погрузиться в раздумья, поразмыслить о событиях предстоящего дня и подготовиться к наступлению рассвета. Ни в какое другое время дня и ночи, особенно в многонаселенных домах, не удавалось настолько сосредоточиться и уйти в себя. «Лежа в постели без сна, я всегда о чем-нибудь думал», — заметил итальянский ученый Джироламо Кардано. Томас Джефферсон перед сном обычно читал труды по моральной философии, «над которыми размышлял, когда просыпался». По мнению моралиста Френсиса Куорлза, темнота не меньше, чем тишина, способствовала сокровенным раздумьям. Чтобы «извлечь для себя большую пользу (особенно в делах, которые требуют богатого воображения), он рекомендовал: «После первого сна пробудись окончательно, тогда тело и дух твой будут пребывать в наилучшем расположении и никакой шум не потревожит твой слух, ничто не отвлечет твой взор»34.
Естественно, полуночные размышления иногда бывали тягостными. Персонаж комедии эпохи короля Якова I «У каждой женщины свой нрав» (Woman in Her Humor; 1609) «по ночам после первого сна» писал «томные любовные сонеты, направленные против сомнительной удачи соперника». Хорошо это или плохо, данный промежуток времени давал еще один повод для того, чтобы ночь приобрела повсеместную репутацию «матери совета»35. Говорят, торговец XVII века Джеймс Бови, начиная с сорокалетнего возраста, держал «всю ночь подле себя горящую свечу, перо, чернила и бумагу, дабы записывать мысли по мере того, как они приходили ему в голову». Между тем немецкий адвокат для фиксирования своих мыслей соорудил возле кровати столик из черного мрамора. Действительно, согласно документу 1748 года, в середине XVIII столетия для лучшего сохранения полуночных мыслей были придуманы методы «письма в темноте — столь же ровного, как днем или при свете свечи». Через двадцать лет после получения первого патента лондонский торговец Кристофер Пинчбек-младший рекламировал свое приспособление «для ночных воспоминаний» — огороженную дощечку, покрытую пергаментом, с горизонтальной направляющей щелью, при помощи которой «философы, государственные деятели, поэты, богословы и любой человек чувства, дела или мысли могли увековечить все эти счастливые, зачастую исполненные сожаления и неповторимые порывы или думы, которые обычно возникают в процессе размышлений в бессонную ночь»36.
Все же георгианская изобретательность никого не должна вводить в заблуждение. Проснувшись после первого сна, каждый бодрствующий ум сначала пребывал и не в сонном, и не в активном состоянии. Французы называли этот неопределенный период полусознания dorveille, что означает «между сном и бодрствованием». Хотя этому периоду и предшествовал непрерывный сон, моменты пробуждения после первого сна часто характеризуются двумя особенностями — неясным мышлением, блуждающим «вокруг желания», соединенного с явным ощущением удовлетворенности37. «Мое сердце свободно и легко», — писал Уильям Каупер. В «Преследуемом видениями разуме» (The Haunted Mind) Натэниел Готорн, описывая одно из своих пробуждений от «полуночного сна», утверждал: «Если бы вы могли выбирать час пробуждения после сна в течение целой ночи, это происходило бы так… Вы находите промежуточное пространство, куда не вторгается суета жизни, где настоящий момент затягивается и становится реальностью». Менее оптимистично воспринимал «такие часы уединения» священник из Хаммерсмита Джон Уэйд, который в 1692 году жаловался на то, что, когда «пробуждаешься ночью или ранним утром, мысли нестройны, бессвязны», «размышления тщетны, не приносят пользы» и люди «творят зло в своих постелях»38.
III
Узник, окованный цепями деспотизма, находясь вдали от своей темницы, обличает своего тирана перед цивилизованным миром. Отвратительное неравенство среди людей в определенном смысле прекратилось.
Луи-Себастьян Мерсье (1788)39
Нередко люди пробуждались от первого сна, чтобы осмыслить калейдоскоп не совсем ясных образов, слегка расплывчатых, но вместе с тем живых картин, рожденных сновидениями, — то, что Тертуллиан справедливо назвал «делом сна». Так, согласно ранней английской легенде, к императору Долфину «во сне» приходит пророческое видение, а Канака в «Рассказе сквайра» просыпается после «первого сна» от приснившейся ей теплой вспышки света — «ибо такая большая радость наполнила ее сердце». Мистик Джейн Лид записала о мартовской ночи 1676 года: «Во время моего первого сна, ночью, много волшебных деяний и мыслей было даровано мне». Менее удачлив был Оливер Хейвуд — «во время первого сна» его посетило «ужасное видение»: его сын «стал изучать магическое, или черное, искусство». А в «Аллее баранов» (Ram Alley; 1611) сэр Оливер говорит о предрассветных часах, «когда служанки просыпаются от первого сна и, обманутые сновидениями, начинают плакать»40.
Как и в предшествующие эпохи, в период раннего Нового времени сны играли существенную роль в жизни человека, согласно общему мнению всякий раз открывая как будущее, так и прошлое. О разнообразных источниках сновидений поэт эпохи Стюартов Френсис Хьюберт писал:
Сны — это дети безмятежной ночи,
Происходящие от разных матерей,
премного суетных и тщетных;
Одни порождены раздумьями
иль чувственными искушениями дня,
Другие — болью опьяняющей в желудке,
что поражает разум, словно яд.
Истоком снов послужит и характер:
так, жизнерадостным натурам
Приснятся маскарады, представленья,
застолья или сладкие напевы;
Другие сны у мертвецов и привидений ищут силы,
Являясь порождением тоски глубокой
и души меланхоличной.
Есть сны — предупреждение кончины,
И, несомненно, меж них пророческие есть виденья —
То сны, что Милосердный Бог великодушно нам дарует,
Предупреждая нас, остерегая и путь спасенья указуя[94]41.
Задолго до конца XVIII века, когда представители образованных классов высмеивали «простонародное» толкование снов, критики, подобные сэру Томасу Брауну, осуждали рожденные ночью «вымыслы и ложь». По мнению Томаса Нэша, сон был не чем иным, как «дурманящей пеной и вздором воображения»42. Тем не менее даже скептики признавали широко распространившееся обаяние сновидений. Автор Томас Трайон писал в 1689 году, что «большое число невежественных людей (глупые женщины и слабовольные мужчины) во все времена и нередко в наши дни, основываясь на своих сновидениях, делают множество нелепых и суеверных умозаключений». Weekly Register в 1732 году писал: «В мире существует определенный сорт людей, которые больше всего доверяют тому, что рождается воображением в снах»43. Однако критики иногда были противоречивы в своих обвинениях. Браун, например, признавал, что сны могли помочь людям «более хладнокровно понять» себя; а губернатор Массачусетса и религиозный лидер Джон Уинтроп, утверждая, что сны не заслуживают «ни доверия, ни уважения», в то же время увековечил в своем дневнике взгляд колониста на Божественное вмешательство»44.
То, что «английская нация всегда была знаменита сновидениями», как писал в 1767 году Somnifer, подтверждается нахлынувшими продажами сонников (дешевые издания для широкого читателя, разделы в книгах предсказаний или справочниках), посвященных толкованию различных типов видений, часто с замечательными уточнениями. Сонники, продававшиеся в середине XVIII века по ценам всего лишь от одного до шести пенсов, долго оставались общедоступной альтернативой местным предсказателям. Лишь несколько наиболее полных собраний включали в себя единственный сохранившийся древний путеводитель по сновидениям — «Толкование снов», — написанный во II веке н. э. Артеми-дором Эфесским. На протяжении XVI века этот труд привлекал к себе столь огромный интерес, что был переведен на итальянский, французский, немецкий, латинский и английский языки. К 1740 году только английский текст выдержал 24 издания. Его доморощенными конкурентами, опубликованными в Лондоне, стали первые издания 1571 и 1576 годов книги «Наиприятнейшее искусство толкования снов…» (The Most Pleasaunte Arte of the Interpretation of Dreames…) Toмаса Хилла и сочинение «Ночные застолья, или Всеобщая книга снов» (Nocturnal Revels, or, a Universal Dream-Book), впервые увидевшее свет в 1706 году. Этот сонник включал в себя расположенные по алфавиту главы, от «Знакомства» до «Письма», в которых освещалось несколько сотен снов; каждый из них был наделен смыслом благодаря скрытому в нем знамению, например: «Если вам снятся белые куры на навозной куче, это означает позор, вызванный ложным обвинением»45.
Широкая публика ценила не только пророческую функцию снов, но и открываемую ими возможность более глубокого понимания тела и души. По мнению врачей, некоторые сновидения были обусловлены состоянием здоровья, как в свое время утверждали Аристотель и Гиппократ. Хирург XVI века Амбруаз Паре говорил: «Тем, у кого избыточное количество слизи, снятся половодья, снега и наводнения, а также падение с большой высоты». Больше повезло «тем, в чьих телах было слишком много крови»: им «снились бракосочетания, танцы, объятия женщин, праздники, шутки, смех, фруктовые сады и парки»46. Другие сны, по всеобщему признанию, проливали свет на внутреннюю сущность человеческого характера. Задолго до философов-романтиков XIX века, а также Зигмунда Фрейда европейцы высоко ценили сновидения за их проникновение в личность, в частности за то, что они отражали отношения человека с Богом. «Мудрый человек, — писал в 1628 году Оуэн Фелтэм, — учится познавать себя как под покровом ночи, так и в поисках верных дневных путей». Однако ночь считалась высшим учителем, ибо «во сне мысли наших душ обнажены и естественны». По мнению Трайона, отрицавшего пророческие свойства снов, они «выявляли не только действительное состояние каждой человеческой души… но и то, каковы наши бодрствующие характеры, внутренняя сущность и намерения»47.
Некоторые откровения были нежелательны. Пуританский священник Ральф Джосселин записал в своем дневнике: «Говорят, что сны отражают темперамент человека; этой ночью мне приснилось, будто я необыкновенно зол на мужчину, который был несправедлив ко мне и моему ребенку, настолько зол, что мне за себя стыдно; Господь по милости своей оградил меня от этого греха». Англиканский архиепископ Уильям Лауд был очень обеспокоен сном, в котором он «примирился с Римской церковью», так же как и Сэмюэл Сьюолл, когда ему приснились «ступени к Небесам», ведущие в никуда48.
Обременявшие дневную жизнь тягостные ритуалы и правила не столь часто посягали на безграничную свободу сновидений. Отсюда поговорка «Собаке снятся хлеб, просторы и охота». В 1762 году маркиз де Караччиоли отмечал, что душа в конечном счете способна «видеть, говорить и слушать… Мы завоевываем новый мир, когда спим». Люди, вынужденные пользоваться иностранным языком в течение дня, ночью могли смотреть сны на родных языках; другие в сновидениях спокойно раздавали клятвы или наслаждались эротическими фантазиями. Похотливые мужья, подозревающие друг друга супруги совершали прелюбодеяние, на протяжении ночи ни разу не встав с постели. Тем более бережно Пепис хранил такие сны в памяти в разгар Великой чумы. После того как ему пригрезилась любовная связь с леди Кастлмэйн («лучшее из того, что когда-либо снилось», — «весь флирт, какого я с ней желал»), Пепис размышлял: «Вот было бы счастье, если бы мы находились в своих могилах… мы могли бы спать и видеть сны, но только сны, подобные этим. Тогда нам не надо было бы бояться смерти, как мы боялись ее во время чумы». Жена относилась к его снам настолько подозрительно, что, когда он спал, ощупывала его пенис с целью проверить, нет ли эрекции. Джону Кэннону, напротив, снился «чудесный сон», наполненный «различными поворотами и позами», а в итоге он обнаружил, что его партнершей была собственная жена49.
Можно лишь догадываться, как много сновидений не было упомянуто в дневниках. Большинство снов, вероятно, казались слишком обыденными, чтобы их фиксировать. Лауд с 1623 по 1643 год отметил в своих дневниках 32 сна, тогда как Джосселин описал в общей сложности 33 сна за весь период с 1644 по 1683 год50. Кардано в своей автобиографии объяснял: «У меня нет желания подробно останавливаться на ничего не значащих деталях», рассказывая взамен «о тех важных аспектах, которые кажутся самыми яркими и определяющими». К сожалению, то, что Кардано опустил как незначительное — его интересовало, «какая будет польза», — могло быть важнее не столь прозаических видений. К тому же он сообщал своим читателям, что «не хочет пересказывать» множество «поразительных снов», в которые «трудно поверить». Таким образом, он исключил сны либо слишком банальные, либо слишком шокирующие. Один из виргинских плантаторов XVIII века не стал «записывать дурной сон» в свой дневник из-за боязни, что «эти страницы попадут в плохие руки». Неудивительно, что даже Фрейд, самый известный современный сторонник толкования снов, выражал пессимизм относительно своей способности постичь видения исторических деятелей51.
Все же сформировать общее впечатление, основанное на широком круге сновидений, зафиксированных отдельными людьми, возможно. Кажется очевидным, что большинство снов являлись в известной степени заурядными, отражавшими повседневные заботы. Посетителю Северного Уэльса приснилось «бесконечное восхождение на скалы», в то время как ученому снились книги — как он терял их и как находил52. Несмотря на утверждение одного историка, что сны до XIX века были в большинстве случаев связаны с символами неба и ада, видения изобиловали разнообразными сюжетами — и мирскими, и духовными. Даже в снах представителей клира религиозные темы не доминировали. Сэмюэлу Сьюоллу в 1686 году приснилось, что Христос собственной персоной посетил Бостон, остановившись на ночь в «Фазер-Халлс». Кроме того, по признанию Томаса Джолли, «иногда мои сны праведны и дела соответственно таковы, но Господь знает, что, как правило, они суетны»53.
Большинство снов не доставляло удовольствия. Многие сны, записанные в дневниках, отражали обеспокоенность, грусть или злость. «Плохих снов больше, чем хороших», — сожалела Маргарет Кавендиш54. Хотя отрицательные эмоции, рождаемые сновидениями, были обычным явлением, при сравнении их с видениями XX века можно открыть специфические источники тревоги, характерные для тех, кто вел дневник. Некоторых во сне преследовали особые страхи, к примеру страх нищеты, судебных разбирательств, политической интриги или даже военного нападения. Сьюоллу дважды приснилось вторжение французов в Бостон55. Преобладали, однако, более обыденные темы. Физические недуги принимали угрожающий характер, — кажется, в первую очередь это касалось боязни гниющих зубов (даже в наши дни постоянный источник тревоги). Лауд в одном из сновидений из-за цинги потерял почти все свои зубы56. Тематика других страданий распространялась от вспыхнувшего огня (не только в аду, но и в постели) до растерзания бешеными собаками (бешеные животные составляли немалую заботу). Элизабет Дринкер приснилось, что ее сын подавился кожурой жареной свинины57. Всеобщим был страх насилия. Многие боялись отравления или еще более ужасной смерти. Илайесу Эшмолу снилось, что его отец во время бегства из тюрьмы, помимо страдания, причиненного ударом по голове, «обрезал правое бедро в паховой области». А Босуэлл, находясь в Эдинбурге, увидел во сне, «как в Лондоне с бедняги, лежавшего голым на навозной куче, омерзительный бандит ножом срезал кожу, словно с освежеванного быка»58. Сны изобиловали злыми духами — и в аду, и в кругу семьи. Методист Бенджамин Лэйкин записал, как во сне, возвращаясь с церковной службы, он вынужден был скрываться от преследования демонов59.
Смерть была неизбежна. Все видели во сне свою смерть, и среди прочих — Джосселин, Сьюолл, пастор Вудфорд и Уильям Бёрд II. В 1582 году сон предвещал Джону Ди и потрошение, и смерть, а кембриджскому олдермену Сэмюэлу Ньютону в 1708 году приснилось, как он копает себе могилу. И Джосселину, и Сьюоллу приснилось, что они потеряли своих жен и детей, а Босуэллу — смерть дочери и отца (в трех разных случаях), с которым у него были натянутые отношения60. Другим снились выкидыши и смерть от чумы. Ньютон в 1695 году видел во сне «великое множество людей», несущих трупы. В одной из дневниковых записей Лауд вспоминал: «Мне приснились похороны, чьи — не знаю, и я стоял около могилы. Я проснулся в унынии»61.
В более приятных сновидениях преобладали посещения ушедших из жизни или бывших возлюбленных — немалое утешение в эпоху высокой морали. Автор «Полуночных размышлений» писал о «частых разговорах во сне с умершими друзьями». Венецианский раввин Леон Модена сделал запись об одной такой встрече с почитаемым им учителем и о другой — с матерью. «Очень скоро ты будешь со мной», — сказала она ему. Леди Уэнтворт видела во сне находящегося далеко от нее сына. «Эти три ночи, — написала она ему в 1710 году, — я была намного счастливее, чем в те дни, когда мечтала о встрече с тобой». В Альпах многие верили в существование Nachtschar, «ночных призраков», посланников мертвецов из видений шаманов. Считалось, что лишь некоторые праведники, например баварский пастух Конрад Штеклин из Оберстдорфа, обладают чудесной способностью во сне присоединяться к пиршествам призраков. По свидетельству Штеклина и других шаманов, там были пляски и веселая музыка. В обеих Америках рабы в своих снах иногда летали домой, в Западную Африку. Раб из Новой Англии рассказывал об одном из путешествий под защитой «доброго духа»: «Наконец мы достигли берега Африки и увидели Нигер… Казалось, ночные тени исчезли, и неожиданно передо мной открылся прекрасный вид Дейи (Deauyah), моего родного города»62.
Если сон, романтизированный драматургами и поэтами, приносил облегчение уставшим и удрученным, то в основном это облегчение, наверное, шло от сновидений. Одна лишь возможность видеть сны, хотя и не всегда приятные, являлась свидетельством независимости душ. Как размышлял французский писатель в 1665 году, способность сна освежать «тело и разум» имела меньшее значение, чем та «свобода», которую он давал «душе». В то время как сон часто не приносил удовлетворения, сновидения открывали не только путь к самоосознанию, но и прямую дорогу к избавлению от дневных страданий. Очарование снов, видимо, возросло с концом эпохи Средневековья, когда на протяжении многих лет Католическая церковь прочно удерживала веру в то, что только монархи и священнослужители способны видеть наделенные смыслом сны. Персонаж одной из басен Жана де Лафонтена утверждал: «Судьба сплела мне жизнь не из золотых нитей, / Нет роскошных портьер у моей постели; / Все ж мои ночи столь же ценны, сколь глубоки их сновиденья: / Удачи прославляют сон мой»63.
Разумеется, для некоторых бедняков, как отмечал сатирик Уильям Кинг, «ночью повторяется каждодневный труд». Но другим сны давали утешение. «Постель обычно рождает сны, а посему приносит радость, которую больше ничто не может доставить», — писал корреспондент газеты XVIII столетия. Если больному снилось здоровье, то не получившим взаимности влюбленным снилось супружеское счастье, а бедным — внезапное богатство. В Норфолке, как гласит народная молва, коробейнику из деревни Сваффхем трижды приснилось, что на Лондонском мосту его ждала «радостная весть». Преодолев длинный путь, он терпеливо стоял на том мосту, пока какой-то лавочник, случайно проходивший мимо, не спросил, «что же он за дурак, если отправился в путешествие по такому никчемному делу». Более того, далее рассказывают, что лавочник поведал свой собственный сон, увиденный накануне ночью: ему приснилось, что он обнаружил огромный клад, закопанный за домом коробейника в Сваффхеме. «Что может быть глупее?» — удивился лавочник. Поблагодарив его за эти слова, коробейник вернулся домой, конечно же, только для того, чтобы откопать клад у себя на заднем дворе64.
Реже сны предоставляли возможность робким мужчинам и женщинам бороться со злом и мстить за прошлые обиды. Философ Синезиус из Кирены в V веке прославлял неспособность тиранов контролировать сновидения своих подданных. Сны, как заметил Джордж Стайнер, «могут быть последним прибежищем свободы и сердцем сопротивления». В период раннего Нового времени это особенно относилось к крестьянам итальянской области Фриули, принадлежавшим к последователям культа плодородия. Известные как benandanti, они во сне сражались с ведьмами, чтобы защитить урожай и домашний скот. Один из сторонников этого культа — Баттиста Модуко объяснял: «Я незримо воплощаюсь в дух и оставляю тело; мы служим Христу, а ведьмы — дьяволу, мы боремся друг против друга: мы с пучком укропа, а они со стеблями сорго»65. В английской балладе «Сон поэта» выражалось недовольство законами, «доводившими до стона бедняков». «Когда я проснулся, — говорится в балладе, — мир перевернулся вверх ногами». Во время английской гражданской войны лидер диггеров Уильям Эверард ссылался на пророческое видение в поддержку своего радикализма. Действительно, сон направил диггеров избрать Сент-Джорджз-Хилл в Саррее для основания там их эгалитарной коммуны66.
Некоторые оскорбленные души даже воплощали в действительность те сцены насилия, которые видели во сне, и эта склонность подтверждается современными исследованиями в психиатрии. В испанском трактате середины XV века упоминались лунатики-убийцы: «как известно, они встречались в Англии». Во Франции ссора школьника с товарищем настолько отравила его сновидения, что во сне он встал, чтобы нанести удар кинжалом своему спящему врагу. Шотландский ученик Мэнси Вауч однажды ночью чуть не избил кулаками свою жену, когда ему приснилось, будто она в действительности была его хозяином, который пытался выгнать его из театра. «Оказывается, даже во сне, — рассказывал позднее Вауч, — я люблю свободу воли» — как видно, во сне больше, чем наяву67.
Сновидения никогда не имели в доиндустриальном мире столь же сильного влияния, какое уже на протяжении многих веков они имеют в большинстве незападных обществ. В некоторых африканских культурах сны по-прежнему не только служат источником критики руководства, но и формируют альтернативные сферы действительности с особыми социальными структурами. На острове Алор (Ост-Индия) целые семьи просыпаются один или несколько раз в течение ночи, разбуженные домочадцами, горящими нетерпением обсудить новые сны68. Столь же большое значение придавалось снам в сообществах раннего Нового времени. Многие владели «искусством вызывать приятные сновидения»; для этого читали перед сном, отказывались от тяжелой пищи или клали под подушку кусочек кекса. Не друживший с суевериями Франклин посвятил целый очерк теме жизнерадостных снов, советуя среди прочих мер умеренную еду и свежий воздух. Согласно молве, деревенские девушки прибегали к колдовству, чтобы взглянуть на своих будущих мужей. Одно заклинание XVI века, перепечатанное в английском дешевом издании, предписывало девушке положить лук под подушку, а затем продекламировать короткий стишок. После этого, «лежа на спине с широко разведенными руками, засыпай как можно скорее, и в своем первом сне ты его увидишь»69. Сны были настолько обычным явлением, что их содержание часто пересказывалось в семьях, среди соседей, в письмах и дневниках. В конце лета 1745 года Эбе-низер Паркман записал: «Рассказ начинается сном госпожи Биллингс, я позволил себе вольность его разузнать, и она его подтвердила». «Есть еще немало людей, — произнес критик в 1776 году, — которые имеют обыкновение мучить себя и соседей рассказами о своих нелепых сновидениях». Почти тридцать лет спустя сон одного человека о неминуемом землетрясении в Джермантауне (Пенсильвания) сорвал с места нескольких жителей, которым он сообщил по секрету о необходимости поспешного бегства в целях безопасности70.
С такого расстояния трудно представить себе, какое воздействие сновидения оказывали на людей и их личные взаимоотношения. Отголоски снов могли ощущаться как в течение скоротечных минут, так и, в редких случаях, всю жизнь. Проснувшись, в дневниках писали о своем «возбуждении», «ошеломлении» и «сильной тревоге». Сны Маргарет Бакстер об убийствах и пожарах, по свидетельству ее мужа Ричарда, «раздражали ее почти так же, как действительность». «У многих мысли в состоянии бодрствования полностью соответствуют мыслям во сне», — сообщалось в журнале Spectator за 1712 год. Дружба могла быть разорвана, любовь могла вспыхнуть, и дух мог либо воспрянуть, либо сникнуть. Виргинский колонист Джон Рольф под влиянием сна принял решение жениться на индейской девушке Покахонтас. В 1738 году Георг II был так обеспокоен сновидением о болезни жены, что глубокой ночью отправился в карете в Вестминстерское аббатство к ее гробу71. Некоторые обогащали свою жизнь, черпая из сновидений религиозное вдохновение. Хотя Ханна Хитон из Коннектикута называла сны «фундаментом из песка», она, как и многие другие, верила, что они способны «творить добро, когда направляют или ведут душу к Богу и Его слову». Подобным образом ланкаширский врач полагал, что «ниже достоинства христианина быть слишком суеверным и любопытным» по отношению к снам, к тому же он верил в «незаурядные сны в незаурядных случаях»72.
Видения имели такое значение, такой огромной была «привилегия сна», что границы между бодрствующим и незримым мирами все более размывались. События из сновидений несколько дней спустя вдруг оказывались подлинными. Увидев однажды необычное зрелище за своим окном, священник из Абердина не мог потом вспомнить, «приснилось оно ему или он наблюдал его в действительности». Корреспондент Sussex Weekly Advertiser утверждал: «Как много снов нам пересказывают ежедневно, причем так убедительно и правдоподобно, будто рассказчик сам верит в то, что не спал». В 1783 году в суде Олд-Бейли Ричард Дивилл оправдывал свое воровство четырех брусков железа тем, что он совершил это с согласия владельца. Мысль о том, что все происходило во сне, пришла Дивиллу слишком поздно, или же он так утверждал. Еще удивительнее, что доверчивый суд признал его невиновным73.
Поскольку семьи доиндустриальной эпохи спокойно спали до рассвета, многие самообличающие, утешающие и одухотворяющие сновидения погибали у постели — одни терялись за муками сна, другие рассеивались волнующими событиями нового дня — «уносились с возвращением света», как писал поэт Джон Уэйли. «Словно утреннее сновидение, — сказал Эдип Джона Драйдена (1679), — исчезли в суматохе дня»74. Напротив, привычка пробуждаться в середине ночи, после первого сна, позволяла многим запомнить свежие видения, перед тем как вновь впасть в забытье. Если не отвлекал шум, болезнь или какое-либо иное беспокойство, проснувшиеся, видимо, находились в расслабленном и полностью сосредоточенном состоянии. Действительно, некоторые сновидения — их воздействие увеличивается с повышением уровня гормона пролактина — могли сдерживать ночное раздражение. После момента пробуждения было достаточно времени для того, чтобы, начавшись с «хаоса несвязных образов», сновидение «вошло в свою структуру». Вероятно, не случайно Босуэлл, чей сон прерывался редко, так же редко, проснувшись утром, «предавался воспоминаниям» о своих снах. Серьезный автор «Нового искусства процветания» (The New Art of Thriving; 1706), наоборот, считал необходимым предостеречь читателей от обдумывания снов: «Какой стыд — проводить полжизни в сновидениях и дремоте; оставьте свои постели, как только первый сон покинет вас, чтобы не позволить привычке привести ваше тело в расслабленное состояние или (что хуже) обратить ваш рассудок в средоточие грязных мыслей (курсив мой. — А. Р. Э.)»75.
Почти двести лет назад европейский психолог Сигиз-мунд Эренрайх, граф фон Редерн, установил, что люди, «редко пробуждающиеся» после «первого сна», имеют при этом «такое же ощущение», как если бы их «прервали за выполнением очень важного задания». Клинические эксперименты в Национальном институте психического здоровья подтвердили, что у субъектов, практиковавших две стадии сна, перед самым пробуждением около полуночи глаза находились в быстром движении (rapid eye movement — REM), притом что REM — это стадия сна, прямо связанная со сновидением. Более того, Томас Вер обнаружил, что «переходы к бодрствованию, скорее всего, зависят от периодов REM, характеризующихся особенной интенсивностью», и, как правило, сопровождаются отличающимися своим «повествовательным свойством» «наиболее живыми сновидениями», которые многие участники эксперимента обдумывали в темноте76.
Так, в драме «Галатея», представленной перед публикой в присутствии королевы Елизаветы в ночь на новый, 1592 год, Эурота, один из женских персонажей, заметила: «Мой сон прерывист и полон видений». Ханна Хитон пробудилась ночью от сна, несшего вести от ангела, посланца Бога. «Добрую часть ночи, — кратко записала она в дневнике, — я боялась, что забуду этот чудесный сон». А в Ланкашире Ричард Кей рассказывал: «Мне снилось, что темной тихой ночью я не сплю и стою на коленях, испытывая мучительное унижение» 77.

I
Призраки и ведьмы сейчас показываются редко. Более совершенная философия разогнала эти духи и привела наши погосты в гораздо менее ужасное состояние.
Gentleman's Magazine (1755)1
Резкие перемены в ночной жизни больших и малых городов начались в XVIII веке. «ГОСПОДСТВО НОЧИ бесповоротно идет к концу», — объявил некий парижанин в 1746 году. Ни один период западной истории не переживал такого длительного штурма ночной сферы, как 1730–1830 годы. Люди не только допоздна не ложились спать, но, что важнее, все чаще осмеливались после наступления темноты выйти из дому в поиске удовольствия и выгоды. Вечерние прогулки — как одиночные, так и публичные гулянья с целью продемонстрировать свое богатство — стали поистине популярным времяпрепровождением. «Я очень люблю выйти погулять в лунную ночь», — заметила Элизабет Дринкер на рубеже веков. Там, где звонили вечерние колокола, в мелких и крупных населенных пунктах, печальный звон отдавал дань уважения минувшей эпохе. В далеком шотландском городке Элгине заезжий посетитель в 1790 году сказал: «Звонит вечерний колокол, но он, кажется, оповещает скорее о том, что пора зажигать, а не гасить свечу». Даже выражение «ночная пора», указывающее на специфический характер этого времени суток, постепенно уходило из повседневной речи2.
Важность чудесного преображения городской жизни трудно преувеличить. Часы, когда властвует темнота, утратили свою необычность, особенно для средних классов. Публичные пространства стали более обширными и многолюдными. Экипажи и пешеходы наводнили главные проспекты, а скверы и площади превратились в центры активности и суеты. Иногда очевидцы рассказывали о ночном оживлении городских улиц. О Новом мосте (Pont Neuf) через Сену посетитель Парижа в 1777 году говорил: «Ночь напролет, не переставая, по нему движутся пешеходы». Роберт Семпл обнаружил, что главная улица Неаполя после захода солнца «запружена» людьми. «Жизнь продолжается всю ночь», — писал о Лондоне 1801 года один из современников. В первых американских городах развивалось движение транспорта. «Вряд ли есть кто-то, — отмечалось в Boston Newsletter, — кому часто по вечерам не нужно находиться вне дома — либо по зову дружбы, человечности, долга, либо ради удовольствия». Посетитель Филадельфии в 1796 году был удивлен тому, что ее улицы после наступления темноты полны «суматохи»3.
Причины этой ночной революции разнообразны. Безусловно, на ранних этапах эпохи Просвещения она многим была обязана быстрому распространению научного рационализма. В первые годы XVIII столетия образованные мужчины и женщины по обе стороны Атлантики все настойчивее отвергали мировоззрение доиндустриального прошлого. Как великолепно постулировал Макс Вебер, вместе с прогрессом в грамотности, растущим неприятием Церкви и развитием капитализма представления эпохи Просвещения постепенно вели к «разочарованию» в западном мире. Среди зажиточных слоев населения здравый смысл и скептицизм одерживали верх над волшебством и суеверием. На континенте, как и в колониальной Америке, судебные дела по поводу колдовства к концу XVII века почти повсеместно сошли на нет. Последнее судебное разбирательство в Англии состоялось в 1712 году, когда парламент официально аннулировал свой законодательный акт против колдовства, изданный двадцать четыре года назад. Public Advertiser писал в 1762 году: «Каждый день мы ощущаем, что с развитием науки и образования вульгарные представления о духах, призраках, ведьмах и демонах уходят и умирают сами собой»4.
Правда, ложные сигналы все еще время от времени поступали. На протяжении XVIII века и Лондон, и Бристоль, и Дублин пережили получившее широкую огласку неожиданное столкновение со «злыми духами». Редкость подобных случаев способствовала их сенсационности. Наиболее известным стало лондонское Коклейнское привидение 1762 года, которое после расследования, проведенного Сэмюэлом Джонсоном, оказалось тщательно разработанным мошенничеством. В 1788 году газета имела возможность написать: «Вероятно, сейчас во всем Лондоне нет ни одного здания, о котором ходили бы слухи, что оно имеет репутацию дома, посещаемого привидениями». Лондон отказался от призрака. Примерно в то же самое время шотландский священник заявил, что «привидения, домовые, ведьмы и феи покидают землю»5.
С утратой веры в чудеса для многих городских семей ночи стали менее тревожными. Как и мир природы в целом, темнота во многом утратила атмосферу ужаса и волшебства. Являвшаяся среди образованных кругов в прошлом источником страха, ночь, по мнению некоторых очевидцев, даже стала предметом их благоговения и восхищения. Сам ночной воздух, когда-то считавшийся вредным, теперь казался приятным и освежающим. Такие небесные зрелища, как кометы, вызывали скорее восторг, нежели опасения, — к примеру, у беспрецедентного числа восхищенных обладателей телескопов. Художники, путешественники и поэты — все прославляли красоту и величие ночи. Лондонский книготорговец, посетивший континент в 1787 году, ликовал: «Вечер был тихим и приносил спокойствие, и небо было безукоризненно ясным, его украшали миллионы звезд, сияющих непревзойденной красотой». Так же и путешественник во Франции говорил: «Ничто не могло быть более восхитительным, чем это путешествие при лунном свете в ясную ночь». Все больше эссеистов восхваляли «особенные красоты» ночи. Ни одна оценка не была чрезмерной. «Необыкновенно прекрасна», — провозгласил писатель в 1795 году. Действительно, «Valverdi» в Literary Magazine утверждал: «День, с его сверкающим солнцем, пламенеющим в раскаленных докрасна небесах, при всем своем пышном великолепии уступает в трогательной красоте более тонкому благородству ночи — мягкому, но не вялому, величавому, но не кричащему, прекрасному, но не надменному»6.
Поскольку ночь представлялась теперь менее зловещей, на протяжении XVIII века она становилась и более доходной. Все больше темнота способствовала потреблению и зарождающейся индустриализации; толчком к этому послужила коммерческая революция, которая охватила Британию и значительную часть континента. Усовершенствование схем дорог и речных путей, наряду с новшествами в области связи, вело к расширению рынков как дома, так и за рубежом. В Северо-Западной Европе развивающийся, возросший числом и богатством городской средний класс содействовал в XVIII веке подъему домашнего потребления. Ремесленники, лавочники и конторские служащие, помимо удовлетворения своих основных потребностей, были заинтересованы в покупке предметов роскоши. Во многих крупных и малых городах хорошо посещаемые лавки, рынки и торговые галереи были открыты ночь напролет. «Все лавки работают до десяти часов вечера и превосходно освещены», — отмечал посетитель Лондона в 1789 году. На ярмарке в Гааге лавочники, полагаясь на лунный свет и лампы, демонстрировали свои товары после полуночи. Пале-Рояль был главным центром парижской вечерней торговли. «Вообразите себе великолепный квадратный замок и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках сияют все сокровища света, — писал путешественник. — И все это… разложено прекраснейшим образом и освещено яркими разноцветными огнями, ослепляющими зрение». Торговцы провозгласили ночь открытой для предпринимательства7.
Между тем первые владельцы мануфакур, вкладывавшие значительные капиталы в мельницы и машины, повышали производительность путем манипуляций с временем. В1790 году очевидец писал, что в Мидленде хлопкопрядильные фабрики сэра Ричарда Аркрайта «вообще не прекращают работу». «Когда они освещены темной ночью, — удивлялся он, — они выглядят особенно восхитительными». К тому же увеличивалось количество железных литых фонарей, от которых по всему небу расходились вспышки света и дым. Посетитель известного места Коулбрукдейл в Шропшире говорил: «В темноте вырывались наружу огни из печей»8. По мере того как товары заполняли внутренние рынки, а фермеры привозили в города скот и продукты питания, вечерние часы завоевывала и торговля. В середине XVIII века повозки и экипажи, почтальоны-наездники и почтовые кареты сновали по сельской местности. В 1773 году, лежа ночью в гостинице города Ситтингбурна в Кенте, Джеймс Эссекс жаловался: «Мне всю ночь не давали спать фаэтоны и экипажи, которые постоянно ездили туда-сюда»9.
Нет надобности говорить, что торговля, наряду с беспорядочным движением транспорта и развитием военных технологий, наносила вред городским стенам. Изначально задуманные для того, чтобы противостоять врагу, эти грандиозные укрепления мешали торговле особенно ночью, когда закрывались ворота. К концу XVIII века в большинстве крупных и малых городов по всей Европе стены были либо заброшены, либо разрушены. Современник рассказывал в 1715 году о крепостных валах Бордо: «Эта реликвия прошлого, захваченная расширившимися предместьями и препятствующая развитию порта, приговорена к уничтожению в равной степени как экономической необходимостью и ростом города, так и успехами в военном искусстве». Там, где стены все еще оставались, они часто служили не только для прогулок, но и для передвижения пешеходов и экипажей. В Париже, где внешняя стена в XVIII столетии сохранилась более чем наполовину, на крепостных валах можно было увидеть кареты10.
Не меньшее значение для перемен в ночной жизни имело праздное расточительство городских семей. Светские собрания, приемы, сады наслаждений, маскарады, игры, театры теперь больше, чем когда-либо, поглощали вечерние часы бомонда. «Светское время» затягивалось допоздна. В Лондоне критик в 1779 году писал: «Ночные увеселения, которые обычно начинались в шесть часов вечера, теперь начинаются в восемь или девять». Йорк и Бат прославились своими собраниями среди многочисленных подражающих им провинциальных городов, от Скарборо до Танбридж-Уэльса. Повсюду в Европе модные развлечения, кстати сказать, являлись показателем растущего богатства. В Неаполе они заканчивались не раньше пяти часов утра. Немецкий журнал в 1786 году объявил: «Вечерние и ночные удовольствия… определяют лицо каждого крупного города, где роскошь и разнообразие развлечений постоянно увеличиваются». Даже на острове Мэн, в городе Дугласе, часто устраивались вечеринки и собрания. И в Америке, которая в XVIII веке переживала свой собственный расцвет, житель Юга похвалялся: «У нас постоянные ассамблеи и много других развлечений»11.
Зажиточные буржуазные семьи стремились превзойти аристократов, сделавших свои собрания неотъемлемой частью жизни. Недавно обретенное богатство и мечты о знатности меняли устоявшиеся привычки и традиционный выбор мест отдыха. Лондонская газета в 1733 году отмечала: «Торговцы, вместо того чтобы развлекаться по вечерам, как это делаем мы — за трубкой и чашкой кофе, — бегут в драму, оперу или игорный дом». По рассказам очевидцев, годом позже «люди всех рангов» хлынули в театры Дублина, а в Венеции один из посетителей в 1739 году заметил, что маскарады стали «излюбленным удовольствием как вельмож, так и третьего сословия». Действительно, если судить по жалобам людей из высшего общества, росло число выскочек, получивших доступ к аристократическим развлечениям. Поскольку многие из них — театры, парки, различного рода собрания — носили коммерческий характер, этот доступ было сложно ограничить. Театральная публика в Лондоне состояла в основном из представителей среднего класса. Не получавшие приглашений на частные приемы буржуазные семьи во Франкфурте-на-Майне устраивали «подобные сборища среди своих». Необычайно популярными в Англии и колониальной Америке были также клубы. Поставленные на службу удовлетворения разнообразных интересов и занятий, они создавали для своих членов неофициальную обстановку товарищества и застолья, ибо многие клубы заранее арендовали таверны и кафе. Самым известным клубом стало «Лунное общество» Бирмингема, среди основателей которого были Эразм Дарвин, Джеймс Ватт и Джозайя Веджвуд. Посвятив себя научному прогрессу, общество получило это ироничное название благодаря тому, что его собрания устраивались в часы, когда луна была полной, а передвижение наиболее безопасным12.
II
Поскольку целая банда похотливых преступников орудовала и на улице, и вне улицы, всем пивным, в которых они угощались, было вменено в обязанность их не впускать; все заметили, что бордели, публичные дома и ночлежки закрыты и хорошо охраняются, улицы и темные закоулки тщательно вычищены и хорошо освещены, и все нарушители арестованы и наказаны, как предписывает закон… возможно, порок в городе будет истреблен.
British Journal (12 сентября 1730 г.)и
С разрастанием состоятельных незанятых классов появлялось все больше оснований для усиления тревоги по поводу ночных беспорядков, долгое время будораживших большие и малые города. Тогда как злые духи в течение XVIII века исчезли из пользующихся популярностью у городского населения мест, воровство, вандализм и насилие по-прежнему несли в себе постоянную угрозу. Казалось, преступность распространилась на обе стороны Атлантики. Увеличение численности населения, огромная безработица и повышение цен на продукты питания способствовали развитию нищеты среди социальных низов, главным образом в Европе. Свирепствовала имущественная преступность, хотя на протяжении XVIII столетия в Англии доля убийств действительно сокращалась. Бедняки «голодают, замерзают и развращаются среди своих, — писал Генри Филдинг, — а попрошайничают, воруют и грабят среди тех, кто выше рангом». Газета предостерегала: «Простые люди, особенно жители Лондона, более распутны, чем их предки». Верным или нет было ощущение растущей преступности, но на карту, по мнению чиновников, была поставлена независимость общества. Кто будет господствовать на общественных территориях по ночам: воры, проститутки и другие никчемные слои населения или вместо них — люди более высокого происхождения, в том числе представители расцветающего среднего класса? «С какой наглостью сталкиваются люди вечером и ночью даже в таком публичном месте, как Стрэнд!» — возмущался в 1754 году социальный реформатор Джонас Хэнвей. Во французских городах обычно жаловались на то, что coureurs de nuit[95] «оскорбляют и жестоко обращаются» с горожанами, «которые вынуждены по делам находиться вне дома, на улице». Городские центры от Женевы до Филадельфии страшились растущего беззакония, но, возможно, никто не испытал глубокой тревоги, охватившей Лондон. Преступность до такой степени заполонила столицу и ее пригороды, что в 1774 году был ограблен даже премьер-министр лорд Фредерик Норт. Всем этим событиям далеко до антикатолических Гордоновских мятежей, потрясших Лондон в 1780 году и повлекших за собой около трехсот смертей, и до эпидемии воровства и насилия, от которой город страдал на протяжении последующего за Американской революцией десятилетия. «Мы не можем ни уехать, ни спать дома в своих постелях!» — воскликнул один из жителей Лондона в 1785 году14.
Власти Лондона и других осажденных городов предпринимали разнообразные шаги для ужесточения дисциплины.
Главным образом это были меры, направленные на восстановление порядка в общественных местах, где усилия уже были сосредоточены на улучшении санитарных условий и мощении улиц. Поздние часы работы пивных стали излюбленной мишенью правительственных предписаний. Одна из газет в 1785 году настаивала на том, что ночлежки — «истинные вместилища негодяев, как мужчин, так и женщин, которые грабят публику по ночам и нарушают ее покой» — должны быть закрыты все одновременно15.
Однако исключительную важность имели два более стремительных наступления, проходившие во многих городах. Первое требовало усовершенствований в освещении общественных мест. Являясь широко известным символом прогресса на протяжении XVIII столетия, свет обладал огромным потенциалом как оружие общественного контроля. В 1736 году Лондон получил почти 5 тысяч масляных ламп для ночного освещения в любое время года. В преамбуле парламентского акта, направленного на «улучшение освещения улиц», упоминались лондонские «частые убийства, грабежи, кражи со взломом» и другие «уголовные преступления», совершаемые «по ночам». Прогресс в освещении городов по обе стороны Атлантики был достигнут благодаря использованию для этой цели масла, полученного от китобойного промысла, набиравшего обороты в течение века. «Никто не может игнорировать тот незначительный факт, что преступления почти всегда совершаются ночью», — ходатайствовали женевские радетели повышения качества освещения. Внедренные в Лондоне в середине 1780-х годов масляные лампы Арганда радикально отличались тем, что фитиль в них зажигался при более высоких температурах. Это новшество, а также новый, закрывающий пламя лампы стеклянный цилиндр позволяли получить заметно более яркий свет16.
Несомненно, XIX век шел по пути, проложенному XVIII столетием, но все же внедрение уличных светильников, работающих на угольном газе, сыграло более значимую роль. После того как они впервые появились на лондонской Пэлл-Мэлл в начале 1807 года, The Times восторженно писала: «Для Британского королевства после мореходства не существует ничего столь же важного». Действительно, свет, который излучала одна газовая горелка, был в 10–12 раз ярче, чем свет свечи или старой масляной лампы. Поскольку светильниками теперь были снабжены все главные магистрали города, возникла необходимость в использовании матового стекла для смягчения яркости. К 1823 году почти 40 тысяч фонарей освещали более двухсот миль лондонских улиц. Многие большие и малые города как в Британии, так и за ее пределами, например Париж, Берлин и Балтимор, вскоре пошли по проторенному Лондоном пути. Растущая популярность газового освещения позволила Liverpool Mercury объявить, что «дневной свет» скоро будет «властвовать на наших улицах и в магазинах ночь напролет». Сидней Паркер из романа «Сэндитон» (1817) Джейн Остин утверждал, что газ «сделал для предотвращения преступности больше, чем любой человек в Англии со времен Альфреда Великого»17.
Не менее важным для общественной безопасности было реформирование органов законного принуждения. Как заявляла London Chronicle в 1758 году, «свет и бдительность — злейшие враги негодяев». На протяжении XVIII века количество ночных дозоров увеличивалось и рос их профессионализм. С созданием специальных сил по борьбе с пожарами дозорные смогли сосредоточить свои усилия на борьбе с преступностью. Париж, как и ряд других европейских городов, фактически уже полагался на силу garde, специально обученных полицейских. Меньшим энтузиазмом отличались англичане, жившие в тех местах, где по традиции недоверчиво относились к авторитарным силам. Критики парламентского билля 1755 года о реформировании бристольского дозора выражали недовольство усилением власти, которую констебли и дозорные имели право применять для задержания ночных бродяг, вследствие чего «свобода лучших горожан может быть подвергнута опасности». Не менее настойчиво один из авторов Public Advertiser протестовал против учреждения ночных патрулей по образцу французской полиции, «чтобы шокировать нас за каждым углом»18.
Тем не менее перед лицом растущей преступности настроение общества начинало меняться, и Лондон постепенно совершенствовал свой дозор. Один из первых сторонников «создания профессиональной полиции» в Лондоне писал в 1762 году: «Наши дома будут защищены от пожара и наши люди — от нападения грабителей; безработным ученикам ремесленников будет запрещено шататься по улицам, а дерзкой проститутке — обманывать нерадивого клиента». Сначала в Вестминстере, потом повсюду дозорные становились более организованными, более многочисленными и более энергичными, что в конечном счете вылилось в учреждение в 1829 году столичной полиции, а затем последовало разрешение парламента на создание провинциальной полиции. Главный сторонник столичной полиции министр внутренних дел сэр Роберт Пиль писал премьер-министру: «Я хочу научить людей, что свобода состоит не в том, что ваш дом может быть ограблен организованными шайками воров, и не в том, что улицы Лондона могут находиться в распоряжении пьяных шлюх и мерзавцев»19.
В течение XIX века газовое освещение и профессиональная полиция преобразили ночную жизнь по обе стороны Атлантики. Размыв границы между днем и ночью, они изменили темп и масштаб человеческой жизни. Говоря с иронией, в некоторых районах, обеспокоенных промышленным загрязнением, ночи становились ярче именно потому, что дым и копоть затемняли улицы днем. В крупных и малых городах ночью появилась возможность для большей, чем когда-либо, свободы передвижения во времени и пространстве. И несмотря на увеличение количества пешеходов, улицы и площади стали более безопасными. Посетитель Лондона уже в 1829 году сообщал: «Длинные огненные цепочки, образованные тысячами ламп, тянутся на огромные расстояния. Витрины магазинов, освещенные с особенным блеском и заполненные дорогими товарами, которые служат приманкой для покупателей и, кажется, сверкают ярче за счет отражения в многочисленных зеркалах, производят самый поразительный эффект. Улицы запружены людьми, и тысячи изысканных экипажей едут к определенному часу на званый обед или туда, где можно послушать мелодии Пасты. Встречаются и ночные дозорные, возглавляемые современным Догберри. Они отправляются на обход из окружного караульного помещения по двое, в добротных мундирах, с фонарями и дубинками, гордые своей кратковременной властью и полные свирепой решимости охранять покой короля».
Постоянный житель Нью-Йорка вторил в 1853 году: «Возможности для вечерних прогулок существенно улучшились, и по многим улицам вечером пройтись так же безопасно и приятно, как при дневном свете». Тогда же и освещение домов стало ярче и безопаснее. Снижение доверия к свечам и одновременно использование менее воспламеняемых строительных материалов резко сократили количество городских пожаров, таким образом поощряя семьи освещать свои дома по вечерам20.
Улучшилась ли жизнь с отступлением темноты, нельзя сказать определенно. Помимо того что угольный газ имел тошнотворный запах, он являлся источником вредных выделений. Критики жаловались, что свет был слишком резким. На заводах стал применяться посменный труд, таким же образом владельцы осуществляли промышленный надзор. Ночь утратила свою конфиденциальность. Не только взгляд человека теперь получил возможность проникать дальше, но и самих этих взглядов стало гораздо больше, включая прежде всего взгляды полиции. По мере того как власти усиливали свое влияние, центры городов превращались в полицейские сообщества. Всех людей по ночам пристально осматривали, что иногда доводило до конфуза. Парадоксальный случай произошел в 1825 году: лондонский адвокат Джордж Прайс, помочившийся возле уличного фонаря на Мэйден-лейн, был обвинен в том, что имеет непристойный вид, — хотя темной ночью в таком поведении не было ничего необычного. Человек должен был вести себя в обществе все более и более сдержанно. Пьянство, драка, все формы хулиганства пали жертвой общественного надзора. Половые связи, даже романтические отношения требовали большей осторожности и контроля над физическими желаниями. «Все эти тайны, — писал французский поэт о недозволенном поведении, — освещены для свидетелей уличными фонарями из дурных углов»21.
Усовершенствование освещения и профессиональной полиции привели к противоречию между общественной безопасностью и личной уединенностью. Никто не сформулировал этот конфликт столь же изящно, как Ральф Уолдо Эмерсон, который написал: «В той же мере, в какой газовый свет признан лучшей ночной полицией, мир защищает себя безжалостной публичностью». Зачастую в английских городах не только полицейские ведомства обеспечивали уличное освещение, но и сами фонари приобрели известность «полицейских светильников». Даже домашние интерьеры, вследствие повышения качества освещения, стали лучше видны проходящим мимо; некоторые отправлялись на вечернюю прогулку только для того, чтобы внимательно рассмотреть своих соседей. Немного преувеличивая, автор работы «Берлин превращается в столицу» (Berlin Becomes а Metropolis) в 1868 году отмечал: «С изобретением газового света наша вечерняя жизнь получила неописуемую интенсивность, наш пульс участился, нервное возбуждение усилилось; мы должны были изменить свою внешность, свое поведение и свои привычки, потому что им нужно было соответствовать другому освещению»22.
Поскольку сон теперь занимал меньше времени, день каждого человека увеличился. Важно и то, что сон все большего количества людей приобретал цельность. Начиная с конца XVII века, благодаря тому что спать стали ложиться позже и освещение улучшилось, сон, поделенный на части, в крупных и малых городах постепенно, сначала среди зажиточных семей, затем среди прочих социальных слоев, утрачивал свою обыденность. Более интенсивное использование искусственного освещения как в доме, так и вне дома изменило согласно возрасту суточные ритмы человека. К середине XIX века — видимо, только у тех, кому было недоступно достаточное освещение, — сон по-прежнему делился на части, особенно когда приходилось рано ложиться спать. Например, выходец из рабочей среды, автор сочинения «Великий грязнуля» (The Great Unwashed; 1868), отмечал, что ночью, когда улицы города еще находились «в состоянии относительной суеты», рабочие, которые должны были «вставать ранним утром», «уже спали первым сном». Соответственно изменилась и значимость ночных сновидений. Как правило, промежуток бодрствования уже не был занят обдумыванием приснившегося ночью. С переходом к более крепкому и непрерывному сну все больше людей теряли связь со своими сновидениями и, как следствие, утрачивали повод для глубочайших душевных волнений. Мало иронии в том, что, превратив ночь в день, современная технология помогла преградить путь человеческой душе. Очень вероятно, что это было самой серьезной потерей, по словам старинного поэта, «уничтожившей наш первый сон и обманувшей наши мечты и фантазии»23.
III
Нам нужны электрические лампы, которые тысячами своих огней беспощадно уничтожат ваши таинственные, отвратительные, пленительные тени!
Филиппо Томмазо Маринетти (1912)24
По крайней мере несколько главных городов противились усовершенствованию искусственного освещения. В Риме папа Григорий XVI (1765–1846), руководствуясь неожиданным поворотом логики, запретил уличные фонари, дабы простой люд не мог воспользоваться их светом для разжигания бунта. Возражение против освещения прозвучало и в Кёльне, который, как объявил один из посетителей в 1801 году, «отстал по меньшей мере на два века от остальной Германии в развитии искусств и наук». Kolnische Zeitung в 1819 году опубликовала список аргументов, включавший в себя утверждение, что лампы противоречат «Божественному замыслу мироздания», предопределившему «темноту в ночное время». В Англии, чтобы сэкономить деньги, такие провинциальные центры, как Шеффилд, Лестер и Норидж, в 1820-е годы по-прежнему откладывали на потом освещение улиц «темными ночами»25. Даже в городах, снабженных газом, это происходило не везде. Центральные бульвары, как и торговые районы, и зоны проживания зажиточных классов, имели большую вероятность получить светильники. Искусственное освещение стало и символом, и определяющим фактором городской дифференциации. Многочисленные отдаленные переулки, боковые улицы и аллеи были по-прежнему лишены общественного освещения. Писатель вспоминал о своем детстве в Берлине: «Стоило сделать шаг на боковые улицы, и вы ощущали, что вернулись в прошедшие столетия». Со своей стороны, низшие классы в плохо освещенных многонаселенных районах чувствовали себя изолированными от основных городских магистралей и зон проживания более богатых людей. Хотя их предки когда-то слонялись по городам, как им заблагорассудится, удерживая ночное господство над обширными территориями, бедняки все более сосредоточивались в неосвещенных районах, подверженных разгулу преступности, как показано на гравюрах Гюстава Доре, изобразившего лондонские трущобы. «За пределами цивилизации», — заметил в середине века богатый житель Нью-Йорка, говоря об убогих окрестностях26.
Примечательно, что во время вспыхивавших порой городских беспорядков в первую очередь страдали уличные фонари. В противоположность папским опасениям, свет был другом установленного порядка. По тактическим и символическим причинам именно этот инструмент правительственного надзора подвергся разрушениям от Милана до Гётеборга. Посвященный Парижу периода революции 1830 года знаменитый роман Виктора Гюго «Отверженные» (1862) содержит главу, названную «Уличный мальчишка — враг освещения» и демонстрирующую технику битья фонарей сиротой Гаврошем в буржуазных районах. «Вместе с reverberes[96], — говорилось в сообщении о первой ночи Июльской революции, — были уничтожены все прочие символы предательской королевской власти». Подобное рассказывал очевидец и о революции 1848 года в Вене: «Множество людей, в основном низших сословий, собрались на Гласисе, били газовые фонари, рушили фонарные столбы… Из труб шел газ и вырывались гигантские красные столбы огня»27.
Несмотря на эффектность данного зрелища, оно не было последним вздохом сопротивления современному освещению. На протяжении большей части XIX века темнота встречала гостеприимный прием в сельской местности, где сохранялись крупные очаги деревенского фундаментализма, враждебно настроенного к развитию торговли, транспорта и средств сообщения. Там усилия, направленные на модернизацию, время от времени сдерживались или возрастали, чтобы по меньшей мере приспособиться к деревенским обычаям. В целях поддержания рабочей дисциплины на ланкаширской хлопкопрядильной фабрике в 1830-е годы было заведено во время ночной смены выставлять на обозрение изображения привидений, чтобы не позволить малолетним работникам уснуть. Для искусственного освещения деревенские семьи продолжали использовать сальные свечи, свечи с фитилем из сердцевины ситника и масляные лампы. Так западнойоркширская деревня Падсей избежала «грубого вторжения» «бесцеремонных людей», чем в 1887 году хвастался один из местных жителей. «Там нет газа, нет уличных фонарей и очень мало света в домах». Европейская сельская местность, по-прежнему таинственная и непредсказуемая, оставалась миром фей и сказок у камина, браконьерства и озорства. «Тогда на улицах не было газа, — вспоминал стаффордширский работник текстильной мануфактуры в 1892 году. — Это средство против шалостей и призраков тогда еще не вошло в разряд доступных ресурсов цивилизации»28.
К концу века газ, а затем и электричество вместе с другими чудесами современности неуклонно меняли сельские территории. Ко времени Первой мировой войны, если не раньше, деревни незаметно изжили в себе многие остатки традиционной жизни. Так, саррейский колесный мастер Джордж Стёрт в своей небольшой классической работе «Преображение деревни» (Change in the Village; 1912) описал, как «издающие ужасные звуки» машины, «новые придорожные фонари» и «горящие окна домов» нарушали «потаенные глубины темноты». Там же Стёрт упомянул о своем «первом сне», хотя и это уйдет в прошлое29.
* * *
Сегодня мы живем в эпоху динамично развивающейся культуры, для которой характерно повсеместное распространение электрического света — как внутри и снаружи домов, так и в любых сферах деятельности. Никогда раньше в нашей повседневной жизни мы настолько не зависели от искусственного освещения, возможно главного символа современного прогресса. Помимо того что вечер является счастливым обладателем круглосуточно работающих телевидения и радио, открытых двадцать четыре часа станций обслуживания и супермаркетов, он стал основным временем занятости для растущего сегмента западной рабочей силы, не говоря уже о миллионах совместителей. Темнота остается самым большим препятствием для расширения торговли. Изречение Томаса Эдисона «Поместите неразвитого человека в среду с искусственным освещением, и он станет лучше» касается как ночи, так и дня. В Европе и Северной Америке нет недостатка в столичных территориях, объявивших се-бя «двадцатичетырехчасовыми» городамй. Неудивительно, что сон тоже пал жертвой торопливого темпа и плотного расписания современной жизни. В Соединенных Штатах сегодня, наверное, 30 процентов взрослого населения ночью спит в среднем шесть или менее часов, и эта доля возрастает, поскольку все больше людей продлевают часы своей работы. Сну многих подростков, пренебрегающих им как напрасной тратой времени, наносят вред телевидение, компьютеры и другие средства сенсорного воздействия. Между тем армия Соединенных Штатов, добиваясь преимущества на поле сражения, инициировала изучение способов поддержания у солдат состояния бодрствования на период протяженностью до семи дней30.
В комедии Джона Драйдена «Амфитрион» (Amphitryon; 1690) античный бог Меркурий спрашивает у Ночи: «На что ты годишься… кроме любви и блуда?» В свете современных технологических преобразований мы сегодня могли бы задать тот же самый вопрос. Вместо того чтобы продлить ночное время, мы все больше рискуем постепенно его потерять. Небеса, наш старинный источник страха и удивления, уже затмил ослепительный блеск уличного освещения. Только в отдаленных местах можно мельком увидеть великолепие Млечного Пути. Пустое небо пришло на смену целым исчезнувшим из виду созвездиям. Напротив, причудливый мир сновидений отдалился от нас с утратой поделенного на части сна и, вместе с ним, лучшего понимания самих себя. Конечно, нетрудно представить себе то время, когда ночь исключительно в практических целях превратится в день, — поистине двадцатичетырехчасовое общество, в котором традиционные временные фазы, от утра до глубокой ночи, потеряют свои изначальные черты31. Российское правительство даже сделало попытку запустить экспериментальное «космическое зеркало», предназначенное для того, чтобы в отдельных районах трансформировать ночь в сумерки при помощи отраженного солнечного света32.
Еще не полностью утраченная красота ночного неба, циклическое чередование периодов темноты и света, peгyлярный отдых от дневных картин и звуков — все будет нарушено усилившимся освещением. Безмерно пострадают экологические системы с присущими им особенностями ночной жизни. С уменьшением темноты сильно сократится возможность уединения, интимности и размышления над собой. С приходом этого светлого дня мы потеряем живую частицу нашей человечности — столь же драгоценную, сколь и вечную. Ту, что в глубинах темной ночи дает надежду любой утомленной душе.


Утро. Из серии «Четыре времени суток» (1738).
Гравюра Дж. Моллисона с живописного оригинала У. Хогарта.
Список сокращений, принятых в примечаниях
Add. Mss. — Additional Manuscripts, British Library, London.
AHR — American Historical Review.
Assi 45 — Northern Assize Circuit Depositions, Public Record Office, London.
Bargellini, «Vita Nottuma» — Piero Bargellini, «La Vita Nottuma» in Vita Privata a Firenze nei Secoli XIV e XV (Florence, 1966), 75–89.
BC — British Chronicle (London).
Beattie, Crime — J. M. Beattie, Crime and the Courts in England, 1600–1800 (Princeton, N. J., 1986).
Beck, Diary — David Beck, Spiegel van Mijn Leven; een Haags Daboek uit 1624, ed. Sv. E. Veldhijsen (Hilversum, 1993).
Best, Books — Donald Woodward, ed., The Farming and Memorandum Boob of Henry Best ofEhnswell, 1642 (London, 1984).
BL — British Library, London.
Bodl. — Bodleian Library, Oxford.
Bourne, Antiquitates Vulgares — Henry Bourne, Antiquitates Vulgares; or, the Antiquities of the Common People… (Newcastle, Eng., 1725).
Braker, Life—Ulrich Braker, The Life Story and Real Adventures of the Poor Man ofToggenburg, trans. Derek Bowman (Edinburgh, 1970).
Brand 1777 — John Brand, Observations on Popular Antiquities… (Newcastle upon Tyne, 1777).
Brand 1848 — John Brand et al., Observations on the Popular Antiquities of Great Britain…, 3 vols. (London, 1848).
Breton, Works — Alexander B. Grosart, ed., The Works in Verse and Prose of Nicholas Breton…,2 vols. (1879; rpt. edn., New York, 1966).
Burke, Popular Culture — Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (London, 1978).
Burt, Letters — Edward Burt, Letters from a Gentleman in the North of Scotland to His Friend in London…,2 vols. (London, 1754).
Cannon, Diary — Memoirs of the Birth, Education, Life, and Death of Mr. John Cannon, 1684–1742, Somerset Archaeological and Natural History Society, Taunton, England.
Carter, Diary— Jack P. Greene, ed., The Diary of Colonel London Carter of Sabine Hall, 1752–1778, 2 vols. (Charlottesville, Va., 1965).
Clegg, Diary — Vanessa S. Doe, ed., The Diary of James Clegg of Chapel en le Frith, 1708–1755,2 vols. (Madock, Eng., 1978).
Cohens, Italy — Elizabeth Storr Cohen and Thomas V. Cohen, Daily Life in Renaissance Italy (Westport, Ct., 2001).
Cole, Diary — Francis Griffin Stokes, ed., The Blecheley Diary of the Rev. William Cole… 1765–1767 (London, 1931).
Cowper, Diary — Diary of Dame Sarah Cowper, Hertfordshire County Record Office, Hertford, England.
Crusius, Node — Jacobus Andreas Crusius, De Node et Nodurnis Officiis, Tam Sacris, Quam Prophartis, Lucubrationes Historico-Philologico-Juridicae (Bremen, 1660).
Defoe, Tour — Daniel Defoe, A Tour thro' the Whole Island of Great Britian..., 2 vols. (1724–1726; rpt. edn., London, 1968).
Dekker, Writing — Thomas Dekker, The Wonderful Year [Etc] and Seleded Writings, ed. E. D. Pendry (Cambridge, Mass., 1968).
Dietz, Surgeon — Master Johann Dietz, Surgeon in the Army of the Great Eledor and Barber to the Royal Court: From the Old Manuscripts in the Royal Library in Berlin, trans. B. Miall (London, 1923).
Drinker, Diary — Elaine Forman Crane et al., eds., The Diary of Elizabeth Drinker, 3 vols. (Boston, 1991).
DUR — Daily Universal Register (London).
Dyer, Diary — Diary of William Dyer, 2 vols., Bristol Central Library, Bristol.
East Anglian Diaries — Matthew Storey, ed., Two East Anglian Diaries, 1641–1729: Isaac Archer and William Coe (Woodbridge, Eng., 1994).
ECR — George Francis Dow, ed., Records and Files of the Quarterly Courts of Essex County, Massachusetts, 8 vols. (Salem, Mass., 1911–1921).
Evelyn, Diary — Esmond Samuel De Beer, ed., The Diary of John Evelyn, 6 vols. (Oxford, 1951).
F. Platter, Journal — Sean Jennett, ed. and trans., Beloved Son Felix: The Journal of Felix Platter, a Medical Student in Montpellier in the Sixteenth Century (London, 1962).
Falkus, "Lighting" — Malcolm Falkus, "Lighting in the Dark Ages of English Economic History: Town Streets before the Industrial Revolution," in D. C. Coleman and A. H. John, eds., Trade, Government, and Economy in Pre-Industrial England: Essays Presented to F. J. Fisher (London, 1976), 248–273.
Flaherty, Privacy — David H. Flaherty, Privacy in Colonial New England (Charlottesville, Va., 1972).
FLEMT — David I. Kertzer and Marzio Barbagli, eds., Family Life in Early Modern Times, Vol. 1 of The History of the European Family (New Haven, 2001).
G and LDA — Gazetteer and London Daily Advertiser.
G and NDA — Gazetteer and New Daily Advertiser (London).
Gamert, Lampan — Jan Gamert, Anden i Lampan: Etnologiska Perspektiv pd ljus Och Morker (Stockholm, 1993).
GM — Gentleman's Magazine (London).
Griffiths, Youth — Paul Griffiths, Youth and Authority: Formative Experiences in England, 1560–1640 (Oxford, 1987).
Grose, Dictionary — Francis Grose, A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue (London, 1785).
Harrison, Description — William Harrison, The Description of England, ed. Georges Edelen (Ithaca, N. Y., 1968).
Heywood, Diaries — J. Horsfull Turner, ed., The Rev. Oliver Heywood, B. A., 1630–1702; His Autobiography, Diaries, Anecdote and Event Books…4 vols. (Brighouse, Eng., 1882).
HMM and GA — Harrop's Manchester Mercury and General Advertiser.
HPLII — Georges Duby, ed., Revelations of the Medieval World, trans. Arthur Goldhammer, Vol. 2 of Philippe Aries and George Duby, eds., History of Private Life (Cambridge, Mass., 1988).
HPL Ш — Roger Chartier, ed., Passions of the Renaissance, trans. Arthur Goldhammer, Vol. 3 of Philippe Aries and Georges Duby, eds., History of Private Life (Cambridge, Mass., 1989).
HWW HI — Natalie Zemon Davis and Arlette Farge, eds., Renaissance and Enlightened Paradoxes, Vol. 3 of Georges Duby and Michelle Perrot, eds., A History of Women in the West (Cambridge, Mass., 1993).
Isham, Diary — Norman Marlow, ed., The Diary of Thomas Isham of Lamport (1658–1681)… (Famborough, Eng., 1971).
Janekovick-Romer "Dubrovniks" — Zdenka Janekovick-Romer, " 'Post Tertiam Cam-panam': Das Nachtleben Dubrovniks im Mittelalter," Historische Anthropologic 3 (1995), 100–111.
JIH — Journal of Interdisciplinary History.
Josselin, Diary — Alan Macfarlane, ed., The Diary of Ralph Josselin (London, 1976).
JRAI — John Cameron and John Imrie, eds., The Justiciary Records of Argyll and the Isles, 1664–1742,2 vols. (Edinburgh, 1949,1969).
JSH — Journal of Social History.
JUH — Journal of Urban History.
Jiitte, Poverty — Robert Jiitte, Poverty and Deviance in Early Modem Europe (Cambridge, 1994).
Kay, Diary — W. Brockbank and F. Kenworthy, eds., The Diary of Richard Kay, 1716–1751 of Baldingstone, Neary Bury: A Lancashire Doctor (Manchester, 1968).
Koslofsky, "Court Culture" — Craig Koslofsky, "Court Culture and Street Lighting in Seventeenth-Century Europe," Journal of Urban History 28 (2002), 743–768.
Lavater, Spirites — Lewes Lavater, Of Ghostes and Spirites Walking by Nyght, 1572, ed. John Wilson Dover and May Yardley (1572; rpt. ed., Oxford, 1929).
LC–London Chronicle.
LDA — London Daily Advertiser.
Lean, Collectanea — Vincent Stuckey Lean, Lean's Collectanea…, 4 vols. (Bristol, 1902–1904).
Legg, Low-Life — Thomas Legg, Low-life or One Half of the World, Knows not How the Other Half Live… (London, 1750).
Le Loyer, Specters — Pierre Le Loyer, A Treatise of Specters of Straunge Sights, Visions, and Apparitions… (London, 1605).
LEP — Lloyd's Evening Post (London).
LE-P — London Evening-Post.
Lewis, Diary — Diary of John Lewis, 1718–1760, Bodleian Library, Oxford, MS. Eng. misc. f. 10.
LM — Leeds Mercury.
Lottin, Chavatte — Alain Lottin, Chavatte, Ouvrier Lillois: Un Contemporain de Louis XIV (Paris, 1979).
Lowe, Diary — W. L. Sachse, ed., The Diary of Roger Lowe (New Haven, 1938).
Matthiessen, Natten — Hugo Matthiessen, Natten: Stuier I Gammelt Byliv ([Copenhagen], 1914).
Menetra, Journal — Jacques-Louis Menetra, Journal of My Life, ed. Daniel Roche, trans. Arthur Goldhammer (New York, 1986).
Moryson, Itinerary — Fynes Moryson, An Itinerary Containing His Ten Yeeres Travell…, 4 vols. (Glasgow, 1907).
Moryson, Unpublished Itinerary — Charles Hughes, ed., Shakespeare's Europe: A Survey of the Condition of Europe at the End of the XVIth Century, being Unpublished Chapters of Fynes Moryson's Itinerary (1617)… (New York, 1967).
Muchembled, Violence — Robert Muchembled, La Violence au Village: Sociabilite et Com-portements Populates en Artois du XVe au XVlIe Siecle (Tumhout, France, 1989).
Nashe, Works — Ronald B. McKerrow, ed., The Works of Thomas Nashe, 5 vols. (Oxford, 1958).
NHCR I–Charles J. Hoadley, ed., Records of the Colony and Plantation of New Haven, 1638–1649 (Hartford, Ct., 1857).
NHCR II–Charles J. Hoadley, ed., Records of the Colony or Jurisdiction of New Haven, 1653 to the Union (1663) (Hartford, Ct., 1858).
NHTR — Franklin Bowditch Dexter and Zara Jones Powers, eds., New Haven Town Records, 3 vols. (New Haven, 1917–1962).
NYWJ — New York Weekly Journal.
O'Dea, Lighting — William T. O'Dea, The Social History of Lighting (London, 1958).
OBP — The Proceedings on the King's Commissions of the Peace, Oyer and Terminer, and Gaol Delivery for the City of London; and also Gaol Delivery for the County of Middlesex, Held at Justice-Hall in the Old Bailey.
ODNB — Oxford Dictionary of National Biography (Oxford, 2004).
OED — Oxford English Dictionary, 1st edn. (Oxford, 1888–1928).
PA — Public Advertiser (London).
Parkman, Diary — Francis G. Walett, ed., The Diary of Ebenezer Parkman 1703–1782 (Worcester, Mass., 1974).
Paroimiographia — Paroimiographia: Proverbs, or, Old Sawes & Adages, in English (or the Saxon toung) Italian, French, and Spanish, whereunto the British, for Their Great Antiquity and Weight are Added… (London, 1659).
Patten, Diary — The Diary of Matthew Patten of Bedford, N. H. (Concord, N. H., 1903).
Pepys, Diary — Samuel Pepys, The Diary of Samuel Pepys, ed. Robert Latham and William Matthews, 11 vols. (Berkeley, Calif., 1970–1983).
PG — Pennsylvania Gazette (Philadelphia).
Pinkerton, Travels — John Pinkerton, ed., A General Collection of the Best and Most Interesting Voyages and Travels in all Parts of the World…, 17 vols. (London, 1808–1814).
Pitou, "Coureurs de Nuit" — Frederique Pitou, "Jeunesse et Desоrdе Social: Les Coureurs de Nuit a Laval au XVIIIe Siecle," Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 47 (2000), 69–92.
PL — Public Ledger (London).
PL 27 — Palatinate of Lancaster Depositions, Public Record Office, London.
Pounds, Culture — Norman John Greville Pounds, The Culture of the English People: Iron Age to the Industrial Revolution (Cambridge, 1994).
Pounds, Home — Norman John Greville Pounds, Hearth & Home: A History of Material Culture (Bloomington, Ind, 1989).
PP — Past and Present.
RB — William Chappell and J. W. Ebsworth, eds., The Roxburgh Ballads, 9 vols. (1871–1899; rpt. edn., New York, 1966).
Remarks 1717 —Remarks on Severall Parts of Flanders, Brabant, France, and Italy in the Yeare 1717, Bodleian Library, Oxford.
Ripae, Nocturno Tempore— Polydori Ripae, Tractatus de Nocturne Tempore: In quo Absohta Criminalium Praxis, CanonicaeaqlueJ; Materiae, Beneficiorum Praecipue Continentur. Contractus Etiam, Seruitutes, Judicia Civilia, Vltimae Voluntates ad Susceptam Prouinciam Obseruantur (Venice, 1602).
Roche, Consumption — Daniel Roche, A History of Everyday Things: The Birth of Consumption in France, 1600–1800, trans. Brian Pearce (Cambridge, 2000)
Ruff, Violence — Julius R. Ruff, Violence in Early Modern Europe, 1500–1800 (Cambridge, 2001).
Ryder, Diary — William Matthews, ed., The Diary of Dudley Ryder, 1715–1716 (London, 1939).
SAI — William Shaw Mason, comp., A Statistical Account, or Parochial Survey of Ireland, Drawn Up from the Communications of the Clergy, 3 vols. (Dublin, 1814–1819).
Sanderson, Diary — Robert Sanderson Diary, St. John's College, Cambridge.
Sanger, Journal — Lois K. Stabler, ed., Very Poor and of a Lo Make: The journal of Abner Sanger (Portsmouth, N. H., 1986).
SAS — Sir John Sinclair, ed., The Statistical Account of Scotland: Drawn up from the Communications of the Ministers of the Different Parishes, 21 vols. (Edinburgh, 1791–1799).
Schindler, "Youthful Culture" — Norbert Schindler, "Guardians of Disorder: Rituals of Youthful Culture at the Dawn of the Modem Age," in Giovanni Levi and Jean-Claude Schmitt, eds., A History of Young People in the West (Cambridge, Mass., 1997), 240–282.
Schindler, Rebellion — Norbert Schindler, Rebellion, Community and Custom in Early Modern Germany, trams. Pamela E. Selwyn (Cambridge, 2002).
Scott, Witchcraft — Reginald Scott, The Discoverie of Witchcraft (Carbondale, 111., 1964).
Select Trials — Select Trials at the Sessions-House in the Old-Bailey (1742; rpt. edn., New York, 1985).
Sewall, Diary — Milton Halsey Thomas, ed., The Diary of Samuel Sewall, 1674–1729,2 vols. (New York, 1973).
SH — Social History.
SJC — St. James Chronicle (London).
SWA or LJ — Sussex Weekly-Advertiser: or, Lewes Journal.
Swift, Journal — Jonathan Swift, Journal to Stella, ed. Harold Williams (Oxford, 1948).
SWP — Paul Boyer and Stephen Nissenbaum, eds., The Salem Witchcraft Papers: Verbatim Transcripts of the Legal Documents of the Salem Witchcraft Outbreak of 1692,3 vols. (New York, 1977).
T. Platter, Journal — Sean Jennett, ed. and trans., Journal of a Younger Brother: The Life of Thomas Platter as a Medical Student in Montpellier at the Close of the Sixteenth Century (London, 1963).
Taillepied, Ghosts — Noel Taillepied, A Treatise of Ghosts…, trans. Montague Summers (1933; rpt. edn., Ann Arbor, Mich., 1971).
Thomas, Religion and the Decline of Magic — Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth Century England (London, 1971).
Thoresby, Diary — Joseph Hunter, ed., The Diary of Ralph Thoresby, 2 vols. (London, 1830).
Tilley, Proverbs in England — Morris Palmer Tilley, ed., A Dictionary of the Proverbs in England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries… (Ann Arbor, Mich., 1966).
Torriano, Proverbi — Giovanni Torriano, Piazza Universale Di Proverbi Italiani: or, a Common Place of Italian Proverbs (London, 1666).
Torrington, Diaries — John Byng, 5th Viscount Torrington, The Torrington Diaries…, ed. C. Bryan Andrews, 4 vols. (New York, 1935).
Turner, Diary — David Vaisey, ed., The Diary of Thomas Turner 1754–1765 (Oxford, 1985).
UM — Universal Magazine.
US and WJ — Universal Spectator, and Weekly Journal (London).
Verdon, Night — Jean Verdon, Night in the Middle Ages, trans. George Holoch (Notre Dame, Ind., 2002).
VG — Virginia Gazette (Williamsburg).
Watts, Works — George Burder, comp., The Works of the Reverend and Learned Isaac Watts…, 6 vols. (London, 1810).
Weinsberg, Diary — K. Hohlbaum et al., eds., Das Buch Weinsberg Kolner Denkwurdigkeiten aus dem 16. Jdhrhundert, 5 vols. (Leipzig — Bonn, 1886–1926).
Wilson, English Proverbs — F. P. Wilson, ed., The Oxford Dictionary of English Proverbs (Oxford, 1970).
WJ — Weekly]oumal (London).
WMQ — William and Mary Quarterly.
Wood, Life — Andrew Clark, comp., The Life and Times of Anthony Wood, Antiquary, of Oxford 1632–1695…, 5 vols. (Oxford, 1891–1900).
Woodforde, Diary — John E. Beresford, ed., The Diary of a Country Parson, 5 vols. (London, 1924–1931).
WR or UJ — Weekly Register or, Universal Journal (London).
York Depositions — Depositions from the Castle of York, Relating to Offences Committed in the Northern Counties in the Seventeenth Century (London, 1861).
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Tryon, Wisdom's Dictates: Or, Aphorisms & Rules… (London, 1691), 68.
2. Middleton, A Mad World…, (London, 1608); Rousseau, Emile: or On Education, trans. Allan Bloom (New York, 1979), 133. Среди тех, кто первым обратил внимание на недостаток исследований по истории ночи, был Джордж Стайнер, который в 1978 году наблюдал: «Без достаточного внимания социальных историков остается факт, что большинство представителей человечества проводят значительную часть своей жизнь в темноте (со всем многообразием ее оттенков) — от захода солнца и до утра» (A Reader [New York, 1984], 351). В действительности ночное время в качестве самостоятельного предмета изучения остается за рамками исторических исследований на всех уровнях: от обзоров по западной культуре и до академических монографий. Среди лучших описаний можно назвать малоизвестную и противоречащую собственной эпохе работу Matthiesen Natten. Среди других ранних исследований по теме стоит назвать: Maurice Bouteloup, "Le Travail de Nuit dans la Boulangerie" (Ph. D. diss., Universite de Paris, 1909); A. Voisin, "Notes sur la Vie Urbaine au XV Siecle: Dijon la Nuit," Annales de Bourgogne 9 (1937), 265–279; Bargellini, "Vita Nottuma." He так давно специалисты обратились к изучению отдельных аспектов ночной жизни, хотя ночь как таковая, во всей ее полноте, остается неизученной, вне границ социальной истории и истории культуры. См.: Elisabeth Pavan, "Recherches sur la Nuit Vmitienne a la Fin du Moyen Age," Journal of Medieval History 7 (1981), 339–356; Peter Reinhart Gleichmann, "Nacht und Zivilisation," in Martin Caethge and Wolfgang Essbach, eds., Soziologie: Entdeckungen im Alltaghchen (Frankfurt, 1983), 174–194; Silvia Mantini, "Per un'Immagine Delia Notte fra Tercento e Quattrocento," Archivio Storico Italiano 4 (1985), 565–594; Wolfgang Schivelbusch, Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth Century, trans. Angela Davies (Berkeley, Calif., 1988); Corinne Walker, "Esquisse Pour une Histoire de la Vie Nocturne: Geneve au XVIIIe Siecle, Revue du Vieux Geneve 19 (1989), 73–85; Hero Camporesi, Bread of Dreams: Food and Fantasy in Early Modern Europe, trans. David Gentilcore (Chicago, 1989), 92—102; Robert
Muchembled, "La Violence et la Nuit sous l'Ancien Regime," Ethnologie Franqaise 21 (1991), 237–242; Mario Sbriccoli, ed., La Notte: Orditie, Sicurezza e Disciplinamcnto in Eta Moderna (Florence, 1991); Janekovick-Romer, "Dubrovniks"; Joachim Shlor, Nights in the Big City: Paris, Berlin, London 1840–1930, trans. Pierre Gottfried Imhof and Dafydd Rees Roberts (London, 1998); Paul Griffiths "Meanings of Nightwalking in Early Modem England," Seventeenth Century 13 (1998), 212–238; Bryan D. Palmer, Cultures of Darkness: Night Travels in the Histories of Transgression (New York, 2000); Pitou, "Coureurs de Nuit"; Schindler, "Youthful Culture"; Verdon, Night; Schindler, Rebellion; Koslofsky, "Court Culture."
3. G. C. Faber, ed., The Poetical Works of]ohn Gay… (London, 1926), 204; Edward Ward, The Rambling Rakes, or, London Libertines (London, 1700), 58; Christopher Sten, "When the Candle Went Out': The Nighttime World of Huck Finn," Studies in American Fiction 9 (1981), 49. В Библии говорится: «Всему свой час, и время всякому делу под небесами» (Екклесиаст, 3;1).
4. Michael McGrath, ed. and trans., Cinnine Amhiaoibh Ui Shuileobhdin: The Diary of Humphrey O'Sullivan, 4 vols. (London, 1936–1937); Emile Guillaumin, The Life of a Simple Man, ed. Eugen Weber, trans. Margaret Crosland (Hanover, N. H., 1983); Thomas Hardy, Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman (1891; rpt. edn., London, 1993), 18.
5. Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914 (Stanford, Calif., 1976), 419.
НАСТУПЛЕНИЕ НОЧИ
1. Fletcher and Francis Beaumont, Fifty Comedies and Tragedies (London, 1679), 217.
2. Lorus Johnson Milne and Margery Joan Milne, The World of Night (New York, 1956), 22; Thomas Hardy, The Return of the Native (1880; rpt. edn., London, 1993), 19; Nov. 5, 1830, Michael McGrath, ed., Cinnine Amhiaoibh Ui Shuileabhain: The Diary of Humphrey O'Sullivan (London, 1936), II, 355–356; John Florio, comp., Queen Anna's New World of Words, or Dictionarie of the Italian and English Tongues (London, 1611), 79. Традиционно считалось, что крики сипухи [совообразная птица] предвещают смерть. Gilbert White, The Natural History and Antiquities ofSelborne (London, 1994), 142–143; Brand 1848, III, 209–210.
3. Shakespeare, The Merchant of Venice, V, 1,124, and Measure for Measure, TV, 1,56–57.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Прелюдия
1. Daniel Boorstin, The Discoverers (New York, 1983), 26.
2. Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757; rpt. edn., New York, 1971), 272–281; John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. Peter H. Nidditch (Oxford, 1975), 397–398.
3. Juliette Favez-Boutonier, L'Angoisse (Paris, 1945), 134–150.
4. The Iliad, trans. Robert Fitzgerald (New York, 1992), 338; Kevin Coyne, A Day in the Night of America (New York, 1992), 35; Richard Cavendish, The Powers of Evil in Western Religion, Magic, and Folk Belief (New York, 1975), 88–89; Geoffrey Parrinder, Witchcraft: European and African (London, 1970), 123–124; Norman Cohn, Europe's Inner Demons: An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt (New York, 1975), 206–207.
5. Psalms 23:4; John 1:5; Matthew 27:45; Cavendish, Powers of Evil, 87–91; Ernst Cassirer. The Philosophy of Symbolic Forms, trans. Ralph Manheim (New Haven, 1964), 98–99.
6. Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England: A Regional and Comparative Study (London, 1970), 212; Lucy Mair, Witchcraft (New York, 1969), 42–43; B. Malinowski, "The Natives of Mailu: Preliminary Results of the Robert Mond Research Work in British New Guinea," in Transactions and Proceedings of the Royal Society of South Australia 39 (1915), 647–648; Parrinder, Witchcraft, 134–146; John Middleton and E. H. Winter, eds., Witchcraft and Sorcery in East Africa (London, 1969), passim.
7. Rolfe Humphries, trans., The Satires of Juvenal (Bloomington, Ind., 1966), 43–44; Mark J. Bouman, "Luxury and Control: The Urbanity of Street Lighting in Nineteenth-Century Cities," JUH 14 (1987), 9; Hazel Rossotti, Fire (Oxford, 1993), 59; O'Dea, Lighting, 14–16, 220.
8. Richard M. Dorson, ed., America Begins: Early American Writing (Bloomington, Ind., 1971), 280, 282; Theodore M. Andersson, "The Discovery of Darkness in Northern Literature," in Robert B. Burlin and Edward B. Irving, Jr., eds., Old English Studies in Honour of John C. Pope (Toronto, 1974), 9—12.
Глава первая
1. Nashe, Works, 1,345.
2. J. P. Arival, The Historic of this Iron Age: Wherein is Set Down the True State of Europe as It Was in the Year 1500…, trans. B. Harris (London, 1659), 2; George Herbert, Jaculum Prudentium: or Outlandish Proverbs… (London, 1651), 70; "Quid Tunc," SJC, Aug. 29, 1767; Honore de Balzac, The Human Comedy (New York, 1893), II, 6; William G. Na-phy and Penny Roberts, eds., Fear in Early Modem Society (Manchester, 1997).
3. Richard Steele, The Husbandmans Calling… (London, 1670), 270; Shakespeare, Henry V, IV, 0, 4; Shakespeare, The Rape of Lucrece, 764–767; Anthony J. Lewis, "The Dog, Lion, and Wolf in Shakespeare's Descriptions of Night," Modem Language Review 66 (1971), 1—11; Anthony Harris, Night's Black Agents: Witchcraft and Magic in Seventeenth-Century English Drama (Manchester, 1980); Jean-Marie Maguin, La Nuit dans le Theatre de Shakespeare et de ses Predecesseurs, 2 vols. (Lille, 1980).
4. John Hayward, Hell's Everlasting Flames Avoided… (London, 1712), 30; Shakespeare, Love's Labour's Lost, IV, 3, 252; Thomas Granger, The Light of the World… (London, 1616), 29; Piero Camporesi, The Fear of Hell: Images of Damnation and Salvation in Early Modern Europe, trans. Lucinda Byatt (University Park, Pa., 1991), 42; Nashe, Works, 1,346; John Dryden and Nathaniel Lee, Oedipus (London, 1679), 27; Jean Delumeau, La Peur en Occident, XlVe — XVlIIe Siecles: Une Cite Assiegee (Paris, 1978), 97; Robert Muchembled, "La Violence et la Nuit sous l'Anrien Regime," Ethnologie Franqaise 21 (1991), 241.
5. Anthony Synnott, "The Eye and the I: A Sociology of Sight," International Journal of Politics, Culture and Society 5 (1992), 619, 618; Constance Classen, Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures (NewYork, 1993), 58.
6. Maria Bogucka, "Gesture, Ritual, and Social Order in Sixteenth- to Eighteenth-century Poland," in Jan Bremmer and Herman Roodenburg, eds., A Cultural History of Gesture (Ithaca, N. Y., 1992), 191.
7. См., например, US and WJ, July 9,1737.
8. Thomson, The Seasons, ed. James Sambrook (Oxford, 1981), 192.
9. Mill, A Nights Search: Discovering the Nature and Condition of all Sorts of Night Walkers… (London, 1639); Herberts Devotions… (London, 1657), 231; Mark Warr, "Dangerous Situations: Social Context and Fear of Victimization," Social Forces 68 (1990), 892–894.
10. R. В., "A Serious Address to the Common Council of the City of London," G and NDA, July 16,1768; Thomas Middleton, The Wisdome of Solomon Paraphrased (London, 1597); July 18,1709, Cowper, Diary. См. также: Henry Chettle, Piers Plainnes Seauen Yeres Prentiship (London, 1595); Shakespeare, Julius Caesar, II, 1, 77.
11. Lavater, Spirites, 10.
12. Richard Jackson, June 7,1656, York Depositions, 74; Heywood, Diaries, III, 187.
13. Mar. 3, 1727, "The Diary of George Booth," Journal of the Chester and North Wales Architectural Archaeogical and Historic Society, New Ser., 28 (1928), 38; Perpetual and Natural Prognostications… (London, 1591), 27; T. F. Thiselton-Dyer, Old English Social Life as Told by the Parish Registers (1898; rpt. edn., New York, 1972), 233; Heywood, Diaries, II, 218; Sara Schechner Genuth, Comets, Popular Culture, and the Birth of Modern Cosmology (Princeton, 1997).
14.1719, Lewis, Diary, 25; June 5,1742, "Diary of Rev. Jacob Eliot," Historical Magazine and Notes and Queries…, 2nd Ser., 5 (1869), 34.
15. May 21,1668, Pepys, Diary, 208; Walter L. Strauss, ed., The German Single-Leaf Woodcut, 1550–1600 (New York, 1975), III, 968–969; T. Platter, Journal, 217; Heywood, Diaries, П, 232; Steven Ozment, Three Behaim Boys Growing up in Early Modern Germany: A Chronicle of Their Lives (New Haven, 1990), 52.
16. M. de Fontenelle, Conversations on the Plurality of Worlds, trans. H. A. Hargreaves (Berkeley, Calif., 1990), 130; Charles Stevens and John Liebault, Maison Rustique, or, the Countrey Farme, trans. Richard Surflet (London, 1616), 30; Thomas B. Forbes, "By What Disease or Casualty: The Changing Face of Death in London," Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 31 (1976), 408; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 296–297.
17. Niccols, A Winter Night's Vision… (London, 1610), 831; Francis T. Havergal, comp., Herefordshire Words & Phrases… (Walsall, Eng., 1887), 13; Francois Joseph Pahud de Valangin, A Treatise on Diet, or the Management of Human Life… (London, 1768), 275; High Court of Justiciary, Small Papers, Main Series, JC 26/42—43, passim, Scottish Record Office, Edinburgh; JRAI, passim.
18. Laurent Joubert, The Second Part of the Popular Errors, trans. Gregory David de Rocher (Tuscaloosa, Ala., 1995), 280–282. См. также: The Second Lash of Alazono-mastix… (London, 1655), 234.
19. Owen Feltham, Resolves, a Duple Century (1628; rpt. ed., Amsterdam, 1975), 211. См. также: Denham, The Sophy (London, 1642), 20.
20. Camporesi, Fear of Hell, 13; Thomas Dekker, The Gull's Hornbook, ed. R. B. McKerrow (New York, 1971), 23; Jan. 12, 1706, Cowper, Diary; Caufurd Tait Ramage, Ramage in South Italy…, ed. Edith Clay (London, 1965), 6; J. Churton Collins, ed., The Plays & Poems of Robert Greene (Oxford, 1905), II, 249; Angelo Celli, The History of Malaria in the Roman Campagnafrom Ancient Times, ed. Anna Celli-Fraentzel (London, 1933), 130–154.
21. Anglicus, On the Properties of Things, trans. John Trevisa (Oxford, 1975), 1, 540; Thomas Amory, Daily Devotion Assisted and Recommended, in Four Sermons… (London, 1772), 15.
22. Leon Kreitzman, The 24 Hour Society (London, 1999), 90–91; Solomon R. Benatar, "Fatal Asthma," New England Journal of Medicine 314 (1986), 426–427; Sharon A. Sharp, "Biological Rhythms and the Timing of Death," Omega 12 (1981–1982), 17.
23. Hanway, Domestic Happiness… Calculated to Render Servants in General Virtuous and Happy… (London, 1786), 101; Mary J. Dobson, Contours of Death and Disease in Early Modem England (New York, 1997), 247,252; Pounds, Culture, 239,245–246.
24. Anna Brzozowska-Krajka, Polish Traditional Folklore: The Magic of Time (Boulder, Colo, 1998), 115.
25. Francis B. Gummere, "On the Symbolic Use of the Colors Black and White in Germanic Tradition," Haverford College Studies 1 (1889), 116; John Fletcher, The Nightwalker, or the Little Theife (London, 1640); Daniel Defoe, A System of Magick… (London, 1727), 380–381; Normal Cohn, Europe's Inner Demons: An Enquiry Inspired by the Great Witch-Hunt (New York, 1975), 66.
26 C. Scott Dixon, The Reformation and Rural Society: The Parishes of Brandenburg-Ansbach-Kulmbach, 1528–1603 (Cambridge, 1996), 191; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 472, 473–477; Nashe, Works, I, 346; George C. Schoolfleld, The German Lyric of the Baroque in English Translation (New York, 1966), 199.
27. Nashe, Works, 1,346,348; Bella Millett and Jocelyn Wogan-Browne, Medieval English Prose for Women: Selections from the Katherine Group and Ancrene Wisse (Oxford, 1990), 91; Jacob Bauthumley, The Light and Dark Sides of God… (London, 1650), 29.
28. Hale, A Collection of Modern Relations of Matter of Fact, Concerning Witches & Witchcraft… (London, 1693), 16,12–13; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 472.
29. SAS, XIII, 652; Le Loyer, Specters, fo. 78; July 1, 1712, Donald F. Bond, ed., The Spectator (Oxford, 1965), III, 572; Essex People, 1750–1900. From Their Diaries, Memoirs and Letters (Chelmsford, Eng., 1972), 32.
30. Brand 1777, II, 430–431; A View of London and Westminster: or, the Town Spy, etc. (London, 1725), 1–2; Robert Holland, comp., A Glossary of Words Used in the County of Chester (1886; rpt. ed., Vaduz, Liecht, 1965), 182; Brand 1848, II, 507–512; Minor White Latham, The Elizabethan Fairies: The Fairies of Folklore and the Fairies of Shakespeare (1930; rpt. edn., New York, 1972), 219–262.
31. Georgina F. Jackson, comp., Shropshire Word-Book… (London, 1879), 117; Samuel Butler, Hudibras, the First Part (London, 1663), 19.
32. Mr. Pratt, Gleanings through Wales, Holland, and Westphalia (London, 1798), 142, 136; T. Campbell, Philosophical Survey of the South of Ireland… (London, 1777), 280; Archaeologia: or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity (London, 1814), 144; R. D. Heslop, comp., Northumberland Words… (London, 1892), 1,257; Brand 1777, II, 359.
33. AJ. Gurevich, Categories of Medieval Culture, trans. G. L. Campbell (London, 1985), 107–108; Lewis, Diary, 17; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 587–606.
34. Thomas Alfred Spalding, Elizabethan Demonology… (London, 1880), 54; WJ, Nov. 5, 1726; John Holloway, ed., The Oxford Book of Local Verses (Oxford, 1987), 215–216; Cannon, Diary, 134; Jean Claude Schmitt, Ghosts in the Middle Ages: The Living and the Dead in Medieval Society (Chicago, 1998), 185; Nov. 29, 1667, Pepys, Diary, VIII, 553; Brand 1777, II, 430.
35. John Carr, The Stranger in Ireland: or, a Tour in the Southern and Western Parts of that Country in the Year 1805 (1806; rpt. edn., Shannon, Ire., 1970), 264–265; Anne Plumptre, A Narrative of a Three Years' Residence in France… (London, 1810), III, 179; Craftsman (London), May 20, 1732; Dietz, Surgeon, 166–167; Pierre Goubert, The Ancien Regime: French Society 1600–1750, trans. Steve Cox (London, 1973), 280; Caroline Frances Oates, "Trials of Werewolves in the Franche-Comte in the Early Modem Period" (Ph. D. diss., Univ. of London, 1993); Le Loyer, Specters, fo. 101.
36. Scott, Witchcraft, 29; Geert Mak, Amsterdam, trans. Philipp Blom (Cambridge, Mass., 2000), 48; E. S. De Beer, ed. The Correspondence of John Locke (Oxford, 1976), 421–422; Francis Grose, A Provincial Glossary (1787; rpt. edn., Menston, Eng., 1968), 17.
37. Saint Basil, Exegetic Homilies, trans. Sister Agnes Clarke Way (Washington, D. C, 1963), 26; Ellery Leonard, trans., Beowulf (New York, 1939), 8,5; Martha Grace Duncan, "In Slime and Darkness: The Metaphor of Filth in Criminal Justice," Tulane
Law Review 68 (1994), 725–801; James Sharpe, Instruments of Darkness: Witchcraft in England, 1550–1750 (New York, 1996), 15; Cavendish, Powers of Evil, 87, 96–97; Cohn, Europe's Inner Demons, 207–210.
38. Muchembled, "La Nuit sous l'Ancien Regime," 239–241; Schmitt, Ghosts in the Middle Ages, 177; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 455; Harris, Night's Black Agents, 25–26, 33; Nancy Cadola, "Wraiths, Revenants and Ritual in Medieval Culture," PP152 (1996), 3—45; Pierre Jonin, "L'Espace et le Temps de la Nuit dans les Romans de Chretien de Troyes," Melanges de Langue et de Litterature Medievals Offerts a Alice Planche 48 (1984), 235–246.
39. Cohn, Europe's Inner Demons, 71–74, 97,100–101; Lynn A Martin, Alcohol, Sex, and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe (New York, 2001), 79; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 454–456.
40. G. R. Quaife, Wanton Wenches and Wayward Wives: Peasants and Illicit Sex in Early Seventeenth Century England (London, 1979), 31; S. Taylor, "Daily Life — and Death — in 17th Century Lamplugh," Transactions of the Cumberland & Westmorland Antiquarian & Archaeological Society, New Sen 44 (1945), 138–141; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 455–461,498—499.
41. Cohn, Inner Demons, 105; VG, Aug. 19,1737; Christina Lamer, Enemies of God: The Witch-Hunt in Scotland (Baltimore, 1981), 22–25; Robin Briggs, "Witchcraft and Popular Mentality in Lorraine, 1580–1630," in Brian Vickers, ed., Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance (Cambridge, 1984), 346–347; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 560–569.
42. Jon Butler, "Magic, Astrology, and the Early American Religious Heritage, 1600–1760," AHR 84 (1979), 322.
43. Scott, Witchcraft, 25; Taillepied, Ghosts, 94.
44. Wilson, English Proverbs, 203.
45. Mrs. Bray, Traditions, Legends, Superstitions, and Sketches of Devonshire… (London, 1838), 1,168–169; Kingsley Palmer, The Folklore of Somerset (Totowa, N. ]., 1976), 23; Taillepied, Ghosts, 29,30. См. также: Nashe, Works, 1,358; Brand 1848, III, 52.
46. SAS, IX, 748; Cohens, Italy, 150–151; Roy Porter, "The People's Health in Georgian England," in Tun Harris, ed., Popular Culture in England, c. 1500–1850 (New York, 1995), 139–142; P. E. H. Hair, "Accidental Death and Suicide in Shropshire, 1780–1809," Transactions of the Shropshire Archaeological Society 59 (1969), 63–75; Robert Campbell, "Philosophy and the Accident," in Roger Cooter and Bill Luckin, eds., Accidents in History: Injuries, Fatalities, and Social Relations (Amsterdam, 1997), 19–32.
47. Apr. 16,1769, Diary of Sir John Parnell, 1769–1783,57, British Library of Political and Economic Science, London School of Economics; Christopher Hibbert, The English: A Social History (London, 1988), 348–349.
48. Watts, Works, П, 189; Marsilia Fidno, Three Books on Life, ed. and trans. Carol V. Kaske and John R. Clark (Binghampton, N. Y., 1989), 127; Stanley Coren, Sleep Thieves: An Eye-Opening Exploration into the Science and Mysteries of Sleep (New York, 19 %), 97,185; Lydia Dotto, Losing Sleep: How Your Sleeping Habits Affect Your Life (New York, 1990), 53.
49. VG, Jan. 5, 1739; Dec. 15,1744, С. E. Whiting, ed., Two Yorkshire Diaries: The Diary of Arthur Jessop and Ralph Ward's journal (Gateshead on Tyne, Eng., 1952), 95; 1721, Dec. 26,1713, Oct. 26,1698, East Anglian Diaries, 251,236,208; Heywood, Diaries, II, 302.
50. The True-Born English-man… (London, 1708), 16; New England Weekly Journal (Boston), July 6, 1736; Penry Williams, The Later Tudors: England, 1547–1603 (Oxford, 1995), 216; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 17–19; Ruff, Violence, 126.
51. John D. Palmer, The Living Clock: The Orchestrator of Biological Rhythms (NewYork, 2002), 32–34.
52. Edward Burghall, Providence Improved (London, 1889), 155,157,159; WJ, Aug. 14,1725; Helen Simpson, ed. and trans., The Waiting City: Paris 1782–1788… (Philadelphia, 1933), 227; Clifford Morsley, News from the English Countryside: 1750–1850 (London, 1979), 143.
53. Defoe, Tour, 1,308; PG, Nov. 1, 1733; Dobson, Death and Disease, 245.
54. J. W. Goethe, Italian Journey, 1786–1788 (New York, 1968), 347; P. E. H. Hair, "Deaths from Violence in Britain: A Tentative Secular Survey," Population Studies 25 (1971), 5-24.
55. Peter Borsay, The English Urban Renaissance: Culture and Society in the Provincial Town 1660–1770 (Oxford, 1989), 3—11; Christopher R. Friedrichs, The Early Modem City, 1450–1750 (London, 1995), 20–21.
56. Raffaella Sarti, Europe at Home: Family and Material Culture, 1500–1800, trans. Allan Cameron (New Haven, 2002), 109–111.
57. Aug. 16, 1693, Michael Hunter and Annabel Gregory, eds., An Astrological Diary of the Seventeenth Century: Samuel Jeake of Rye, 1652–1699 (Oxford, 1988), 224; Elborg Forster, ed. and trans., A Woman's Life in the Court of the Sun King. Letters ofLiselotte von der Pfalz, 1652–1722 (Baltimore, 1984), 246; Some Bedfordshire Diaries (Streatley, Eng., 1960), 8.
58. June 30,1766, Diary of Mr. Tracy and Mr. Dentand, 1766, Bodl., 14; John Spranger, A Proposal or Plan for an Act of Parliament for the Better Paving Lighting and Cleaning the Streets… (London, 1754); Paul Zumthor, Daily Life in Rembrandt's Holland (New York, 1963), 23–24; Walter King, "How High Is Too High? Disposing of Dung in Seventeenth-Century Prescot," Sixteenth Century Journal 23 (1992), 446–447; James Clifford, "Some Aspects of London Life in the Mid-18th Century," in Paul Fritz and David Williams, eds., City & Society in the 18th Century (Toronto, 1973), 19–38; Sarti, Europeat Home, trans. Cameron, 110–114.
59. Martin Lister, A Journey to Paris in the Year 1698 (London, 1699), 24; Marcelin Defoumeaux, Daily Life in Spain. The Golden Age, trans. Newton Branch (New York, 1971), 63; G. M. Trevelyan, English Social History, a Survey of Six Centuries: Chaucer to Queen Victoria (New York, 1965), 438; G. E. Rodmell, ed., "An Englishman's Impressions of France in 1775," Durham University Journal (1967), 85; Joseph Palmer, A Four Months Tour through France (London, 1776), II, 58–60; Bargellini, "Vita Nottuma," 80; A H. de Oliveira, Daily Life in Portugal in the Late Middle Ages (Madison, Wise., 1971), 101–102,141.
60. Mar. 17, 1709, Sewall, Diary, II, 616; Thomas Pennant, The Journey from Chester to London (London, 1782), 166; June 30, 1666, Pepys, Diary, VII, 188; WJ, Jan. 2, 1725; James K. Hosmer, ed., Winthrop's Journal: "History of New England," 1630–1649 (New York, 1908), II, 355.
61. Burton E. Stevenson, The Home Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phrases (New York, 1948), 1686; Cotton Mather, Frontiers Well-Defended: An Essay, to Direct the Frontiers of a Countrey Exposed unto the Incursions of a Barbarous Enemy (Boston, 1707), 14; Oct. 19,1691, Sewall, Diary, I, 283; Vito Fumagalli, Landscapes of Fear: Perceptions of Nature and the City in the Middle Ages (Cambridge, 1994), 136–148.
62. A General Collection of Discourses of the Virtuosi of France, upon Question of All Sorts of Philosophy, and other Natural Knowledge…, trans. G. Havers (London, 1664), 204.
Глава вторая
1. Jean Delumeau, La Peur en Occident, XlVe — XVIIIe Siecles: Une Cite Assiegee (Paris, 1978), 90.
2. P. M. Mitchell, trans., Selected Essays of Ludvig Holberg (Westport, Ct., 1976), 51; John Worlidge, Systema Agriculturae; The Mystery of Husbandry Discovered… (1675; rpt. edn., Los Angeles, 1970), 220; Lawrence Wright, Warm and Snug: The History of the Bed (London, 1962), 120.
3. Sara Tilghman Nalle, Mad for God: Bartolomé Sanchez, the Secret Messiah of Cardenete (Charlottesville, Va., 2001), 129; Samuel Rowlands, The Night-Raven (London, 1620); The Ordinary of Newgate, His Account of the Behaviour, Confession, and Dying Words, of the Malefactors Who were Executed at Tyburn, Nov. 7, 1750,10.
4. Marjorie Keniston McIntosh, Controlling Misbehavior in England, 1370–1600 (Cambridge, 1998), 66–67; Jutte, Poverty, 163; F. Alteri, Dizionario Italiano ed Inglese… (London, 1726); Paul Griffiths, "Meanings of Nightwalking in Early Modem England," Seventeenth Century 13 (1998), 213,216–217.
5. OBP, Jan. 15–18, 1748, 54; Midnight the Signal: In Sixteen Letters to a Lady of Quality (n. p., 1779), I, 9, passim; John Crowne, Henry the Sixth, the First Part… (London, 1681), 18; Griffiths, "Nightwalking," 217–238.
6. OBP, May 17,1727, 6.
7. Для знакомства с обширной литературой о преступности в раннее Новое время см.: J. A Sharpe, Crime in Early Modern England 1550–1750 (London, 1984); Joanna Innés and John Styles, "The Crime Wave: Recent Writings on Crime and Criminal Justice in Eighteenth-Century England," Journal of British Studies 25 (1986), 380–435; Ruff, Violence.
8. Kyd, The Spanish Tragédie (London, 1592); Watts, Works, II, 190.
9. Hadrianus Junius, The Nomenclator… (London, 1585), 425; The Works of Monsieur Boileau (London, 1712), 1,199; Heywood, Diaries, II, 286; OBP, Sept. 7,1737,163, S. Pole, "Crime, Society and Law Enforcement in Hanoverian Somerset" (Ph. D. diss., Cambridge Univ., 1983), 302–303; Julius Ralph Ruff, "Crime, Justice, and Public Order in France, 1696–1788: the Sénéchausée of Libourne" (Ph. D. diss., Univ. of North Carolina at Chapel Hill, 1979), 238; Select Trials, II, 234; Beattie, Crime, 167–192.
10. Sept. 8, 1666, Aug. 21,1665, Pepys, Diary, VU, 282, VI, 200; OBP, Sept. 6-11, 1738, 146; M. Dorothy George, London Life in the 18th Century (New York, 1965), 10–11; Beattie, Crime, 148–154.
11. Jeremy Black, British Abroad: The Grand Tour in the Eighteenth Century (New York, 1992), 177; Joseph Jacobs, ed., Epistolae Ho-Elianeae: The Familiary Letters of James Howell… (London, 1900), 45; DUR, Dec. 26, 1788; Marcelin Defoumeaux, Daily Life in Spain: The Golden Age, trans. Newton Branch (New York, 1971), 68; Moryson, Itinerary, 1,141.
12. An Effectual Scheme for the Immediate Preventing of Street Robberies, and Suppressing All Other Disorders of the Night… (London, 1731) 65; Colm Lennon, Richard Stanyhurst the Dubliner, 1547–1618 (Blackrock, Ire., 1981), 148; Beattie, Crime, 180–181; J. A. Sharpe, Crime in Seventeenth-Century England: A County Study (Cambridge, 1983), 103.
13. Richard Head, The Canting Academy; or Villanies Discovered… (London, 1674), 69; Thomas Evans, Feb. 8, 1773, Assi 45/31/1/78; Ann Maury, Memoirs of a Huguenot Family… from the Original Autobiography of Rev. James Fontaine… (New York, 1852), 303; Beattie, Crime, 152–161; Alan Macfarlane, The Justice and the Mare's Ale: Law and Disorder in Seventeenth-Century England (Oxford, 1981), 136–140; James A. Sharpe, "Criminal Organization in Rural England 1550–1750," in G. Ortalli, ed., Bande Armate, Banditti, Banditisme (Rome, 1986), 125–140.
14. William Lithgow, The Totall Discourse of the Rare Adven tures & Painefull Peregrinations… (Glasgow, 1906), 310; Ruff, Violence, 31, 64–65, 217–239; Pierre Goubert, The Ancien Régime: French Society 1600–1750, trans. Steve Сох (London, 1973), 104; Uwe Danker, "Bandits and the State: Robbers and the Authorities in the Holy Römern Empire in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries," in Richard J. Evans, ed., The German Underworld: Deviants and Outcasts in German History (London, 1988), 75— 107.
15. OBP, Jan. 17–20,1750, 30, Dec. 7—12,1743,82, Jan. 12,1733,45; B., Discolliminium: or a Most Obedient Reply to a Late Book… (London, 1650).
16. William Keatinge Clay, ed., Private Prayers, Put Forth by Authority during the Reign of Queen Elizabeth (Cambridge, 1851), 444; Sir Edward Coke, The Third Part of the Institutes of the Laws of England… (1628; rpt. edn., New York, 1979), 63; Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, ed. William Draper Lewis (Philadelphia, 1902), IV, 1615; Beattie, Crime, 163–165.
17. Head, Canting Academy, 179; Eric Partridge, ed., A Dictionary of the Underworld (Ware, Eng., 1989), 43, 469; John Poulter, The Discoveries of John Poulter (London, 1753), 43; Jan. 30,1665, Pepys, Diary, VI, 25.
18. OBP, Jan. 16,1734,55; Beattie, Crime, 163; WJ, July 20, 1728.
19. July 11,1664, Pepys, Diary, V, 201; Hanging, Not Punishment Enough, for Murtherers, High-way Men, and House-Breakers (London, 1701), 6.
20. OBP, Dec. 10–13,1707; Select Trials, 1,306; Michel Porret, Le Crime et ses Circonstances. De l'Esprit de l'Arbitraire au Siècle des Lumières selon les Réquisitoires des Procureurs Genève (Geneva, 1995), 258; Beattie, Crime, 164–165.
21. Mill, A Nights Search: Discovering the Nature and Condition of all Sorts of Night-Walkers… (London, 1639); Awnsham Churchill, comp., A Collection of Voyages and Travels… (London, 1746), VI, 726; Beattie, Crime, 161–167; Sharpe, Seventeenth-Century Crime, 107; A New Journey to France (London, 1715), 85; Henry Swinburne, Travels Through Spain, in the Years 1775 and 1776… (London, 1779), 1,348–350.
22. John L. McMullan, The Canting Crew; London's Criminal Underworld, 1550–1700 (New Brunswick, N.J., 1984), 162; A Warning for House-Keepers… (London, 1676), 4; Hey-wood, Diaries, III, 206; Cynthia B. Herrup, The Common Peace: Participation and the Criminal Law in Seventeenth-Century England (Cambridge, 1987), 27,30–31,170–171; Ruff, Violence, 221–224; George Huppert, After the Black Death: A Social History of Early Modern Europe (Bloomington, Ind., 1986), 107–109.
23. Florike Egmond, Underworlds: Organized Crime in the Netherlands 1650–1800 (Cambridge, 1993), 33, 188–191; Schindler, Rebellion, 222; Ruff, Violence, 221; Albrecht Keller, ed., A Hangman's Diary: Being the Journal of Master Franz Schmidt, Public Executioner of Nuremberg, 1573–1617, trans. С. V. Calvert and A W. Grüner (Montclair, N. J., 1973), 130.
24. Elisabeth Crouzet-Pavan, "Potere Politico e Spazio Sociale: It Controllo Delia Notte a Venezia nei Secoli XIII–XV," in Mario Sbriccoli, ed., La Notte: Ordine, Sicurezza e Disciplinamento in Età Moderna (Florence, 1991), 48; Daniel Defoe, Street-Robberies Consider'd… (1728; rpt. edn., Stockton, N. J., 1973), 68; Alan Williams, The Police of Paris, 1718–1789 (Baton Rouge, 1979), 287.
25. Dekker, Writings, 193; The Confession &c. of Thomas Mount… (Portsmouth, N. H., [1791?]), 19; Select Trials, II, 236; Charles Dorrington, Feb. 10,1764, Assi 45/27/2/125; OBP, Jan. 15–19,1742,31, Sept. 6,1732,188; Select Trials, 1,303.
26. John Nelson, Aug. 25,1738, Assi 45/21/3/126.
27. OBP, May 15–17,1746,149.
28. OBP, June 28—July 2,1744,159, Apr. 25–30,1750,68, July 11–14,1750,87; Macfarlane, Justice and the Mare's Ale, 132; OBP, Dec. 5-10,1744, 7, Dec. 5-10,1744,142.
29. OBP, Oct. 17–19,1744, 257, Aug. 30,1727,4.
30. Lavater, Spirites, 22; Jeannine Blackwell and Susanne Zantop, eds., Bitter Healing: German Women Writers from 1700 to 1830: An Anthology (Lincoln, Neb., 1990), 60; Brand 1848, II, 314; Danker, "Bandits," 88. См. также: Taillepied, Ghosts, 31.
31. Crusius, Node, ch. 11.9; Keller, ed., Hangman's Diary, trans. Calvert and Grüner, 110; Brand 1848,1, 312, III, 278–279; Marjorie Rowling, The Folklore of the Lake Distrid (Totowa, N. J., 1976), 26; Matthiessen, Natten, 94–95. См. также: Bargellini, "Vita Notturna," 84; John McManners, Church and Society in Eighteenth-Century France (Oxford, 1999), II, 232.
32. Karl Wegert, Popular Culture, Crime, and Social Control in 18th Century Württemberg (Stuttgart, 1994), 101; Keller, ed., Hangman's Diary, trans. Calvert and Grüner, 112–113; Brand 1848,1,312; Times (London), July 3,1790.
33. Tornano, Proverbi, 171.
34. Pinkerton, Travels, II, 565; Elisabeth Crouzet-Pavan, Venice Triumphant: The Horizons afa Myth, trans. Lydia G. Cochrane (Baltimore, 2002), 161; Ruff, Violence, 120–121.
35. Alessandro Falassi, Folklore by the Fireside: Text and Context of the Tuscan Veglia (Austin, 1980), 6; J. Mitchell and M. D. R Leys, A History of London Life (London, 1958), 73; Claude Fouret, "Douai au XVIe Siècle: Une Sociabilité de l'Agression," Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine 34 (1987), 9—10; Robert Muchembled "La Violence et la Nuit sous l'Ancien Régime," Ethnologie Française 21 (1991), 237; Rudy Chaulet, "La Violence en Castille au XVIIe Siècle," Crime, Histoire & Sociéetés 1 (1997), 14–16. См. также: Barbara A Hanawalt, "Violent Death in Fourteenth- and Early Fifteenth-Century England," Comparative Studies in Society and History 18 (1976), 305, 319.
36. J. R. Hale, ed., The Travel Journal of Antonio de Beatis…, trans. J. R. Hale and J. M.A. Lindon (London, 1979), 82; James Casey, The Kingdom of Valencia in the Seventeenth Century (Cambridge, 1979), 212; Moryson, Unpublished Itinerary, 463, 163; Cleone Knox, The Diary of a Young Lady of Fashion in the Year 1764–1765 (New York, 1926), 220; Ménétra, Journal, 86; S. Johnson, London: A Poem… (London, 1739), 17; James Hervey, Meditations and Contemplations (New York, 1848), II, 33; J. S. Cockbum, "Patterns of Violence in English Society: Homicide in Kent, 1560–1985," PP 103 (1991), 86; Matthiessen, Natten, 141.
37. Dec. 21,1494, Luca Landucci, ed., A Florentine Diary from 1450 to 1516…, trans. Alice De Rosen Jervis (1927; rpt. edn., Freeport, N. Y., 1971), 77; Remarks 1717, 238, 241; Ruff, Violence, 75–76; Jonathan Walker, "Bravi and Venetian Nobles, C. 1550–1650," Studi Veneziani 36 (1998), 85—113.
38. Aug. 18,1692, Wood, Life, V, 398; G. C. Faber, The Poetical Works of John Gay… (London, 1926), 81; Robert Shoemaker, "Male Honour and the Decline of Public Violence in Eighteenth-Century London," SH 26 (2001), 190–208.
39. The Rules of Civility (London, 1685), 114–115, passim; Norbert Elias, The Civilizing Process: The Development of Manners…, trans. Edmond Jephcott, 2 vols. (New York, 1978–1982); Ruff, Violence, 7–8; Penelope Corfield, "Walking the City Streets: The Urban Odyssey in Eighteenth-Century England," JUH 16 (1990), 132–174; Jan Bremmer and Herman Roodenburg, eds., A Cultural History of Gesture (Ithaca, N.Y., 1992), passim.
40. Sir Thomas Overbury, His Wife (London, 1622); Feb. 8, 1660, Pepys, Diary, I, 46; Schindler, "Youthful Culture," 275; Thomas Bell, May 2,1666, York Depositions, 142; WJ, Mar. 23,1723.
41. Richard A. Page and Martin K. Moss, "Environmental Influences on Aggression: The Effects of Darkness and Proximity of Victim," Journal of Applied Social Psychology 6 (1976), 126–133.
42. Francis Lenton, Characterismi: or, Lemons Leasures… (London, 1631); Robert E. Thayer, The Origin of Everyday Moods: Managing Energy, Tension, and Stress (New York, 1996), passim.
43. Carolyn Pouncy, ed., The “Domostroi": Rules for Russian Households in the Time of Ivan the Terrible (Ithaca, N. Y., 1994), 81; Arne Jansson, From Swords to Sorrow: Homicide and Suicide in Early Modern Stockholm (Stockholm, 1998), 125.
44. F. G. Emmison, ed., Elizabethan Life: Disorder; Mainly from Essex Sessions and Assize Records (Chelmsford, Eng., 1970), 206; Matthiessen, Natten, 133; Ruff, Violence, 126; Muchembled, Violence, 31–32.
45. Francis Henderson, June 11, 1777, Assi 45/33/l/14а; Plain Advice to Hard-Drinkers… (London, 1796), 10; Pieter Spierenburg, "Knife Fighting and Popular Codes of Honor in Early Modem Amsterdam," in Pieter Spierenburg, ed., Men and Violence: Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America (Columbus, Ohio, 1998), 109; Julius R. Ruff, Crime, Justice and Public Order in Old Regime France: The Sénéchaussées of Libourne and Bazas, 1696–1789 (London, 1984), 80–81.
46. Dietz, Surgeon, 194; Johnson, London, 17; Muchembled, Violence, 32; Beattie, Crime, 93; Schindler, Rebellion, 215–216.
47. Matthiessen, Natten, 96.
48. "Palladio," Middlesex Journal, or, Chronicle of Liberty (London), July 30,1769; Shakespeare, Othello, 1,1,75; William Devenant, The Wits (London, 1636); Thomas, Religion and the Decline of Magic, 15; Johan Goudsblom, Fire and Civilization (London, 1992), 144–145.
49. James Gabriel Fyfe, ed., Scottish Diaries and Memoirs, 1550–1746 (Stirling, Scot., 1928), 259; Samuel H. Baron, ed. and trans., The Travels of Olearius in Seventeenth Century Russia (Stanford, Calif., 1967), 112; Penny Roberts, "Agencies Human and Divine: Fire in French Cities, 1520–1720," in William G. Naphy and Penny Roberts, eds., Fear in Early Modem Society (Manchester, 1997), 9.
50. Stephen Porter, "Fires in Stratford-upon-Avon in the Sixteenth & Seventeenth Centuries," Warwickshire History 3 (1976), 103, passim.
51. Thomas, Religion and the Decline of Magic, 333; Mar. 16, 1701, Cowper, Diary; Matthiessen, Natten, 121–122.
52. Sir Richard Blackmore, Prince Arthur (London, 1695), 190; E. L. Jones et al., A Gazetteer of English Urban Fire Disasters, 1500–1900 (Norwich, 1984).
53. Roy Porter, London, a Social History (Cambridge, Mass., 1995), 85; Sept. 4,1666, Evelyn, Diary, III, 454; Neil Hanson, The Great Fire of London: In that Apocalyptic Year (Hoboken, N. J., 2002).
54. NYWJ, Sept. 26,1737; SJC, Aug. 4,1785; Roberts, "Fire in French Cities," 9—27.
55. Mar. 30,1760, "Stow, and John Gate's Diary," Worcester Society of Antiquity Proceedings (1898), 270; Carl Bridenbaugh, Cities in the Wilderness: The First Century of Urban Life in America, 1625–1742 (Oxford, 1971), 55–63,206–213,364-372; Carl Bridenbaugh, Cities in Revolt: Urban Life in America, 1743–1776 (Oxford, 1971), 18,100–105, 292–294.
56. Ludwig Holberg, Moral Reflections & Epistles, ed. P. M. Mitchell (Norvik, Eng., 1991), 169; "The Diary of George Booth," Journal of the Chester and North Wales Architectural Archaeological and Historic Society, New Ser., 28 (1928), 40; Enid Porter, Cambridgeshire Customs and Folklore (New York, 1969), 205.
57. John Bancroft, The Tragedy of Sertonius (London, 1679), 20. См. также: Benjamin Keach, Spiritual Melody (London, 1691), 28; Rowlands, Night Raven.
58. Benjamin Franklin, Writings, ed. J. A Leo Lemay, ed. (New York, 1987), 220–221; "Philanthropos," LEP, Jan. 25,1763; Carl Bridenbaugh, Vexed and Troubled Englishmen, 1590–1642 (New York, 1967), 144; The Life and Errors of John Dunton… (London, 1818), 11,606.
59. Paroimiographia (English), 5; Thomas Tusser, Five Hundred Pointes of Good Husbandrie, eds. V. Payne and J. Sidney (London, 1878), 179; Jan. 13, 1669, Josselin, Diary, 545; Nov. 3, 1710, Raymond A. Anselment, ed., The Remembrances of Elizabeth Freke, 1671–1714 (London, 2001), 270; Mar. 22,1683, J. E. Foster, ed., The Diary of Samuel Newton (Cambridge, 1890), 84; PG, Feb. 18,1729.
60. Hugh Platte, The Jewell House of Art and Nature… (1594; rpt. edn., Amsterdam, 1979), 50.
61. July 20,1709, Sewall, Diary, II, 622; George Lyman Kittredge, The Old Farmer and His Almanack… (Cambridge, Mass., ca. 1904), 147; DUR, July 11,1787.
62. Matybeth Carlson, "Domestic Service in a Changing City Economy: Rotterdam, 1680–1780" (Ph. D. diss., Univ. of Wisconsin, 1993), 157–158; Wilson, English Proverbs, 167.
63. Grub Street Journal (London), May 16,1734.
64. PA, July 15, 1763; William Langland's Piers Plowman: The C Version, trans. George Economou (Philadelphia, 1996), 25; Christopher R. Friedrichs, The Early Modern City, 1450–1750 (London, 1995), 276–277.
65. William Hector, ed., Selections from the Judicial Records of Renfrewshire… (Paisley, Scot., 1876), 239; Bernard Capp, "Arson, Threats of Arson, and Incivility in Early Modem England," in Peter Burke et al., eds.. Civil Histories: Essays Presented to Sir Keith Thomas (Oxford, 2000), 197–213; Matthiessen, Natten, 121.
66. Goudsblom, Fire and Civilization, 158; Roberts, "Fire in French Cities," 22; Country Journal: or the Craftsman (London), June 24,1738.
67. S/C, May 25, 1769; Frank McLynn, Crime and Punishment in Eighteenth-Century England (London, 1989), 85; Ruff, "Crime, Justice, and Public Order," 262; BC, May 20,1761.
68. Augustus Jessopp, ed., The Autobiography of the Hon. Roger North (London, 1887), 41; WJ, Aug. 15,1724; Effectual Scheme, 69–70.
69. Bob Scribner, "The Mordbrenner Fear in Sixteenth-Century Germany: Political Paranoia or the Revenge of the Outcast?" in Evans, ed., German Underworld, 29–56; Penny Roberts, "Arson, Conspiracy and Rumor in Early Modem Europe," Continuity and Change 12 (1997), 9-29.
70. Jacqueline Simpson, The Folklore of Sussex (London, 1973), 135–136; Capp, "Arson," 204; Thomas D. Morris, Southern Slavery and the Law, 1619–1860 (Chapel Hill, N. C, 1996), 330–332.
71. Weinsberg, Diary, 1,125; SJC, Nov. 4, 1769; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 531–533.
72. Grose, Dictionary; 6 Anne c. 31; PG, Apr. 30, 1730. См. также: Effectual Scheme, 69; Michael Kunze, Highroad to the Stake: A Tale of Witchcraft, trans. William E. Yuill (Chicago, 1987), 147.
73. Nashe, Works, 1,386.
74. Rudolph Braun, Industrialisation and Everyday Life, trans. Sarah Hanbury Tenison (Cambridge, 1990), 84.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Прелюдия
1. James M. Houston, ed., The Mind on Fire: An Anthology of the Writings of Blaise Pascal (Porland, Ore., 1989), 165.
2. [Foxton], The Night-Piece: A Poem (London, 1719), 10. Об институтах повседневной жизни см., например: Pounds, Culture, 255–301; Cohens, Italy, 51–52, 116–125; David H. Flaherty, "Crime and Social Control in Provincial Massachusetts," Historical Journal 24 (1981), 339–360.
3. Ken Krabbenhoft, trans., The Poems of St. John of the Cross (New York, 1999), 19; James Scholefield, ed., The Works of James Pilkington, B. D, Lord Bishop of Durham (London, 1842), 340; Verdon, Night, 199–215; Paulette Choné, L'Atelier Des Nuits: Histoire et Signification du Nocturne dans l'Art d'Occident (Nancy, France, 1992), 146–150; John M. Staudenmaier, "Denying the Holy Dark: The Englightenment Ideal and the European Mystical Tradition," in Leo Marx and Bruce Mazlish, eds., Progress: Fact or Illusion (Ann Arbor, Mich., 1996), 184–185.
4. Daniello Bartoli, La Ricreazione del Savio (Parma, 1992), 191–192; John Northbrooke, A Treatise wherein Dicing, Dauncing, Vaine Playes or Enterluds with Other Idle Pastimes… (London, 1577), 20; John Clayton, Friendly Advice to the Poor… (Manchester, 1755), 38.
5. Piero Camporesi, Exotic Brew: The Art of Living in the Age of Enlightenment (Maiden, Mass., 1994), 13.
6. Thomas Amory, Daily Devotion Assisted and Recommended… (London, 1772), 20; George Economou, trans., William Langland's Piers Plowman: The C Version (Philadelphia, 1996), 188; Cotton Mather, Meat Out of the Eater (Boston, 1703), 129; Keith Thomas, Man and the Natural World: A History of the Modem Sensibility (New York, 1983), 40.
Глава третья
1. Moryson, Unpublished Itinerary, 350.
2. Lean, Lean's Collectanea, I, 352; Gerhard Dohm-van Rossum, History of the Hour: Clocks and Modem Temporal Orders, trans. Thomas Dunlap (Chicago, 1996), 204; Remarks 1717, 160; Sigridin Maurice and Klaus Maurice, "Counting the Hours in Community Life of the 16th Century," in Klaus Maurice and Otto Mayr, eds., The Clockwork Universe: German Clocks and Automata, 1550–1650 (New York, 1980), 148.
3. T. P. Wiseman, Remus: A Roman Myth (Cambridge, 1995), 125; James D. Tracy, ed., City Walls: The Urban Enceinte in Global Perspective (Cambridge, 2000); R. A. Butlin, "Land and People, c. 1600," in T. W. Moody et al., eds., Early Modem Ireland, 1534–1691 (Oxford, 1991), 160–161; Remarks 1717, 160; Matthiessen, Natten, 18; Ripae, Nocturno Tempore, ch. 19.
4. Adam Walker, Ideas… in a Late Excursion through Flanders, Germany, France and Italy (London, 1790), 69; Verdon, Night, 81; Batavia: or the Hollander Displayed… (Amsterdam, 1675), 50; Alexander Cowan, Urban Europe, 1500–1700 (London, 1998), 138–142.
5. John Chamberlayne, Magna Britannia Notitia: or, the Present State of Great Britain… (London, 1723), 1,255; Cowan, Urban Europe, 39–40.
6. Anglicus, On the Properties of Things, trans. John Trevisa (Oxford, 1975), I, 539; Christopher R. Friedrichs, The Early Modem City, 1450–1750 (London, 1995), 23.
7. Corinne Walker, "Esquisse Pour une Histoire de la Vie Nocturne: Genève au XVIIIe Siècle," Revue du Vieux Genève 19 (1989), 74; Moryson, Itinerary, I, 41; Remarks 1717,101–104; Gerhard Tänzer, Spectacle Müssen Seyn: Die Freizeit der Wiener im 18. Jahrhundert (Vienna, 1992), 55.
8. OED, s.v. "curfew"; Raphael Holinshed, Holinshed's Chronicles of England, Scotland, and Ireland, ed. Charles Lethbridge (1807; rpt. edn., New York, 1965), II, 9.
9. Toulin Smith, ed., English Gilds: The Original Ordinances of More than One Hundred Early English Gilds… (1870; rpt. edn., London, 1963), 194; Falkus, "Lighting," 249—
251; William M. Bowsky, "The Medieval Commune and Internal Violence: Police Power and Public Safety in Siena, 1287–1355," AHR 73 (1967), 6; A Voisin, "Notes sur la Vie Urbaine au XV Siècle: Dijon la Nuit," Annales de Bourgogne 9 (1937), 267.
10. Matthiessen, Natten, 21–22; Gerald Strauss, Nuremberg in the Sixteenth Century: City Politics and Life Between Middle Ages and Modem Times (Bloomington, Ind., 1976), 190–191; J. R. Hale, "Violence in the Late Middle Ages: A Background," in Lauro Martines, ed., Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200–1500 (Berkeley, Calif., 1972), 23; Verdon, Night, 81; Journal of Sir John Finch, 1675–1682, Historical Manuscripts Commission, Report on the Manuscripts of Allan Finch, Esq… (London, 1913), 1,69.
11. Paul Griffiths, "Meanings of Nightwalking in Early Modem England," Seventeenth Century 13 (1998), 224–225; The Lawes of the Market (1595; rpt. edn., Amsterdam, 1974); Falkus, "Lighting," 250–251, passim.
12. W. O. Hassall, comp., How They Lived: An Anthology of Original Accounts Written Before 1485 (Oxford, 1962), 207; Griffiths "Nightwalking," 218, passim; Marjorie Keniston McIntosh, Controlling Misbehavior in England, 1370–1600 (Cambridge, 1998), 66–67; Bronislaw Geremek, The Margins of Society in Late Medieval Paris, trans. Jean Birrell (Cambridge, 1987), 126, 217; Moryson, Itinerary, I, 196; Walker, "Genève," 75; T. Platter, Journal, 204; Christopher Black, Early Modem Italy: A Social History (London, 2001), 102.
13. Benjamin Ravid, "The Venetian Government and the Jews," in Robert C. Davis and Benjamin Ravid, eds., The Jews of Early Modern Venice (Baltimore, 2001), 8, 21; Orest and Patricia Ranum, comps., The Century of Louis XIV (New York, 1972), 168; Black, Early Modern Italy, 154–156; R. I. Moore, The Formation of a Persecuting Society Power and Deviance in Western Europe, 950—1250 (Oxford, 1987), 87.
14. Dekker, Lanthome and Candle-Light (London, 1608); Kathryn Norberg, Rich and Poor in Grenoble, 1600–1814 (Berkeley, Calif., 1985), 44; Griffiths, "Nightwalking," passim; Robert B. Shoemaker, Prosecution and Punishment: Petty Crime and the Law in London and Rural Middlesex, c. 1660–1725 (Cambridge, 1991), 179–181; Luigi Cajan and Silva Saba, "La Notte Devota: Luci e Ombre Delle Quarantore," in Mario Sbriccoli, ed., La Notte. Ordine, Sicurezza e Disciplinamento in Età Moderna (Florence, 1991), 74.
15. 13 Edward I c. 4; Sir Andrew Balfour, Letters Written to a Friend (Edinburgh, 1700), 86; Bartholomäus Sastrow et al., Social Germany in Luther’s Time: Being the Memoirs of Bartholomew Sastrow, trans. H. A. L Fisher (Westminster, Eng., 1902), 172; Moryson, Unpublished Itinerary, 405, 163; Ruth Pike, "Crime and Punishment in Sixteenth-Century Spain," Journal of European Economic History 5 (1976), 695; Andrew Trout, City on the Seine: Paris in the Time of Richelieu and Louis XIV (New York, 19 %), 173–174, 217.
16. A. R. Myers, ed., English Historical Documents, 1327–1485 (London, 1969), 1073; David Chambers and Trevor Dean, Clean Hands and Rough Justice: An Investigating Magistrate in Renaissance Italy (Ann Arbor, Mich., 1997), 100; Elisabeth Pavan, "Recherches sur la Nuit Vénitienne à la Fin du Moyen Age, " Journal of Medieval History 7 (1981), 354–355.
17. Verdon, Night, 75; Pavan, "Nuit Vénitienne," 353.
18. E. S. De Beer, "The Early History of London Street-Lighting," History 25 (1941), 311–324; Falkus, "Lighting," 251–254; O'Dea, Lighting, 94; Paul Zumthor, Daily Life in Rembrandt's Holland (New York, 1963), 20.
19. Angelo Raine, ed., York Civic Records (Wakefield, Eng., 1942), III, 110; Falkus, "Lighting," 251–254; J. H. Thomas, Town Government in the Sixteenth Century… (London, [1933]), 56–57; Carl Bridenbaugh, Vexed and Troubled Englishmen, 1590–1642 (New York, 1967), 153–154.
20. Charles Knight, London (London, 1841), I, 104; De Beer, "London Street-Lighting," 311–324; Matthiessen, Natten, 26.
21. Jean Shirley, trans., A Parisian Journal, 1405–1449 (Oxford, 1968), 51; Thoresby, Diary, 1,190; Matthiessen, Natten, 24,118; David Cressy, Bonfires and Bells: National Memory and the Protestant Calendar in Elizabethan and Stuart England (London, 1989), 74; Bargellini, "Vita Notturna," 79.
22. James S. Amelang, ed., A Journal of the Plague Year: The Diary of the Barcelona Tanner Miquel Parets, 1651 (New York, 1991), 86; Koslofsky, "Court Culture," 746; Lord Herbert, ed., Henry, Elizabeth and George (1738–1780): Letters and Diaires of Henry, Tenth Earl of Pembroke and His Circle (London, 1939), 371; Luca Landucci, ed., A Florentine Diary from 1450 to 1516, trans. Alice De Rosen Jervis (London, 1927), 161, 29; May 29,1666, Pepys, Diary, VII, 136; Cressy, Bonfires and Bells, 85–92.
23. A. W. Verity, ed., Milton's Samson Agonistes (Cambridge, 1966), 7; Phillip Stubbes, Anatomy of the Abuses in England…, ed. Frederick J. Fumivall (London, 1877), I, 342; Dec. 6, 1764, Frederick A. Pottle, ed., Boswell on the Grand Tour: Germany and Switzerland, 1764 (New York, 1953), 243; Eamon Duffy, The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, c. 1400–1580 (New Haven, 1992), 407,419. См. также: Moryson, Itinerary, 1, 167,235,310.
24. Schindler, Rebellion, 196; Remarks 1717, 69; John McManners, Church and Society in Eighteenth-Century France (Oxford, 1999), II, 219.
25. John Ray, Observations Topographical, Moral & Physiological… (London, 1673), 317; Moryson, Unpublished Itinerary, 448; J. W. Goethe, Italian Journey, 1786–1788 (New York, 1968), 344; Schindler, Rebellion, 195–201; Roche, Consumption, 116–118.
26. Apr. 16,1708, Cowper, Diary; Stewart E. Fraser, ed., Ludwig Holberg's Memoirs… (Leiden, 1970), 115; "Decription of the City of Rome," Town and Country Magazine 24 (1792), 260; Henry Swinburne, Travels in the Two Sicilies… (London, 1783), II, 72–73; Cohens, Italy, 156–157; Sara T. Nalle, God in La Mancha: Religious Reform and the People of Cuenca, 1500–1650 (Baltimore, 1992), 154–156.
27. J. M. Beattie, Policing in London, 1660–1750: Urban Crime and the Limits of Terror (Oxford, 2001), 172; Edward MacLysaght, Irish Life in the Seventeenth Century (New York, 1969), 197; Eugène Defrance, Histoire de l’Éclairage des Rues de Paris (Paris, 1904), 36; Falkus, "Lighting," 254–264; Lettie S. Multhauf, "The Light of Lamp-Lanterns: Street Lighting in 17th-Century Amsterdam," Technology and Culture 26 (1985), 236–252; Ruff, Violence, 3; Cohens, Italy, 116–117; Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806 (New York, 1995), 681–682; Voisin, "Dijon la Nuit," 278.
28. J. P. Marana, Lettre Sicilienne (1700; rpt. edn., Paris, 1883), 50–51; Martin Lister, A Journey to Paris in the Year 1698, ed. Raymond Phineas Steams (Urbana, Ш., 1967), 25; John Beckman, A History of Inventions, Discoveries, and Origins, trans. William Johnston (London, 1846), 180–182; Koslofsky, "Court Culture," 748–752; Defrance, Histoire de l'Éclairage, 35–38; Leon Bernard, The Emerging City: Paris in the Age of Louis XIV (Durham, N. С., 1970), 162–166; Falkus, "Lighting," 254–260; Peter Borsay, The English Urban Renaissance: Culture and Society in the Provincial Town, 1660–1770 (Oxford, 1989), 72–74.
29. S/C, Oct. 25,1783; De Beer, "Street-Lighting," 317–320; Beckman, Discoveries, trans. Johnston, 180; Matthiessen, Natten, 26.
30. John Scott, A Visit to Paris in 1814… (London, 1815), 40; Defrance, Histoire de l’Éclairage, 47; G. E. Rodmell, ed., "An Englishman's Impressions of France in 1775," Durham University Journal (1967), 78. См. также: Maurice Délibéré and Paulette Délibéré, Préhistoire et Histoire de la Lumière (Paris, 1979), 117.
31. Koslofsky, "Court Culture," 759; Corinne Walker, "Du Plaisir à la Nécessité: l'Apparition de la Lumière dans les Rues de Genève à la Fin du XVHIe Siècle," in François Walter, ed., Vivre et Imaginer la Ville XVllle — XIXe Siècles (Geneva, 1988), 107; Henry Hibbert, Syntagma Theologcum… (London, 1662), 31; Beattie, Policing, 170.
32. Smollett, Humphry Clinker… (New York, 1983), 113.
33. R. G. Bury, trans., Plato in Twelve Volumes (Cambridge, Mass., 1963), XI, 69; Crusius, Node, ch. 5.5.
34. 13 Edward I c. 4; Beckman, Discoveries, trans. Johnston, 188; Joachim Schlör, Nights in the Big City: Paris, Berlin, London 1840–1930, trans. Pierre Gottfried Imhof and Dafydd Rees Roberts (London, 1998), 73.
35. Moryson, Unpublished Itinerary, 365–366; Clare Williams, ed., Thomas Platter's Travels in England, 1599 (London, 1937), 174; Raine, ed., York Civic Records, V, 102; Bowsky, "Medieval Commune," 9—10; Alan Williams, The Police of Paris, 1718–1789 (Baton Rouge, 1979), 67.
36. Carl Bridenbaugh, Cities in the Wilderness: The First Century of Urban Life in America, 1625–1742 (Oxford, 1971), 64–67.
37. Beckman, Discoveries, trans. Johnston, 189; Schlör, Nights in the Big City, trans. Imhof and Roberts, 74; Duke of Ormond, "Whereas by the good and wholsome lawes of this realm… night-watches should be kept…" (Dublin, 1677); Ruff, Violence, 92; M. De La Lande, Voyage en Italie… (Paris, 1786), 154.
38. Memoirs of François-René Vicomte de Chateaubriand, trans. Alexander Teixera de Mattos (New York, 1902), IV, 27; William Young, The History of Dulwich College… with a Life of the Founder, Edward Alleyn, and an Accurate Transcript of His Diary, 1617–1622 (London, 1889), II, 356; A.F.J. Brown, Essex People, 1750–1900 (Chelmsford, Eng., 1972), 40; Robert C. Davis, Shipbuilders of the Venetian Arsenal: Workers and Workplace in the Preindustrial City (Baltimore, 1991), 157.
39. Mr. Ozell, trans., M. Misson's Memoirs and Observations in His Travels over England (London, 1719), 358–359; Beattie, Policing, 169–197; Williams, Police of Paris, 67; e-mail of Nov. 16, 2003, from Paul Griffiths; Frank McLynn, Crime and Punishment in Eighteenth-Century England (London, 1989).
40. NHCR 1,33; Beattie, Policing, 181; Matthiessen, Natten, 52; Thomas Forester, ed., Norway and Its Scenery… the journal of a Tour by Edward Price… (London, 1853), 181–182; Pinkerton, Travels, I, 265; John Carr, A Northern Summer or Travels Round the Baltic… (Hartford, Ct., 1806), 129; An Accurate Description of the United Netherlands… (London, 1691), 65; Bridenbaugh, Cities in the Wilderness, 64–67.
41. Robert Poole, A Journey from London to France… (London, 1741), 10; Moryson, Itinerary, 1,18, 413; Moryson; Unpublished Itinerary, 365–366, 385; Sir Richard Camac Temple and Lavina Mary Anstey, eds., The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia, 1608–1667 (London, 1914), IV, 169; Mr. Nugent, The Grand Tour, or, a Journey through the Netherlands, Germany, Italy and France… (London, 1756), I, 87; A Tour through Holland etc. (London, 1788), 80–81; John Barnes, A Tour throughout the Whole of France… (London, 1815), 6; NHCR I, 485; Matthiessen, Natten, 13, 31–32; Theodor Hampe, Crime and Punishment in Germany… trans. Malcolm Letts (London, 1929), 7–8.
42. Thomas Dekker, Villanies Discovered by Lanthorne and Candle-Light… (London, 1616); Walter George Bell, Unknown London (London, 1966), 213; Félix-L. Tavernier, La Vie Quotidienne à Marseille de Louis XIVà Louis-Philippe (Paris, 1973), 96; Hana Urbancovâ, "Nightwatchmen's Songs as a Component of the Traditional Musical Culture," Studies, 48 (2000), 14; John F. Curwen, Kirkbie-Kendall… (Kendall, Eng., 1900), 116. См. также: Einar Utzon Frank, ed., De Danske Vaegtervers (Copenhagen, 1932).
43. Matthiessen, Natten, 48; Moryson, Unpublished Itinerary, 350.
44. Samuel Rowlands, Heavens Glory, Seeke It (London, 1628); Henry Alexander, trans., Four Plays by Holberg… (Princeton, N. J., 1946), 170; "Insomnis," PA, Oct. 8,1767; Colm Lennon, Richard Stanyhurst the Dubliner, 1547–1618 (Blackrock, Ire., 1981), 147.
45. Second Report of the Record Commissioners of the City of Boston, Containing the Boston Records 1634–1660… (Boston, 1877), 151; Louis-Sébastien Mercier, The Picture of Paris Before & After the Revolution (New York, 1930), 132; Pounds, Culture, 132–134; Bridenbaugh, Cities in the Wilderness, 374; Schindler, Rebellion, 218; Jacques Rossiaud, "Prostitution, Youth, and Society in the Towns of Southeastern France in the Fifteenth Century," in Robert Forster and Orest Ranum, eds., Deviants and the Abandoned in French Society: Selections from the Annales Economies, Sociétés, Civilisations, trans. Elborg Forster and Patricia Ranum (Baltimore, 1978), 45 n. 85; Matthiessen, Natten, 115,117.
46. Awnsham Churchill, comp., A Collection of Voyages and Travels… (London, 1745), 1, 147; Sept. 11,1663, Pepys, Diary, IV, 304.
47. Thomas Pennington, Continental Excursions… (London, 1809), 1,242; Fabian Philipps, Regale Necessarium: or the Legality, Reason and Necessity of the Rights and Priviledges Justly Claimed by the Kings Servants… (London, 1671), 580; William Edward Hartpole Lecky, A History of England in the Eighteenth Century (New York, 1892), II, 106–107; Edward Ward, Nuptial Dialogues and Debates… (London, 1723), 258; Shoemaker, Prosecution and Punishment, 264–265.
48. N. M. Karamzin, Letters of a Russian Traveler: 1789–1790…, trans. Florence Jonas (New York, 1957), 305.
49. The Midnight-Ramble; or, the Adventures of Two Noble Females… (London, 1754), 20; Sept. 19,1771, Basil Cozens-Hardy, ed., The Diary ofSylas Neville, 1767–1788 (London, 1950), 117; Matthiessen, Natten, 23.
50. New England Courant (Boston), Nov. 16, 1724. О правоохранительных органах Лондона см. блестящее исследование: Beattie, Policing, 77—225.
51. Walter Rye, ed., Extracts from the Court Books of the City of Norwich, 1666–1688 (Norwich, 1905), 140–141; OBP, May 1,1717,5; A Report of the Record Commissioners of the City of Boston, Containing the Boston Records from 1660 to 1701 (Boston, 1895), 8; The Way to be Wiser… (London, 1705), 28; Urbancova, "Nightwatchmen's Songs," 6; Beattie, Policing, 172–174.
52. The Humourist: Being Essays Upon Several Subjects… (London, 1724), II, 88; Dekker, Writings, 107; Shakespeare, Much Ado About Nothing, Ш, 3,56–57.
53. Thomas Brennan, Public Drinking and Popular Culture in Eighteenth-Century Paris (Princeton, N.J., 1988), 304; Legg, Low-Life, 15; Edward Phillips, The Mysteries of Love & Eloquence… (London, 1658), 101; ECR, VI, 439–440; Matthiessen, Natten, 41, 46; Walker, "Genève," 76; Keith Wrightson, "Two Concepts of Order: Justices, Constables and Jurymen in Seventeenth-Century England," in John Brewer and John Styles, eds., An Ungovernable People: The English and Their Law in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (London, 1980), 21–46, passim.
54. Augusta Triumphans: or, the Way to Make London the Most Flourishing City in the Universe… (London, 1728), 47; Richard Mowery Andrews, Law, Magistracy, and Crime in Old Regime Paris, 1735–1789 (Cambridge, 1994), 521; Margaret J. Hoad, Portsmouth Record Series: Borough Sessions Papers, 1653–1688 (London, 1971), 50; Janekovick-Römer, "Dubrovniks," 107; Matthiessen, Natten, 137–139; Schindler, Rebellion, 218–219; De La Lande, Voyage en Italie, 122.
55. Herbert, Jaculum Prudentium or Outlandish Proverbs… (London, 1651), 54.
56. Jean Carbonnier, Flexible Droit: Textes Pour une Sociologie de Droit sans Rigueur (Paris, 1976), 46–51.
57. S. P. Scott, ed. and trans., The Civil Law. Including the Twelve Tables… (New York, 1973), 1, 58; Crusius, Node, ch. 7.3, 7 passim, 13.6, 15.3; Ripae, Nodunro Tempore, passim; Nina Gockerell, "Telling Tune without a Clock," in Maurice and Mayr, eds., Clockwork Universe, 137.
58. Matthew Hale, Historia Placitorum Coronae: The History of the Pleas of the Crown (1736; rpt. edn., London, 1971), 1, 547; David H. Flaherty, Privacy in Colonial New England (Charlottesville, Va., 1972), 88; Matthew Bacon and Henry Gwillim, A New Abridgement of the Law (London, 1807), 11,346.
59. Legg, Low-Life, 101.
60. Ripae, Nodurno Tempore, ch. 91.11; DUR, Dec. 23, 1785; Tommaso Astarita, Village Justice: Community, Family, and Popular Culture in Early Modern Italy (Baltimore, 1999), 153–154; Patricia H. Labalme, "Sodomy and Venetian Justice in the Renaissance," Legal History Review 52 (1984), 221–222; Samuel Cohn, "Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344–1466," JSH 14 (1980), 222; Guido Ruggiero, Violence in Early Renaissance Venice (New Brunswick, N. J., 1980), 6,19; Matthiessen, Natten, 137; Aug. 17,1497, Landucci, ed., Florentine Diary, trans. Jervis, 125–126.
61. Bowsky, "Medieval Commune," 4; Ripae, Nodurno Tempore, ch. 24:3, passim; JRAI, I and II, passim; High Court of Justiciary, Small Papers, Main Series, JC 26/42—43, passim, Scottish Record Office, Edinburgh; Julius R. Ruff, Crime, Justice and Public Order in Old Regime France: The Sénéchaussées of Libourne and Bazas, 1696–1789 (London, 1984), 115; Matthiessen, Natten, 129.
62. Beattie, Crime, 148; Ian W. Archer, The Pursuit of Stability: Social Relations in Elizabethan London (Cambridge, 1991), 247; Ian Cameron, Crime and Repression in the Auvergne and the Guyenne, 1720–1790 (Cambridge, 1981), 155–156; Edgar J. McManus, Law and Liberty in Early New England Criminal Justice and Due Process, 1620–1692 (Amherst, Mass., 1993), 30–31.
63. "Justus Sed Humanus," London Magazine, April 1766, 204; Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, ed. William Draper Lewis (Phildadelphia, 1902), IV, 1579; Scott, ed. and trans., Civil Law, 59; Katherine Fischer Drew, trans., The Lombard Laws (Philadelphia, 1973), 58; F. R. P. Akehurst, ed., The Coutumes de Beauvaisis of Philippe de Beaumanoir (Philadelphia, 1992), 429–430; Ripae, Nodurno Tempore, ch. 24; Crusius, Node, ch. 11.5–8; Samuel E. Thome, ed., Bradon on the Laws and Customs of England (Cambridge, Mass., 1968), II, 408; Porret, Crime et ses Circonstances, 288–289.
64. Lottin, Chavatte, 356; JRAI, II, 488; Blackstone, Commentaries, ed. Lewis, IV, 1618.
65. An Effectual Scheme for the Immediate Preventing of Street Robberies, and Suppressing All Other Disorders of the Night… (London, 1731), 62; Edmond-Jean-François Barbier, Journal d'un Bourgeois de Paris sous le Règne de Louis XV (Paris, 1963), 169; Matthiessen, Natten, 12; Jeffry Kaplow, The Names of Kings: The Parisian Laboring Poor in the Eighteenth Century (New York, 1972), 22–23.
Глава четвертая
1. Apr. 6,1745, Parkman, Diary, 114.
2. Bräker, Life, 67; John Milton, Complete Prose Works (New Haven, 1953), 1, 228; Nina Gockerell, "Telling Time without a Clock," in Klaus Maurice and Otto Mayr, eds., The Clockwork Universe: German Clocks and Automata, 1550–1650 (New York, 1980), 131–143.
3. Giambattista Basile, The Pentamerone…, ed. and trans. Strith Thompson (1932; rpt. edn., Westport, Ct., 1979), I, 297; Randle Cotgrave, A Didionarie of the French and English Tongues (London, 1611), Muchembled, Violence, 53; Thomas Hardy, The Woodlanders (1887; rpt. edn., London, 1991), 99—100; Gockerell, "Telling Time," 134–136.
4. Phineas Fletcher, The Purple Island, or the Isle of Man (n. p., 1633), 46; Wilson J. Litchfield, The Litchfield Family in America (Southbridge, Mass., 1906), V, 344; Sept. 30, 1774, Patten, Diary, 330,385.
5. Henry Swinburne, Travels in the Two Siciliies… (London, 1783), II, 269; William Sewell, A Large Dictionary English and Dutch (Amsterdam, 1708), 79; Shakespeare, Macbeth, 1, 5,51.
6. "Fantasticks," Breton, Works, П, 15.
7. Oct. 23,1676, Sewall, Diary, I, 28; May 10, 1776, Andrew Oliver, ed., The Journal of Samuel Curwen, Loyalist (Cambridge, Mass., 1972), 156; Philippe Contamine, "Peasant Hearth to Papal Palace: The Fourteenth and Fifteenth Centuries," in HPL II, 499; W. Carew Hazlitt, ed., English Proverbs and Proverbial Phrases… (London, 1882), 291.
8. Barbara A. Hanawalt, The Ties That Bound: Peasant Families in Medieval England (New York, 1986), 44; Sir Edward Coke, The Reports… (London, 1658), 453; Burt, Letters, II, 206.
9. OBP, Apr. 29-May 1, 1747, 152, May 14, 1741, 12, July 15–17, 1767, 244; David Ogbome, The Merry Midnight Mistake, or Comfortable Conclusion (Chelmsford, Eng., 1765), 34; Timothy J. Casey, ed., Jean Paul: A Reader, trans. Erika Casey (Baltimore, 1992), 338; FLEMT, xi-xii.
10. Pounds, Home, 184–186; Hanawalt, Ties That Bound, 38; A Warning for House-Keepers… (n.p., 1676), 4.
11. Pinkerton, Travels, I, 517; John E. Crowley, The Invention of Comfort: Sensibilities & Design in Early Modem Britain & Early America (Baltimore, 2001), 36–44, 62–69; Pounds, Culture, 118–120.
12. Edward Clarke, Letters Concerning the Spanish Nation… (London, 1763), 344; June 20, 1766, Diary of Mr. Tracy and Mr. Dentand, Bodl.; John Fielding, Thieving Detected… (London, 1777), 9; Monsieur du Sorbiere, A Voyage to England… (London, 1709), 11.
13. Paolo Da Certaldo, Libro di Buoni Costumi, ed. Alfredo Schiaffini (Florence, 1945), 30; Nov. 12, Oct. 21, 1666, Pepys, Diary, VII, 367, 336; Ann Feddon, Apr. 20, 1751, Assi 45/24/3/42; John Cooper, Dee. 13,1765, Assi 45/28/2A37; Contamine, "Peasant Hearth to Papal Palace," 502; Eugen Weber, "Fairies and Hard Facts; The Reality of Folktales," Journal of the History of Ideas 42 (1981), 101–102.
14. Dec. 13,1672, Isham, Diary, 175; John Worlidge, Systema Agricultural, The Mystery of Husbandry Discovered… (1675; rpt. edn., Los Angeles, 1970), 221; London Gazette, Oct. 1,1694; John Houghton, A Collection for Improvement of Husbandry and Trade, July 20, 1694; William Hamlet, The Plan and Description of a Machine… against Fire and Housebreaking (Birmingham, 1786).
15. C. G. Crump, ed., The History of the Life of Thomas Ellwood (New York, 1900), 7; An Account of a Most Barbarous Murther and Robbery… 25th of October, 1704 (London, 1704/1705); OED, s. v. "bedstaff"; Francis Bamford, ed., A Royalist's Notebook: The Commonplace Book of Sir John Oglander (New York, 1971), 55; Ruff, Violence, 49.
16. Mar. 21,1763, Frederick A Pottle, ed., Boswell’s London Journal, 1762–1763 (New York, 1950), 224; Leonard R. N. Ashley, ed., A Narrative of the Life of Mrs. Charlotte Charke… (1755; rpt. edn., Gainesville, Fla., 1969), 45; J. S. Cockbum, "Patterns of Violence in English Society; Homicide in Kent, 1560–1985," PP130 (1991), 86–87.
17. Thoresby, Diary, 1,345; George Murray, Jan. 10,1778, Assi 45/33/2/150; Oct. 25,1704, A. H. Quint, "Journal of the Reverend John Pike," Massachusetts Historical Society Proceedings, 1st Ser., 14 (1875–1876), 139; The Province and Court Records of Maine (Portland, Maine, 1958), IV, 341.
18. OED, s. V. "bandog"; Harrison, Description, 339–348; Thomas Kirk and Ralph Thoresby, Tours in Scotland 1677 & 1681, ed. P. Hume Brown (Edinburgh, 1892), 27; OBP, Apr. 9—11, 1746, 118; Keith Thomas, Man and the Natural World (New York, 1983), 101–104; Mrs. Reginald Heber, The Life of Reginald Heber… (New York, 1830), 1,217; George Sand, Story of My Life…, ed. Thelma Jurgrau (Albany, 1991), 631.
19. Augustin Gallo, Secrets de la Vraye Agriculture… (Paris, 1572), 204; Harrison, Description, 343; Daniel Defoe, Street-Robberies Consider'd…. (1728; rpt. edn. Stockton, N. ]., 1973), 68; M. Conradus Heresbachius, comp., Foure Bookes of Husbandry, trans. Barnabe Googe, (London, 1577), fo. 154–156; Charles Stevens and John Liebrault, Maison Rustique, or, the Countrey Farme, trans. Richard Surflet (London, 1616), 120–122; Worlidge, Systema Agriculturae, 162,222; Times, Jan. 16,1790.
20. Campion, The Discription of a Maske (London, 1607).
21. Aug. 2, 1708, Cowper, Diary; Thomas, Religion and the Decline of Magic, passim, esp. 493–497.
22. George Peele, The Old Wives Tale, ed. Patricia Binnie (Manchester, 1980), 42 n. 104; Edward Young, Night Thoughts, ed. Stephen Comford (Cambridge, 1989), 121; Casey, ed., Jean Paul, trans. Casey, 338; R. Sherlock, The Practical Christian… (London, 1699), 322; Taillepied, Ghosts, 169.
23. W. M., Hesperi-neso-graphia: or, a Description of the Western Isle… (London, 1716), 8; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 496–497; Robert Muchembled, "Popular Culture," in Robert Muchembled et al., Popular Culture (Danbury, Ct., 1994), II.
24. SAS, V, 335; C. Scott Dixon, The Reformation and Rural Society: The Parishes of Brandenburg-Ansbach-Kulmbach, 1528–1603 (Cambridge, 1996), 183, 180–181, 194–195; George Saintsbury, ed., The Works of John Dryden (Edinburgh, 1884), IX, 443; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 222–231; Burke, Popular Culture, passim.
25. OED, s. V. "night-spell"; Minor White Latham, The Elizabethan Fairies: The Fairies of Folklore and the Fairies of Shakespeare (1930; rpt. edn., New York, 1972), 38; Ralph Merrifield, The Archaeology of Ritual and Magic (London, 1987), 137–158.
26. Scott, Witchcraft, 27; Catherine Maloney, "A Witch-Bottle from Dukes Place, Aldgate," Transactions of the London & Middlesex Archaeological Society 31 (1980), 157–159; John Demos, Remarkable Providences: Readings on Early American History (Boston, 1991), 437–438; Merrifield, Archaeology, 159–178.
27. Roderick A. McDonald, The Economy and Material Culture of Slaves: Goods and Chattels on the Sugar Plantations of Jamaica and Louisiana (Baton Rouge, 1993), 40; Carla Mulford et al., eds., Early American Writings (New York, 2002), 508.
28. Anna Brzozowska-Krajka, Polish Traditional Folklore: The Magic of Time (Boulder, Colo, 1998), 122; Matthiessen, Natten, 100; Anonymous, Travel Diary, 1795, Chetham's Library, Manchester, Eng.; OED, s. v. "mezuzah."
29. Sewall, Diary, 1,400; David D. Hall, "The Mental World of Samuel Sewall," in David Hall et al., eds., Saints & Revolutionaries: Essays on Early American History (New York,
1984), 80; Brand 1848, II, 73, III, 20–21; Kingsley Palmer, The Folklore of Somerset (Totowa, N. J., 1976), 45; Mrs. Gutch, County Folk-Lore: Examples of Printed Folk-Lore Concerning the East Riding of Yorkshire (London, 1912), 64; Karl Wegert, Popular Culture, Crime, and Social Control in 18th Century Württemberg (Stuttgart, 1994), 71.
30. Trenchard, The Natural History of Superstition (London, 1709), 24; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 636–637,647—648.
31. UM, May, 1751,220.
32. Henry Bull, comp., Christian Prayers and Holy Meditations… (Cambridge, 1842), 75.
33. ВС, July 1, 1761; Brand 1848, III, 180–182, 228; Brzozowska-Krajka, Polish Folklore, 67,204; R.W. Scribner, Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany (London, 1987), 32; Mrs. M. MacLeod Banks, British Calendar Customs: Scotland (London, 1941), III, 112, 116–117; e-mail of Jan. 29, 2002 from David Bromwich, Somerset Archaeological and Natural History Society, Taunton, Eng.; Muchembled, "Popular Culture," 24.
34. Dec. 7,1758, Dyer, Diary; June 3,1662, Pepys, Diary, III, 101; Ian Cameron, Crime and Repression in the Auvergne and the Guyenne, 1720–1790 (Cambridge, 1981), 127.
35. Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914 (Stanford, Calif., 1976), 161; Pounds, Culture, 109–117; Roche, Consumption, 125–130; Raffaella Sarti, Europe at Home: Family and Material Culture, 1500–1800, trans. Allan Cameron (New Haven, 2002), 92–93.
36. William Carr, ed., The Dialect of Craven, in the West-Riding of the County of York (London, 1828), 1,30; Joseph Lawson, Letters to the Young on Progress in Pudsey during the Last Sixty Years (Stanningley, Eng., 1887), 23; Annik Pardailhe Galabrun, The Birth of Intimacy: Privacy and Domestic Life in Early Modern Paris, trans. Jocelyn Phelps (Philadelphia, 1991), 120.
37. Pounds, Culture, 110–112; Roche, Consumption, 130–131; Tobias George Smollett, Travels through France and Italy, ed. Frank Felsentein (Oxford, 1979), 209.
38. John Earl Perceval, The English Travels of Sir John Percival and William Byrd II, ed. Mark R. Wenger (Columbia, Mo., 1989), 137; Defoe, Tour, II, 676; Mr. Ozell, trans., M. Misson's Memoirs and Observations in His Travels over England (London, 1719), 37–39; Celia Fiennes, The Illustrated Journeys of Celia Fiennes, c. 1685–1712 (London, 1982), 147,161; Joan Thirsk, The Agrarian History of England and Wales (London, 1967), IV, 453.
39. Caroline Davidson, A Woman's Work is Never Done; A History of Housework in the British Isles, 1650–1950 (London, 1982), 73–75; SAS, V, 424, XII, 297, 747; SAI, I, 4, 198; James Ayres, Domestic Interiors: The British Tradition, 1500–1850 (New Haven, 2003), 16.
40. SAS, XVIII, 480; Edward Ward, A Journey to Scotland… (London, 1699), 9; Thirsk, Agrarian History, PV, 453; Davidson, Woman’s Work, 81–87; E. Veryard, An Account of Divers Choice Remarks… in a Journey… (London, 1701), 19; Paul Zumthor, Daily Life in Rembrandt’s Holland (New York, 1963), 45–46,302.
41. Robert W. Malcolmson, Life and Labour in England, 1700–1780 (New York, 1981), 46–47; Davidson, Woman's Work, 76–77; Carl Bridenbaugh, Vexed and Troubled Englishmen, 1590–1642 (New York, 1967), 99.
42. Llewellynn Jewitt, ed., The Life of William Hutton… (London, 1872), 160; Davidson, Woman's Work, 101.
43. Pounds, Culture, 120; A. Alvarez, Night: Night Life, Night Language, Sleep, and Dreams (New York, 1995), 6.
44. Anne Elizabeth Baker, comp., Glossary of Northamptonshire Words and Phrases (London, 1854), 1,89; Wilson, English Proverbs, 377.
45. Joan Wildeblood and Peter Brinson, The Polite World: A Guide to English Manners and Deportment from the Thirteenth to the Nineteenth Century (London, 1965), 84; Witold Rybczynski, Home: A Short History of an Idea (New York, 1986), 138; O'Dea, Lighting, 217. В то время 28 тысяч ливров примерно равнялись 900 фунтам стерлингов. W. S. Lewis et al., eds., Horace Walpole's Correspondence with Hannah More… (New Haven, 1961), 80. О цене на свечи см.: Lord Beveridge et al., Prices and Wages in England: From the Twelfth to the Nineteenth Century (London, 1939), I, passim.
46. Eric Sloane, Seasons of America Past (New York, 1958), 107; Shakespeare, Cymbeline, I, 6, 110–111; O'Dea, Lighting, 35–37, 43; Crowley, Comfort, 112–115; Davidson, Woman's Work, 104–105, 110; R. D. Oliver Heslop, comp., Northumberland Words… (London, 1894), II, 666; S. K. Tillyard, Aristocrats: Caroline, Emily, Louisa, and Sarah Lennox, 1740–1832 (New York, 1994), 202.
47. Nov. 1, 1794, Dee. 25,1799, Woodforde, Diary, TV, 150, V, 231.
48. 8 Anne c. 9; Sarti, Europe at Home, trans. Cameron, 105.
49. Cobbett, Cottage Economy… (1926; rpt. edn., New York, 1970), 144; SAS, V, 335; Gilbert White, The Natural History and Antiquities of Selbome… (1789; rpt. edn., Menston, Eng., 1972), 197–199; John Caspall, Making Fire and Light in the Home Pre-1820 (Woodbridge, Eng., 1987), 171–179.
50. "A Dissertation on the Instruments that Communicate Light," UM, May, 1749, 229; Max J. Okenfuss, ed., The Travel Diary of Peter Tolstoi, a Muscovite in Early Modern Europe (DeKalb, III., 1987), 304; Oct. 8, 1773, Frederick A Pottle and Charles H. Bennett, eds., Boswell's Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson, L.L.D., 1773 (New York, 1961), 281; Pinkerton, Travels, 1,766, П1,587; O7!^, Lighting, 40–41; Crowley, Comfort, 111–113; Davidson, Woman's Work, 106,109; Maurice Vaussard, Daily Life in Eighteenth Century Italy, trans. Michael Heron (New York, 1963), 194.
51. Caspall, Malting Fire and Light, 176; Journal of James Robertson, 1767, 91–92, Manuscripts, National Library of Scotland, Edinburgh; "16th Century Lighting in Sweden," Rushlight 15 (1949), 4; Rushlight 39 (1973), 8; Jean Kathryn Berger, "The Daily Life of the Household in Medieval Novgorod (Russia)" (Ph.D. diss., Univ. of Minnesota, 1998), 92–94; Davidson, Woman's Work, 107–108; James Brome, Travels over England, Scotland and Wales (London, 1700), 99,218; Perceval, English Travels, ed. Wenger, 139; Burt, Letters, II, 127–128; Ménétra, Journal, 32.
52. Everett Emerson, ed., Letters from New England: The Massachusetts Bay Colony, 1629–1638 (Amherst, Mass., 1976), 36; Thomas Coulson, "The Story of Domestic Lighting," Journal of the Franklin Institute 256 (1953), 207–208; Caspall, Fire and Light, 262.
53. Tilley, Proverbs in England, 144; June 6, 1712, Louis B. Wright and Marion Tinling, eds., The Secret Diary of William Byrd of Westover, 1709–1712 (Richmond, 1941), 540.
54. Gamert, Lampan, 104–105, 278–279; Magnus Gislason, Kvällsvaka: En Isländsk Kulturtradition Belyst Genom Studier i Bondebefolkningens Vardagsliv… (Uppsala, 1977), 144,149; Jonathan Swift, Directions to Servants: and Miscellaneous Pieces, 1733–1742, ed. Herbert John Davis (Oxford, 1959), 20.
55. George Washington Greene, ed., The Works of Joseph Addison (Philadelphia, 1883), I, 314; O'Dea, Lighting, 2; Domestic Management… (London, n. d), 22,48.
56. J. J. Evans, ed., Welsh Proverbs: A Selection, with English Translations (Llandysul, Wales, 1965), 31; Jean-Jacques Rousseau, Emile: or On Education, trans. Allan Bloom (New York, 1979), 133; Craufurd Tait Ramage, Ramage in South Italy…, ed. Edith Clay (London, 1965), 150; Gamert, Lampan, 76–77; Robert Cleaver, A Godly Forme of Houshold Government (London, 1621); Tour of Sotterley Plantation, Md., Oct. 11,1992.
57. Alice Morse Earle, Customs and Fashions in Old New England (1893; rpt. edn., Detroit, 1968), 127; Henry Davidoff, World Treasury of Proverbs… (New York, 1946), 81; UM, May, 1751, 220; Peter Thornton, The Italian Renaissance Interior, 1400–1600 (New York, 1991), 276; Moryson, Itinerary, TV, 201–202.
58. Cotgrave, Dictionarie.
59. Ruff, Violence, 76; Rétif de la Brétonne, My Father's Life, trans. Richard Veasey (Gloucestet, Eng., 1986), 6; Rudolf Dekker, Childhood, Memory and Autobiography in Holland: From the Golden Age to Romanticism (New York, 2000), 33.
60. Apr. 30,1645, Josselin, Diary, 39; May 18,1668, Pepys, Diary, IX, 204.
61. James Gregory, Nov. 26, 1773, Assi 45/31/2; Sept. 6,11,1794, June 6,1795, Drinker, Diary, 1,590,592,689; Dec. 2,1766 and Feb. 8,1767, Cole, Diary, 161,184.
62. Vittore Branca, ed., Mercanti Scrittori: Ricordi Nella Firenze Tra Medioevo e Rinascimento (Milan, 1986), 379; Mar. 31, 1771, Carter, Diary, I, 554–555; Dec. 15, 1780, Apr. 14, 1781, Apr. 13,1785, Dec. 28,1794, Mar. 14,17,1795, Woodforde, Diary, l, 298,307, II, 184, IV, 163,182,183.
63. Pinkerton, Travels, II, 94; May 20,1786, Diary of Dr. Samuel Adams, 1758–1819, New York Public Library, and passim; June 7,1745, Kay, Diary, 97, and passim.
64. Laurel Thatcher Ulrich, "Martha Ballard and Her Girls: Women's Work in Eighteenth-Century Maine," in Stephen Innés, ed., Work and Labor in Early America (Chapel Hill, N. C, 1988), 70; D. B. Horn and Mary Ransome, eds., English Historical Documents, 1714–1783 (New York, 1957), 671–672; Apr. 10, 1785, Oct. 1, 1804, "Mrs. Ballard's Diary," in Charles E. Nash, The History of Augusta, Maine (Augusta, Maine, 1904), 237,421, and passim; PL, Oct. 22,1765; Laurel Thatcher Ulrich, A Midwife's Tale: The Life of Martha Ballard, Based on Her Diary, 1785–1812 (New York, 1990), 203; Anthony F. Aveni, Empires of Time: Calendars, Clocks, and Cultures (New York, 1989), 35.
65. Apr. 1,1657, Josselin, Diary, 395; Apr. 14,1768, Woodforde, Diary, 1,74.
66. Abel Boyer, Dictionaire Royal… (Amsterdam, 1719); Marvin Lowenthal, trans., The Memoirs of Glückei of Hameln (n.p., 1932), 120; Frank D. Prager, ed., The Autobiography of John Fitch (Philadelphia, 1976), 41; Mary J. Dobson, Contours of Death and Disease in Early Modern England (New York, 1997), 274–276.
67. Paroimiographia (English), 8; Apr. 6,1669, East Anglian Diaries, 119; Benjamin Franklin, Writings, ed. J. A. Leo Lemay (New York, 1987), 221; Thoresby, Diary, 1,7.
68. Smith, De Republica Anglorum, ed. Mary Dewar (Cambridge, 1982), 107; OBP, passim; Brettone, Father's Life, trans. Veasey, 119; Henry Brisker, Apr. 9, 1766, Assi 45/28/2/124; Elizabeth S. Cohen, "Honor and Gender in the Streets of Early Modem Rome," J1H 22 (1992), 614.
69. Dec. 13, 1672, Isham, Diary, 175; Henry Preston, Assi 45/14/1/135; OBP, Apr. 24–27, 1745,137.
70. OBP, May 10,1722,7; Select Trials, 1,305.
71. ECR, VIII, 101; OBP, Oct. 16–21,1728, Apr. 15,1724,4–5, Apr. 8-14,1752,131.
72. Jean-Louis Flandrin, Families in Former Times: Kinship, Household and Sexuality, trans. Richard Southern (Cambridge, 1979), 44; Oct. 5,1725, Sanderson, Diary, 80–81; OBP, Jan. 16–18, 1745, 62–63; Samuel H. Baron, ed. and trans., The Travels of Olearius in Seventeenth-Century Russia (Stanford, Calif, 1967), 150. См. также: A. Voisin, "Notes sur la Vie Urbaine au XV Siècle: Dijon la Nuit," Annales de Bourgogne 9 (1937), 276.
73. Bonaventure Des Périers, Cymbalum Mundi: Four Very Ancient Joyous and Facetious Poetic Dialogues (New York, 1965), 66. См. также: OBP, May 2–5, 1739, 86; Select Trials, III, 336; The Authentick Tryals at large of John Swan and Elizabeth Jeffryes… (London, 1752), 10,11.
Глава пятая
1. Devenant, The Platonick Lovers (London, 1636).
2. Aug. 28, 1624, Beck, Diary, 159–160; Nov. 27, 1683, Heywood, Diaries, II, 341; Sandford Fleming, Children & Puritanism (New York, 1969), 148.
3. Suzanne Chantal, La Vie Quotidienne au Portugal après le Tremblement de Terre de Lisbonne de 1755 (Paris, 1962), 245.
4. Dec. 24, 1647, Yorkshire Diaries & Autobiographies in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Durham, Eng., 1886), 81–82; Jan. 5,1763, Frederick A. Pottle, ed., Boswell's London Journal, 1762–1763 (New York, 1950), 125; Aug. 7—31, 1732, Clegg, Diary, 1, 151–152.
5. Samuel Briggs, The Essays, Humor, and Poems of Nathaniel Ames, Father and Son, of Dedham, Massachusetts, from Their Almanacks, 1726–1775 (Cleveland, 1891), 67; May 21,1707, Cowper, Diary; Robert W. Malcolmson, Life and Labour in England, 1700–1780 (New York, 1981), 95–96; Burke, Popular Culture, Robert Muchembled, Popular Culture and Elite Culture in France, 1400–1750, trans. Lydia Cochrane (Baton Rouge, 1985), 1-107.
6. Rousseau, Emile: or On Education, trans. Allan Bloom (New York, 1979), 63.
7. Bacon, Essays (Oxford, 1930), 3; Le Loyer, Specters, fo. 105; Lucretius, On the Nature of Things: De Rerum Natura, ed. and trans. Anthony M. Esolen (Baltimore, 1995), 93; Leon Battista Alberti, The Family in Renaissance Florence, trans. Renée Neu Watkins (Columbia, S. C, 1969), 63.
8. Bacon, Essays, 3; Scott, Witchcraft, 139; Herman W. Roodenburg, "The Autobiography of Isabella de Moerloose: Sex, Childrearing, and Popular Belief in Seventeenth Century Holland," JSH 18 (1985), 522, 521, 523–524; Rudolf Dekker, Childhood, Memory and Autobiography in Holland: From the Golden Age to Romanticism (New York, 2000), 28, 81–84; Mark Motley, Becoming a French Aristocrat: The Education of the Court Nobility, 1580–1715 (Princeton, N. J., 1990), 48–49.
9. H. C. Barnard, trans., Fénelon on Education (Cambridge, 1966), 8; Pinkerton, Travels, II, 757; Timothy J. Casey, ed., Jean Paul: A Reader, trans. Erika Casey (Baltimore, 1992), 339; Olwen Hufton, "Women, Work, and Family," in HWW Ш, 40; Linda A. Pollock, "Parent-Child Relations," in FLEMT, 197.
10. Thomas Bewick, A Memoir of Thomas Bewick, ed. Iain Bain (London, 1975), 16.
11. Dialogues on the Passions, Habits, and Affections Peculiar to Children… (London, 1748), 40; William Hazlitt and Abridge Colby, eds., The Life of Thomas Holcroft (New York, 1968), 1, 14–15. См. также: Hibernicus; or Memoirs of an Irishman… (Pittsburgh, 1828).
12. Rousseau, Emile, trans. Bloom, 137; Mollie Harris, A Kind of Magic (London, 1969), 104–105; Restif de la Bretonne, Monsieur Nicolas; or, the Human Heart Laid Bare (London, 1966), 29; Autobiography of John Younger, Shoemaker, St. Boswells (Kelso, Eng., 1881), 45; Mrs. Laura M., Oct. 7,14,1938, "Game Songs and Rhymes," American Life Histories: Manuscripts from the Federal Writers' Project, 1936–1940, Manuscripts Division, Library of Congress, Washington, D.C.; Percy B. Green, A History of Nursery Rhymes (1899; rpt. edn., Detroit, 1968), 78–80.
13. Thomas Balston, The Life of Jonathan Martin… (London, 1945), 3. См. также, например: Joseph Bougerel, Vie de Pierre Gassendi… (1737; rpt. edn., Geneva, 1970), 3.
14. Tornano, Proverbi, 171.
15. Mar. 7, 1787, Diary of Dr. Samuel Adams, Diary, 1758–1819, New York Public Library; Jan. 4,1705, Cowper, Diary.
16. Griffiths, Youth, 135; Robert Morgan, My Lamp Still Burns (Llandysul, Wales, 1981), 64; Bräker, Life, 57–58, 63, 67; Ménétra, Journal, 24; Valentin Jamerey-Duval, Mémoires: Enfance et Éducation d'un Paysan au XVIIIe Siècle, ed. Jean Marie Goulemot (Paris, 1981), 114; Pounds, Culture, 273–274,409.
17. Joachim Shlôr, Nights in the Big City: Paris, Berlin, London 1840–1930, trans. Pierre Gottfried Imhof and Dafydd Rees Roberts (London, 1998), 57; Alberti, Family in Renaissance Florence, trans. Watkins, 107.
18. PG, Feb. 11, 1789.
19. OED, s.v. "cat's eye"; T. Row, "Hints for Constructing Glasses to Shew Objects in the Night," GM, 1777, 59; Lorus Johnson Milne and Margery Joan Milne, The World of Night (New York, 1956), 8–9; Faber Birren, The Power of Color… (Secaucus, N.J., 1997), 228–229. См. также: С. E. Roybet, ed., Les Serées de Guillaume Bouchet Sieur de Brocourt (Paris, 1874), Ш, 238–239.
20. John Caspall, Making Fire and Light in the Home Pre-1820 (Woodbridge, Eng., 1987), 223–227; O'Dea, Lighting, 70–76.
21. Nov. 15, 1729, Sanderson, Diary, 30; OBP, Apr. 4, 1733, 119; Thomas Wright, The Homes of Other Days: A History of Domestic Manners and Sentiments in England… (New York, 1871), 460.
22. Eric Partridge, A Dictionary of the Underworld… (New York, 1950), 448; Eugène Defrance, Histoire de TÉlclairage des Rues de Paris (Paris, 1904), 30–33; Christopher Hibbert, Venice: The Biography of a City (New York, 1989), 166; Jeremy D. Popkin, ed., Panorama of Paris: Selections from Le Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier (University Park, Pa., 1999), 132.
23. Defoe, Second Thoughts Are Best… (London, 1729), 15; G. C. Faber, ed., The Poetical Works of John Gay… (London, 1926), 81; Popkin, ed., Panorama of Paris, 132; The Novels and Miscellaneous Works of Daniel Defoe (London, 1885), 515.
24. OBP, Oct. 4,1719,5.
25. Donald E. Crawford, ed., Journals of Sir John Lauder (Edinburgh, 1900), 120; Harry Ross-Lewin, With "The Thirty-Second" in the Peninsular and other Campaigns, ed. John Wardell (Dublin, 1904), 146.
26. Tornano, Proverbi, 89; Shakespeare, Venus and Adonis, 825–826. Местные власти также старались ограничивать использование факелов. Из-за угрозы возникновения пожара от открытого пламени в городах конца XVII века предпочтение отдавалось фонарям. В 1725 году в Стокгольм? факелы были оставлены только для использования королевской семьей. Matthiessen, Natten, 28.
27. Tilley, Proverbs in England, 471; Anne Elizabeth Baker, comp. Glossary of Northamptonshire Words and Phrases… (London, 1854), 95; G. F. Northall, comp., A Warwickshire Word-Book… (1896; rpt. edn., Vaduz, Liecht, 1965), 167; J. W. Goethe, Italian Journey, 1786–1788 (New York, 1968), 325; OED, s. v. "night-sun."
28. Victor Hugo Paltsits, "Journal of Benjamin Mifflin on a Tour from Philadelphia to Delaware and Maryland, July 26 to Aug. 14, 1762," Bulletin of the New York Public Library 39 (1935), 438; Mary Yates, Dec. 11,1764, Assi 45/28/1/16.
29. William Dickinson, comp., A Glossary of Words and Phrases Pertaining to the Dialect of Cumberland (London, 1878), 103; OBP, Sept. 15–18,1762,164; Street Lighting Manual. Prepared by the Street and Highway Lighting Committee of the Edison Electric Institute (New York, 1969), 63–64; Milne and Milne, World of Night, 10.
30. Robert Bator, Masterworks of Children 's Literature, 1740–1836: The Middle Period (New York, 1983), 254; "A. B.," SJC, Sept. 13, 1764; Margaret Spufford, Small Booh and Pleasant Histories: Popular Fiction and Its Readership in Seventeenth-Century England (Athens, Ga., 1981), 2; Michael O'Malley, "Time, Work and Task Orientation: A Critique of American Historiography," Time & Society 1 (1992), 350.
31. Bradford Torrey, ed. The Writings of Henry David Thoreau (Boston, 1906), II, 372; Nov. 21, 1786, Woodforde, Diary, II, 284; Edward Browne, Journal of a Visit to Paris in the Year 1664, ed. Geoffrey Keynes (London, 1923), 22; Feb. 28,1664, Pepys, Diary, V, 68, I–IX, passim; Swift, Journal, I, 356, passim; Nov. 9, 1792, Dorothy Heighes Woodforde, ed., Woodforde Papers and Diaries (London, 1932), 80.
32. OBP, Dec. 8,1742,16; OED, s. v. "shepherd's lamp"; John Clare, Cottage Tales, ed. Eric Robinson et al. (Manchester, 1993), 88; Baker, comp., Northamptonshire Glossary, III, 225; H. J. Deverson, ed., Journey into Night (New York, 1966), 138; OBP, May 30–31, 1745.
33. Universal Magazine of Knowledge and Pleasure 12 (Jan. 1753), 3; OED, s. v. "Milky Way," "Walsingham," "Watling-street"; Eveline Camilla Gurdon, Suffolk (London, 1893), 166; "Impressions of a Night Sky Unaffected by Light Pollution," International Dark-Sky Association, Information Sheet № 111, Web: www.darksky.org.
34. Torrey, ed., Thoreau Writings, II, 383.
35. June 24, 1801, Drinker, Diary, II, 1422; M. McGrath, ed., Cimine Amhiaoibh Ui Shuileabhdin: The Diary of Humphrey O'Sullivan (London, 1936–1937), I–IV, passim; Peter Barber, "Journal of a Traveller in Scotland, 1795–1796," Scottish Historical Review 36 (1957), 43.
36. Mansie Wauch, The Life of Mansie Wauch, Tailor in Dalkeith (Edinburgh, 1827), 85; ECR, VIII, 387; William H. Cope, ed., A Glossary of Hampshire Words and Phrases (1883; rpt. edn., Vaduz, Liecht., 1965), 23; Walter W. Skeat, ed., A Collection of English Words… (London, 1874), 57,87, 93; Baker, comp., Northamptonshire Words and Phrases, II, 119; Frederic Thomas Elsworthy, comp., The West Somerset Word-Book… (1886; rpt. edn., Vaduz, Liecht., 1965), 575; Jan. 18,1666, Pepys, Diary, VII, 18; Giuseppe Marco Antonio Baretti, A Dictionary, Spanish and English… (London, 1794); OBP, Apr. 24—May 1, 1754,183.
37. Jan. 23, 1786, Woodforde, Diary, II, 226; William Hazlitt, Notes of a Journey through France and Italy (London, 1826), 179.
38. Diary of Robert Moody, 1660–1663, Bodl., Rawlinson Coll. D. 84; Crawford, ed., Lauder Journals, 177; George P. Rawick, ed., The American Slave: A Composite Autobiography (Wesport, Ct., 1972) XIII, 109. См. также: Oct. 9,1662, Pepys, Diary, III, 217; Oct. 1,1794, Woodforde, Diary, IV, 138; Barber, "Traveller," 49.
39. William Cobbett, Rural Rides in Surrey, Kent, and Other Counties (London, 1948), II, 139; Winslow C. Watson, ed., Men and Times of the Revolution; or, Memoirs ofElkartah Watson, Including Journals of Travels (New York, 1856), 59. См. также: Thomas Hardy, The Woodlanders (1887; rpt. edn., London, 1991), 12.
40. George Edward Dartnell and Edward Hungerford Goddard, comps., A Glossary of Words Used in the County of Wiltshire (London, 1893), 192; Autobiography of the Rev. Dr Alexander Carlyle, Minister of Inveresk… (Edinburgh, 1860), 125–126; Barber, "Traveller," 48.
41. Burton E. Stevenson, ed., The Home Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phrases (New York, 1948), 168; Walter W. Skeat, ed., Five Reprinted Glossaries… (London, 1879), 95; Bernard J. Hibbitts, "Making Sense of Metaphors: Visuality, Aurality and the Reconfiguration of American Legal Discourse," Cardozo Law Review 16 (1994), 229–356; Donald M. Lowe, History of Bourgeois Perception (Brighton, Eng., 1982), 6–8.
42. Shakespeare, A Midsummer Night's Dream, III, 2; Bruce R. Smith, The Acoustic World of Early Modern England: Attending to the О-Factor (Chicago, 1999), 58–59.
43. John M. Hull, Touching the Rock: An Experience of Blindness (New York, 1990), 166, 83; Julian Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (Boston, 1977), 96–97.
44. Barber, "Traveller," 39; Diary of Rev. William Bennet, 1785, Bodl., Eng. Mise. f. 54, fo. 74; E. P. Thompson, Customs in Common (New York, 1991), 362; Joshua Lucock Wilkinson, The Wanderer… through France, Germany and Italy in 1791 and 1793 (London, 1798), I, 58; Jasper Danckaerts, Journal of a Voyage to New York and a Tour in Several of the American Colonies in 1679–1680, ed. and trans. Henry C. Murphy (New York, 1867), 125.
45. Sept. 20,1791, Walter Johnson, ed., Gilbert White's Journals (1931; rpt. edn., New York, 1970), 394; Milne and Milne, World of Night, 13–14,94; Claire Murphy and William Cain, "Odor Identification: The Blind are Better," Physiology & Behavior 37 (1986), 177–180. Воспоминания о резких запахах остаются в памяти гораздо дольше, чем большая часть образов, однажды виденных нами. J. Douglas Porteous, Landscapes of the Mind: Worlds of Sense and Metaphor (Toronto, 1990), 34–36.
46. W. Carew Hazlitt, ed., English Proverbs and Proverbial Phrases… (London, 1882), 94; Edward Ward, The London Spy (1709; rpt. edn., New York, 1985), 40; Barber, "Traveller," 39; M. Betham-Edwards, ed., The Autobiography of Arthur Young (1898; rpt. edn., New York, 1967), 194. См. также: Sept. 15, 1779, Andrew Oliver, ed., The Journal of Samuel Curwen, Loyalist (Cambridge, Mass., 1972), 560.
47. OED, s. V. "blind road"; Sept. 16,1795, "Dr. Pierce's Manuscript Journal," Massachusetts Historical Society Proceedings, 2nd Ser., 3 (1886–1887), 52; Laurel Thatcher Ulrich, A Midwife's Tale: The Life of Martha Ballard, Based on Her Diary, 1785–1812 (New York, 1990), 202; Hull, Touching the Rock, 103.
48. Faber, ed., Gay Works, 83.
49. Descartes, Selected Philosophical Writings, trans. John Cottingham et al. (Cambridge, 1988), 58; Harry Porter, The Pleasant History of the Two Angry Women ofAbington (n. p., 1599); Oct. 2,1724, Parkman, Diary, 6.
50. Cecil Aspinall-Oglander, ed., Admiral’s Wife: Being the Life and Letters of the Hon. Mrs. Edward Boscawen from 1719 to 1761 (London, 1940), 235; Monique Savoy, Lumières sur la Ville: Introduction et Promotion de l'Elecricité en Suisse: L'Éclairage Lausannois, 1881–1921 (Lausanne, 1988), 50.
51. L'Estrange, Fables of Aesop and Other Eminent Mythologists: With Morals and Reflections (London, 1699), 1,103.
52. Torrey, ed., Thoreau Writings, III, 340.
53. Farley's Bristol Journal, Feb. 18, 17°9; Ward, London Spy, III, 48–49; Aileen Riberio, Dress in Eighteenth-Century Europe, 1715–1789 (New Haven, 2002), 85.
54. OBP, July 9—11,1740,174; Joseph Lawson, Letters to the Young on Progress in Pudsey during the Last Sixty Years (Stanningley, Eng., 1887), 33; Tornano, Proverbi, 170.
55. Hadrianus Junius, The Nomenclator… (London, 1585), 160–161; OED, s. v. "greatcoat"; John Owen, Travels into Different Parts of Europe, in the Years 1791 and 1792… (London, 1796), II, 81; Tobias Smollett, The Life and Adventures of Sir Launcelot Greaves (London, 1762), 239; Daniel Defoe, The Life of… Robinson Crusoe (London, 1729), 180; Henry Swinburne, Travels in the Two Sicilies… (London, 1783), II, 308; Jonas Hanway, An Historical Account of the British Trade over the Caspian Sea… (London, 1753), II, 336; Riberio, Dress, 22–24,30—31,87.
56. W. Hooper, ed., Letters of Baron Bielfeld… (London, 1768), IV, 166; OED, s.v. "night-kerchief," "mob"; Tilley, Proverbs in England, 296; John Owen, Travels into Different Parts of Europe, in the Years 1791 and 1792… (London, 1796), II, 81; Apr. 24, 25,1665, Pepys, Diary, VI, 89; F. Pomey and A. Lovell, Indiculus Universalis; or, the Universe in Epitome… (London, 1679), 68; Riberio, Dress, 49.
57. Thomas Burke, English Night-Life: From Norman Curfew to Present Black-Out (New York, 1971), 54; Andrew Henderson, ed., Scottish Proverbs (Edinburgh, 1832), 69; OBP, Oct. 4,1719,6; Cohens, Italy, 49.
58. Torrington, Diaries, III, 290.
59. Nov. 28, 1785, Woodforde, Diary, II, 216; James Peller Malcolm, Anecdotes of the Manners and Customs of London during the Eighteenth Century… (London, 1810), 1,145. См. также: July 30,1755, Parkman, Diary, 293.
60. LC, Aug. 18,1785.
61. Varrò, On the Latin Language, trans. Roland G. Kent (Cambridge, Mass., 1957), I, 177–179; Censorinus, De Die Natale, trans. William Maude (New York, 1900), 40; Henry Hibbert, Syntagma Theologicum… (London, 1662), 30.
62. Augustin Gallo, Secrets de la Vraye Agriculture… (Paris, 1572), 213; Leonard Lawrence, A Small Treatise betwixt Arnalte and Lucenda (London, 1639), 7; Nina Gockerell, "Telling Time without a Clock," in Klaus Maurice and Otto Mayr, eds., The Clockwork Universe: German Clocks and Automata, 1550–1650 (New York, 1980), 137. Эта хронология составлена на основе многочисленных первоисточников.
63. Ralph Knevet, Rhodon and Iris… (London, 1631); OED, s. v. "hen and chickens," "seven stars"; Weinsberg, Diary, 1,59; Gockerell, "Telling Time," 137.
64. Barber, "Traveller," 42; Crusius, Node, ch. 3.12; Shakespeare, Hamlet, 1, 2, 198; The RapeofLucrece, 113–119.
65. OBP, Oct. 12,1737, 205; M. D'Archenholz, A Picture of England… (London, 1789), II, 79; Ménétra, Journal, 195–196.
66. SWP, I, 99; Shakespeare, Hamlet, 1, 1, 143; Bourne, Antiquitatecs Vulgares, 38; Alan Gailey, "The Bonfire in North Irish Tradition," Folklore 88 (1977), 18; Crusius, Node, ch. 3.36.
67. William Howitt, The Boy's Country Book (London, n.d), 196; Bourne, Antiquitates Vulgares, 87, 84, passim; Francis Grose, A Provincial Glossary (1787; rpt. edn., Menston, Eng., 1968), 3, 2. См. также: James Dawson Bum, The Autobiography of a Beggar Boy, ed. David Vincent (London, 1978), 67; Bartholomäus Sastrow et al., Social Germany in Luther's Time: Being the Memoirs of Bartholomew Sastrow, trans. H. A. L. Fisher (Westminster, Eng., 1902), 291.
68. Lynn Doyle, An Ulster Childhood (London, 1926), 61; Charles Jackson, ed., The Diary of Abraham De la Pryme, the Yorkshire Antiquary (Durham, Eng., 1870), 39. См. также: Life and Struggles of William Lovett… (London, 1876), 11.
69. OBP, Jan. 16–20, 1752, 48; Matthiessen, Natten, 63; Oct. 27, 1771, Basil Cozens-Hardy, ed., The Diary ofSylos Neville, 1767–1788 (London, 1950), 132; Richard Cobb, Paris and its Provinces, 1792–1802 (New York, 1975), 45; Paul Zumthor, Daily Life in Rembrandt's Holland (New York, 1963), 249; James Lackington, Memoirs of the First Forty-Five Years… (London, 1792), 34.
70. June 23, 1745, Lewis, Diary, 184; "Journal of P. Oliver, 1776–1810," Egerton Mss. 2672,1, fo. 68, BL; Diary of John Leake, 1713, Rawlinson Mss., D. 428, fo. 37, Bodl.; F. Platter, Journal, 36.
71. Taillepied, Ghosts, 78; Moryson, Itinerary, IV, 294; Early Prose and Poetical Works of John Taylor the Water Poet (1580–1653) (London, 1888), 156; Letters from Minorca… (Dublin, 1782), 213; Matthiessen, Natten, 24.
72. Clare Williams, ed., Thomas Platter's Travels in England, 1599 (London, 1937), 150; Sept. 19, 1662, Pepys, Diary, III, 201; Paolo Da Certaldo, Libro di Buoni Costumi, ed. Alfredo Schiaffini (Florence, 1945), 14; OBP, Oct. 17–19, 1749, 163; Mrs. Grant, Essays on the Superstitions of the Highlanders of Scotland… (New York, [1831?]), 1,121; Jackson, ed., De la Pryme Diary, 71; Schindler, Rebellion, 215.
73. Yves-Marie Bercé, History of Peasant Revolts: The Social Origins of Rebellion in Early Modern France, trans. Amanda Whitmore (Ithaca, N. Y., 1990), 278; Diary of James Scudamore, ca. 1710, Hereford City Library, Eng.; Feb. 13, 14, 1667, Pepys, Diary, VIII, 60, 62; Lawrence F. Stone, The Family, Sex and Marriage in England 1500–1800 (New York, 1977), 94.
74. Nov. 18, 1762, Frederick A. Pottle, ed., Boswell's London Journal, 1762–1763 (New York, 1950), 43. См. также: Dec. 17,1769, Woodforde, Diary, 1,95.
75. Brian Hill, Observations and Remarks in a Journey through Sicily and Calabria (London, 1792), 49; Journal of Twisden Bradboum, 1693–1967, 1698, 103, Miscellaneous English Manuscripts c. 206, Bodl. «Окропление святой водой, — писал Ноэль Тайльпье, — это верная защита от козней и хитрости злых духов» (Ghosts, 174).
76. Grose, Provincial Glossary, 70; R. D. Oliver Heslop, comp., Northumberland Words… (London, 1894), I, 204; Brand 1848, III, 15; Muchembled, Popular Culture, trans. Cochrane, 84–85; Enid Porter, Cambridgeshire Customs and Folklore (New York, 1969), 62; Paul-Yves Sébillot, Le Folklore de la Bretagne… (Paris, 1968), II, 132; Jean Delumeau, La Peur en Occident, XlVe-XVllle Siècles. Une Cité Assiégée (Paris, 1978), 92; William Dillon Piersen, Black Yankees: The Development of an Afro-American Subculture in Eighteenth-Century New England (Amherst, Mass., 1988), 85.
77. Faber, ed., Gay Works, 81; Rousseau, Emile, trans. Bloom, 148; John Bumap, July 10, 1766, Assi 45/28/2/97c. См. также: Thomas Hardy, The Trumpet-Major… (1912; rpt. edn., New York, 1984), 274.
78. Remarks 1717,175; Watson, ed., Men and Times, 115; Bernard Mandeville, An Enquiry into the Causes of the Frequent Executions at Tyburn, ed. Marvin R. Zirker, Jr. (Los Angeles, 1964), 10; Muchembled, Violence, 65,120–121.
79. Schindler, Rebellion, 223; Muchembled, Violence, 120–123, 259; William Mowfitt, Aug. 14,1647, Assi 45/2/1/229; T. Platter, Journal, 197; Pinkerton, Travels, 1,224; Milly Harrison and О. M. Royston, comps., How They Lived… (Oxford, 1965), II, 253; OBP, May 2–5,1739,73; Rousseau, Emile, trans. Bloom, 138.
80. Anna Brzozowska-Krajka, Polish Traditional Folklore: The Magic of Time (Boulder, Colo., 1998), 63; Sébillot, Folklore de la Bretagne, II, 162; Autobiography of the Blessed Mother Anne of Saint Bartholomew (St. Louis, 1916), 15; Casey, ed., Jean Paul, trans. Casey, 339; F. Platter, Journal, 104.
81. Abel Boyer, Dictionare Royal… (Amsterdam, 1719); Paul Monroe, Thomas Platter and the Educational Renaissance of the Sixteenth Century (New York, 1904), 161, 107; Dietz, Surgeon, 110–111. См. также: Stephen Bradwell, A Watch-Man for the Pest… (London, 1625), 39.
82. Llewellynn Jewitt, ed., The Life of William Hutton… (London, 1872), 159; Braker, Life, 58; David Pulsifer, ed., Records of the Colony of New Plymouth in New England (Boston, 1861), XI, 106; Dec. 13,1765, Frank Brady and Frederick A. Potde, eds., Boswell on the Grand Tour: Italy, Corsica, and France, 1765–1766 (New York, 1955), 232.
83. Feb. 7,1704, Cowper, Diary.
84. Jan. 29,1735, Clegg, Diary, I, 217; June 14,1757, Turner, Diary, 100.
85. SWP, II, 560–561; Oct. 28,1833, McGrath, ed., O'Sullivan Diary, III, 247.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Прелюдия
1. L. E. Kästner, ed., The Poetical Works of William Drummond of Hawthornden… (New York, 1968), 1,46.
2. Flaherty, Privacy, 94; David Levine and Keith Wrightson, The Making of an Industrial Society: Whickham, 1560–1765 (Oxford, 1991), 280.
3. Penry Williams, The Later Tudors: England, 1547–1603 (Oxford, 1995), 515; G. R. Quaife, Wanton Wenches and Wayward Wives: Peasants and Illicit Sex in Early Seventeenth Century England (London, 1979), 180–181.
4. Gottfried Von Bulow, ed., "Diary of the Journey of Philip Julius, Duke of Stettin-Pomerania, through England in the Year 1602," Transactions of the Royal Historical Society, New Ser., 6 (1892), 65.
5. Oct. 16,1773, Frederick A. Pottle and Charles H. Bennett, eds. Boswell’s Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson, LLD, 1773 (New York, 1961), 312; A View of London and Westminster… (London, 1725), 5–6.
6. Маг. 27,1782, Sanger, Diary, 409; Yves Castan, "Politics and Private Life," in HPL III, 49; Loma Weatherill, Consumer Behavior and Material Culture in Britain, 1660–1760 (London, 1988), 76–77,80,88,168.
7. "B," Westminster Magazine 8 (1780), 16. See also Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms, ed. R. J. Hollingdale (London, 1990), 44–45; Lena Cowen Orlin, ed., Elizabethan Households: An Anthology (Washington, D. C, 1995), 119–120; SAS, II, 311.
8. Norman Egbert McClure, ed., The Letters of John Chamberlain (Philadelphia, 1939), I, 283; May 17, 1709, PL 27/2; OBP, Apr. 28-May 3, 1742, 77; SAS, II, 311; Levine and Wrightson, Making of an Industrial Society, 281; Roger Thompson, "'Holy Watchfulness' and Communal Conformism: The Functions of Defamation in Early New England Communities," New England Quarterly 56 (1983), 513.
9. John Aubrey, Miscellanies upon Various Subjects (London, 1857), 215; British Magazine, 2 (1747), 441; Alexandre Wolowski, La Vie Quotidienne en Pologne au XVIIe Siècle (Paris, 1972), 184; Breton, Works, П, 11.
10. Kathleen Elizabeth Stuart, "The Boundaries of Honor; 'Dishonorable People' in Augsburg, 1500–1800" (Ph. D. diss., Yale Univ., 1993), 26, 38–40; Jütte, Poverty, 164; Ruth Mellinkoff, Outcasts: Signs of Otherness in Northern European Art of the Late Middle Ages (Berkeley, Calif., 1993), 43–47,184–190; Raffaella Sarti, Europe at Home: Family and Material Culture, 1500–1800, trans. Allan Cameron (New Haven, 2002), 207–211.
11. Weekly Rehearsal (Boston), Apr. 24, 1732; Schindler, Rebellion, 288–289; Mellinkoff, Outcasts, 188–193.
12. OED, s. V. "privacy," "private" (also "privy" and "privity"); The Bastard (London, 1652), 71; Herbert's Devotions… (London, 1657), 217; Flaherty, Privacy, 1—13; Ronald Huebert, "Privacy; The Early Social History of a Word," Sewanee Review, 105 (1997), 21–38.
13. Frederick J. Fumivall, ed., Philip Stubbes's Anatomy of the Abuses in England in Shakespeare’s Youth, a.d. 1583 (London, 1877), 1,329; Natalie Zemon Davis, Society and Culture in Early Modern France (Stanford, Calif., 1975), 97—123; Maria José del Rio, "Carnival, the World Upside Down," in Robert Muchembled et al., Popular Culture (Danbury, Ct., 1994), 83–84.
14. Harrison, Description, 36; David Cressy, Bonfires and Bells: National Memory and the Protestant Calendar in Elizabethan and Stuart England (London, 1989), passim; Griffiths, Youth, 156–158; Burke, Popular Culture, 194–196.
15. Richard Lassels, An Italian Voyage… (London, 1698), II, 118; Iain Cameron, Crime and Repression in the Auvergne and the Guyenne, 1720–1790 (Cambridge, 1981), 197–198; David Chambers and Trevor Dean, Clean Hands and Rough Justice: An Investigating Magistrate in Renaissance Italy (Ann Arbor, Mich., 1997), 20. См. также: Donald E. Crawford, ed., Journals of Sir John Lauder (Edinburgh, 1900), 118; Schindler, Rebellion, 200–201.
16. The Works of Mr. Thomas Brown in Prose and Verse… (London, 1708), III, 114; The Poems of the Late Christopher Smart… (London, 1790), П, 9; Charles Gildon, The Post-Boy Rob'd of His Mail… (London, 1692), 147; Mr. Dibdin, The Lamplighter ([London, 1790?]); Kenneth J. Gergen et al., "Deviance in the Dark," Psychology Today 7 (1973), 129–130.
17. Alastair Fowler, ed., The New Oxford Book of Seventeenth Century Verse (Oxford, 1991), 416; Bernard Bailyn, "The Boundaries of History: The Old World and the New," in The Dedication of the Casperen Building… (Providence, 1992), 36; The London Jilt: or, the Politick Whore… (London, 1683), Pt. II, 156; Aphra Behn, Five Plays…, ed. Maureen Duffy (London, 1990), 35; Dionysius, "Contemplations by Moonlight," European Magazine 34 (1798), 307.
18. Rétif de la Bretonne, Les Nuits de Paris, ou le Spectateur-Nocturne, eds. Jean Varloot and Michel Delon (Paris, 1986), 38; Edward Young, Night Thoughts, ed. Stephen Cornfield (Cambridge, 1989), 122; Bernard Le Bovier de Fontenelle, Conversations on the Plurality of Worlds, trans. H. A Hargreaves (Berkeley, Calif., 1990), 10; J. W. Goethe, Italian Journey, 1786–1788 (New York, 1968), 182; Lewis, Diary, 161.
Глава шестая
1. Mill, A Nights Search: Discovering the Nature and Condition of all Sorts of Night-Walkers… (London, 1639).
2. John 9:4; Paroimiographia (Spanish), 22; Georgina F. Jackson, comp., Shropshire Word-Book… (London, 1879), 38; Grose, Dictionary.
3. Gerhard Dohm-van Rossum, History of the Hour: Clocks and Modern Temporal Orders, trans. Thomas Dunlap (Chicago, 1996), 293,235,246; Tornano, Proverbi, 171; Verdon, Night, 110–112; Monica Chojnacka and Merry E. Wiesner-Hanks, eds., Ages of Woman, Ages of Man: Sources in European Social History, 1400–1750 (London, 2002), 159; Wilson, English Proverbs, 122; Henri Hauser, Ouvriers du Temps Passé XVe — XVIe Siècles (Paris, 1927), 82–83.
4. Dohm-van Rossum, History of the Hour, trans. Dunlap, 311–312,294; G. C. Coulton, ed., Life in the Middle Ages (Cambridge, 1929), 99; Hauser, Ouvriers, 82–85; Silvia Mantini, "Per Un'Immagine Della Notte," Archivio Storico Italino 4 (1985), 578–579; Maurice Bouteloup, "Le Travail de Nuit dans la Boulangerie" (Ph. D. diss., Université de Paris, 1909), 2.
5. Jan. 13, 1573, 1. H. Van Eeghen, Ed., Dagboek Van Broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius Prior Van Stein: Amsterdam, 1572–1578, En Montfoort, 1578–1579, Gronningen, Neth., 1959), 1,134; R. H. Tawney and Eileen Power, eds., Tudor Economie Documents: Being Select Documents Illustrating the Economie and Social History of Tudor England (London, 1953), 1,342; Pierre Goubert, The French Peasantry in the Seventeenth Century, trans. Ian Patterson (Cambridge, 1986), 100; Helen Simpson, ed. and trans., The Waiting City: Paris 1782–1788… (Philadelphia, 1933), 75.
6. Anthony Homeck, The Happy Ascetick, or, the Best Exercise ([London], 1680), 409; Tornano, Proverbi, 104; Erskine Beveridge, comp., and J. D. Westwood, ed., Fegusson's Scottish Proverbs from the Original Print of 1641… (Edinburgh, 1924), 266.
7. Burkitt, The Poor Man’s Help… (London, 1694), 16.
8. Thompson, "Tune, Work-Discipline, and Industrial Capitalism," PP 38 (1967), 73, 56–97, passim.
9. "John Dane's Narrative," New England Historical and Geneological Register 8 (1854), 150; ECR, II, 150; Ménétra, Journal, 32–33; OBP, Sept. 7,1722.
10. Wilson, English Proverbs, 169; Thomas Dekker, The Seven Deadly Sinnes of London, ed. H. F. B. Brett-Smith, ed. (New York, 1922), 30; OBP, Feb. 2-Mar. 2, 1765, 120; John Clayton, Friendly Advice to the Poor… (Manchester, 1755), 37; Franco Sacchetti, Tales from Sacchetti, trans. Mary G. Steegmann (1908; rpt. edn., Westport, Ct., 1978), 231.
11. Gaetano Zompini, Le Arti Che Vanno per Via Nella Città di Venezia (Venice, 1785), piate 15, passim; Max J. Okenfuss, trans., The Travel Diary of Peter Tolstoi: A Muscovite in Early Modern Europe (DeKalb, III, 1987), 301; Marybeth Carlson, "Domestic Service in a Changing City Economy: Rotterdam, 1680–1780" (Ph. D. diss., Univ. of Wisconsin, 1993), 158; Tim Meldrum, Domestic Service and Gender, 1660–1750: Life and Work in the London Household (Harlow, Eng., 2000), 150–151; OBP, Oct. 12,1726, 3; Thompson, "Time, Work-Discipline," 60; Legg, Low-Life, 10; Restif de la Bretonne, Oeuvres (Geneva, 1971), II, 148–149.
12. Mar. 25,1661, Pepys, Diary, II, 60; J. W. Goethe, Italian Journey, 1786–1788 (New York, 1968), Part II, 315; OED, s. v. "bunter."
13. Beveridge, comp., and Westwood, ed., Scottish Proverbs, 25; Jan. 18,1624, Beck, Diary, 34; A General Description of All Trades… (London, 1747), 204, passim; John Collinges, The Weaver Pocket-Book, or, Weaving Spiritualized… (n. p., 1695), 87; William Howitt, The Boy's Country Book (London, n. d.), 12–13.
14. Dec. 24,1660, Pepys, Diary, 1,322; Joan Wake and Deborah Champion Webster, eds., The Letters of Daniel Eaton to the Third Earl of Cardigan, 1725–1732 (Kettering, Eng., 1971), 72; R. Campbell, The London Tradesman; Being a Compendius View of All the Trades, Professions, Arts, both Liberal and Mechanic now Practised in the Cities of London and Westminster (London, 1747), passim; Description of Trades, passim.
15. Steven L. Kaplan, The Bakers of Paris and the Bread Question, 1700–1775 (Durham, N. C, 19 %), 227, passim; Bouteloup, "Travail de Nuit," 3–5; Description of Trades, 10–11.
16. Campbell, London Tradesman, 264,332; OBP, Jan. 17,1728, Apr. 24–27,1745,104; Apr. 2, 8, 1777, Clement Young Sturge, ed., Leaves from the Past: The Diary of John Allen, Sometime Brewer ofWapping (1757–1808)… (Bristol, 1905), 30,34.
17. Celia Fiennes, The Illustrated Journeys of Celia Fiennes, c. 1685–1712, ed. Christopher Morris (London, 1982), 70; "Speculations," PA, July 15,1763; The Memoirs of Charles-Lewis Baron de Pollnitz… (London, 1739), 1,410; Bouteloup, "Travail de Nuit," 2; The Lawes of the Market (London, 1595).
18. T. Platter, Journal, 46; Woodward, ed., Books, 108; Goubert, French Peasantry, trans. Patterson, 140; John Webster, The Displaying of Supposed Witchcraft… (London, 1677), 299.
19. Edward Halle, The Union of the Two Noble and Illustrious Families ofLancastre & Yorke… (n. p., 1548), fo. xli; Sigrid Maurice and Klaus Maurice, "Counting the Hours in Community Life of the 16th and 17th Centuries," in Klaus Maurice and Otto Mayr, eds., The Clockwork Universe: German Clocks and Automata, 1550–1650 (New York, 1980), 149; Moryson, Itinerary, 1,22–23; Pinkerton, Travels, 1,329.
20. Margaret Killip, The Folklore of the Isle of Man (Totowa, N. J., 1976), 170; Garnet, Lampen, 102, 278; Schindler, Rebellion, 194, James Orchard Halliwell, A Dictionary of Archaic and Provincial Words… (London, 1865), 11, 924; Robert Greene, A Quip for an Upstart Courtier (1594; rpt. edn., Gainesville, Fla., 1954); George Latimer Apperson, English Proverbs and Proverbial Phrases: A Historical Dictionary (London, 1929), 78; Paul Mantoux, The Industrial Revolution in the Eighteenth Century: An Outline of the Beginnings of the Modern Factory System in England (London, 1952), 77; LE-P, Nov. 6, 1760.
21. Marjorie McIntosh, "The Diversity of Social Capital in English Communities, 1300–1640 (with a Glance at Modem Nigeria)," JIH 26 (1995), 471; Carol F. Karlsen, The Devil in the Shape of a Woman: Witchcraft in Colonial New England (New York, 1984), 171; Thomas Tusser, Five Hundred Pointes of Good Husbandrie, eds. V. Payne and Sidney J. Herrtage (London, 1878), 162; Raffaella Sarti, Europe at Home: Family and Material Culture, 1500–1800, trans. Allan Cameron (New Haven, 2002), 190–191.
22. Wilson, English Proverbs, 909; RB, III, Pt. 1,302–303; Laurel Thatcher Ulrich, A Midwife's Tale: The Life of Martha Ballard Based on Her Diary, 1785–1812 (New York, 1990), 210; Stephen Duck, The Thresher’s Labour (1736) and Mary Collier, The Woman's Labour (1739) (rpt. edn., Los Angeles, 1985), 15; Province and Court Records of Maine (Portland, Maine, 1928), 1,140; Caroline Davidson, A Woman's Work is Never Done: A History of Housework in the British Isles, 1650–1950 (London, 1982), 15.
23. Nov. 20, 1660, Pepys, Diary, 1, 297; Mary Stower, Dec. 15, 1727, Assi 45A8/15/84; ОВР, Apr. 28—May 4,1756,179; Davidson, Woman's Work, 136–152.
24. Collier, Woman's Labour, 16; Helen and Keith Kelsall, Scottish Lifestyle 300 Years Ago: New Light on Edinburgh and Border Families (Edinburgh, 1986), 97; Timothy J. Casey, ed., Jean Paul: A Reader, trans. Erika Casey (Baltimore, 1992), 339; SAS, XIV, 320, XV, 125; Richard Harvey, "The Work and Mentalité of Lower Orders Elizabethan Women," Exemplaria 5 (1993), 418–419.
25. OBP, Dec. 3,1729, 6; "Extract of a Letter from Edinburgh, dated June 27," SJC, July 6,1769; Catherine Parker, Jan. 7,1773, Assi 45/31/1/55; OBP, Dec. 7-12,1763,2.
26. Grose, Dictionary; Tusser, Good Husbandrie, ed. Payne and Herrtage, 58; July 7,1663, Pepys, Diary, IV, 220; Ferdinando Bortarelli, The New Italian, English and French Pocket-Dictionary… (London, 1777), III; Gerald Strauss, Nuremberg in the Sixteenth Century: City Politics and Life Between Middle Ages and Modem Times (Bloomington, Ind., 1976), 192; James Clifford, "Some Aspects of London Life in the Mid-18th Century," in Paul Fritz and David Williams, eds., City & Society in the 18th Century (Toronto, 1973), 23–34; Burt, Letters, 1,25; Susan B. Hanley, "Urban Sanitation in Preindustrial Japan," JIH18 (1987), 1-26.
27. Donald Lupton, London and the Countrey Carbonadoed and Quartered into Severall Characters (1632; rpt. edn. Amsterdam, 1977), 94–96; Kathleen Elizabeth Stuart, "The Boundaries of Honor: 'Dishonorable People' in Augsburg, 1500–1800 (Ph. D. diss., Yale Univ., 1993), 171–175; Mar. 5–7,1799, Drinker, Diary, II, 1142–1143; Clifford, "London Life," 27.
28. Daniel Defoe, A Journal of the Plague Year… (1722; rpt. edn., London, 1927), 223, 233, passim; James S. Amelang, A Journal of the Plague Year: The Diary of the Barcelona Tanner Miguel Parets, 1651 (New York, 1991), 82; OED, s. v. "vespillon"; F. Altieri, Dizionario Italiano ed. Inglese… (London, 1726), I; A Report of the Record Commissioners of the City of Boston, Containing the Selectmen's Minutes from 1764 to 1768 (Boston, 1889), 12; Aug. 15,20,1665, Pepys, Diary, VI, 192,199; Michael Kunze, Highroad to the Stake: A Tale ofWitchcra.fi, trans. William E. Yuill (Chicago, 1987), 163.
29. The Ecologues and Georgies of Virgil, trans. C. Day Lewis (Garden City, N. Y., 1964), 105.
30. Oct. 21,1807, Diary of Hiram Harwood (typescript), Bennington Historical Society, Bennington, Vt.; A Journal for the Years 1739–1803 by Samuel Lane of Stratham New Hampshire, ed. Charles J. Hanson (Concord, N. H., 1937), 29; "Mus Rusticus," SJC, Apr. 27, 1773; Crusius, Node, ch. 4.25; Lucius Junius Moderatus Columella, On Agriculture and Trees, trans. E. S. Forster and Edward H. Heffner (Cambridge, Mass., 1955), III, 57.
31. Nov. 4, 1777, Sanger, Journal, 165, passim; SAS, XVII, 597; July 1, 1767, Cole, Diary, 236; May 7,1665, James M. Rosenheim, ed., The Notebook of Robert Doughty, 1662–1665 (Aberystwyth, Wales, 1989), 54.
32. Aug. 27, 1691, H. J. Morehouse and C. A Hulbert, eds., Extracts from the Diary of the Rev. Robert Meeke (London, 1874), 43; Awnsham Churchill, comp., A Collection of Voyages and Travels… (London, 1746), VI, 729; Journal of James Robertson, 1767, 118, Manuscripts, National Library of Scotland, Edinburgh; William W. Hagen, Ordinary Prussians: Brandenburg, Junkers and Villagers (1500–1840) (Cambridge, 2002), 120.
33. John Brown, Mar. 19, 1777, Assi 45/33/10c; Augustin Gallo, Secrets de la Vraye Agriculture… (Paris, 1572), 16; Tusser, Good Husbandrie, ed. Payne and Herrtage, 177; Charles Stevens and John Liébault, comps., Maison Rustique, or, the Countrey Farme, trans. Richard Surflet (London, 1616), 22.
34. Apr. 25,1698, Diary of John Richards, 52, Dorset Record Office, Bournemouth, Eng.; Best, Books, 124; Feb. 27,1692, Sewall, Diary, 1, 288; Patten, Diary, 190; July 26,1749, Parkman, Diary, 199; Aug. 21,1782, Sanger, Journal, 432; Cole, Diary, 90.
35. Halliwell, Archaic and Provincial Words, 1, 149; Giacomo Agostinetti, Cento e Died Ricordi Che Formano Iil] Bvon Fattor di Villa (Venice, 1717), 230; Feb. 23,1764, Carter, Diary, I, 257, passim, II, passim; Aug. 14, 1672, Isham, Diary, 139; "Henry Vagg," B. Chron., June 28, 1788; Howitt, Country Book, 71; Henry Fielding, The History of the Adventures of Joseph Andrews (New York, 1950), 158; Yorkshire Diaries & Autobiographies in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Durham, Eng., 1886), 106; Best, Books, 145.
36. Stevens and Liébault, comps., Maison Rustique, trans. Surflet, 24–26; Leonard Digges and Thomas Digges, A Prognostication Everlastinge… (London, 1605), fo. 6; Piero Camporesi, The Anatomy of the Senses: Natural Symbols in Medieval and Early Modern Italy (Cambridge, 1994), 196–197.
37. Best, Books, 152; Nov. 7, 1774, Feb. 5,1776, Mar. 13,1779, Sanger, Journal, 13, 86,236; James Kelly, A Complete Collection of Scottish Proverbs… (London, 1818), 212; Jasper Charlton, The Ladies Astronomy and Chronology… (London, 1735), 35; "Charles Ley," SWA or LJ, Dec. 10,1770; "On the Harvest Moon," SJC, Sept. 1,1774.
38. SAS, XVII, 557; Robert Southey, Journal of a Tour in Scotland, ed. C.H. Hertford (London, 1929), 113–114; P. Brydone, A Tour through Sicily and Malta… (London, 1773), 220; Patten, Diary, passim; SAS, XIII, 602.
39. Jonas Hanway, An Historical Account of the British Trade over the Caspian Sea… (London, 1753), II, 216; "A Visit to Rome in 1736," GM 39 (1853), 264; Gallo, Secrets de la Vraye Agriculture, 370,204; Moryson, Unpublished Itinerary, 355; Pinkerton, Travels, VI, 370; Samuel Deane, The New England Farmer… (Worcester, Mass., 1790), 327.
40. NYWJ, May 4,1741; John Lough, France Observed in the Seventeenth Century by British Travellers (Stocksfield, Eng., 1984), 44; Cohens, Italy, 168, 268–269. См. также: William Langland, Piers Plowman: The C Version, trans. George Economou (Philadelphia, 1996), 43.
41. Hester Lynch Piozzi, Observations and Reflections Made in the Course of a Journey through France, Italy, and Germany, ed. Herbert Barrows (Ann Arbor, Mich., 1967), 103–104; Joseph Palmer, A Four Months Tour through France (London, 1776), II, 13; Jan. 28,1708, Cowper, Diary; Jeremy D. Popkin, ed., Panorama of Paris: Selections from Le Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier (University Park, Pa., 1999), 96; NYWJ, Aug. 20, 1750; Richard Cobb, Paris and Its Provinces, 1792–1802 (New York, 1975), 18–19,26-27.
42. Paroimiographia (French), 21; Columella, On Agriculture and Trees, trans. Forster and Heffner, III, 123; Josiah Tucker, Instructions for Travellers, 1757 (New York, n. d.), 243; Patricia James, ed., The Travel Diaries of Thomas Robert Malthus (London, 1966), 73; G. E. Fussell and K. R. Fussell, The English Countrywoman: A Farmhouse Social History, A. D. 1500–1900 (New York, 1971), 38,69–70.
43. Feb. 9,12,1767, Woodforde, Diary, 1,62; Rétif de la Bretonne, My Father's Life, trans. Richard Veasey (Gloucester, Eng., 1986), 162; Apr. 8,1777, Sanger, Journal, 139, passim; Markham's Farewell to Husbandry… (London, 1620), 146.
44. Philip D. Morgan, Slave Counterpoint: Black Culture in the Eighteenth-Century Chesapeake and Lowcountry (Chapel Hill, N. C, 1998), 153,168,191,195.
45. Taylor, A Preter-Pluperfect… (n. p., 1643), 1.
46. Verdon, Night, 113–114; "Mus Rusticus," SJC, Apr. 27, 1773; Jeffry Kaplow, France on the Eve of Revolution: A Book of Readings (New York, 1971), 145; OBP, Apr. 17–20, 1765,174; Frank Cundall, ed., Lady Nugent's Journal: Jamaica One Hundred and Thirty-tight Years Ago (London, 1939), 86; Michael Sonenscher, "Work and Wages in Paris in the Eighteenth Century," in Maxine Berg et al., eds., Manufacture in Town and Country before the Factory (Cambridge, 1983), 167.
47. Bouteloup, "Travail de Nuit," 3; Lydia Dotto, Losing Sleep: How Your Sleeping Habits Affect Your Life (New York, 1990), 226,229; Kaplan, Bakers of Paris, 264–265.
48. SAS, IX, 480.
49. OBP, Aug. 28, 1728; Peter Linebaugh, The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century (Cambridge, 1992), 377; Robert C. Davis, Shipbuilders of the Venetian Arsenal: Workers and Workplace in the Preindustria] City (Baltimore, 1991), 160–161; Beattie, Crime, 175–178. См. также: Kaplan, Bakers of Paris, 244.
50. Merry E. Wiesner, Working Women in Renaissance Germany (New Brunswick, N. J., 1986), 94; "Dane's Narrative," 150; ECR, II, 373.
51. Bräker, Life, 76, 56; Thompson, "Time, Work-Discipline," 77; Paul Monroe, ed., Thomas Platter and the Educational Renaissance of the Sixteenth Century (New York, 1904), 155–156. См. также: Émile Guillaumin, The Life of a Simple Man, ed. Eugen Weber, trans. Margaret Crosland (Hanover, N. H., 1983), 74.
52. Evangeline W. and Charles M. Andrews, eds., Journal of a Lady of Quality; Being the Narrative of a Journey from Scotland to the West Indies, North Carolina, and Portugal, in the Years 1774 to 1776 (New Haven, 1923), 108; Morgan, Slave Counterpoint, 138,140, 251–253,358—376, passim; Roderick A. McDonald, The Economy and Material Culture of Slaves: Goods and Chattels on the Sugar Plantations of Jamaica and Louisiana (Baton Rouge, 1993), 47.
53. Piero Camporesi, Bread of Dreams: Food and Fantasy in Early Modern Europe, trans. David Gentilcore (Chicago, 1989), 96; June 15,1760, Drinker, Diary, 1,66; SAS, XI, 110; William Moraley, The Infortunate: or, the Voyage and Adventures of William Moraley… (Newcastle, Eng., 1743), 51; George Lyman Kittredge, The Old Farmer and His Almanack… (New York, 1967), 172–173; Roger D. Abrahams, Singing the Master: The Emergence of African American Culture in the Plantation South (New York, 1982), 81.
54. J. J. Evans, ed., Welsh Proverbs… (Llandysul, Wales, 1965), 23; Tilley, Proverbs in England, 753.
55. Abel Boyer, Dictionaire Royal… (Amsterdam, 1719); Mr. Ozell, trans., M. Misson's Memoirs and Observations in His Travels over England (London, 1719), 332; Suzanne Tardieu, La Vie Domestique dans le Maçonnais Rural Préindustriel (Paris, 1964), 154–161; Verdon, Night, 117–123; Hans Medick, "Village Spinning Bees: Sexual Culture and Free Time among Rural Youth in Early Modem Germany," in Hans Medick and David Warren Sabean, eds., Interest and Emotion: Essays on the Study of Family and Kinship (Cambridge, 1984), 317–339; Stephen P. Frank, "Simple Folk, Savage Customs?' Youth, Sociability, and the Dynamics of Culture in Rural Russia, 1856–1914," JSH 25 (1992), 716,711–737, passim; Alessandro Falassi, Folklore by the Fireside: Text and Context of the Tuscan Veglia (Austin, 1980), 3,248, passim; Dec. 16,1783, Lady T. Lewis, ed., Journals and Correspondence of Miss Berry (London, 1865), 1, 53; Darryl Ogier, "Night Revels and Werewolfery in Calvinist Guernsey," Folklore 109 (1998), 54–56; Magnus Gislason, Kvällsvaka: En Isländsk Kulturtradition Belyst Genom Studier i Bondebcfolkningens Vardagsliv och Miljö Under Senare Hälften av 1800—Talet och Början av 1900—Talet (Uppsala, 1977); James H. Delargy, "The Gaelic Story-Teller, with Some Notes on Gaelic Folk-Tales," Proceedings of the British Academy 31 (1945), 191–192; SAS, VI, 482–483; Mrs. Grant, Essays on the Superstitions of the Highlanders of Scotland… (New York, [1831?]), 1,103; Hugh Evans, The Gorse Glen (Liverpool, 1948), 146.
56. Leona C. Gabel, ed., Memoirs of a Renaissance Pope: The Commentaries of Pius II, an Abridgement, trans. Florence A. Gragg (New York, 1962), 35; G. E. Mingay, "Rural England in the Industrial Age," in G. E. Mingay, ed., The Victorian Countryside (London, 1981), 1,14.
57. Robert Bell, A Description of the Conditions and Manners… of the Peasantry of Ireland… (London, 1804), 20.
58. Medick, "Spinning Bees," 322–323; Jakob Stutz, Siebenmal Sieben]ahre aus Meinem Leben: Als Beitrag zur Näheren Kenntnis des Volkes (Frauenfeld, Switz., 1983), 66–67; James Macpherson, The Poems of Ossian (Edinburgh, 1805), II, 341; SAI, 1,318.
59. Daniello Bartoli, La Ricreazione del Savio (Parma, 1992), 336; Burke, Popular Culture, 105–106; Bernard J. Hibbitts, "Making Sense of Metaphors: Visuality, Aurality and the Reconfiguration of American Legal Discourse," Cardozo Law Review 16 (1994), 343–344; Crusius, Node, ch. 6.3; Takashi Tomita, Yorw no Shinrijutsu: Hiru Kara Yoru e no Kâodâo, Korkoro no Henka о (Tokyo, 1986), 24–25; Henrie Glassie, Passing the Time in Ballymenone: Culture and History of an Ulster Community (Philadelphia, 1982), 40–41, 74, 105; Mircea Eliade, Myth and Reality (London, 1964), 10; Raffaele Pettazzoni, Essays on the History of Religions (Leiden, 1954), 13–14.
60. Moses Heap, "My Life and Times, or an Old Man's Memories, Illustrated with Numerous Anecdotes and Quaint Sayings," 3, District Central Library, Rawtenstall, Eng.; Bourne, Antiquitates Vulgares, 76; Gamert, Lampan, 114.
61. Bretonne, My Father's Life, trans. Veasey, 111; Eric Robinson et al., eds., The Early Poems of John Clare, 1804–1822 (Oxford, 1989), II, 126; SAS, XVII, 518; Roger Chartier, "Leisure and Sociability: Reading Aloud in Early Modem Europe," in Susan Zimmerman and Ronald F. E. Weissman, eds., Urban Life in the Renaissance (Newark, Del., 1989), 112.
62. William Howitt, The Rural Life of England (1844; rpt. edn., Shannon, Ire., 1972), 238; Pierre-Jakez Hélias, The Horse of Pride: Life in a Breton Village, trans. June Guichamaud (New Haven, 1978), 73–74; George Peek, The Old Wives' Tale (London, 1595).
63. Jean-Louis Flandrin, Families in Former Times: Kinship, Household and Sexuality, trans. Richard Southern (Cambridge, 1979), 108–109.
64. Breton, Works, II, 10; Medick, "Spinning Bees," 334; Paroimiographia (Italian), 7; Schindler, "Youthful Culture," 257.
65. Medick, "Spinning Bees," 334; Martine Segalen, Love and Power in the Peasant Family: Rural France in the Nineteenth Century, trans. Sarah Matthews (Chicago, 1983), 126; Madeline Jeay, ed., Les Évangiles des Quenouilles… (Paris, 1985), passim; Verdon, Night, 121–122; Rozsika Parker, The Subversive Stitch Embroidery and the Making of the Feminine (London, 1984), 98.
66. Rudolph M. Bell, How to Do It: Guides to Good Living for Renaissance Italians (Chicago, 1999), 249; Medick, "Spinning Bees," 333, 331; Lyndal Roper, The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg (Oxford, 1989), 179.
67. SAS, VIII, 417; Bell, Peasantry of Ireland, 20–21; Harvey Mitchell, "The World between the Literate and Oral Traditions in Eighteenth-Century France: Ecclesiastical Instructions and Popular Mentalities," in Roseann Runte, ed., Studies in Eighteenth-Century Culture: Volume 8 (Madison, Wise., 1979), 55; Jean-Michel Boehler, La Paysannerie de la Plaine d'Alsace (Strasbourg, 1995), II, 1963.
Глава седьмая
1. Mercier, The Night Cap (Philadelphia, 1788), 4.
2. RB, I, 87; Sean Shesgreen, Hogarth and the Times-of-the-Day Tradition (Ithaca, N.Y., 1983), 47.
3. Jan. 10,1694, East Anglian Diaries, 207, passim; John Holloway, ed., The Oxford Bock of Local Verses (Oxford, 1987), 15; Keith Thomas, "Work and Leisure in Pre-Industrial Society," PP 29 (1964), 50–62; Peter Burke, "The Invention of Leisure in Early Modem Europe," PP 146 (1995), 136–151; Joan-Lluis Marfany, "The Invention of Leisure in Early Modem Europe: Comment," PP 156 (1997), 174–192.
4. John Aubrey, Aubrey's Natural History of Wiltshire (1847; rpt. edn., New York, 1969), 11; Edward Shorter, The Making of the Modern Family (New York, 1975), 76.
5. Sept. 10,1758, Woodforde, Diary, TV, 226, passim; July 26,1761, Mar. 7,1758, Turner, Diary, 232,141, passim; ECR, passim.
6. Jan. 14, Mar. 14, Nov. 10, 15, 1624, Beck, Diary, 32, 61, 203, 206, passim; Jeroen Blaak, "Autobiographical Reading and Writing: The Diary of David Beck (1624)," in Rudolph Dekker, ed., Egodocuments and History: Autobiographical Writing in Its Social Context since the Middle Ages (Hilversum, 2002), 61–87.
7. Jan. 23,1662, June 5,1661, Pepys, Diary, III, 17, II, 115, passim.
8. Clare Williams, trans., Thomas Platter's Travels in England, 1599 (London, 1937), 189; Keith Wrightson, "Alehouses, Order and Reformation in Rural England, 1590–1660," in Eileen and Stephen Yeo, eds., Popular Culture and Class Conflict, 1590–1914: Explorations in the History of Labour and Leisure (Sussex, Eng., 1981), 10, passim; Burke, Popular Culture, 110; Peter Clark, The English Alehouse: A Social History (London, 1983), passim; Thomas Brennan, Public Drinking and Popular Culture in Eighteenth-Century Paris (Princeton, N. J., 1988); B. Ann Tlusty, Bacchus and Civic Order: The Culture of Drink in Early Modern Germany (Charlottesville, Va., 2001).
9. Monsieur Sorbiere, A Voyage to England… (London, 1709), 62; LC, June 6, 1761; William W. Hagen, "Village Life in East-Elbian Germany and Poland, 1400–1800: Subjections, Self-Defence, Survival," in Tom Scott, ed., The Peasantries of Europe: From the Fourteenth to the Eighteenth Centuries (Harlow, Eng., 1998), 146; Wrightson, "Alehouses," 2; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 19; Hans-Joachim Voth, Time and Work in England 1750–1830 (Oxford, 2000), 80–81; Brennan, Public Drinking, 160–171; Tlusty, Bacchus, 150,158,187, passim.
10. OED, s. V. "kidney"; Daniel Defoe, The True-Born English-Man… (London, 1708), 15; L. H. Butterfield et al. eds., Diary and Autobiography of John Adams (Cambridge, Mass., 1961), 1,214; RB, 1,414; LC, Jan. 23,1762, 76; A. M., The Reformed Gentleman… (London, 1693), 49; LE-P, June 23,1763; Yves-Marie Bercé History of Peasant Revolts: The Social Origins of Rebellion in Early Modern France, trans. Amanda Whitmore (Ithaca, N.Y., 1990), 59.
11. The Works of Mr. Thomas Brown in Prose and Verse… (London, 1708), 3; May 30,1760, Butterfield et al., eds., Adams Diary and Autobiography, I, 130; John Addy, Sin and Society in the Seventeenth Century (London, 1989), 141; A. Lynn Martin, Alcohol, Sex, and Gender in Late Medieval and Early Modem Europe (New York, 2001), 89–91; RB, VII, 231; Richard Rawlidge, A Monster Late Found Out… (London, 1628), 6.
12. A Curtaine Lecture (London, 1638), 7.
13. David Herlihy, Cities and Society in Medieval Italy (London, 1980), 136; Jeffrey R. Watt, "The Impact of the Reformation and Counter-Reformation," in FLEMT, 147–150; Edward Muir, Ritual in Early Modem Europe (Cambridge, 1997), 135.
14. Jan. 6, 1761, Butterfield et al., eds., Adams Diary and Autobiography, I, 195; Sara Mendelson and Particia Crawford, Women in Early Modem England, 155(3—1720 (Oxford, 1998), 119.
15. Shakespeare, The Rape of Lucrece, 674; Ménétra, Journal, 37–38,168. См. также: Jack Ayres, ed., Paupers and Pig Killers: The Diary of William Holland: A Somerset Parson, 1799–1818 (Gloucester, Eng., 1984), 19.
16. David P. French, comp., Minor English Poets, 1660–1780 (New York, 1967), III, 318; Paroimiographia (British), 4; John S. Farmer, ed., Merry Songs and Ballads Prior to the Year A. D. 1800 (New York, 1964), IV, 6; Lusts Dominion; or, the Lascivious Queen (London, 1657); John Lough, France Observed in the Seventeenth Century by British Travellers (Boston, 1985), 119; "A New and Accurate Description of the City of Rome…," Town and Country Magazine 24 (1792), 261; ECR, IX, 29.
17. Maurice Andrieux, Daily Life in Venice in the Time of Casanova, trans. Mary Fitton (London, 1972), 128; Shakespeare, Romeo and Juliet, II, 2, 165; Hannah Richards, n. d., Suffolk Court Files № 874, Suffolk County Court House, Boston; J. Douglas Porteous, Landscapes of the Mind: Worlds of Sense and Metaphor (Toronto, 1990), 7; Takashi Tomita, Yoru no Shinrijutsu: Hiru Kara Yoru e no Kâodâo, Korkoro no Henka о (Tokyo, 1986), 13; Darrell L. Butler and Paul M. Biner, "Preferred Lighting Levels: Variability Among Settings, Behaviors, and Individuals," Environment and Behavior 19 (1987), 696, 702,709, 710.
18. Grose, Dictionary; Robert Abbot, The Young Mans Warning-Piece… (London, 1657), 35 (taken from Job 24:15); F. Platter, Journal, 80; Samuel Rowlands, The Night-Raven (London, 1620); Wendy Dortiger, The Bedtrick: Tales of Sex and Masquerade (Chicago, 2000), passim; Joanne Bailey, Unquiet Lives: Marriage and Marriage Breakdown in England, 1660–1800 (Cambridge, 2003), 140–167.
19. Aug. 18, June 2,1668, Nov. 8, 1665, Apr. 9, 1667, Pepys, Diary, IX, 282, 221, VI, 294, VIII, 159, passim; Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England 1500–1800 (New York, 1977), 552–561.
20. Frederick J. Fumivall, ed., Phillip Stubbes's Anatomy of the Abuses in England in Shakespeare's Youth A. D. 1583 (London, 1877), 1, 149; David Cressy, Birth, Marriage & Death: Ritual Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart England (Oxford, 1997), 352; Moryson, Unpublished Itinerary, 380.
21. Brand 1848, II, 229; Clodagh Tait, Death, Burial and Commemoration in Ireland, 1550–1650 (New York, 2002), 34–35; Cressy, Birth, Marriage & Death, 427; Margo Todd, The Culture of Protestantism in Early Modem Scotland (New Haven, 2002), 212–213; Edward MacLysaght, Irish Life in the Seventeenth Century (1950; rpt. edn., New York, 1970), 318.
22. Darryl Ogier, "Night Revels and Werewolfery in Calvinist Guernsey," Folklore 109 (1998), 54; Jean-Louis Flandrin, Families in Former Times: Kinship, Household and Sexuality, trans. Richard Southern (Cambridge, 1979), 108–109, John McManners, Church and Society in Eighteenth-Century France (Oxford, 1999), II, 203; Steven Ozment, Flesh and Spirit: Private Life in Early Modern Germany (New York, 1999), 208.
23. Farmer, ed., Songs and Ballads, II, 82; Gloria L. Main, Peoples of a Spacious Land: Families and Cultures in Colonial New England (Cambridge, Mass., 2001), 7; C. Scott Dixon, The Reformation and Rural Society: The Parishes of Brandenburg-Ansbach-Kulmbach, 1528–1603 (Cambridge, 1996), 112, 128; Griffiths, Youth, 258; Paroimiographia (British), 25; Thomas Willard Robisheaux, "The Origins of Rural Wealth and Poverty in Hohenlohe, 1470–1680" (Ph. D. diss., Univ. of Virginia, 1981), 170; Sara Tilghman Nalle, God in La Mancha: Religious Reform and the People of Cuenca, 1500–1650 (Baltimore, 1985), 28–29; Schindler, "Youthful Culture," 256.
24. Aug. 19,1794, Drinker, Diary, I, 584; The Roving Maids of Aberdeen's Garland ((Edinburgh?], 1776); Feb. 10, 1873, William Plomer, ed., Kilvert's Diary: Selections from the Diary of the Rev. Francis Kilvert… (London, 1971), II. 322. См. также: Charles Woodmason, The Carolina Backcountry on the Eve of the Revolution…, ed. Richard J. Hooker (Chapel Hill, N. C, 1953), 100.
25. Roger Lonsdale, The New Book of Eighteenth-Century Verse (Oxford, 1984), 405; George Parfitt and Ralph Houlbrooke, eds., The Courtship Narrative of Leonard Wheatcrofi, Derbyshire Yeoman (Reading, Eng., 1986), 52; Émile Guillaumin, The Life of a Simple Man, ed. Eugen Weber, trans. Margaret Crosland (Hanover, N. H., 1983), 41,43–44.
26. Lochwd, Ymddiddan Rhwng Mab a Merch, Y'nghylch Myned 1 Garu yn y Gwely (n. p., [1800 s]), 4.
27. A Tour in Ireland in 1775 (London, 1776), 103–104; Ernest W. Marwick, The Folklore of Orkney and Shetland (Totowa, N. J., 1975), 86; Rosalind Mitchison and Leah Lenman, Sexuality and Social Control: Scotland, 1660–1780 (Oxford, 1989), 180; A Tour in Ireland in 1775 (London, 1776), 103. Об Америке раннего Нового времени (включая не только Новую Англию, но также Нью-Джерси и Пенсильванию) см.: Richard Godbeer, Sexual Revolution in Early America (Baltimore, 2002), 246–255; Laurel Thatcher Ulrich and Lois K. Stabler, "Girling of it' in Eighteenth-Century New Hampshire," Annual Proceedings, Dublin Seminar for New England Folklife (1985), 24–36; "John Hunt's Diary," New Jersey Historical Society Proceedings 53 (1935), 111, 112,122; John Robert Shaw, An Autobiography of Thirty Years, 1777–1807, ed. Oressa M. Teagarden and Jeanne L Crabtree (Columbus, Ohio, 1992), 108; Bernard Chevignard, “Les Voyageurs Européens et la Pratique du 'Bondelage' (Bundling) en Nouvelle-Angleterre a la Fin du XVllle Siècle," in L'Amérique et l'Europe: Réalité et Représentations (Aix-en-Provence, 1986), 75–87.
28. May 5,1663, William L. Sachse, ed., The Diary of Roger Lowe of Ashton-in-Makerfield, Lancashire, 1663–1674 (New Haven, 1938), 20, passim; Reports of Special Assistant Poor Law Commissioners on the Employment of Women and Children in Agriculture (1843; rpt. edn., New York, 1968), 365; Griffiths, Youth, 259–261; Apr. 5, 18, 1765, Turner, Diary, 318,320; Parfitt and Houlbrooke, eds., Courtship, 53, passim.
29. Tour in Ireland, 103–104; Rudolf Braun, Industrialization and Everyday Life, trans. Sarah Hanbury Tension (Cambridge, 1990), 44; J.-L. Flandrin, "Repression and Change in the Sexual Life of Young People in Medieval and Early Modem Times," in Robert Wheaton and Tamara K. Hareven, eds., Family and Sexuality in French History (Philadelphia, 1980), 34–35.
30. Enid Porter, Cambridgeshire Customs and Folklore (New York, 1969), 5; Les Nuits d'Épreuve des Villageoises Allemandes… (Paris, 1861), 8.
31. Cannon, Diary, 137.
32. Howard C. Rice, Jr., and Anne S. K. Brown, trans, and eds., The American Campaigns of Rochambeau's Army 1780, 1781, 1782, 1783 (Princeton, N. J., 1972), I, 245; Michael Drake, Population and Society in Norway 1735–1865 (Cambridge, 1969), 144; Henry Reed Stiles, Bundling: Its Origin, Progress and Decline in America (1871; rpt. edn., New York, 1974), 33; Stone, Family, Sex and Marriage, 606.
33. Moryson, Unpublished Itinerary, 385; Hugh Jones, О Gerddi Newyddion (n. p., [1783?]), 3; Rice, Jr., and Brown, trans, and eds., Rochambeau's Army, I, 32,169; Drake, Population, 144; Christine D. Worobec, Peasant Russia: Family and Community in the Post-Emancipation Period (Princeton, N. J., 1991), 138–139; Flandrin, "Repression," 36.
34. Lochwd, Ymddiddan Rhwng Mob a Merch, 4; Stiles, Bundling, 96, 29–30; Flandrin, "Repression," 36; Dana Doten, The Art of Bundling: Being an Inquiry into the Nature & Origins of that Curious but Universal Folk-Custom… (Weston, Vt., 1938), 156; History and Journal of Charles Joseph de Losse de Bayac, 1763–1783, 1, Manuscripts Department, Alderman Library, University of Virginia, Charlottesville; Jack Larkin, The Reshaping of Everyday Life, 1790–1840 (New York, 1988), 193–195,199; Martine Segalen, Historical Anthropology of the Family, trans. J. C. Whitehouse and Sarah Matthews (Cambridge, 1986), 130–131.
35. Flandrin, "Repression," 35–36; John R. Gillis, For Better, For Worse: British Marriages, 1600 to the Present (New York, 1985), 30–31; Moryson, Unpublished Itinerary, 385.
36. Jollie's Sketch of Cumberland Manners and Customs… (1811; rpt. edn., Beckermet, Eng., 1974), 40; Bernard Capp, English Almanacs, 1500–1800: Astrology and the Popular Press (Ithaca, N.Y., 1979), 122.
37. Feb. 8,1779, Sanger, Journal, 29; Fanner, ed., Songs and Ballads, IV, 220–222.
38. Braker, Life, 96; Rice, Jr., and Brown, trans, and eds., Rochambeau ’s Army, 1,245; Baker, Folklore and Customs of Rural England, 139; Les Nuits d'Épreuve, 9; Sara F. Matthews Grieco, "The Body, Appearance, and Sexuality," in HWW III, 69; Stone, Family, 607; Gillis, British Marriages, 30; Shorter, Family, 103.
39. Cereta, Collected Letters of a Renaissance Feminist, ed. Diana Maury Robin (Chicago, 1997), 34.
40. Leo P. McCauley, S. J. and Anthony A Stephenson, trans., The Works of Saint Cyril of Jerusalem (Washington, D. C, 1969), 1, 188; Another Collection of Philosophical Conferences of the French Virtuosi of France…, trans. G. Havers and J. Davies (London, 1665), 316–317; Daniello Bartoli, La Ricreazione del Savio (Parma, 1992), 192–193.
41. Burton E. Stevenson, The Home Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phrases (New York, 1948), 1686; Lucien Febvre, Life in Renaissance France, ed. and trans. Marion Rothstein (Cambridge, Mass., 1977), 34–36; ODNB, s. v. "Elizabeth Carter" and "John Scott"; Cecile M. Jagodzinski, Privacy and Print: Reading and Writing in Seventeenth-Century England (Charlottesville, Va., 1999), 13; Raffaella Sard, Europe at Home: Family and Material Culture, 1500–1800, trans. Allan Cameron (New Haven, 2002), 138–139.
42. William Devenant, The Works… (London, 1673); Roger Chartier, "The Practical Impact of Writing," in HPL III, 111–124.
43. J. R. Hale, Machiavelli and Renaissance Italy (London, 1972), 112; Chartier, "Writing," 124–157; Jagodzinski, Privacy and Print, 2–6; Anthony Grafton, "The Humanist as Reader," in Guglielmo Cavallo and Roger Chartier, A History of Reading in the West, trans. Lydia G. Cochrane (Amherst, Mass., 1999), 179–181.
44. May 19,1667, Pepys, Diary, VIII, 223, X, 34–39; Nov. 4, 1624, Beck, Diary, 199–200, passim; Canon, Diary, 41,56; Blaak, "Reading and Writing," 64–76,83—87.
45. Apr. 27, 1706, Cowper, Diary, passim; Jagodzinski, Privacy and Print, 20, 25–43; François Lebrun, "The Two Reformations: Communal Devotion and Personal Piety" and Chartier, "Writing," in HPL III, 96-104,130–134.
46. Yehonatan Eibeshiitz, Yearot Devash (Jerusalem, 2000), 371; Rabbi Aviel, ed. Mishnah Berurah: Laws Concerning Miscellaneous Blessings, the Minchah Service, the Ma'ariv Service and Evening Conduct… (Jerusalem, 1989), 413; Salo Wittmayer Baron, The Jewish Community: Its History and Structure to the American Revolution (Westport, Ct., 1972), II, 169,176, III, 163.
47. Thomas Wright, Autobiography… 1736–1797 (London, 1864), 24; Steven Ozment, Three Behaim Boys Growing Up in Early Modem Germany: A Chronicle of Their Lives (New Haven, 1990), 103; Alexander Teixeira de Mattos, trans., The Memoirs of François René Vicomte de Chateaubriand… (New York, 1902), I, 54.
48. Dec. 31,1666, Pepys, Diary, VII, 426, X, 174–176, passim; Apr. 26,1740, Kay, Diary, 34.
49. Tilley, Proverbs in England, 79; Jan. 2,1624, Beck, Diary, 27–28, passim; Cereta, Letters, ed. Robin, 101, 31–32, passim; Lorraine Reams, "Night Thoughts: The Waking of the Soul: The Nocturnal Contemplations of Love, Death, and the Divine in the Eighteenth-Century and Nineteenth-Century French Epistolary Novel and Roman-Mémoire" (Ph. D. diss., Univ. of North Carolina or Chapel Hill, 2000), 138; William Riley Parker, Milton: A Biography (Oxford, 1968), 1,578, II, 710; Blaak, "Reading and Writing," 79–87; Chartier, "Writing," Madeleine Foisil, "The Literature of Intimacy," and Jean Marie Goulemont, "Literary Practices: Publicizing the Private," in HPL III, 115–117,157-159, 327–332, 380–383.
50. Henry Halford Vaughan, ed., Welsh Proverbs with English Translations (1889; rpt. edn., Detroit, 1969), 94; Michael J. Mikos, ed., Polish Renaissance Literature: An Anthology (Columbus, Ohio, 1995), 168; RB, I, 84.
Глава восьмая
1. Shakespeare, Antony and Cleopatra, III, 13,184–187.
2. Verdon, Night, 127–131; Pierre Jonin, "L'Espace et le Temps de la Nuit dans les Romans de Chrétiens de Troyes," Mélanges de Langue et de Littérature Médiévales Offerts à Alice Planche 48 (1984), 242–246; Gary Cross, A Social History of Leisure Since 1600 (State College, Pa., 1990), 17–18.
3. Edward Ward, The London Spy (1709; rpt. edn., New York, 1985), 43; Koslofsky, "Court Culture," 745–748; Thomas D'Urfey, The Two Queens of Brentford (London, 1721); Another Collection of Philosophical Conferences of the French Virtuosi…, trans. G. Havers and J. Davies (London, 1665), 419; Schindler, Rebellion, 194–195.
4. Diary of Robert Moody, 1660–1663, Rawlinson Coll. D. 84, Bodl.; Marie-Claude Canova-Green, Benserade Ballets pour Louis XIV (Paris, 1997), 93—160.
5. Ben Sedgley, Observations on Mr. Fielding's Enquiry into the Causes of the Late Increase of Robbers… (London, 1751), 8; "A Short Account, by Way of Journal, of What I Observed Most Remarkable in My Travels…," June 2,1697, Historical Manuscripts Commission, 8th Report, Part 1 (1881), 99—100; Marcelin Defoumeaux, Daily Life in Spain: The Golden Age, trans. Newton Branch (New York, 1971), 70–71; Koslofsky, "Court Culture," 745–748; Thomas Burke, English Night-Life: From Norman Curfew to Present Black-Out (New York, 1971), 11–22.
6. Tobias George Smollett, Humphry Clinker, ed. James L. Thorson (New York, 1983), 1, 87; P. Brydone, A Tour through Sicily and Malta… (London, 1773), II, 87–90; Remarks 1717, 56; Sedgley, Observations, 8; The Memoirs of Charles-Lewis, Baron de Pollnitz… (London, 1739), 1,222; Burke, Night-Life, 23–70, passim.
7. US and WJ, Feb. 28,1730; Vanessa Harding, The Dead and the Living in Paris and London, 1500–1670 (Cambridge, 2002), 197, passim; Craig M. Koslofsky, The Reformation of the Dead: Death and Ritual in Early Modern Germany, 1450–1700 (New York, 2000), 138,133–152, passim; Clare Gittings, Death, Burial and the Individual in Early Modern England (London, 1984), 188–200.
8. Richards, The Tragedy of Messaliina (London, 1640).
9. Walter R. Davis, ed., The Works of Thomas Campion… (New York, 1967), 147; Terry Castle, "The Culture of Travesty: Sexuality and Masquerade in Eighteenth-Century England," in G. S. Rousseau and Roy Porter, eds., Sexual Underworlds of the Englightenment (Manchester, 1987), 158; Terry Castle, Masquerade and Civilization: The Carnivalesque in Eighteenth-Century English Culture and Fiction (Stanford, Calif., 1986).
10. The Rich Cabinet… (London, 1616), fo. 20; Sara Mendelson, "The Civility of Women in Seventeenth-Century England," in Peter Burke et al., eds., Civil Histories: Essays Presented to Sir Keith Thomas (Oxford, 2000), 114; Stephen J. Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (Chicago, 1980).
11. Castle, Masquerade, 25,1—109, passim; Castle, "Culture of Travesty," 166–167; HMM and GA, Jan. 28,1755.
12. Castle, Masquerade, 73,1—109, passim; "W.Z.," GM 41 (1771), 404; WJ, May 16,1724; Occasional Poems, Very Seasonable and Proper for the Present Times… (London, 1726), 5; Amanda Vickery, The Gentleman's Daughter: Women's Lives in Georgian England (New Haven, 1998), 243.
13. Castle, Masquerade, 73, 1—109, passim; Nancy Lyman Roelker, ed. and trans., The Paris of Henry of Navarre, as Seen by Pierre de l'Estoile: Selections from His Mémoires-Journaux (Cambridge, Mass., 1958), 58; Bulstrode Whitelock, The Third Charge… (London, 1723), 21.
14. Henry Alexander, trans., Four Plays by Holberg (Princeton, N. ]., 1946), 171.
15. Goffe, The Raging Turk (London, 1631).
16. Alexander Hamilton, Gentleman's Progress: The Itinerarium of Dr. Alexander Hamilton, 1744, ed. Carl Bridenbaugh (Chapel Hill, N. C, 1948), 177; PG, Dec. 23,1762.
17. Douglas Grant, ed., The Poetical Works of Charles Churchill (Oxford, 1956), 52,55; John S. Farmer, ed., Merry Songs and Ballads prior to the YearA.D. 1800 (New York, 1964), III, 67; Anna Bryson, From Courtesy to Civility: Changing Codes of Conduct in Early Modern England (Oxford, 1998), 245, 246–275, passim.
18. May 31, 1706, Cowper, Diary; The Works of Mr. Thomas Brown in Prose and Verse… (London, 1708), III, 3; S. Johnson, London: A Poem… (London, 1739), 17; US and WJ, Apr. 11,1730; Bryson, Courtesy to Civility, 248–249; Vickery, Daughter, 213–214; G. J. Barker-Benfield, The Culture of Sensibility: Sex and Society in Eighteenth-Century Britain (Chicago, 1992), 50–51.
19. Elborg Forster, ed. and trans., A Woman's Life in the Court of the Sun King: Letters of Liselotte von der Pfalz, 1652–1722 (Baltimore, 1984), 219; M. Dreux du Radier, Essai Historique, Critique, Philologuique, Politique, Moral, Littéraire et Galant, sur les Lanternes… (Paris, 1755), 92–96; Jeffry Kaplow, The Names of Kings: The Parisian Laboring Poor in the Eighteenth Century (New York, 1972), 106.
20. Oct. 10, 1764, Frederick A. Pottle, ed., Boswell on the Grand Tour: Germany and Switzerland, 1764 (New York, 1953), 135; June 4, 1763, Frederick A. Pottle, ed., Boswell's London journal, 1762–1763 (New York, 1950), 272–273, 264 n. 1, passim; Craig Harline and Eddy Put, A Bishop's Tale: Matthias Hovius Among His Flock in Seventeenth-Century Flanders (New Haven, 2000), 253–254; John Owen, Travels into Different Parts of Europe, in the Years 1791 and 1792… (London, 1796), II, 85.
21. Sara Mendelson and Patricia Crawford, Women in Early Modern England, 1550–1720 (Oxford, 1998), 109; Jerome Nadelhaft, "The Englishwoman's Sexual Civil War: Feminist Attitudes towards Men, Women, and Marriage, 1650–1740," Journal of the History of Ideas 43 (1982), 573, 576; Linda Pollock, "Teach Her to Live under Obedience': The Making of Women in the Upper Ranks of Early Modem England", Continuity and Change 4 (1989), 231–258.
22. Westward for Smelts. Or, the Water-man's Fare of Mad-Merry Western Wenches… (London, 1620), 24; Giovannia Boccaccio, The Corbaccio, ed. and trans. Anthony K. Cassell (Urbana, 111., 1975), 28; George Chapman, An Humerous Dayes Myrth (London, 1599), 9; Feb. 14,1668, Pepys, Diary, IX, 71; April 1683, Wood, Life, 42; Jeffrey Merrick and Bryant T. Ragan, Jr., eds., Homosexuality in Early Modern France: A Documentary Collection (New York, 2001), 38; Piero Camporesi, Exotic Brew: The Art of Living in the Age of Enlightenment (Maiden, Mass., 1994), 12.
23. Thomas D'Urfey, Squire Oldsapp: or, the Night-Adventures (London, 1679), 29; Dec. 27,1775, Charles Ryskamp and Frederick A Pottle, eds., Boswell: The Ominous Years, 1774–1776 (New York, 1963), 206, passim; Cecil Aspinall-Oglander, Admiral's Widow: Being the Life and Letters of the Hon. Mrs. Edward Boscawenfrom 1761 to 1805 (London, 1942), 88–89; July 13,1716, William Matthews, ed., The Diary of Dudley Ryder, 1715–1716 (London, 1939), 274, passim; June 5,1763, Pottle, ed., Boswell's London Journal, 273.
24. "A City Night-piece in Winter," Walker’s Hibernian Magazine 9 (1779), 272; OBP, Apr. 28,1731,16–17; "The Watchman's Description of Covent Garden at Two o'clock in the Morning," Weekly Amusement (London), May 5,1764.
25. "X.Y.," LM, Jan. 26,1773; Graham Greene, Lord Rochester’s Monkey, Being the Life of John Wilmot, Second Earl of Rochester (London, 1974), 106; Oct. 23, 26, 1668, Feb. 3, 1664, Pepys, Diary, DC, 335–336, 338–339, V, 37; "The Connoisseur," HMM and GA, Mar. 18, 1755; Bryson, Courtesy to Civility, 250, 254–255; Jeunes Grantham Turner, Libertines and Radicals in Early Modern London: Sexuality, Politics, and Literary Culture, 1630–1685 (Cambridge, 2002), 226–227.
26. Harold Love, ed., The Works of John Wilmot, Earl of Rochester (Oxford, 1999), 45; Guy Chapman, ed., The Travel-Diaries of William Beckford of Fonthill (Cambridge, 1928), II, 55; Robert Shoemaker, "Male Honour and the Decline of Public Violence in Eighteenth-Century London," SH 26 (2001), 200; Bryson, Courtesy to Civility, 249; Barker-Benfield, Sensibility, 47; May 3, 1709, Cowper, Diary; Julius R. Ruff, Crime, Justice and Public Order in Old Regime France: The Sénéchaussées of Liboume and Bazas, 1696–1789 (London, 1984), 91.
27. Thornton Shirley Graves, "Some Pre-Mohock Clansmen," Studies in Philology 20 (1923), 395–421; Grose, Dictionary; Moryson, Unpublished Itinerary, 463; Helen Langdon, Caravaggio: A Life (New York, 1999), 133,312–314.
28. Graves, "Pre-Mohock Clansmen," 399,395–421, passim; Bryson, Courtesy to Civility, 249; May 30, 1668, Pepys, Diary, IX, 218–219; The Town-Rakes: or, the Frolicks of the Mohocks or Hawkubites (London, 1712); Swift, Journal, II, 524–525, 508–515, passim; Mar. 20,1712, Cowper, Diary; Daniel Statt, "The Case of the Mohocks: Rake Violence in Augustan London," SH 20 (1995), 179–199.
29. Shakespeare, 1 Henry IV, I, 2,137–139,159; Verdon, Night, 46; US and WJ, Apr. 11, 1730; A Pleasant and Delightful Story of King Henry the VIII, and a Cobler (n.p., [1670?]); Theophilius Cibber, The Lives of the Poets of Great Britain and Ireland (1753; rpt. edn., Hildesheim, Ger., 1968), II, 289; Roelker, ed. and trans., Paris of Henry of Navarre, 52, 47, 77; Edouard Fournier, Les Lanternes: Histoire de l'Ancien Éclairage de Paris (Paris, 1854), 15; Matthiessen, Natten, 134, 132; Benjamin Silliman, A Journal of Travels in England, Holland, and Scotland… (New Haven, 1820), 1,179; Frederic J. Baumgartner, France in the Sixteenth Century (New York, 1995), 222.
Глава девятая
1. Shakespeare, King John, 1,1,172.
2. Thomas Dekker, The Seven Deadly Sinnes of London, ed. H. F. B. Brett-Smith (1606; rpt. edn., New York, 1922), 31; Eric Robinson et al., eds., The Early Poems of John Clare, 1804–1822 (Oxford, 1989), II, 197; Douglas Grant, ed., The Poetical Works of Charles Churchill (Oxford, 1956), 58; E. P. Thompson, "Eighteenth-Century English Society: Class Struggle without Class?" SH 3 (1978), 158; Mihaly Csikszentmihalyi and Eugene Rochberg-Halton, The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self (Cambridge, 1981), 16–52, passim.
3. May 23,1693, May 25,1686, Wood, Life, V, 423,187; E. S. De Beer, ed., Diary of Mary, Countess Cowper (London, 1864), 1,19; Legg, Low-Life, 93.
4. Franco Mormando, The Preacher's Demons: Bernardino of Sienna and the Social Underworld of Early Renaissance Italy (Chicago, 1999), 85; Nov. 27, 28,1625, [Andrés De La Vega], Memorias de Sevilla, 1600–1678, ed. Francisco Morales Padrón (Cordoba, 1981), 50; Thomas V. Cohen, "The Case of the Mysterious Coil of Rope: Street Life and Jewish Persona in Rome in the Middle of the Sixteenth Century," Sixteenth Century Journal 19 (1988), 209–221; Elliot Horowitz, "The Eve of the Circumcision: A Chapter in the History of Jewish Nightlife," JSH 23 (1989), 48; Anna Foa, The Jews of Europe after the Black Death, trans. Andrea Grover (Berkeley, Calif., 2000), 143.
5. MJaster] Elias Schad, "True Account of an Anabaptist Meeting at Night in a Forest and a Debate Held There with Them," Mennonite Quarterly Review 58 (1984), 292–295; E. Veryard, An Account of Divers Choice Remarks… Taken in a Journey… (London, 1701), 75; Famiano Strada, De Bello Belgio: The History of the Low-Countrey Wanes, trans. Sir Robert Stapylton (London, [1650?]), 61–62; Henry Hibbert, Syntagma Theologicum… (London, 1662), 252; Natalie Zemon Davis, Society and Culture in Early Modem France (Stanford, Calif., 1975), 214.
6. Jan. 20,1640, Joseph Alfred Bradney, ed., The Diary of Walter Powell ofLlantilo Crosseny in the County of Monmouth, Gentleman: 1603–1654 (Bristol, 1907), 25; Henry Fishwick, ed., The Note Book of the Rev. Thomas Jolly a.d. 1671–1693 (Manchester, 1894), 54, passim; David Cressy, Agnes Bowker's Cat: Travesties and Transgressions in Tudor and Stuart England (Oxford, 2001), 116–137; Heywood, Diaries, I, passim.
7. F. P. Wilson, The Plague in Shakespeare's London (Oxford, 1957), 61; Giula Calvi, Histories of a Plague Year: The Social and the Imaginary in Baroque Florence, trans. Dario Biocca and Bryant T. Ragan, Jr. (Berkeley, Calif., 1989), 90–91; Daniel Defoe, A Journal of the Plague Year… (1722; rpt. edn., London, 1928), 233, passim; Walter George Bell, The Great Plague in London in 1665 (1924; rpt. edn., London, 1979), 210.
8. Angeline Goreau, " 'Last Night's Rambles': Restoration Literature and the War Between the Sexes," in Alan Bold, ed., The Sexual Dimension in Literature (London, 1983), 51; OBP, Apr. 20,1726, 6; Michael Rocke, Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence (New York, 1996), 151–152, 154–155; Jeffrey Merrick and Bryant T. Ragan, Jr., eds., Homosexuality in Early Modern France: A Documentary Collection (New York, 2001), 59.
9. Katherine M. Rogers, ed., Selected Poems of Anne Finch, Countess ofWinchilsea (New York, 1979), 157.
10. Paroimiographia (French), 28; Richard L. Kagan and Abigail Dyer, eds. and trans., Inquisitorial Inquiries: Brief Lives of Secret Jews and Other Heretics (Baltimore, 2004), 97.
11. Joyce M. Ellis, The Georgian Town, 1680–1840 (New York, 2001), 74; Jütte, Poverty, 52–59,146–149; Olwen H. Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 1750–1789 (Oxford, 1974).
12. An Effectual Scheme for the Immediate Preventing of Street Robberies, and Suppressing All Other Disorders of the Night… (London, 1731), 33; Schindler, "Youthful Culture," 271; Solomon Stoddard, Three Sermons Lately Preach’d at Boston… (Boston, 1717), 104; Arthur Friedman, ed., Collected Works of Oliver Goldsmith (Oxford, 1966), 431.
13. Susan Brigden, "Youth and the English Reformation," PP 95 (1982), 38,44; Griffiths, Youth, 36, passim; Gary Cross, A Social History of Leisure Since 1600 (State College, Pa., 1990), 15.
14. Nicetas: or, Temptations to Sin… (Boston, 1705), 35; Schindler, "Youthful Culture," 243, 278; June 5, 1713, Diary of Cotton Mather (New York, [1957?]), I, 216; William Devenant, The Works… (London, 1673).
15. David Garrioch, The Making of Revolutionary Paris (Berkeley, Calif., 2002), 36; Tim Meldrum, Domestic Service and Gender, 1660–1750: Life and Work in the London Household (Harlow, Eng., 2000), 34–67, 92—110; Bridget Hill, Servants: English Domestics in the Eighteenth Century (Oxford, 1996), 101, 105–106; Griffiths, Youth, 314–321; Anne Kussmaul, Servants in Husbandry in Early Modern England (Cambridge, 1981); Cissie Fairchilds, Domestic Enemies: Servants & Their Masters in Old Regime France (Baltimore, 1984); Richard S. Dunn, "Servants and Slaves: The Recruitment and Employment of Labor," in Jack P. Greene and J. R. Pole, eds., Colonial British America: Essays in the New History of the Early Modern Era (Baltimore, 1984), 157–194; Philip D. Morgan, Slave Counterpoint: Black Culture in the Eighteenth-Century Chesapeake and Lowcountry (Chapel Hill, N. C, 1998).
16. Nathaniel B. Shurtleff, ed., Records of the Governor and Company of the Massachusetts Bay in New England (Boston, 1854), V, 62; Aug. 27, 1705, Cowper, Diary; SAS, XIV, 397.
17. Hillary Beckles, Black Rebellion in Barbados: The Struggle Against Slavery, 1627–1838 (Bridgetown, Barbados, 1987), 70; David A. Copeland, Colonial American Newspapers: Character and Content (Newark, Del., 1997), 134; Sarah McCulloh Lemmon, ed., The Pettigrew Papers (Raleigh, N. C, 1971), I, 398; Morgan, Slave Counterpoint, 524–526, passim.
18. Weinsberg, Diary, IV, 11; PG, Aug. 2,1750; Peter H. Wood, Black Majority; Negroes in Colonial South Carolina from 1670 through the Stono Rebellion (New York, 1974), 257.
19. Tim Harris, "Perceptions of the Crowd in Later Stuart London," in J. F. Merrirt, ed., Imagining Early Modem London: Perceptions and Portrayals of the City from Stow to Strype, 1598–1720 (Cambridge, 2001), 251; George P. Rawick, ed., The American Slave: A Composite Autobiography (Westport, Ct., 1972), XV, 365; Samuel Phillips, Advice to a Child… (Boston, 1729), 49, passim.
20. Feb. 3,1772, Carter, Diary, II, 648; James Lackington, Memoirs of the First Forty-Five Years… (London, 1792), 35; Edward Ward, The Rambling Rakes, or, London Libertines (London, 1700), 9; Meldrum, Domestic Service, 168–169.
21. Piero Camporesi, The Land of Hunger (Cambridge, Mass., 1996), 132; Louis Châtellier, The Religion of the Poor: Rural Missions in Europe and the Formation of Modern Catholicism, c. 1500–1800, trans. Brian Pearce (Cambridge, 1997), 171; Guy Chapman, ed., The Travel-Diaries of William Beckford ofFonthill (Cambridge, 1928), II, 54; "An Inhabitant of Bloomsbury," PA, Aug. 8,1770; Bronislaw Geremek, Poverty: A History (Oxford, 1994), 215; Jeffry Kaplow, The Names of Kings: The Parisian Laboring Poor in the Eighteenth Century (New York, 1972), 108.
22. John Bruce, ed., Diary of John Manningham… (1868; rpt. edn., New York, 1968), 83; The Vocal Miscellany: A Collection of Above Four Hundred Celebrated Songs… (London, 1734), 120.
23. Willie Lee Rose, ed., A Documentary History of Slavery in North America (New York, 1976), 19; J. F. D. Smyth, A Tour in the United States of America (London, 1784), I, 46; Roger D. Abrahams, Singing the Master: The Emergence of African American Culture in the Plantation South (New York, 1982), 5; Mark M. Smith, "Time, Slavery and Plantation Capitalism in the Ante-Bellum American South," PP150 (1996), 160.
24. Lottin, Chavatte, 141; Pieter Spierenburg, "Knife Fighting and Popular Codes of Honor in Early Modem Amsterdam," in Pieter Spierenburg, ed., Men and Violence: Gender, Honor, and Rituals in Modem Europe and America (Columbus, Ohio, 1998), 108; Ann Tlusty, "The Devil's Altar: The Tavern and Society in Early Modem Augsburg (Germany)" (Ph. D. diss., Univ. of Maryland, 1994), 184; OBP, Sept. 11, 1735, 110; The Countryman's Guide to London or, Villainy Detected… (London, 1775), 78; Thomas Brennan, Public Drinking and Popular Culture in Eighteenth-Century Paris (Princeton, N. J., 1988), 282–283, passim; Merry E. Wiesner, Working Women in Renaissance Germany (New Brunswick, N. J., 1986), 133–134; Daniel Roche, The People of Paris: An Essay in Popular Culture in the 18th Century, trans. Marie Evans (Leamington Spa, Eng., 1987), 255; Feb. 3,1772, Carter, Diary, II, 649.
25. Hardy, The Life and Death of the Mayor of Casterbridge: A Story of a Man of Character (New York, 1984), 307.
26. Erskine Beveridge, comp., and J. D. Westwood, ed., Fergusson's Scottish Proverbs… (Edinburgh, 1924), 39; Legg, Low-Life, 21; Bargellini, "Vita Notturna," 83; F. Platter, Journal, 89–90; Fernando de Rojas, The Celestina: A Novel in Dialogue, trans. Lesley Byrd Simpson (Berkeley, Calif., 1971), 81; Ernest A Gray, ed., The Diary of a Surgeon in the Year 1751–1752 (New York, 1937), 74–75; WJ, Mar. 20,1725.
27. Laura Gowing, "'The Freedom of the Streets': Women and Social Space, 1560–1640," in Mark S. R Jenner and Paul Griffiths, eds., Londinopolis: Essays in the Cultural and Social History of Early Modem London (Manchester, 2000), 143; Linda A. Pollock, "Parent-Child Relations," in FLEMT, 215–217; Alan Williams, The Police of Paris, 1718–1789 (Baton Rouge, 1979), 196; Jane Brewerton, Feb. 29,1760, Assi 45/26/4/6.
28. Jan. 23, 1574, J. H. Van Eeghen, Ed., Dagboek Van Broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius Prior Van Stein: Amsterdam, 1572–1578, En Montfoort, 1578–1579, Gronningen, Neth., 1959), 359.
29. Thomas Dekker, The Seven Deadly Sinnes of London, ed. H. F. B. Brett-Smith (New York, 1922), 41; Nicolas-Edme Restif de la Bretonne, Les Nuits de Paris or the Nocturnal Spectator (New York, 1964), 68; Select Trials, II, 11; Legg, Low-Life, 100; Wilson, English Proverbs, 542; OED, s. v. "flitting."
30. Dekker, Writings, 230; Richard Head, The Canting Academy; or Villanies Discovered… (London, 1674), 37, 40; Roger B. Manning, Village Revolts: Social Protest and Popular Disturbances in England, 1509–1640 (Oxford, 1988), 173; Gilbert Slater, The English Peasantry and the Enclosure of Common Fields (1907; rpt. edn., New York, 1968), 119–120; Hugh Evans, The Gorse Glen, trans. E. Morgan Humphreys (Liverpool, 1948), 70.
31. Carol F. Karlsen, The Devil in the Shape of a Woman: Witchcraft in Colonial New England (New York, 1987), 159; Alan Taylor, "The Early Republic's Supernatural Economy: Treasure Seeking in the American Northeast, 1780–1830," American Quarterly 38 (1986), 6—34 (Я благодарю Алана Тэйлора за предоставление мне копии своей статьи); William W. Hagen, Ordinary Prussians: Brandenburg, Junkers and Villagers, 1500–1840 (Cambridge, 2002), 479; W. R. Jones, "'Hill-Diggers' and 'Hell-Raisers': Treasure Hunting and the Supernatural in Old and New England," in Peter Benes, ed., Wonders of the Invisible World: 1600–1900 (Boston, 1995), 97—106. См. также: Benjamin Franklin, Writings, ed. J. A. Leo Lemay (New York, 1987), 113–115.
32. PA, Jan. 3,1786; Rose, ed., Slavery, 460; Malcolm Letts, "Johannes Butzbach, a Wandering Scholar of the Fifteenth Century," English Historical Review 32 (1917), 31; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 506–523; H. C. Erik Midelfort, "Were There Really Witches," in Robert M. Kingdon, ed., Transition and Revolution: Problems and Issues of European Renaissance and Reformation History (Minneapolis, 1974), 198–199; David Thomas König, Law and Society in Puritan Massachusetts: Essex County, 1629–1692 (Chapel Hill, N. C, 1979), 145–179, passim.
33. Karlsen, Shape of a Woman, 140; SWP, II, 413; NHTR, II, 130–131.
34. Pinkerton, Travels, III, 316; Carmina Medii Aevi (Torino, 1961), 35; Jütte, Poverty, 152–153. См. также: Letters from Barbary, France, Spain, Portugal… (London, 1788), II, 113.
35. June 2,1663, Pepys, Diary, IV, 171, Beattie, Crime, 173–175. См. также: Best, Books, 35.
36. Domestic Management, or the Art of Conducting a Family; with Instructions to Servants in General (London, 1740), 59; Pinkerton, Trawls, III, 316; Mar. 22,1770, Carter, Diary, I, 372; John Greaves Nail, ed., Etymological and Comparative Glossary of the Dialect of East Anglia (London, 1866), 521; William Hector, ed., Selections from the Judicial Records of Renfrewshire… (Paisley, Scot., 1876), 203–204.
37. Newton D. Mereness, ed., Travels in the American Colonies, 1690–1783 (New York, 1916), 592, 606–607; John C. Fitzpatrick, ed., The Writings of George Washington (Washington, D.C., 1939), XXXII, 264; Richard Parkinson, The Experienced Farmer's Tour in America (London, 1805), 446–447; James M. Rosenheim, ed., The Notebook of Robert Doughty, 1662–1665 (Norfolk, 1989), 39; Morgan, Slave Counterpoint, passim.
38. Manning, Village Revolts, 296, 284–305, passim; Rachel N. Klein, "Ordering the Backcountry: The South Carolina Regulation," WMQ, 3rd Ser., 38 (1981), 671–672.
39. Robert Bell, Early Ballads… (London, 1889), 436–437; David Davies, The Case of Labourers in Husbandry… (Dublin, 1796), 77; Spike Mays, Reuben's Corner (London, 1969), 197; Frank McLynn, Crime and Punishment in Eighteenth-Century England (London, 1989), 172–197. См. также: Walker's Hibernian Magazine, April 1792,296.
40. LEP, Oct. 5,1738; Arthur Walter Slater, ed., Autobiographical Memoir of Joseph Jewell, 1763–1846 (London, 1964), 134; Cal Winslow, "Sussex Smugglers," in Douglas Hay et al, eds., Albion's Fatal Tret. Crime and Society in Eighteenth-Century England (New York, 1975), 119–166; Hufton, Poor of Eighteenth-Century France, 284–305.
41. Defoe, Tour, 1,123; OED, s. v. "owler"; McLynn, Crime and Punishment, 177; Burton E. Stevenson, The Home Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phrases (New York, 1948), 1623; Eric Partridge, ed., A Dictionary of the Underworld… (New York, 1950), 449; Dec. 13,1794, Woodforde, Diary, IV, 160, passim; Slater, ed., Jewell Memoir, 135; "Extract of a Letter from Orford" LC, March 23,1782; John Kelso Hunter, The Retrospect of an Artist's Life: Memorials of West Countrymen and Manners of the Past Half Century (Kilmarnock, Scot., 1912), 42.
42. T. J. A. Le Goff and D. M. G. Sutherland "The Revolution and the Rural Community in Eighteenth-Century Brittany," PP 62 (1974), 100; Jütte, Poverty, 153–156. В отличие от контрабанды, разграбление кораблей, потерпевших крушение, жителями побережья не было исключительно ночным видом преступления. Несмотря на изредка звучавшие голословные обвинения в том, что на берегу зажигались фальшивые сигнальные огни, приведшие к кораблекрушению, свидетельств этому крайне мало. В основном мародеры грабили суда, как только могли до них добраться, вне зависимости от того, какое было время суток. См.: "An Act for Enforcing the Laws Against Persons Who Shall Steal or Detain Shipwrecked Goods…," 26 George II c. 19; W. H. Porter, A Penman’s Story (London, 1965), 129; John G. Rule, "Wrecking and Coastal Plunder," in Hay et al., eds., Albion's Fatal Tree, 180–181.
43. Tobias Smollett, Travels through France and Italy (Oxford, 1979), 215; Cannon, Diary, 183; OBP, Sept. 18, 1752, 244; Richard Jefferson, Oct. 16, 1734, Assi 45/20/1/9; D. R Hainsworth, Stewards, Lords, and People: The Estate Steward and His World in Later Stuart England (Cambridge, 1992), 208–209; Jim Bullock, Bowers Row: Recollections of a Mining Village (Wakefield Eng., 1976), 163; Douglas Hay, "Poaching and the Game Laws on Canock Chase," in Hay et al., eds., Albion's Fatal Tree, 201–202; Manning, Village Revolts, 293; Douglas Hay "War, Dearth and Theft in the Eighteenth Century: The Record of the English Courts," PP 95 (1982), 117–160. Как сказал E. П. Томпсон, «тот же человек, который снимает шляпу перед сквайром днем и кто мог бы остаться в истории как образец почтительности, ночью может убивать его овец, ловить в капканы его фазанов и отравлять его псов». (Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture [New York, 1991], 66.)
44. Robert M. Isherwood, Farce and Fantasy: Popular Entertainment in Eighteenth-Century Paris (New York, 1986), 208; Roger Thompson, Unfit for Modest Ears: A Study of Pornographic, Obscene and Bawdy Works Written or Published in England in the Second Half of the Seventeenth Century (Totowa, N. J., 1979), 59; Alexander Hamilton, Gentleman's Progress: The Itinerarium of Dr. Alexander Hamilton, 1744, ed. Carl Bridenbaugh (Chapel Hill, N. C, 1948), 46; "T.S.C.P.," PA, Nov. 13, 1767; Kathryn Norberg, "Prostitutes," in HWW III, 459–474.
45. Helen Langdon, Caravaggio: A Life (New York, 1999), 144; Ferrante Pallavicino, The Whores Rhetorick… (London, 1683), 144; OBP, passim; Norberg, "Prostitutes," 462, 472–474.
46. OBP, Dec. 7—12, 1743, 13, Dec. 9—11, 1747, 15; J. M. Beattie, "The Criminality of Women in Eighteenth-Century England" JSH 8 (1975), 90.
47. Koslofsky, "Court Culture," 759; Frederique Pitou, "Jeunesse et Desordre Social: Les 'Coureurs de Nuit' à Laval au XVIIIe Siècle," Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 47 (2000), 69; Ferdinando Bottarelli, The New Italian, English and French Pocket-Dictionary… (London, 1795), I; S. A. H. Bume, ed., The Staffordshire Quarter Sessions Rolls, 1581—[1606] (Kendall, Eng., 1940), V, 238; PA, July 30,1762; Davenant, Works; The Acts and Resolves, Public and Private, of the Province of Massachusetts Bay (Boston, 1881), III, 647; Daniel Fabre, "Families: Privacy versus Custom," in HPL III, 546–561.
48. Schindler, Rebellion, 210; Matthiessen, Natten, 137; Rudolf Braun, Industrialization and Everyday Life, trans. Sarah Hanbury Tension (Cambridge, 1990), 84; Minutes of the Common Council of the City of Philadelphia, 1704–1776 (Philadelphia, 1847), 405; J. R. Ward, "A Planter and His Slaves in Eighteenth-Century Jamaica," in T. C. Smout, ed., The Search for Wealth and Stability: Essays in Economic and Social History Presented to M. W. Flinn (London, 1979), 19.
49. HMM and GA, Mar. 10, 1752; Koslofsky, "Court Culture," 760; Pitou, "Coureurs de Nuit," 72, 82–84; Elisabeth Crouzet-Pavan, "Potere Politico e Spazio Sociale," in Mario Sbriccoli, ed., La Notte: Ordine, Sicurezza e Disciplinamcnto in Età Moderna (Florence, 1991), 61; Maurice Andrieux, Daily Life in Venice in the Time of Casanova, trans. Mary Fitton (London, 1972), 29; Elizabeth S. Cohen, "Honor and Gender in the Streets of Early Rome," JIH 22 (1992), 597–625; Matthiessen, Natten, 129; Schindler, "Youthful Culture," 258–260; Auguste Philippe Herlaut, "L'Éclairage des Rues à Paris à la Fin du XVIIe Siècle et au XVIIIe Siècle," Mémoire de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France 43 (1916), 221–222,226.
50. Iona Opie and Moira Tätern, eds., A Dictionary of Superstitions (Oxford, 1989), 142; Washington Irving, History, Tales and Sketches, ed. James W. Tuttleton (New York, 1983), 1071–1072; Darryl Ogier, "Night Revels and Werewolfery in Calvinist Guernsey," Folklore 109 (1998), 56–57; Lavater, Spirites, 21–22; A. Voisin, "Notes sur la Vie Urbaine au XV Siècle: Dijon la Nuit," Annales de Bourgogne 9 (1937), 271.
51. D. M. Ogier, Reformation and Society in Guernsey (Rochester, N. Y., 1996), 137; Apr. 30, 1673, Isham, Diary, 207; Pavan, "Nuit Vénitienne," 345; Muchembled, Violence, 124.
52. Schindler, "Youthful Culture," 275; Evelyn, Diary, И, 472; Mar. 25,1668, Pepys, Diary, IX, 133.
53. Moryson, Itinerary, IV, 373; Hannah Miurk [?], Feb. 28,1677, Suffolk Court Files № 1549, Suffolk County Court House, Boston; Janekovick-Römer, "Dubrovniks," 103; Koslofsky, "Court Culture," 755; Jacques Rossiaud, "Prostitution, Youth, and Society," in Robert Forster and Orest Ranum, eds., Deviants and the Abandoned in French Society: Selections from the Annales Economics, Sociétés, Civilisations, trans. Elborg Forster and Patricia Ranum (Baltimore, 1978), 12–13; Aug. 16,1624, Beck, Diary, 152; T. Platter, Journal, 249; George Huppert, After the Black Death: A Social History of Early Modern Europe (Bloomington, Ind., 1986), 38.
54. Fabre, "Families," 547; Schindler, "Youthful Culture," 261; Dec. 26, 1718, Lewis, Diary; James R. Farr, Hands of Honor: Artisans and Their World in Dijon, 1550–1650 (Ithaca, N. Y., 1988), 211; Muchembled, Violence, 124; Pitou, "Coureurs de Nuit," 73–74. См. также: Nov. 20, 1680, Heywood, Diary, 1,276.
55. Eli Faber, "The Evil That Men Do: Crime and Transgression in Colonial Massachusetts" (Ph. D. diss., Columbia Univ., 1974), 168; VG, Aug. 28,1752; Boston Gazette, Jan. 8,1754; Sept. 6,1774, The Journal of Nicholas Cresswell (New York, 1924), 35; NYWJ, May 22,1738; Morgan, Slave Counterpoint, 394–398.
56. James C. Scott, "Everyday Forms of Peasant Resistance," in James C. Scott and Benedict J. Kerkvliet, eds., Everyday Forms of Peasant Resistance in South-east Asia (London, 1986), 6. Эго не значит, что празднование Масленичного карнавала не приводило порой к непредвиденным беспорядкам, особенно после наступления ночи. См.: Davis, Society and Culture, 103–104, 117–119, 122–123; Mikhail Baktin, Rabelais and His World, trans. Helene Iswoldky (Cambridge, Mass., 1968).
57. M. Dorothy George, London Life in the XVIIIth Century (London, 1925), 280; Joe Thompson, The Life and Adventures… (London, 1788), 1,93; "Advice to Apprentices," Walker's Hibernian Magazine (1791), 151; Awnsham Churchill, comp., A Collection of Voyages and Travels… (London, 1746), VI, 542; Philip D. Morgan, "Black Life in Eighteenth-Century Charleston," Perspectives in American History, New Ser., 1 (1984), 324–325; Fabre, "Families," 550, 548.
58. Pitou, "Coureurs de Nuit," 88; A Report of the Record Commissioners of the City of Boston, Containing the Selectmen's Minutes from 1764 to 1768 (Boston, 1889), 100; OED, s. V. "scour"; Bume, ed., Staffordshire Quarter Sessions, V, 238. См. также: Matthiessen, Natten, 137–139; "John Blunt," G and NDA, Oct. 31,1765.
59. George, London Life, 400, n. 101; OBP, Sept. 7,1737,187,190.
60. Defoe, Tour, I, 123; Robert Semple, Observations on a Journey through Spain and Italy to Naples… (London, 1807), II, 218.
61. F. G. Emmison, Elizabethan Life: Disorder (Chelmsford, Eng., 1970), 245; Ann Kussmaul, ed., The Autobiography of Joseph Mayett of Quainton (1783–1839) (London, 1979), 14–15.
62. V. S. Naipaul, The Loss of El Dorado: A History (London, 1969), 251–257; Davis, Society and Culture, 97—123; Bernard Capp, "English Youth Groups and 'The Pinder of Wakefield/" PP 76 (1977), 128–129; Giffiths, Youth, 169–175; Janekovick-Römer, "Dubrovniks," 110; liana Krausman Ben-Amos, Adolescence and Youth in Early Modern England (New Haven, 1994), 176–177. Касательно концепции «налагающихся друг на друга субкультур» см.: Bob Scribner, "Is a History of Popular Culture Possible?" History of European Ideas 10 (1989), 184–185; David Underdown, "Regional Cultures? Local Variations in Popular Culture during the Early Modern Period," in Tim Harris, ed., Popular Culture in England, c. 1500–1800 (New York, 1995), 29.
63. Jütte, Poverty, 180–185; Schindler, Rebellion, 275; The Honour of London Apprentices: Exemplified, in a Brief Historicall Narration (London, 1647); Richard Mowery Andrews, Law, Magistracy, and Crime in Old Regime Paris, 1735–1789 (Cambridge, 1994), 521–535; "A Constant Correspondent," PA, Apr. 22, 1763; Dekker, Writings, 187–191; Schindler, "Youthful Culture," 248–249; A L. Beier, Masterless Men: The Vagrancy Problem in England, 1560–1640 (London, 1985), 125–126.
64. Tornano, Proverbi Italiani, 34; Robert W. Malcolmson, Popular Recreations in English Society, 1700–1850 (Cambridge, 1973), 75.
65. Marston, The Malcontent, ed. M. L. Wine (Lincoln, Neb., 1964), 64.
66. Griffiths, Youth, 151–152; Davis, Society and Culture, 104–123; Fabre, "Families," 533–556, passim; Thompson, Customs in Common, 467–533; Burke, Popular Culture, 199–201.
67. Fabre, "Families," 555–566; The Libertine's Choice… (London, 1704), 14–15; F. Platter, Journal, 172; Schindler, "Youthful Culture," 252–253; Giffiths, Youth, 397.
68. American Weekly Mercury (Philadelphia), Oct. 21, 1736; John Brewer, Party Ideology and Popular Politics at the Accession of George III (Cambridge, 1976), 186–188; Stanley H. Palmer, Police and Protest in England and Ireland, 1780–1850 (Cambridge, 1988), 129–130.
69. Jean Delumeau, Sin and Fear: The Emergence of a Western Guilt Culture, I3th-18th Centuries, trans. Eric Nicholson (New York, 1990), 128; Muchembled, Violence, 241; Malcolmson, Recreations, 60–61, 75–76, 81–84; Burke, Popular Culture, 190, 201–203.
70. Bourne, Antiquitates Vulgares, 229–230; Henry Fielding, An Enquiry into the Causes of the Late Increase of Robbers and Related Writings, ed. Malvin R. Zirker (Middletown, Ct., 1988), 81; Stephen Duck, Poems on Several Occasions (London, 1736), 27.
71. Parkinson, Farmer's Tour, 440; G and NDA, Sept. 15,1767; Paul S. Seaver, "Declining Status in an Aspiring Age: The Problem of the Gentle Apprentice in Seventeenth-Century London," in Bonnelyn Young Kunze and Dwight D. Bräutigam, eds., Court, Country and Culture: Essays on Early Modern British History in Honor of Perez Zagorin (Rochester, N. Y, 1992), 139–140; Dekker, Writings, 173.
72. Oct. 13,1703, May 20, 21, 1704, Jan. 27,1707, Cowper, Diary; Oct. 15,1780, Nov. 25, 1782, Woodforde, Diary, I, 293, II, 45; Carter, Diary, I, 359; Henry Wakefield, Aug. 4, 1729, Assi 45/18/7/1; Eric Robinson, ed., John Clare's Autobiographical Writings (Oxford, 1983), 62.
73. Robinson, ed., Clare's Autobiographical Writings, 167; OBP, Oct. 16,1723, 7; May 24, 1711, Cowper, Diary; Marybeth Carlson, "Domestic Service in a Changing City Economy; Rotterdam, 1680–1780" (Ph. D. diss., Univ. of Wisconsin, 1993), 132; Fairchilds, Domestic Enemies, 209; Patricia S. Seleski, "The Women of the Laboring Poor: Love, Work and Poverty in London, 1750–1820" (Ph. D. diss., Stanford Univ., 1989), 89.
74. Jan. 24, 1770, Carter, Diary, I, 348; Fitzpatrick, ed., Washington Writings, XXXII, 246, XXXIII, 369, 444; Gladys-Marie Fry, Night Riders in Black Folk History (Knoxville, Term., 1975), 60–73; Morgan, Slave Counterpoint, 524–526.
75. Griffiths, Youth, 78; Manning, Village Revolts, 72–73, 97, 197, 207; Mihoko Suzuki, "The London Apprentice Riots of the 1590s and the Fiction of Thomas Deloney," Criticism 38 (19 %), 181–182; Matthiessen, Natten, 139; Thomas Willard Robisheaux, Rural Society and the Search for Order in Early Modem Germany (Cambridge, 1989), 119; Koslofsky, "Court Culture," 759; Martina Orosovâ, "Bratislavski Zobräci V 18. Storoci," Slovenska Archivistika 34 (1999), 95; Faber, "Evil That Men Do," 169–171; William M. Wiecek, "The Statutory Law of Slavery and Race in the Thirteen Mainland Colonies of British America," WMQ, 3rd Ser., 34 (1977), 272; Carl Bridenbaugh, Cities in the Wilderness: The First Century of Urban Life in America, 1625–1742 (Oxford, 1971), 219.
76. WJ, Apr. 20, 1723; Life of Michael Martin, Who Was Executed for Highway Robbery, December 20, 1821 (Boston, 1821), 6–7; Keith Lindley, Fenland Riots and the English Revolution (London, 1982), passim; Manning, Village Revolts, 217–218; G and NDA, Aug. 24, Sept. 9, 13, 1769; J. R. Dinwiddy, "The 'Black Lamp' in Yorkshire, 1801–1802," PP 64 (1974), 118–119; Assi 45/25/2/30; Whitehall Evening-Post (London), Aug. 3, 1749; Andrew Barrett and Christopher Harrison, eds., Crime and Punishment in England: A Sourcebook (London, 1999), 169–170.
77. E. P. Thompson, "The Crime of Anonymity," in Hay et al., eds., Albion's Fatal Tree, 278; Thomas D. Morris, Southern Slavery and the Law, 1619–1860 (Chapel Hill, N. C, 1996), 330–332; Bob Scribner, "The Mordbrenner Fear," in Richard J. Evans, ed., The German Underworld: Deviants and Outcasts in German History (London, 1988), 29–56; Penny Roberts, "Arson, Conspiracy and Rumor in Early Modem Europe," Continuity and Change 12 (1997), 9—29; André Abbiateci, "Arsonists in Eighteenth-Century France: An Essay in the Typology of Crime," in Forster and Ranum, eds., Deviants and the Abandoned, trans. Forster and Ranum, 157–179; Bernard Capp, "Arson, Threats of Arson, and Incivility in Early Modem England," in Peter Burke et al., eds., Civil Histories: Essays Presented to Sir Keith Thomas (Oxford, 2000), 199–200.
78. Morgan, Slave Counterpoint, 309; Kenneth Scott, "The Slave Insurrection in New York," New York Historical Quarterly 45 (1961), 43–74; Rose, ed., Slavery, 99—101,104, 109–113; Michael Craton, Testing the Chains: Resistance to Slavery in the British West Indies (Ithaca, N. Y., 1982), passim; Wood, Black Majority, 308–326; James Sidbury, Ploughshares into Swords: Race, Rebellion, and Identity in Gabriel's Virginia, 1730–1810 (New York, 1997); David Barry Gaspar, Bondmen & Rebels: A Study of Master-Slave Relations in Antigua (Baltimore, 1985), 222; Elsa V. Goveia, Slave Society in the British Leeward Islands at the End of the Eighteenth Century (Westport, Ct., 1980), 184; Beckles, Black Rebellion, passim; Gwendolyn Midlo Hall, Africans in Colonial Louisiana: The Development of Afro-Creole Culture in the Eighteenth Century (Baton Rouge, 1992), 354–355.
79. Lindley, Fenland Riots, 179; E. P. Thompson, The Making of the English Working Class (New York, 1964), 559, 565; Gaspar, Bondmen & Rebels, 246–247; Craton, Testing the Chains, 122–123; Scott, "Slave Insurrection in New York," 47; James S. Donnelly Jr., "The Whiteboy Movement, 1761–1765," Irish Historical Studies 21 (1978), 23; Peter Sahlins, Forest Rites The War of the Demoiselles in Nineteenth-Century France (Cambridge, Mass., 1994), 42–47.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Прелюдия
1. Geoffrey Keynes, ed., The Works of Sir Thomas Browne (London, 1931), III, 230.
2. Alastair Fowler, ed., The New Oxford Book of Seventeenth Century Verse (Oxford, 1991), 416; Stanley Coren, Sleep Thieves: An Eye-Opening Exploration into the Science and Mysteries of Sleep (New York, 1996), 9; "Почему пещерный человек спал? (Не только потому, что уставал)," Psychology Today 16 (March 1982), 30; Burton E. Stevenson, ed., The Home Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phrases (New York, 1948), 1685; Carol M. Worthman and Melissa K. Melby, "Toward a Comparative Ecology of Human Sleep," in Mary A. Carskadon, ed., Adolescent Sleep Patterns: Biological, Social and Psychological Influences (Cambridge, 2002), 102–103.
3. Thomas Cogan, The Haven of Health (London, 1588), 233; [Joseph Hall], The Discovery of a New World (Amsterdam, 1969), 219–244.
4. The Adventurer, Mar. 20, 1753, 229; Craig Tomlinson, "G. C. Lichtenberg: Dreams, Jokes, and the Unconscious in Eighteenth-Century Germany," Journal of the American Psychoanalytic Association 40 (1992), 781. Кроме Френсиса Бэкона, написавшего историю сна, самым пылким сторонником первостепенной важности исторического исследования был Джордж Стайнер. Изучение сна, доказывал Стайнер, «столь же, если не более, необходимо для нашей способности быстро усвоить развитие нравов и восприимчивости, как история костюма, еды, заботы о детях, психической и физической немощи, которую историки и historiens des mentalités [историки ментальностей] наконец стали доводить до нашего сведения» (No Passion Spent: Essays 1978–1996 [London, 1996], 211–212). Совсем недавно Даниэль Рош упрашивал: «Давайте помечтаем о социальной истории сна» (Consumption, 182). Исторические доклады о сновидениях включают в себя: Peter Burke, "L'Histoire Sociale des Rêves," Annales Economics, Sociétés, Civilisations 28 (1973), 329–342; Richard L. Kagan, Lucrecia’s Dreams: Politics and Prophecy in Sixteenth-Century Spain (Berkeley, Calif., 1990); Steven F. Kruger, Dreaming in the Middle Ages (Cambridge, 1992); Carole Susan Fungaroli, "Landscapes of Life: Dreams in Eighteenth-Century British Fiction and Contemporary Dream Theory" (Ph. D. diss., Univ. of Virginia., 1994); S. R. F. Price, "The Future of Dreams: From Freud to Artemidorous," PP 113 (1986), 3—37; Manfred Weidhom, Dreams in Seventeenth-Century English Literature (The Hague, 1970); David Shulman and Guy G. Stroumsa, eds. Dream Cultures: Explorations in the Comparative History of Dreaming (New York, 1999); Mechal Sobel, Teach Me Dreams: The Search for Self in the Revolutionary Era (Princeton, N. J., 2000). О том, как менялось отношение человека ко сну на протяжении веков, от древности до XX века, см. в книге: Jaume Rosselló Mir et al., "Una Aproximacion Historica al Estudio Cientifico de Sueno: El Periodo Intuitivo el Pre-Cientifico," Revista de Historia de la Psicologia 12 (1991), 133–142. Краткое исследование о сне в Средние века см. в: Verdon, Night, 203–217. Обзор основных медицинских текстов об отношении ко сну у людей раннего Нового времени см. в работе: Karl Н. Dannenfeldt, «Sleep: Theory and Practice in the Late Renaissance,» Journal of the History of Medicine 41 (1986), 415–441. Совсем недавно Филлип Мартин проанализировал отношение ко сну католических авторов XVIII столетия. «Corps en Repos ou Corps en Danger? Le Sommeil dans les Livres de Piété (Seconde Moi tré du X Ville Siècle),» Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 80 (2000), 255.
5. Wodrow, Analecta: or, Materials for a History of Remarkable Providences…, ed. Matthew Leishman (Edinburgh, 1843), III, 496; James Miller, The Universal Passion (London, 1737), 46.
Глава десятая
1. WR or UJ, Sept. 22,1738
2. Cogan, The Haven of Health (London, 1588), 232–233; Karl H. Dannenfeldt, "Sleep: Theory and Practice in the Late Renaissance," Journal of the History of Medicine 41 (1986), 422–424.
3. Vaughan, Naturali and Artificial Directions for Health… (London, 1607), 53; Henry Davidoff, ed., World Treasury of Proverbs… (New York, 1946), 25; Dannenfeldt, "Renaissance Sleep," 7—12.
4. John Trusler, An Easy Way to Prolong Life… (London, 1775), 11; F. K. Robinson, comp., A Glossary of Words Used in the Neighbourhood of Whitby (London, 1876), 55; Tilley, Proverbs in England, 36.
5. Wilson, English Proverbs, 389.
6. The Whole Duty of Man… (London, 1691), 188–189; Stephen Innés, Creating the Commonwealth: The Economic Culture of Puritan New England (New York, 1995), 124; The Schoole of Vertue, and Booke of Good Nourture… (London, 1557); An Essay on Particular Advice to the Young Gentry… (London, 1711), 170; David Hackett Fischer, Albion's Seed: Four British Folkways in America (New York, 1989), 160–161.
7. Andrew Boorde, A Compendyous Regyment or a Dyetary of Health… (London, 1547); Levinus Lemnius, Touchstone of Complexions…, trans. T. Newton (London, 1576), 57.
8. Robert Macnish, The Philosophy of Sleep, ed. Daniel N. Robinson (Washington, D. C, 1977), 279; Boorde, Compendyous Regyment; Lawrence Wright, Warm and Snug: The History of the Bed (London, 1962), 195.
9. William Bullein, A Newe Boke of Phisicke Called у Goveriment of Health… (London, 1559), 91; Boorde, Compendyous Regyment; Tobias Venner, Via Recta ad Warn Longam… (London, 1637), 279–280; Directions and Observations Relative to Food, Exercise and Sleep (London, 1772), 22; Dannenfeldt, “Renaissance Sleep," 430.
10. Wilson, English Proverbs, 738; Tornano, Proverbi, 76; Wright, Warm and Snug, 194; Gratarolus, A Direction for the Health of Magistrates and Studentes (London, 1574); Sir Thomas Elyot, The Castel of Helthe (New York, 1937), iii; Dannenfeldt, "Renaissance Sleep," JHM, 420.
11. Jan. 29,1624, Beck, Diary, 39.
12. John Wilson, The Projectors (London, 1665), 45.
13. Nov. 27, 1705, Cowper, Diary; Schindler, Rebellion, 216; Lean, Collectanea, I, 503; Wright, Warm and Snug, 117; Matthiessen, Natten, 8–9.
14. Eric Sloane, The Seasons of Amecrica Past (New York, 1958), 26; Feb. 8,1756, Dec. 26, 1763, Turner, Diary, 26–27,283; Carol M. Worthman and Melissa K. Melby, "Toward a Comparative Developmental Ecology of Human Sleep," in Mary A. Carskadon, ed., Adolescent Sleep Patterns: Biological, Social, and Psychological Influences (Cambridge, 2002), 79.
15. W. F., The Schoole of Good Manners (London, 1609).
16. "Letter of M. Brady," LC, July 31, 1764; Arthur Friedman, ed., Collected Works of Oliver Goldsmith (Oxford, 1966), II, 214–218; James Boswell, The Hypochondriack, ed. Margery Bailey (Stanford, Calif., 1928), II, 110; George Steiner, No Passion Spent: Essays, 1978–1996 (London, 1996), 211–212; Simon B. Chandler, "Shakespeare and Sleep," Bulletin of the History of Medicine 29 (1955), 255–260.
17. Tornano, Proverbi, 77; "Wits Private Wealth," in Breton, Works, II, 9; Another Collection of Philosophical Conferences of the French Virtuosi…, trans. G. Havers and J. Davies (London, 1665), 419; Richard Oliver Heslop, comp., Northumberland Words… (1892; rpt. edn., Vaduz, Liecht., 1965), 1,248, П, 659; Alexander Hislop, comp., The Proverbs of Scotland (Edinburgh, 1870), 346.
18. William Rowley, All's Lost By Lust (London, 1633); Thomas Shadwell, The Amorous Bigotte (London, 1690), 43; The Dramatic Works of Sir William D'Avenant (New York, 1964), 146; Boswell, Hypochondriack, ed. Bailey, II, 112; Erik Eckholm, "Exploring the Forces of Sleep," New York Times Magazine, Apr. 17,1988,32.
19. James Hervey, Meditations and Contemplations… (London, 1752), П, 42; Boswell, Hypochondriack, ed. Bailey, II, 110; N. Caussin, The Christian Diary (London, 1652), 35; June 2, 1706, Cowper, Diary; Alan of Lille, The Art of Preaching, trans. G. R. Evans (Kalamazoo, Mich., 1981), 135. О важной дискуссии Фрейда по поводу «невротических обрядов», относящихся ко сну, см.: "Obsessive Actions and Religious Practices," in James Strachey, ed. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (London, 1975), IX, 117–118; Barry Schwartz, "Notes on the Sociology of Sleep," Sociological Quarterly 11 (1970), 494–495.
20. Herbert's Devotions… (London, 1657), 237; Walter L. Straus, ed., The German Single-Leaf Woodcut, 1550–1600; A Pictorial Catalogue (New York, 1975), II, 739; Stephen Bateman, A Christall Glasse of Christian Reformation… (London, 1569).
21. Eugen Weber, My France: Politics, Culture, Myth (Cambridge, Mass., 1991), 85; Thomas Moffett, The History of Four-Footed Beasts and Serpents… (London, 1658), II, 956–957; July 16, 1678, John Lough, ed., Locke's Travels in France, 1675–1679 (Cambridge, 1953), 207; John Southall, A Treatise ofBuggs… (London, 1730); J. F. D. Shrewsbury, The Plague of the Philistines and Other Medical-Historical Essays (London, 1964), 146–161.
22. July 16, 1784, Torrington, Diaries, 1, 174; James P. Horn, Adapting to a New World: English Society in the Seventeenth-Century Chesapeake (Chapel Hill, N. C, 1994), 318–319. За день до приезда домой из путешествия Сайлас Невилл отправил записку с просьбой о том, чтобы его экономка со своей дочерью спали в эту ночь на его кровати, дабы «просушить» ее (Basil Cozens-Hardy, ed., The Diary of Sylas Neville, 1767–1788 [London, 1950], 162).
23. Carolyn Pouncy, ed., The "DomostroiRules for Russian Households in the Time of Ivan the Terrible (Ithaca, N. Y., 1994), 170; Anna Brzozowska-Krajka, Polish Traditional Folklore: The Magic of Time (Boulder, Colo, 1998), 119; PA, Mar. 20,1764.
24. Steven Bradwell, A Watch-man for the Pest… (London, 1625), 39; Oct. 20,1763, Frederick A Pottle, ed., Boswell in Holland 1763–1764 (New York, 1952), 49–50; Venner, Via Recta, 275; Israel Spach, Theses Medicae de Somno et Vigilia… (Strasburg, 1597).
25. Jon Cowans, ed., Early Modem Spain: A Documentary History (Philadelphia, 2003), 121; Alan Macfarlane, The Justice and the Mare's Ale: Law and Disorder in Seventeenth-Century England (Oxford, 1981), 56; John C. Fitzpatrick, ed., The Writings of George Washington… (Washington, D. C, 1931), 1, 17. Сведения о спальной одежде встречаются редко, однако см.: С. Willett and Phillis Cunnington, The History of Underclothes (London, 1951), 41–43, 52, 61; Almut Junker, Zur Geschichte der Unterwäsche 1700–1960: eine Ausstellung des Historischen Museums Frankfurt, 28 April bis 28 August 1988 (Frankfurt, 1988), 10–78; Norbert Elias, The Civilizing Process: The Development of Manners…, trans. Edmund Jephcott (New York, 1978), I, 164–165. Об отсутствии одежды у спящих см.: Edmond Cottinet, "La Nudité au Lit Selon Cathos et l'Histoire," Le Moliériste (April 1883), 20–25 (June 1883) 86–89; Dannednfeldt, "Renaissance Sleep," 426.
26. Randle Cotgrave, A Dictionaire of the French and English Tongues (London, 1611); Laurence Sterne, The Life & Opinions ofTristam Shandy, Gentleman (New York, 1950), 568; Sept. 22, 1660, Pepys, Diary, I, 251; Alison Weir, Henry VIII: The King and His Court (New York, 2001), 84.
27. The Queens Closet Opened… (London, 1661), 60–61,101–102; Aug. 11,1678, Michael Hunter and Annabel Gregory, eds., An Astrological Diary of the Seventeenth Century: Samuel JeakeofRye, 1652–1699 (Oxford, 1988), 140; Christof Wirsung, Praxis Medicinae Universalis; or a Generali Practise of Phisicke… (London, 1598), 618.
28. Moryson, Itinerary, IV, 44; "T.C.," PL, Dec. 5, 1765. В книге «Celestina: A Novel in Dialogue», написанной Фернандо де Рохасом и опубликованной на английском языке в переводе Лесли Бёрд Симпсон (Berkeley, Calif., 1971), главный герой говорит о вине: «В зимнюю ночь нет лучше грелки. Если, перед тем как лечь спать, я выпиваю три небольших кувшина вина наподобие этих, я не чувствую холода в течение всей ночи» (104).
29. Bradwell, Watch-man, 38; "W," LC, Oct. 9, 1763; Henry G. Bohn, A Hand-book of Proverbs… (London, 1855), 28; May 25,1767, Cozens-Hardy, ed., Neville Diary, 8; Feb. 29,1756, Turner, Diary, 32.
30. Thomas Elyot, The Castel ofHelthe (London, 1539), fo. 46; Governai, In this Tretyse that Is Cleped Govemayle ofHelthe (New York, 1969); Bullein, Goveriment of Health, 90.
31. Sept. 29, 1661, Pepys, Diary, II, 186; East Anglian Diaries, 51; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 113–128; François Lebrun, "The Two Reformations: Communal Devotion and Personal Piety," in HPL III, 96–97. Упоминания о ночном «затворе» можно найти в кн.: Owen Feltham, Resolves (London, 1628), 406; Oct. 2, 1704, Cowper, Diary; Andrew Henderson, ed., Scottish Proverbs (Edinburgh, 1832), 48.
32. John Bartlett, Familiar Quotations…, ed. Emily Morison Beck et al. (Boston, 1980), 320; Whole Duty of Man, 388; Thomas Becon, The Early Works…, ed. John Ayre (Cambridge, 1843), 403.
33. Thankfull Remembrances of Gods Wonderful Deliverances… (n. p., 1628). См. также: July 18,1709, Cowper, Diary. Хорошо известна древняя корнуоллская молитва: «От вампиров, и призраков, и ползучих тварей, и от вещей, о которые можно удариться ночью, избавь нас, Милосердный Боже!» (Bartlett, Familiar Quotations, ed. Beck et al., 921).
34. Martine Segalen, Love and Power in the Peasant Family: Rural France in the Nineteenth Century, trans. Sarah Matthews (Chicago, 1983,124–125; Phillipe Martin, "Corps en Repos ou Corps en Danger? Le Sommeil dans les Livres de Piété (Second Moitié du XVIIIe Siècle)," Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 80 (2000), 253.
35. Gwyn Jones, comp., The Oxford Book of Welsh Verse in English (Oxford, 1977), 78; July 15,1705, Cowper, Diary; Gervase Markham, Countrey Contentments… (London, 1615), 31; William Lilly, A Groatsworth of Wit for a Penny; or, the Interpretation of Dreams (London, [1750?]), 18.
36. Cogan, Haven of Health, 235.
37. Harrison, Description, 200–201; Raffaella Sard, Europe at Home: Family and Material Culture, 1500–1800, trans. Allan Cameron (New Haven, 2002), 120; John E. Crowley, The Invention of Comfort: Sensibilities & Design in Early Modern Britain & Early America (Baltimore, 2001), 73–76; Anne Fillon, "Comme on Fait son Lit, on se Couche 300 Ans d'Histoire du Lit Villageois," in Populatiens et Cultures… Etudes Réunies en l'Honneur de François Lebrun (Rennes, 1989), 153–161.
38. Stephanie Grauman Wolf, As Various as Their Land: The Everyday Lives of Eighteenth-Century Americans (New York, 1993), 66; Carole Shammas, "The Domestic Environment in Early Modem England and America," JSH14 (1990), 169,158; Dannenfeldt, "Renaissance Sleep," 426 n. 31; Crowley, Comfort, passim; F. G. Emmison, Elizabethan Life: Home, Work & Land (Chelmsford, Eng., 1976), 12–15; Roche, Consumption, 182–185.
39. Bartlett, Familiar Quotations, ed. Beck et al., 290; Lemnius, Touchstone of Complexions, trans. Newton, 73; Cogan, Haven of Health, 235; Brad well, Watch-man, 39.
40. Alan Everitt, "Farm Labourers," in Joan Thirsk, ed., The Agrarian History of England and Wales, IV, 1500–1640 (London, 1967), 449; Horn, Adapting to a New World, ЗЮЗИ, 324–325.
41. A Browning, ed., English Historical Documents, 1660–1714 (New York, 1953), 729; [Ward], A Trip to Ireland… (n. p., 1699), 5.
42. Harrison, Description, 201; OBP, Sept. 9—16,1767,259; Feb. 19,1665, Pepys, Diary, VI, 39; Cissie Fairchilds, Domestic Enemies: Servants & Their Masters in Old Regime France (Baltimore, 1984), 39; Steven L. Kaplan, The Bakers of Paris and the Bread Question, 1700–1775 (Durham, N. C, 1996), 259. Слуга в колониальном Мэриленде жаловался: «Завернуться в одеяло и лечь на землю — вот и весь отдых, который мы можем себе позволить» (Elizabeth Sprigs to John Sprigs, Sept. 22, 1756, in Merrill Jensen, ed., English Historical Documents: American Colonial Documents to 1776 [New York, 1955], 489). Такая судьба ожидала большинство американских рабов в раннее Новое время. Несмотря на то что в некоторых жилищах имелись «кровати из досок», чаще рабы спали на земле среди соломы, тряпья или, если повезет, нескольких грубых одеял (Morgan, Slave Counterpoint, 114).
43. OED, s. V. "bulkers"; John Heron Lepper, The Testaments of François Villon (New York, 1926), 12; Order of Nov. 28, 1732, London Court of Common Council, BL; Menna Prestwich, Cranfield: Politics and Profits Under the Early Stuarts (Oxford, 1966), 529;
Paroimiographia (French), 18; H. S. Bennett, Life on the English Manor: A Study of Peasant Conditions, 1150–1400 (Cambridge, 1967), 233; Richard Parkinson, ed., The Private Journal and Literary Remains off John Byrom (Manchester, 1854), I, Part 2,407.
44. RB, VI, 220; Tornano, Proverbi, 127.
45. Alain Collomp, "Families: Habitations and Cohabitations," in HPL III, 507; Flandrin, Families, trans. Southern, 98–99; Flaherty, Privacy, 76–79.
46. Constantia Maxwell, Country and Town in Ireland under the Georges (London, 1940), 123: Ménétra, Journal, 137; Flandrin, Families, trans. Southern, 100.0 выражении «to pig» cm.: OED; Journal of Twisden Bradboum, 1693–1694,1698,19, Miscellaneous English Manuscripts c. 206, Bodl.; Edward Peacock, comp., A Glossary of Words Used in the Wapentakes of Manley and Corringham, Lincolnshire (Vaduz, Liecht., 1965), 191.
47. John Dunton, Teague Land, or a Merry Ramble to the Wild Irish: Letters from Ireland 1698, ed. Edward MacLysaght (Blackrock, Ire., 1982), 21; Howard William Troyer, Five Travel Scripts Commonly Attributed to Edward Ward (New York, 1933), 5, 6; Maxwell, Ireland, 125; Patricia James, ed., The Travel Diaries of Thomas Robert Malthus (London, 1966), 188, Pinkerton, Travels, III, 667.
48. James E. Savage, ed., The "Conceited Newes" of Sir Thomas Overbury and His Friends (Gainesville, Fla., 1968), 260.
49. Elias, Civilizing Process, trans. Jephcott, 1,160–163; Abel Boyer, The Compleat French-Master… (London, 1699), 6; Elborg Forster, ed. and trans., A Woman's Life in the Court of the Sun King: Letters of Liselotte von der Pfalz, 1652–1722 (Baltimore, 1984), 149.
50. John Greaves Nail, ed., An Etymological and Comparative Glossary of the Dialect and Provincialism of East Anglia (London, 1866), 512; Elias, Civilizing Process, trans. Jephcott, 1,166–168.
51. May 4, 1763, Frederick A. Pottle, ed., Boswell's London Journal, 1762–1763 (New York, 1950), 253; June 14, 1765, Frank Brady and Frederick A. Pottle, eds., Boswell on the Grand Tour: Italy, Corsica, and France, 1765–1766 (New York, 1955), 253; Isaac Heller, The Life and Confession of Isaac Heller… (Liberty, Ind., 1836). См. также: Mary Nicholson, Feb. 28,1768, Assi 45/29/1/169; Mar. 23,1669, Pepys, Diary, IX, 495.
52. Milly Harrison and О. M. Royston, comps., How They Lived (Oxford, 1965), II, 235; OBP, Sept. 13–16,1758, 291.
53. Thomas Newcomb, The Manners of the Age… (London, 1733), 454; June 22, 1799, Drinker, Diary, II, 1180; Thomas A Wehr, "The Impact of Changes in Nightlength (Scotoperiod) on Human Sleep," in F. W. Turek and P. C. Zee, eds., Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms (New York, 1999), 263–285.
54. LDA, June 10,1751; Sidney Oldall Addy, comp., A Supplement to the Sheffield Glossary (Vaduz, Liecht., 1965), 19; Kenneth J. Gergen et al., "Deviance in the Dark," Psychology Today 7 (October 1973), 130.
55. Richard Bovet, Pandaemonium (Totowa, N. J., 1975), 118; James Orchard Halliwell, ed., The Autobiography and Personal Diary of Dr. Simon Forman… (London, 1849), 8–9; The Princess Cloria: or, the Royal Romance (London, 1661), 530; Dec. 15,1710, Cowper, Diary.
56. Helmut Puff, Sodomy in Reformation Germany and Switzerland, 1400–1600 (Chicago, 2003), 77–78; OBP, Sept. 10–16,1755,309; G. R Quaife, Wanton Wenches and Wayward Wives: Peasants and Illicit Sex in Early Seventeenth-Century England (London, 1979), 73; Michael Rocke, Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence (New York, 1996), 156.
57. The English Rogue… (London, 1671), Part II1,31; David P. French, comp., Minor English Poets, 1660–1780 (New York, 1967), III, 318; Elias, Civilizing Process, trans. Jephcott, I, 161; Maza, Servants and Masters, 184.
58. J. C. Ghosh, ed., The Works of Thomas Otway: Plays, Poems, and Love-Letters (Oxford, 1968), II, 340; Joanna Brooker, Nov. 21, 1754, Suffolk Court Files № 129733b, Suffolk County Court House, Boston.
59. Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales (Avon, Ct., 1974), 440–441; George Morison Paul, ed., Diary of Sir Archibald Johnston of Wariston (Edinburgh, 1911), 56; Jan. 1, 1663, Pepys, Diary, IV, 2; Nov. 29, 1776, Charles McC. Weiss and Frederick A. Pottle, eds., Boswell in Extremes, 1776–1778 (New York, 1970), 62; Dec. 28,1780, Joseph W. Reed and Frederick A. Pottle, eds., Boswell: Laird of Auchinleck, 1778–1782 (New York, 1977), 281.
60. Joshua Swetman, The Arraignment of Lewd, Idle, Froward [sic], and Unconstant Women… (London, 1702), 43–44; May 11,1731, Clegg, Diary, 1,118; Rudolph M. Bell, How to Do It: Guides to Good Living for Renaissance Italians (Chicago, 1999), 232; The Fifteen Joys of Marriage, trans. Elisabeth Abbott (London, 1959), 22–24, 72–84.
61. Edward Jemingham, The Welch Heiress (London, 1795), 70; Diary of John Eliot, 1768, 3, passim, Connecticut Historical Society, Hartford; July 21, 1700, Diary of John Richards, Dorsetshire Record Office, Dorchester. См. также: Autobiography of the Rev. Dr Alexander Carlyle, Minister of Inveresk… (Edinburgh, 1860), 545.
62. P. J. P. Goldberg, Women in England, c. 1275–1525: Documentary Sources (Manchester, 1995), 142; Ulinka Rublack, The Crimes of Women in Early Modem Germany (Oxford, 1999), 227; Boston Post-Boy, Aug. 17,1752; NYWJ, Dec. 12,1737.
Глава одиннадцатая
1. C. E. Roybet, ed., Les Serees de Guillaume Boucher Sieur de Brocourt (Paris, 1874), 1П, 154.
2. William C. Dement, The Promise of Sleep (New York, 1999), 101.
3. Adventurer 39, Mar. 20,1753,228; Christof Wirsung, Praxis Medicinae Universalis; or a Generali Practise of Phisicke… (London, 1598), 618.
4. T. D. Gent, Collin's Walk through London and Westminster… (London, 1690), 43; Shakespeare, Macbeth, II, 2, 35; William Mountfort, The Injur'd Lovers… (London, 1688), 49.
5. Sylvain Matron, "Le Rêve Dans les «Secrètes Sciences»: Spirituels, Kabbalistes Chrétiens et Alchimistes," Revue des Sciences Humaines 83 (1988), 160; Adventurer 39, Mar. 20, 1753, 229. Конечно, в греческой мифологии «сон» (hypnos) и «смерть» (thantos) считались близнецами — сыновьями «ночи».
6. J. С. Smith and E. De Selincourt, eds., Spenser: Poetical Works (London, 1969), 606; Burton E. Stevenson, ed., The Home Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phrases (New York, 1948), 2134; Philip Sidney, Astrophel and Stella… (London, 1591); Miguel de Cervantes Saavedra, The Adventures of Don Quixote, trans. J. M. Cohen (Baltimore, 1965), 906.
7. Joshua Sylvester, trans., Du Bartas: His Divine Weekes and Workes (London, 1621), 465; Shakespeare, King Henry V, IV, 1, 264–267; Verdon, Night, 203–206. В Екклесиасте говорится: «Сладок сон работящего», 5:12.
8. George Laurence Gomme, ed., The Gentleman's Magazine Library: Being a Classified Collection of the Chief Contents of the Gentleman's Magazine from 1731 to 1868: Popular Superstitions (London, 1884), 122; July 22, Feb. 13,1712, Cowper, Diary; Oct. 4,1776, Charles McC. Weiss and Frederick A. Pottle, eds., Boswell in Extremes, 1776–1778 (New York, 1970), 39.
9. Jean-François Senault, Man Become Guilty, or the Corruption of Nature by Sinne, trans. Henry Earle of Monmouth (London, 1650), 243; Philip D. Morgan, "British Encounters with Africans and African Americans, c. 1600–1780," in Bernard Bailyn and Philip D. Morgan, eds., Strangers within the Realm: Cultural Margins of the First British Empire (Chapel Hill, N. C, 1991), 206; Nov. 16, 1664, Oct. 6,1663, Pepys, Diary, V, 322, TV, 325.
10. Nashe, Works, I, 355; July 22,1712, Oct. 12,1703, Cowper, Diary; Dement, Promise of Sleep, 17.
11. Spenser, Amoretti and Epithalamion (1595; rpt. edn., Amsterdam, 1969).
12. Herbert's Devotions… (London, 1657), 1; Alexander B. Grosart, ed., The Complete Works in Prose and Verse of Francis Quarles (New York, 1967), II, 206; Apr. 4,1782, Journal of Peter Oliver, Egerton Manuscripts, BL; Benjamin Mifflin, "Journal of a Journey from Philadelphia to the Cedar Swamps & Back, 1764," Pennsylvania Magazine of History and Biography 52 (1928), 130–131.
13. Kenneth Jon Rose, The Body in Time (New York, 1989), 87–88; Jane Wegscheider Hyman, The Light Book: How Natural and Artificial Light Affect Our Health, Mood and Behavior (Los Angeles, 1990), 140–141; Gay Gaer Luce, Body Time (London, 1973), 151,178.
14. Nov. 21, 1662, Pepys, Diary, III, 262; May 25, 1709, Cowper, Diary; OED, s. v. "spitting"; SAS, XI, 124–125; Jan. 1, Feb. 21,1706, Raymond A. Anselment, ed., The Remembrances of Elizabeth Freke, 1671–1714 (Cambridge, 2001), 84; Hyman, Light Book, 140–141; Mary J. Dobson, Contours of Death and Disease in Early Modern England (Cambridge, 1997), 242, 252–253; Carol M. Worthman and Melissa K. Melby, "Toward a Comparative Developmental Ecology of Human Sleep," in Mary A. Carskadon, ed., Adolescent Sleep Patterns: Biological, Social, and Psychological Influences (Cambridge, 2002), 74.
15. Charles Severn, ed., Diary of the Rev. John Ward… (London, 1839), 199; Sept. 24,1703, Oct. 18, 1715, Cowper, Diary; Suellen Hoy, Chasing Dirt: The American Pursuit of Cleanliness (Oxford, 1995), 5; Henry Vaughan, Welsh Proverbs with English Translations (Felin-fach, Wales, 1889), 85; Legg, Low-Life, 9.
16. Burton, The Anatomy of Melancholy (New York, 1938), 597; Bräker, Life, 82; Nov. 28, 1759, James Balfour Paul, ed., Diary of George Ridpath… 1755–1761 (Edinburgh, 1922), 288; Oct. 1, 1703, Cowper, Diary; Michael MacDonald, Mystical Bedlam: Madness, Anxiety, and Healing in Seventeenth-Century England (Cambridge, 1981), 245.
17. Piero Camporesi, Bread of Dreams: Food and Fantasy in Early Modern Europe, trans. David Gentilcore (Chicago, 1989), 64; John Wilson, The Projectors (London, 1665), 18; Lydia Dotto, Losing Sleep: How Your Sleep Habits Affect Your Life (New York, 1990), 157.
18. M. Andreas Laurentius, A Discourse of the Preservation of the Sight…, trans. Richard Surphlet (London, 1938), 104, 96; Dagobert D. Runes, ed., The Selected Writings of Benjamin Rush (New York, 1974), 200; Hyman, Light Book, 87,96–97, passim.
19. Thomas Overbury, The "Conceited Newes" of Sir Thomas Overbury and His Friends, ed. James E. Savage (1616; rpt. edn., Gainesville, Fla., 1968), 262; Henry Nevil Payne, The Siege of Constantinople (London, 1675), 51; Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms, trans. R. J. Hollingdale (London, 1990), 83–84; Luce, Body Time, 204–210.
20. Stevenson, ed., Proverbs, 2132; Henry Bachelin, Le Serviteur (Paris, 1918), 216; Nov. 6, 1715, William Matthews, ed., The Diary of Dudley Ryder, 1715–1716 (London, 1939), 105; May 20,1624, Beck, Diary, 99. См. также: Jan. 30,1665, Pepys, Diary, VI, 25.
21. Heaton, "Experiences or Spiritual Exercises" (typescript), 4, North Haven Historical Society, North Haven, Ct.; Burton, Anatomy of Melancholy, 465; Barbara E. Lacey, The World of Hannah Heaton: The Autobiography of an Eighteenth-Century Connecticut Farm Woman," WMQ, 3rd Ser., 45 (1988), 284–285.
22. M. A. Courtney and Thomas Q. Couch, eds., Glossary of Words in Use in Cornwall (London, 1880), 39; OED, s. v. "nightmare"; Edward Phillips, The Chamber-Maid… (London, 1730), 57; The Works of Benjamin Jonson (London, 1616), 951.
23. Joseph Angus and J. C. Ryle, eds., The Works of Thomas Adams… (Edinburgh, 1861), II, 29.
24. Charles P. Poliak, "The Effects of Noise on Sleep," in Thomas H. Fay, ed., Noise and Health (New York, 1991), 41–60.
25. Wilson, English Proverbs, 169; R. Murray Schafer, The Tuning of the World (Philadelphia, 1977), 59; Luce, Body Tune, 141.
26. Thomas Shadwell, Epsom-Wells (London, 1672), 83; The Works of Monsieur Boileau (London, 1712), 1, 193–194, 200–201; The Works of Mr. Thomas Brown in Prose and Verse… (London, 1708), III, 15; Bruce R. Smith, The Acoustic World of Early Modem England Attending to the О-Factor (Chicago, 1999), 52–71. Конечно, некоторые шумы раннего Нового времени, как заметил Френсис Бэкон, способствовали сну, среди них капающая вода и тихое пение. James Spedding et al., eds., The Works of Francis Bacon (London, 1859), II, 579–580.
27. Joseph Leech, Rural Rides of the Bristol Churchgoer, ed. Alan Sutton (Gloucester, Eng., 1982), 70; Mar. 16,1706, Cowper, Diary.
28. Oct. 24,1794, Oct. 19,1796, Drinker, Diary, II, 610,853.
29. William Beckford, Dreams, Waking Thoughts and Incidents, ed. Robert J. Gemmett (Rutherford, N. J., 1972), 165; Robert Forby, comp., The Vocabulary of East Anglia (Newton Abbot, Eng., 1970), 1, 43; June 15, 1800, Jack Ayres, ed., Paupers and Pig Killers: The Diary of William Holland, a Somerset Parson (Gloucester, Eng., 1984), 38.
30. P. Hume Brown, ed., Tours in Scotland 1677 & 1681… (Edinburgh, 1892), 33; Donald Gibson, ed., A Parson in the Vale of White Horse George Woodward's Letters from East Hendred 1753–1761 (Gloucester, Eng., 1982), 37; Nov. 26, 1703, Doreen Slatter, ed., The Diary of Thomas Naish (Devizes, Eng., 1965), 51; Pounds, Culture, 364–365; Smith, Acoustic World, 71–82.
31. Alice Morse Earle, Customs and Fashions in Old New England (1893; rpt. edn., Detroit, 1968), 128; LEP, Jan. 12,1767; Dec. 19,1799, Woodforde, Diary, V, 230; Brian Fagan, The Little Ice Age: How Climate Made History, 1300–1850 (New York, 2000), 113–147; Stanley Coren, Sleep Thieves: An Eye Opening Exploration into the Science and Mysteries of Sleep (New York, 1996), 164.
32. Legg, Low-Life, 4; John Ashton, comp., Modern Street Ballads (New York, 1968), 51; Stevenson, ed., Proverbs, 280; Lynne Lamberg, Bodyrhythms: Chronobiology and Peak Performance (New York, 1994), 111–112; Remarks 1717, 193–194; Aug. 3, 1774, Edward Miles Riley, ed., The Journal of John Harrower: An Indentured Servant in the Colony of Virginia, 1773–1776 (Williamsburg, 1963), 52.
33. Torrington, Diaries, Ш, 317; Evelyn, Diary, П, 507; Robert Southey, Journal of a Tour in Scotland (1929; rpt. edn. Edinburgh, 1972), 91–92.
34. John Locke, The Works… (London, 1963), IX, 23; Coren, Sleep Thieves, 160–161.
35. Apr. 4, 1624, Beck, Diary, 71; Lawrence Wright, Warm and Snug The History of the Bed (London, 1962), 199–200; Oct. 22,1660, Pepys, Diary, I, 271; Carl Bridenbaugh, ed., Gentleman's Progress: The Itinerarium of Dr. Alexander Hamilton (Chapel Hill, N. C, 1948), 195; F. P. Pankhurst and J. A Home, "The Influence of Bed Partners on Movement during Sleep," Sleep 17 (1994), 308–315.
36. A. Aspinall, ed., Lady Bessborough and Her Family Circle (London, 1940), 111–112; John S. Farmer, ed., Merry Songs and Ballads Prior to the Year A. D. 1800 (New York, 1964), I, 202–203; Lawrence Wright, Clean and Decent: The Fascinating History of the Bathroom & the Water Closet… (New York, 1960), 78; Pounds, Culture, 366–367.
37. См., например: Thomas Brewer, The Merry Devili of Edmonton (London, 1631), 44; OED, s. V. "urinal"; Mar. 27,1706, Sewall, Diary, I, 543; Jonathan Swift, Directions to Servants… (Oxford, 1959), 61; Burt, Letters, II, 47.
38. James T. Henke, Gutter Life and Language in the Early "Street" Literature of England: A Glossary of Terms and Topics Chiefly of the Sixteenth and Seventeenth Centuries (West Cornwall, Ct., 1988), 51; Sept. 28,1665, Pepys, Diary, VI, 244; John Greenwood, Mar. 9,1771, Assi 45/30/1/70; Paroimiographia (Italian), 16.
39. Cibber and Vanbrugh, The Provok'd Husband; or a Journey to London (London, 1728), 76.
40. Peter Thornton, The Italian Renaissance Interior 1400–1600 (New York, 1991), 248, 249–251, and Seventeenth-Century Interior Decoration in England, France, and Holland (New Haven, 1978), 324–326,328.
41. Boileau Works, 1,201.
42. Benjamin Franklin, Writings, ed. J. A. Leo Lemay (New York, 1987), 1121–1122; Feb. 16,17,1668, Pepys, Diary, IX, 73, 75; Louis B. Wright and Marion Tinling, ed., Quebec to Carolina in 1785–1786: Being the Travel Diary and Observations of Robert Hunter Jr…. (San Marino, Calif., 1943), 278–279; Raffaella Sarti, Europe at Home: Family and Material Culture, 1500–1800, trans. Allan Cameron (New Haven, 2002), 122.
43. July 9,1774, Philip Vickers Fithian, Journal & Letters of Philip Vickers Fithian, 1773–1774: A Plantation Tutor of the Old Dominion, ed. Hunter Dickinson Farish (Williamsburg, 1943), 178.
44. Nicholas James, Poems on Several Occasions (Truro, Eng., 1742), 13; Herbert's Devotions, 223; Sarah C. Maza, Servants and Masters in Eighteenth-Century France: The Uses of Loyalty (Princeton, N. J., 1983), 183, n. 61. Автор, пишущий о рабочем классе, — Джон Янгер позднее высмеивал «тупоголовых писателей благородных романов… изображающих счастливое неведение храпящего крестьянства, которому совсем ничего не известно о таких человеческих делах» (Autobiography of John Younger, Shoemaker, St. Boswells… [Edinburgh, 1881], 133).
45. Poliak, "Effects of Noise," 43.
46. Apr. 13, 1719, William Byrd, The London Diary (1717–1721) and Other Writings, ed. Louis B. Wright and Marion Tinling (Oxford, 1958), 256; Oct. 9,1647, Yorkshire Diaries and Autobiographies in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Durham, Eng., 1875), 1,67; Coren, Sleep Thieves, 72–74, 286. Неудивительно, что среди низших классов в Европе раннего Нового времени мифическая «страна Кокаин» пользовалась большой популярностью. Кроме прочих удовольствий, в этом утопическом рае мужчины и женщины спали в «мягких постелях», а «кто лучше спит, тот больше зарабатывает» (Piero Camporesi, The Land of Hunger, trans. Tania Croft-Murray [Cambridge, Mass., 1996], 160–164).
47. Medial Sobel, The World They Made Together: Black and White Values in Eighteenth-Century Virginia (Princeton, N.J., 1987), 24; James Scholefield, ed., The Works of James Pilkington, B. D., Lord Bishop of Durham (New York, 1968), 446; E. P. Thompson, "Time, Work-Disdpline, and Industrial Capitalism," PP 38 (1967), 56–97.
48. Camporesi, Bread of Dreams, 68–69; Coren, Sleep Thieves, passim.
Глава двенадцатая
1. Philip Wheelwright, Heraclitus (Princeton, N. J., 1959), 20.
2. Herbert's Devotions… (London, 1657), 236; Robert Louis Stevenson, The Cevennes Journal: Notes on a Journey through the French Highlands, ed. Gordon Golding (Edinburgh, 1978), 79–82.
3. Я обнаружил 83 упоминания о «первом сне» в 72 разных источниках периода 1300–1800 годов. Примеры см. в тексте. Выражения «первая дремота» и «мертвый сон» см. в кн.: A. Roger Ekirch, «Sleep We Have Lost: Pre-industrial Slumber in the British Isles,» AHR 106 (2001), 364. Меньшее количество упоминаний о сне, поделенном на части, найденных мною в старых американских источниках, позволяет предположить, что этот сон, хотя и встречается в Северной Америке, возможно, распространен там меньше, чем в Европе, по причинам, идущим от различий в пропорциональном отношении дня/ночи к более широкому использованию искусственного освещения в колониях. Два источника — Benjamin Franklin, "Letter of the Drum," PG, Apr. 23, 1730, and Hudson Muse to Thomas Muse, Apr. 19, 1771, in "Original Letters," WMQ 2 (1894), 240 — содержат в себе выражение «первая дремота». См. также: Ekirch, «Sleep We Have Lost,» 364.
4. Я нашел 21 упоминание этих выражений в 19 источниках XVII–XIX веков (Ekirch, «Sleep We Have Lost,» 364).
5. База данных ранней итальянской литературы Opera del Vocabolario, представленная консорциумом ItalNet (Web: www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/ OVI/), содержит 57 упоминаний primo sonino и primo sono в 32 текстах только XIV века.
6. О primo sonno или незначительно отличающихся primus somnus либо «primi somni», встретившихся мне 19 раз в 16 текстах, половина из которых написана до XIII века, см., например: Ekirch, «Sleep We Have Lost,» 364–365. О concubia node см.: D. P. Simpson, Cassell's Latin Dictionary (London, 1982), 128.
7. Mid-Night Thoughts, Writ, as Some Think, by a London-Whigg, or a Westminster Tory… (London, 1682), A 2, 17; William Keatinge Clay, ed., Private Prayers, Put Forth by Authority during the Reign of Queen Elizabeth (London, 1968), 440–441; OED, s. v. "watching."
8. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales (Avon, Ct., 1974), 403; William Baldwin, Beware the Cat, ed. William Ringler, Jr., and Michael Flachmann (San Marino, Calif., 1988), 5.
9. George Wither, Iwenila (London, 1633), 239; Locke, An Essay Concerning Human Understanding (London, 1690), 589. См. также: Francis Peck, Desiderrata Curiosa… (London, 1732), II, 33. Упоминания о «первом сне» животных см., например: James Shirley, The Constant Maid (London, 1640); Samuel Jackson Pratt, Harvest-Home… (London, 1805), II, 457.
10. Raimundus Lullus, Liber de Regionibus Sanitatis et Informitatis (n. p., 1995), 107; Harrison, Description, 382. См. также: Crusius, Node, ch. 3.11.
11. The Dramatic Works of Sir William D'Avenant (New York, 1964), III, 75; J. Irvine Smith, ed., Selected Justiciary Cases, 1624–1650 (Edinburgh, 1974), III, 642; Taillepied, Ghosts, 97–98; Richard Hurst, trans., Endimion: An Excellent Fancy First Composed in French by Mounsieur Gombauld (London, 1639), 74; Shirley Strum Kenny, ed., The Works of George Farquhar (Oxford, 1988), 1,100.
12. Governai, In this Tretyse that Is Cleped Govemayle ofHelthe (New York, 1969); William Bullein, A Newe Boke of Phisicke Called y Goveriment of Health… (London, 1559), 90; Andrew Boorde, A Compendyous Regyment or a Dyetary of Health… (London, 1547); André Du Laurens, A Discourse of the Preservation of the Sight…, ed. Sanford V. Larkey, trans. Richard Surfleet ([London], 1938), 190.
13. Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou: The Promised Land of Error, trans. Barbara Bray (New York, 1978), 277,227; Nicolas Rémy, La Démonolârie, ed. Jean Boës (1595; rpt. edn., Lyons, n. d), 125. См. также: Jean Duvemoy, ed., Le Registre d'inquisition de Jacques Fournier, Évêque de Pamiers (1318–1325) (Toulouse, 1965), 1,243.
14. Anthony C. Meisel and M. L. del Mastro, trans., The Rule of St. Benedict (Garden City, N.Y., 1975), 66; Alan of Lille, The Art of Preaching, trans. Gillian R. Evans (Kalamazoo, Mich., 1981), 136; Richard Baxter, Practical Works… (London, 1838), 1,339; Mid-Night Thoughts, 158–159; Abbot Gasquet, English Monastic Life (London, 1905), 111–112; С. H. Lawrence, Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages (London, 1984), 28–30; John M. Staudenmaier, S. J., "What Ever Happened to the Holy Dark in the West? The Enlightenment Ideal & the European Mystical Tradition," in Leo Marx and Bruce Mazlish, eds., Progress: Fact or Illusion? (Ann Arbor, Mich., 1996), 184.
15. Livy with an English Translation in Fourteen Volumes, trans. F. G. Moore (Cambridge, Mass., 1966), VI, 372–373; Virgil, The Aeneid, trans. Robert Fitzgerald (New York, 1992), 43; Pausanias, Description of Greece, trans. W. H. S. Jones and H. A. Ormerod (Cambridge, 1966), II, 311; Plutarch, The Lives of the Noble Grecians and Romans, trans. John Dryden (New York, 1979), 630, 1208; Allardyce Nicoli, ed., Chapman's Homer: The Iliad, The Odyssey and the Lesser Homerica (Princeton, N. J., 1967), II, 73.
16. Paul Bohannon, "Concepts of Time among the Tiv of Nigeria," Southwestern Journal of Anthropology 9 (1953), 253; Paul and Laura Bohannan, Three Source Notebooks in Tiv Ethnography (New Haven, 1958), 357; Bruno Gutmann, The Tribal Teachings of the Chagga (New Haven, 1932); George B. Silberbauer, Hunter and Habitat in the Central Kalahari Desert (Cambridge, 1981), 111.
17. Thomas A. Wehr, "A 'Clock for All Seasons' in the Human Brain," in R. M. Buijs et al., eds., Hypothalamic Integration of Circadian Rhythms (Amsterdam, 1996), 319–340; Thomas A. Wehr, "The Impact of Changes in Nightlength (Scotoperiod) on Human Sleep," in F. W. Turek and P. C. Zee, eds., Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms (New York, 1999), 263–285; Natalie Angier, "Modem Life Suppresses Ancient Body Rhythm," New York Times, Mar. 14,1995; сведения сообщены Томасом Вером 23 и 31 декабря 1996 года.
18. Warren Е. Leary, "Feeling Tired and Run Down? It Could be the Lights," NYT, Feb. 8, 1996; Charles A Czeisler, "The Effect of Light on the Human Circadian Pacemaker," in Derek J. Chadwick and Kate Ackrill, eds., Circadian Clocks and Their Adjustment (Chichester, Eng., 1995), 254–302; William C. Dement, The Promise of Sleep (New York, 1999), 98—101. Вер, по его признанию, предположил, что иные, помимо темноты, условия экспериментов могли вызвать у его субъектов двойную форму покоя, к примеру скуку или непреднамеренный сон. «Необходимо дальнейшее исследование, — писал он, — чтобы определить, является ли сама по себе темнота или факторы, связанные с состоянием темноты, и в какой степени причиной различий, которые мы наблюдали в сне субъектов» (Thomas A. Wehr et al., «Conservation of Photoperiod-responsive Mechanisms in Humans,» American Journal of Physiology 265 [1993], R855). Но именно такие факторы, как правило, не преобладают в большинстве упоминаний первого и второго сна. Сон в этих случаях не был непроизвольным, также он не являлся и следствием однообразного окружения.
19. Dec. 14,1710, George Aitken, ed., The Tatler (1899; rpt. edn., New York, 1970), IV, 337, 339; Apr. 9,1664, Pepys, Diary, V, 118; Mar. 19,1776, Charles Ryskamp and Frederick A. Pottle, eds., Boswell: The Ominous Years, 1774–1776 (New York, 1963), 276.
20. Edward MacCurdy, ed., The Notebooks of Leonardo Da Vinci (New York, 1938), II, 256–257.
21. Boorde, Compendyous Regyment, viii; John Dunton, Teague Land, or A Merry Ramble to the Wild Irish: Letters from Ireland, 1698, ed. Edward MacLysaght (Blackrock, Ire., 1982), 25.
22. Thomas Jubb, Nov. 17, 1740, Assi 45/22/1/102; Nov. 12, 1729, Nov 30,1726, Jan. 4, 1728, Robert Sanderson, Diary, St. John's College, Cambridge; Francis James Child, ed., The English and Scottish Popular Ballads (New York, 1965), П, 241; Robert Boyle, Works… (London, 1772), V, 341; Richard Wiseman, Eight Chirurgical Treatises… (London, 1705), 505; Lyne Walter, An Essay towards a… Cure in the Small Pox (London, 1714), 37.
23. Tobias Venner, Via Recta ad Warn Longam… (London, 1637), 272; Walter Pope, The Life of the Right Reverend Father in God Seth, Lord Bishop of Salisbury… (London, 1697), 145; Best, Books, 124; Vosgien, An Historical and Biographical Dictionary…, trans. Catharine Collignon (Cambridge, 1801), IV.
24. Jane Allison, Mar. 15, 1741, Assi 45/22/2/64B; Stephen Duck, The Thresher's Labour (Los Angeles, 1985), 16; A. R. Myers, ed., English Historical Documents, 1327–1485 (London, 1969), 1190.
25. Notes and Queries, 2nd Ser., 5, no. 115 (Mar. 13,1858), 207; Tobias Smollett, Peregrine Pickle (New York, 1967), U, 244.
26. Franklin, Writings, ed. J. A. Leo Lemay (New York, 1987), 835.
27. JRAI, II, 376; Thomas Nicholson, June 2,1727, Assi 45/18/4/39—40; Herbert's Devotions, 237; Anthony Homeck, The Happy Ascetick, or, the Best Exercise ([London], 1680), 414; Mary Atkinson, Mar. 9, 1771, Assi 45/30/1/3; Jane Rowth, Apr. 11, 1697, Assi 45/17/2/93.
28. Nicolas Rémy, Demonolatry, ed. Montague Summers and trans. E. A. Ashwin (Secaucus, N. J., 1974), 43–46; Francesco Maria Guazzo, Compendium Maleficarum, ed. Montague Summers and trans. E. A. Ashwin (Secaucus, N. J., 1974), 33–48.
29. Homeck, Happy Ascetick, 415; M. Lopes de Almeida, Diàlogos de D. Frei Amador Arrais (Porto, 1974), 19; The Whole Duty of Prayer (London, 1657), 13; Richard and John Day, A Booke of Christian Praiers… (London, 1578), 440–441; R. Sherlock, The Practical Christian: or, the Devout Penitent… (London, 1699), 322–323; Frederick James Fumivall, ed., Phillip Stubbes's Anatomy of the Abuses in England in Shakespeare's Youth, A. D. 1583 (London, 1877), 221.
30. Cowper, The Works (London, 1836), IX, 45–50; Danielle Regnier-Bohler, "Imagining the Self," in HPLII, 357; Mid-Night Thoughts.
31. Dorothy Rhodes, Mar. 18, 1650, York Depositions, 28. См. также: Geoffroy de La Tour-Landry, Book of the Knight of La Tour Landry (London, 1906), fo. 3b.; Jan. 4, 1728, Sanderson, Diary.
32. The Deceyte of Women… (n. p., 1568); Helen Simpson, ed. and trans., The Waiting City: Paris, 1782–1788. Being an Abridgement of Louis-Sébastian Mercier's "Le Tableau de Paris" (Philadelphia, 1933), 76; Aviel Orenstein, ed., Mishnah Berurah: Laws Concerning Miscellaneous Blessings, the Minchah Service, the Ma’ariv Service and Evening Conduct… (Jerusalem, 1989), 435.
33. Laurent Joubert, Popular Errors, trans. Gregory David de Rocher (Tuscaloosa, Ala., 1989), 112–113; Thomas Cogan, The Haven of Health (London, 1588), 252. См. также: Boorde, Compendyous Regyment; Orenstein, ed., Mishnah Berurah, 441.
34. Cardano, The Book of My Life (New York, 1962), 82; Thomas Jefferson, Writings, ed. Merrill D. Peterson (New York, 1984), 1417; Francis Quarles, Enchiridion… (London, 1644), ch. 54.
35. Everie Woman in Her Humor (London, 1609); Wilson, English Proverbs, 566. См. также: July 12,1702, Cowper, Diary; May 24,1595, Richard Rogers and Samuel Ward, Two Elizabethan Puritan Diaries, ed. Marshall Mason Knappen (Gloucester, Mass., 1966), 105.
36. Oliver Lawson Dick, ed., Aubrey's Brief Lives (London, 1950), 131; Crusius, Node, ch. 1.5; GM 18 (1748), 108; G and NDA, Feb. 11,1769; Rita Shenton, Christopher Pinchbeck and His Family (Ashford, Eng., 1976), 29.
37. Régnier-Bohler, "Imagining the Self," 390; Edmund Spenser, The Works…, ed. Edwin Greenlaw (Baltimore, 1947), II, 249; Richard Brome, The Northern Lasse (London, 1632); William Davenant, The Platonick Lovers (London, 1636); Cowper, Works, IX, 45.
38. Roy Harvey Pearce, ed., Nathaniel Hawthorne: Tales and Sketches… (New York, 1982), 200–201; John Wade, Redemption of Time… (London, 1692), 187. Другой моралист, обеспокоенный тем, что многие мастурбируют по ночам, предупреждал, что спящему необходимо «привыкнуть вставать сразу после первого сна» (S. A. D. Tissot, Onanism: Or a Treatise upon the Disorders Produced by Masturbation… [London, 1767], 122).
39. Mercier, The Night Cap (Philadelphia, 1788), 4.
40. Tertullian, Apologetical Works, trans. Rudolph Arbesmann et al. (New York, 1950), 288; Sidney J. H. Herrtage, ed., Early English Versions of the Gesta Romanorum (London, 1879), 207; Chaucer, Canterbury Tales, 403–404; Mar. 11,1676, Jane Lead, A Fountain of Gardens… (London, 1697), 121; Jan. 6,1677, Heywood, Diaries, 1,340; Peter Corbin and Douglas Sedge, eds., Ram Alley (Nottingham, 1981), 56.
41. Hubert, Egypts Favourite. The History of Joseph… (London, 1631). См. также, например: William Vaughan, Naturali and Artificial Directions for Health… (London, 1607), 55.
42. Looker-On, May 22,1792, 234; Geoffrey Keynes, ed., The Works of Sir Thomas Browne (London, 1931), V, 185; Nashe, Works, I, 355.
43. Thomas Tryon, A Treatise of Dreams & Visions… (London, 1689), 9; WR or UJ, Dec. 30, 1732; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 128–130.
44. Keynes, ed., Browne Works, V, 185; James K. Hosmer, ed., Winthop's Journal: "History of New England," 1630–1649 (New York, 1908), 1,121.
45. "Somnifer," PA, Oct. 24,1767, S. R. F. Price, "The Future of Dreams: From Freud to Artemidorous," PP 113 (1986), 31–32; Thomas Hill, The Most Pleasaunt Arte of the Interpretation ofDremes… (London, [1571]); Nocturnal Revels: or, a General History of Dreams…, 2 vols. (1706–1707).
46. Thomas Johnson, trans., The Werkes ofthat Famous Chirurgion Ambrose Parey (London, 1649), 27; Ripa, Nocturno Tempore, ch. 9.27; Levinus Lemnius, The Touchstone of Complexions…, trans. T. Newton (London, 1576), 113–114.
47. Feltham, Resolves (London, 1628), 18,163; Thomas Tryon, Wisdom's Dictates: or, Aphorisms & Rules… (London, 1691), 68.
48. Sept. 12,1644, Josselin, Diary, 20; Mar. 8, 1626, The Works of the Most Reverend Father in God, William Laud… (Oxford, 1853), III, 201; July 31,1675, Sewall, Diary, 1,12.
49. Lemnius, Touchstone, trans. Newton, 114; Phillipe Martin, "Corps en Repos ou Corps en Danger? Le Sommeil dans les Livres de Piété (Seconde Moitié du XVIIIe Siècle)," Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 80 (2000), 255; Aug. 15,1665, Feb. 7,1669, Pepys, Diary, VI, 191, IX, 439; Cannon, Diary, 344. Пенис обычно поднимается во время сновидения независимо от содержания сна; в действительности мужчины имеют в среднем «четыре-пять эрекций за ночь (когда они спят), каждая из которых продолжается от пяти до десяти минут» (Kenneth Jon Rose, The Body in Time [New York, 1989], 54,95).
50. Charles Carlton, "The Dream Life of Archbishop Laud," History Today 36 (1986), 9—14; Alan Macfarlane, The Family Life of Ralph Josselin, a Seventeenth-Century Clergyman (Cambridge, 1970), 183–187.
51. Cardano, Book of My Life, 156, 161; July 24, 1751, James MacSparran, A Letter Book and Abstract of Out Services, Written during the Years 1743–1751, ed. Daniel Goodwin (Boston, 1899), 45; James Strachey, ed., The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (London, 1975), XXI, 203.
52. Torrington, Diaries, 1,165; Aug. 2,1589, Aug. 6,1597, J. O. Halliwell, ed., The Private Diary of Dr. John Dee (London, 1842), 31,59.
53. Jan. 2,1686, Sewall, Diary, 1,91; Henry Fishwick, ed., The Note Book of the Rev. Thomas Jolly, A.D. 1671–1693 (Manchester, 1894), 100; Jean Bousquet, Les Thèmes du Rêve dans la Littérature Romantique (Paris, 1964).
54. Lady Marchioness of Newcasde, Orations of Divers Sorts… (London, 1662), 300.
55. Apr. 4,1706, Aug. 22,1716, Sewall, Diary, 1,544, II, 829.
56. Sept. 4,1625, Laud Works, III, 173; Oct. 17,1588, Halliwell, ed., Dee Diary, 29; Mar. 20, 1701, Robert Wodrow, Analecta; or, Materials for a History of Remarkable Providences…, ed. Matthew Leishman (Edinburgh, 1842), I, 6; Feb. 17, 1802, Woodforde, Diary, V, 369.
57. Nov. 20, 1798, Drinker, Diary, II, 112. См., например: Cardano, Book of My Life, 89; Wodrow, Analecta, II, 315, III, 339; July 15, 1738, Benjamin Hanbury, An Enlarged Series of Extracts from the Diary, Meditations and Letters of Mr. Joseph Williams (London, 1815), 131.
58. Jan. 7,1648, C.H. Josten, ed., Elias Ashmole (1617–1692)… (Oxford, 1967), II, 467, Jan. 6,1784, Irma Lustig and Frederick Albert Pottle, eds., Boswell, The Applause of the Jury, 1782–1785 (New York, 1981), 175.
59. Feb. 10,1799, William Warren Sweet, Religion on the American Frontier, 1782–1840: The Methodists… (Chicago, 1946), IV, 217–218.
60. June 30, 1654, Feb. 15, 1658, Josselin, Diary, 325, 419; June 16, 1689, Mar. 18, 1694, Feb. 13,1705, Sewall, Diary, 1,219,328,518; May 28,1789, Woodforde, Diary, III, 108; Dec. 2, 1720, William Byrd, The London Diary (1717–1721) and Other Writings, ed. Louis B. Wright and Marion Tinling (Oxford, 1958), 481; Oct. 12,1582, Halliwell, ed., Dee Diary, 17; Jan. 29,1708, J. E. Foster, ed., The Diary of Samuel Newton (Cambridge, 1890), 118; Aug. 27, Oct. 14,1773, Frederick A. Pottle and Charles H. Bennett, eds., Boswell's Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson, LLD, 1773 (New York, 1961), 87–88, 303–304; Feb. 3, 15, 1776, Ryskamp and Pottle, eds., Ominous Years, 230,235.
61. May 30,1695, Foster, ed., Newton Diary, 109; Dec. 21,1626, Laud Works, III, 197; Carlton, "Dream Life of Laud," 13.
62. Mid-Night Thoughts, 34; Mark R. Cohen, ed. and trans., The Autobiography of a Seventeenth-Century Venetian Rabbi: Leon Modena's Life of Judah (Princeton, N. J., 1988), 94, 99; James J. Cartwright, The Wentworth Papers, 1705–1739 (London, 1883), 148; Wolfgang Behringer, Shaman of Oberstorf: Chonrad Stoeckhlin and the Phantoms of the Night, trans. H. C. Erik Midelfort (Charlottesville, Va., 1998); Boyereau Brinch, The Blind African Slave… (St. Albans, Vt., 1810), 149–150; Michael Craton, Testing the Chains: Resistance to Slavery in the British West Indies (Ithaca, N. Y, 1982), 250.
63. Another Collection of Philosophical Conferences of the French Virtuosi…, trans. G. Havers and J. Davies (London, 1665), 3; Jean de La Fontaine, Selected Fables, ed. Maya Slater and trans. Christopher Wood (Oxford, 1995), 283; Jacques Le Goff, The Medieval Imagination, trans. Arthur Goldhammer (Chicago, 1988), 234. См. также: Tornano, Proverbi, 261.
64. David P. French, comp., Minor English Poets, 1660–1780; A Selection from Alexander Chalmers' The English Poets (New York, 1967), II, 259; "Meditations on a Bed," US and WJ, Feb. 5,1737; Enid Porter, The Folklore of East Anglia (Totowa, N. J., 1974), 126–127; David Simpson, A Discourse on Dreams and Night Visions; with Numerous Examples Ancient and Modern (Macclesfield, Eng., 1791), 61.
65. Отсюда пустые угрозы нациста Роберта Лея: «Единственный человек в Германии, по-прежнему живущий личной жизнью, — это человек, который спит» (George Steiner, No Passion Spent: Essays 1978–1996 [London, 1996], 211); Augustine FitzGerald, ed., The Essays and Hymns of Synesius of Cyrene… (London, 1930), 345; Carlo Ginzburg, The Night Battles: Witchcraft & Agrarian Cults in the Sixteenth & Seventeenth Centuries, trans. John and Anne Tedeschi (London, 1983).
66. RB, VII, 11–12; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 148; Mercier, Night Cap, I, 4; Robert L. Van De Castle, Our Dreaming Mind (New York, 1994), 333–334.
67. О «беспорядке в режиме сна» см. сообщение Джонатана Вулфсона от 30 октября 1997 года: Н-Albion; D. М. Moir, ed., The Life of Mansie Wauch: Tailor in Dalkeith (Edinburgh, 1828), 273–274; Dement, Promise of Sleep, 208–211.
68. Erika Bourguignon, "Dreams and Altered States of Consciousness in Anthropological Research," in Francis L. K. Hsu, ed., Psychological Anthropology (Cambridge, Mass., 1972), 403–434; Vilhelm Aubert and Harrison White, "Sleep: A Sociological Interpretation. I," Acta Sociologica 4 (1959), 48–49; Beryl Larry Bellman, Village of Curers and Assassins: On the Production of Fala Kpelle Cosmological Categories (The Hague, 1975), 165–178; Cora Du Bois, The People ofAlor: A Social-Psychological Study of an East Indian Island (New York, 1961), 1,45–46.
69. John Ashton, ed., Chap-Books of the Eighteenth Century (New York, 1966), 85; Franklin, Writings, ed. Lemay, 118–122. См. также: Jan. 5,1679, Josselin, Diary, 617.
70. Sept. 16, 1745, Parkman, Diary, 124; "On Dreams," Pennsylvania Magazine, or American Monthly Museum, 1776,119–122; July 2,1804, Drinker, Diary, III, 1753. Cm. также: Simpson, Discourse on Dreams, 59; John Robert Shaw, An Autobiography of Thirty Years, 1777–1807, ed. Oressa M. Teagarden and Jeanne L. Crabtree (Columbus, Ohio, 1992), 131.
71. Patricia Crawford, "Women's Dreams in Early Modern England," History Workshop Journal 49 (2000), 140; "Titus Trophonius," Oct. 4, 1712, Donald F. Bond, ed., The Spectator (Oxford, 1965), V, 293–294; Karen Ordahl Kupperman, Indians and English: Facing Off in Early America (Ithaca, N.Y., 2000), 128–129; Cartwright, ed., Wentworth Papers, 538; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 130.
72. Lacey, "Hannah Heaton," 286; Aug. 20,1737, Kay, Diary, 12,39; Mechal Sobel, "The Revolution in Selves: Black and White Inner Aliens," in Ronald Hoffman et al., eds., Through a Glass Darkly: Reflections on Personal Identity in Early America (Chapel Hill, N. C, 1997), 180–200; David Hackett Fischer, Albion's Seed: Four British Folkways in America (New York, 1989), 519.
73. William Philips, The Revengeful Queen (London, 1698), 39; Jan. 1723, Wodrow, Analecta, ed. Leishman, III, 374; SWA or LJ, Sept. 3,1770; OBP, June 4,1783,590.
74. John Whaley, A Collection of Original Poems and Translations (London, 1745), 257; John Dryden and Nathaniel Lee, Oedipus (London, 1679), 14.
75. Marcel Foucault, Le Rêve: Études et Observations (Paris, 1906), 169–170; Jan. 16,1780, Joseph W. Reed and Frederick A. Pottle, eds., Boswell: Laird of Auchinleck, 1778–1782 (New York, 1977), 169; The New Art of Thriving or, the Way to Get and Keep Money… (Edinburgh, 1706); Van De Castle, Dreaming Mind, 466.
76. Jean Anthelme Brillat-Savarin, The Physiology of Taste, or, Meditations on Transcendental Gastronomy, trans. M. F. K. Fisher (New York, 1949), 222; Wehr, "Clock for All Seasons," 338; Wehr, "Changes in Nightlength," 269–273; личные сообщения Вера от 23 и 31 декабря 1996 года.
77. Carter A. Daniel, ed., The Plays of John Lyly (Lewisburg, Pa., 1988), 123; Breton, Works, II, 12; Barbara E. Lacey, ed., The World of Hannah Heaton: The Diary of an Eighteenth-Century New England Farm Woman (DeKalb, II1,2003), 83; Aug. 20,1737, Kay, Diary, 12, 39. Несмотря на меньшую вероятность того, что сновидения можно вспомнить и усвоить, они, конечно, тоже приходят во время «утреннего», или «второго», сна (Ekirch, «Sleep We Have Lost,» 382).
Рассвет
1. GM 25 (1755), 57.
2. M. De Valois d'Orville, Les Nouvelles Lanternes (Paris, 1746), 4; May 10,1797, Drinker, Diary, II, 916; R. L. W., Journal of a Tour from London to Elgin Made About 1790… (Edinburgh, 1897), 74; Hans-Joachim Voth, Time and Work in England, 1750–1830 (Oxford, 2000), 67–69.
3. Elkan Nathan Adler, ed., Jewish Travellers: A Treasury of Travelogues from 9 Centuries (New York, 1966), 350; Robert Semple, Observations on a Journey through Spain and Italy to Naples… (London, 1808), II, 83; Humphrey Jennings, Pandaemonium, 1660–1886: The Coming of the Machine as Seen by Contemporary Observers (New York, 1985), 115; Boston Newsletter, Feb. 27, 1772; Duke de la Rochefoucault Liancourt, Travels through the United States of North America… (London, 1799), II, 380.
4. PA, July 15, 1762; Thomas, Religion and the Decline of Magic, 650–655; James Sharpe, Instruments of Darkness: Witchcraft in England, 1550–1750 (New York, 1996), 229–230, 257–275,290—293; Alan Macfarlane, The Culture of Capitalism (Oxford, 1987), 79–82, 100–101.
5 DUR, Sept. 4,1788; SAS, XII, 244; "Your Constant Reader," and "A Bristol Conjuror," BC, Feb. 17,1762; "Crito," LEP, Mar. 15,1762; Jonathan Barry, "Piety and the Patient: Medicine and Religion in Eighteenth Century Bristol," in Roy Porter, ed., Patients and Practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-Industrial Society (Cambridge, 1985), 160–161.
6. Diary of James Robson, 1787, Add. Mss. 38837, fo. 9, BL; Winslow C. Watson, ed., Men and Times of the Revolution; or, Memoirs of Elkanah Watson, Including Journals of Travels (New York, 1856), 96; Bryan Edwards, "Description of a Nocturnal Sky, as Surveyed Nearly Beneath the Line," Massachusetts Magazine 7 (1795), 370; "Vaiverdi," Literary Magazine 7 (1807), 449; Macfarlane, Culture of Capitalism, 80–81,102–103. О широком распространении телескопов см., например: Nov. 12, 1720, The Family Memoirs of the Rev. William Stukeley, M. D…. (London, 1882), I, 75; Sept. 30,1756, J. B. Paul, ed., Diary of George Ridpath (Edinburgh, 1910), 92; June 22,1806, Drinker, Diary, III, 1940.
7. M. D'Archenholz, A Picture of England… (London, 1789), 1,136; Nikolai Mikhailovich Karamzin, Letters of a Russian Traveler, 1789–1790… (New York, 1957), 181, 268; Mr. Pratt, Gleanings through Wales, Holland, and Westphalia (London, 1798), 167; Peter Borsay, The English Urban Renaissance: Culture and Society in the Provincial Town, 1660–1770 (Oxford, 1989), 22,34.
8. Torrington, Diaries, II, 195,196,1, 20; John Henry Manners, Journal of a Tour through North and South Wales (London, 1805), 64; Gary Cross, A Social History of Leisure since 1600 (State College, Pa., 1990), 59.
9. James Essex, Journal of a Tour through Part of Flanders and France in August 1773, ed. W. M. Fawcett (Cambridge, 1888), 2.
10. Pierre Goubert, The Ancien Régime: French Society, 1600–1750, trans. Steve Cox (London, 1973), 223; William Edward Mead, The Grand Tour in the Eighteenth Century (New York, 1972), 222,359; Christopher Friedrichs, The Early Modern City, 1450–1750 (London, 1995), 25.
11. Midnight the Signal: In Sixteen Letters to a Lady of Quality (London, 1779), 1,147, passim; Koslofsky, "Court Culture," 744; Barbara DeWolfe Howe, Discoveries of America: Personal Accounts of British Emigrants to North America during the Revolutionary Era (Cambridge, 1997), 217; Pinkerton, Travels, II, 790.
12. US and WJ, Oct. 13,1733; A Humorous Description of the Manners and Fashions of Dublin (Dublin, 1734), 5; The Memoirs of Charles-Lewis, Baron de Pollnitz… (London, 1739), I, 411; Robert Anderson, The Works of John Moore, M. D…. (Edinburgh, 1820), 171; Roy Porter, The Creation of the Modem World: The Untold Story of the British Enlightenment (New York, 2000), 435–436; Peter Clark, British Clubs and Societies, 1580–1800: The Origins of an Associational World (Oxford, 2000).
13. British Journal, Sept. 12,1730.
14. Henry Fielding, An Enquiry into the Causes of the Late Increase of Robbers and Related Writings, ed. Malvin R. Zirker (Middletown, Ct, 1988), 231; LC, Sept. 9,1758, Mar. 19, 1785; J. Hanway, Letter to Mr. John Spranger… (London, 1754), 34; Frédérique Pitou, "Jeunesse et Désordre Social: Les 'Coureurs de Nuit' à Laval au XVIIIe Siècle," Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 47 (2000), 70; G & NDA, Nov. 27, 1767; Horace Walpole, Correspondence with Sir Horace Mann, ed. W. S. Lewis et al. (New Haven, 1967), VIII, 47; Bruce Lenman and Geoffrey Parker, "The State, the Community and the Criminal Law in Early Modem Europe," in V. A. C. Gatrell et al., eds., Crime and the Law: The Social History of Crime in Western Europe since 1500 (London, 1980), 38; J. Paul De Castro, The Gordon Riots (London, 1926); Carl Bridenbaugh, Cities in Revolt: Urban Life in America, 1743–1776 (Oxford, 1971), 300–303.
15. DUR, Nov. 30, 1785; Borsay, Urban Renaissance, passim; Peter Clark, The English Alehouse: A Social History (London, 1983), 256–259.
16. 9 George II. c. 20; "Mémoire sur Nécessité d'Éclairer la Ville, Présenté par Quelques Citoyens au Conseil," Jan. 26, 1775, Archives Genève, Geneva; J. M. Beattie, Policing and Punishment in London, 1660–1750: Urban Crime and the Limits of Terror (Oxford, 2001), 221–223; Wolfgang Schivelbusch, Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth Century, trans. Angela Davies (Berkeley, Calif., 1988), 9—14.
17. Times, May 14,1807; "F. W," LM, Jan. 6,1815; Jane Austen, Sanditon (Boston, 1975), 221; O'Dea, Lighting, 98; Pounds, Home, 388; Brian T. Robson, Urban Growth An Approach (London, 1973), 178–183; John A. Jakle, City Lights: Illuminating the American Night (Baltimore, 2001), 26–37.
18. LC, Jan. 17,1758; "Case of the Petitioners against the Bill, for Establishing a Nightly-Watch within the City of Bristol," 1755, BL; PA, July 15, 1785; Alan Williams, The Police of Paris, 1718–1789 (Baton Rouge, 1979), 71; Ruff, Violence, 88–91.
19. BC, Aug. 11, 1762; David Philips and Robert D. Storch, Policing Provincial England, 1829–1856: The Politics of Reform (London, 1999), 63; Beattie, Crime, 67–72; Elaine A. Reynolds, Before the Bobbies: The Night Watch and Police Reform in Metropolitan London, 1720–1830 (Stanford, Calif., 1998); Stanley H. Palmer, Police and Protest in England and Ireland, 1780–1850 (Cambridge, 1988), passim; David Philips, "'A New Engine of Power and Authority': The Institutionalization of Law-Enforcement in England 1780–1830," in Gatrell et al., eds., Crime and the Law, 155–189; James F. Richardson, Urban Police in the United States (Port Washington, N. Y, 1974), 19–28.
20. "Night Hawk," Mechanics Free Press (Philadelphia), Nov. 7, 1829; Louis Bader, "Gas Illumination in New York City, 1823–1863" (Ph. D. diss., New York Univ., 1970), 334; Mary Lee Mann, ed., A Yankee Jeffersonian: Selections from the Diary and Letters of William Lee of Massachusetts (Cambridge, Mass., 1958), 37; Pounds, Home, 388; Johan Goudsblom, Fire and Civilization (London, 1992), 150, 176–178. О благотворном воздействии уличного освещения и снижении уровня преступности см.: Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York, 1961), 41–42; Kate Painter, "Designing Out Crime — Lighting, Safety and the Urban Realm," in Andrew Lovatt et al., eds., The 24—Hour City… (Manchester, 1994), 133–138.
21. Maurice Rollinat, Oeuvres (Paris, 1972), II, 282. Allan Silver, "The Demand for Order in Civil Society; A Review of Some Themes in the History of Urban Crime, Police and Riot," in D. Bordua, ed., The Police: Six Sociological Essays (New York, 1967), 1—24; Anna Clark, Women's Silence, Men's Violence: Sexual Assault in England, 1770–1845 (New York, 1987), 118.
22. Ralph Waldo Emerson, Essays & Lectures, ed. Joel Porte (New York, 1983), 1067; Joachim Schlör, Nights in the Big City: Paris, Berlin, London 1840–1930, trans. Pierre Gottfried Imhof and Dafydd Rees Roberts (London, 1998), 287; Mark J. Bouman, "The 'Good Lamp Is the Best Police' Metaphor and Ideologies of the Nineteenth-Century Urban Landscape," American Studies 32 (1991), 66.
23. The Journeyman Engineer, The Great Unwashed (London, 1869), 199; A. H. Bullen, ed., The Works of Thomas Middleton (1885; rpt. edn., New York, 1964), VIII, 14; A. Roger Ekirch, "Sleep We Have Lost: Pre-industrial Slumber in the British Isles," AHR 106 (2001), 383–385; Thomas A. Wehr, "A 'Clock for All Seasons' in the Human Brain," in R. M. Buijs et al., eds., Hypothalamic Integration of Circadian Rhythms (Amsterdam, 1996), 319–340; Thomas A. Wehr, "The Impact of Changes in Nightlength (Scotoperiod) on Human Sleep," in F. W Turek and P. C. Zee, eds., Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms (New York, 1999), 263–285; P. Lippmann, "Dreams and Psychoanalysis: A Love-Hate Story," Psychoanlytic Psychology 17 (2000), 627–650. Роджер Бэстайд писал о сновидениях: «В нашей западной цивилизации… связи между дневной и ночной половинами жизни человека были обрезаны. Конечно, всегда можно найти людей — и не только среди низших слоев общества, — которые обращаются к сонникам или, по крайней мере, анализируют свои сны и определяют их роль в своей жизни. Но эти жизненные функции сна остаются личными и никогда не смогут быть применены к общественности. Напротив, считается, что, будучи далекими от действующих упорядоченных норм поведения, они являются отклонением от нормы; они отнесены к «суевериям»; иногда даже полагают, что люди, которые ищут в сновидениях смысл или руководство к действию, не совсем в своем уме» («The Sociology of the Dream,» in Gustave Von Grunebaum, The Dream and Human Societies [Berkeley, Calif., 1966], 200–201).
24. R. W. Flint, ed., Marinetti: Selected Writings, trans. R. W. Flint and Arthur A. Coppotelli (New York, 1979), 56.
25 Frederic J. Baumgartner, A History of Papal Elections (New York, 2003), 191; Rev. Dr. Render, A Tour through Germany… (London, 1801), II, 37. Хотя 1916 год указан неверно, перевод статьи «Arguments against Light» из Zeitung приводится в кн.: "Arguments against Light," trans. M. Luckiesh, Artificial Light: Its Influence upon Civilization (New York, 1920), 157–158.
26. Schlör, Nights in the Big City, trans. Imhof and Roberts, 66; Christian Augustus Gotriief Goede, A Foreigner's Opinion of England…, trans. Thomas Home (Boston, 1822), 47; Richard L. Bushman, The Refinement of America: Persons, Houses, Cities (New York, 1992), 365; Gamert, Lampan, 126; Schindler, Rebellion, 221; Eugen Weber, France Fin de Siècle (Cambridge, Mass., 1986), 54.
27. Victor Hugo, Les Misérables, trans. Isabel F. Hapgood (New York, 1887), II, Pt. 1,313–316; Schivelbusch, Disenchanted Night, 105,97—114, passim; Wolfgang Schivelbusch, "The Policing of Street Lighting," Yale French Studies 73 (1987), 73, 61–74, passim; Eugène Defrance, Histoire de l'Éclairage des Rues de Paris (Paris, 1904), 104–106; Gamert, Lampan, 123–129.
28. Joseph Lawson, Letters to the Young on Progress in Pudsey during the Last Sixty Years (Stanningley, Eng., 1887), 33; [Charles Shaw], When I Was a Child (1903; rpt. edn., Firle, Eng., 1977), 37; Silvia Mantini, "Notte in Città, Notte in Campagna tra Medioevo ed Età Moderna," in Mario Sbriccoli, ed., La Notte: Ordine, Sicurezza e Disciplinamento in Età Moderna (Florence, 1991), 42; Pounds, Culture, 420–423; James Obelkevich, Religion and Rural Society: South Lindsey, 1825–1875 (Oxford, 1976), passim; Judith Develin, The Superstitious Mini French Peasants and the Supernatural in the Nineteenth Century (New Haven, 1987).
29. George Sturt, Change in the Village (1912; rpt. edn., Harmondsworth, Eng., 1984), 121,8.
30. Dagobert D. Runes, The Diary and Sundry Observations of Thomas Aha Edison (New York, 1948), 232; Ekirch, "Sleep We have Lost," 383–385; Patricia Edmonds, "In Jampacked Days, Sleep Time is the First to Go," USA Today, April 10,1995; Andree Brooks, "For Teen-Agers, Too Much to Do, Too Little Time for Sleep," New York Times, Oct. 31, 1996; Amanda Onion, "The No-Doze Soldier: Military Seeking Radical Ways of Stumping Need for Sleep," Dec. 18, 2002, Web: www.abcNEWS. com. Об исследованиях ночи в современной жизни см.: Murray Melbin, Night as Frontier: Colonizing the World after Dark (New York, 1987); Kevin Coyne, A Day in the Night of America (New York, 1992); A. Alvarez, Night: Night Life, Night Language, Sleep, and Dreams (New York, 1995); Christopher Dewdney, Acquainted with the Night: Excursions through the World after Dark (New York, 2004).
31. Montague Summers, ed., Dryden: The Dramatic Works (1932; rpt. edn., New York, 1968), VI, 159; Arthur R. Upgren, "Night Blindness," Amicus Journal 17 (1996), 22–25; David L. Crawford, "Light Pollution — Theft of the Night," in Derek McNally, ed., The Vanishing Universe: Adverse Environmental Impacts on Astronomy (Cambridge, 1994), 27–33.
32. Warren E. Leary, "Russia's Space Mirror Bends Light of Sun into the Dark," NYT, Times, Feb. 5, 1993; "Russian Space Mirror Reflector Prototype Fails," Boston Globe, Feb. 5,1999.
Научно-популярное издание
Ответственный редактор Наталья Суслова Редактор Мария Буланакова Художественный редактор Вадим Пожидаев Технический редактор Мария Антипова Корректоры Ирина Киселева, Светлана Федорова Макет и верстка Александры Калмыковой
Руководитель проекта Максим Крютченко
Подписано в печать 21.06.2010. Формат издания 60 x 90 Vi6. Печать офсетная. Гарнитура Palatino. Тираж 5000 экз.
Усл. печ. л. 32. Заказ № 2043.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"» — обладатель товарного знака АЗБУКА®
105094, г. Москва, у л. Золотая, д. 11, стр. 1 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 11 04073, г. Киев, Московский пр., д. 6
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ЗАО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь www.pareto-print.ru
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Издательская Группа «Азбука-Аттикус»
Москва:
119991, 5-й Донской проезд, дом 15, стр. 4, тел./факс: (495) 933-76-00, (495) 933-76-01 E-mail: [email protected]
Санкт-Петербург:
Тел.: (812) 324-61-49, 388-94-38, 327-04-56, 321-66-58 факс: (812) 321-66-60 E-mail: [email protected]
Информация о новинках и планах, а также условия сотрудничества на сайте www.azbooka.ru
Ночь — самое таинственное время суток, всегда привлекавшее внимание поэтов, музыкантов, художников. Они запечатлели в своих произведениях манящую прелесть ночной поры, ее загадочную и величественную красоту… Однако ночь, как наименее изученная часть человеческой жизни во всех ее увлекательных и неприглядных подробностях, впервые была представлена в работе американского автора А. Роджера Экерча «На исходе дня: История ночи». Книга, неоднократно изданная в Великобритании, США, Германии и Франции, имела оглушительный успех. Она получила единодушную восторженную оценку прессы, несколько наград и была признана одним из наиболее удачных исторических проектов последнего десятилетия.
Читателя удивляют почти на каждой странице… Наибольшая ценность книги состоит в глубоком вторжении в область интимного: мы имеем возможность увидеть то, что скрывали наши предки за ширмами и тяжелыми занавесками, прикоснуться к самым закрытым сторонам человеческой жизни.
Mail on Sunday
Своей книгой А. Роджер Экерч спасает нас от вопиющего невежества. Превосходно написанный текст, глубокое исследование.
Technology and Culture
Это обстоятельный и увлекательный отчет о ночной жизни в Великобритании, Европе и Америке в период до изобретения искусственного освещения. Выхватывается из мрака буквально все, начиная с зажженных свечей и описания комендантского часа и завершая вечерним звоном колоколов, а также ночными горшками.
Evening Standard
1
Перев. А. Сагаловой.
2
Перев. Т. Щепкиной-Куперник.
3
Cock-shut (cock — петух, shut — прекращать работу) — здесь: время, когда петухи молчат. Grosping — когда ищут вслепую (на ощупь). Crowtime — время ворон. Daylight's gate — врата дневного света. Owl-leet — совиный двор (англ.).
4
Евангелие от Иоанна, 1:5.
5
Дагомея — до 1975 года название государства Бенин.
6
Перев. Е. Бируковой.
7
Перев. Б. Томашевского.
8
Перев. М. Кузмина.
9
Брауни (brownies) — один из типов фей, в существование которых верили в Шотландии и в Северной и Восточной Англии; считалось, что они заботятся о домашнем хозяйстве.
10
Пикси (pixies) — один из типов фей, по поверьям обитающих в Северной Англии; считалось, что они сбивали прохожих с пути.
11
Добби (dobbies) — ласковое прозвище хобгоблинов в Йоркшире и Ланкашире. Похожи на брауни, но еще большие проказники.
12
Фолиоты (foliots) — в итальянской мифологии: духи, которые могут обращаться воронами, зайцами и черными псами. Подобны полтергейстам.
13
Kopoнер — должностное лицо, расследующее случаи насильственной или внезапной смерти.
14
Человек человеку черт (лат.).
15
Перев. А. Сагаловой.
16
Подлые отребья (букв., англ.).
17
Йомен — свободный и владеющий земельной собственностью крестьянин, приближающийся по своему положению к низшему дворянству.
18
Невменяемый (лат.).
19
Перев. М. Буланаковой.
20
Перев. Б. Пастернака.
21
Перев. М. Буланаковой.
22
Олдермен — выборный член городского Совета.
23
Ворота с калиткой (нем.).
24
Здесь и далее стихотворные переводы, если это не указано особо, выполнены переводчиками той или иной части основного текста.
25
Перев. М. Кузмина.
26
Перев. Ю. Корнеева.
27
Хозяин воров (букв., англ.).
28
Перев. П. Мелковой.
29
«Дайте утро» (искаж. фр.).
30
Поссет — горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоженный вином.
31
Перев. Б. Томашевского.
32
Перев. Т. Щепкиной-Куперник.
33
Перев. М. Лозинского.
34
Перев. Б. Томашевского.
35
Перев. М. Лозинского.
36
Бушель — мера объема сыпучих тел в Великобритании. Равен 28,6 кг пшеницы.
37
Перев. А. Сагаловой.
38
Георгики / Перев. С. Ошерова, С. Шервинского.
39
Фригольдер — свободный держатель земли, обладающий правом распоряжения землей и выплачивающий своему лорду фиксированную ренту.
40
Перев. М. Буланаковой.
41
Кларет — название, данное англичанами импортируемому из Бордо красному вину.
42
Ботарга — деликатес, прессованная сушеная икра кефали (реже — тунца).
43
Перев. М. Буланаковой.
44
Перев. М. Буланаковой.
45
Перев. М. Буланаковой.
46
Перев. Т. Щепкиной-Куперник.
47
Сравни: «И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: „ничей глаз не увидит меня"…» (Иов, 24:15).
48
Перев. А. Сагаловой.
49
Перев. А. Сагаловой.
50
Перев. А. Сагаловой.
51
Перев. А. Сагаловой.
52
Перев. М. Буланаковой.
53
Перев. А. Сагаловой.
54
Перев. М. Донского.
55
Перев. А. Кривцовой.
56
Перев. М. Буланаковой.
57
Перев. М. Буланаковой.
58
Перев. А. Сагаловой.
59
Перев. А. Сагаловой.
60
Высший круг (фр.).
61
Перев. А. Сагаловой.
62
Перев. А. Сагаловой.
63
Искаж. от Mohawk — могавки, название племени североамериканских индейцев, входивших в союз ирокезских племен.
64
Перев. Б. Пастернака.
65
Перев. Н. Рыковой.
66
Диссентеры — представители религиозных сект и направлений, отступающих от догматов официальной Англиканской церкви.
67
Диссидент — католик, отказывающийся присутствовать на англиканском богослужении.
68
Перев. Л. Агамирзян.
69
Ночевка вне дома (англ.).
70
Перев. А. Сагаловой.
71
Сервитут — здесь: установленное договором право сервента (законтрактованного поселенца) на пользование чужим имуществом (едой, одеждой и пр.) в обмен на выполнение любой порученной ему работы. Сервент также должен отработать затраты на дорогу из метрополии в колонию.
72
Перев. М. Богословской, Н. Высоцкой.
73
Скваттеры — земледельцы, самовольно занимавшие пустующие, как правило общинные, земли. Пополнялись из рядов поденных рабочих и выходцев из городских низов.
74
Перев. А. Сагаловой.
75
Перев. М. Буланаковой.
76
Ремонстрация — заявление, содержащее решительный протест.
77
Кошачий концерт (фр., букв.).
78
Представление (ит., букв.).
79
Перев. А. Сагаловой.
80
Перев. А. Сагаловой.
81
Перев. А. Сагаловой.
82
Цитата из пьесы Джона Мильтона «Комус».
83
Атторней — поверенный по делам при судах общего права в Англии. В период раннего Нового времени — клерк или юрисконсульт, нередко выступавший в роли адвоката в суде.
84
Перев. А. Сагаловой.
85
Ярмарка под одеялом (букв., англ.).
86
Перев. И. Кашкина.
87
Маленькая смерть (фр.).
88
Перев. Н. Любимова.
89
Перев. Е. Бируковой.
90
Скверное время года (фр.).
91
Около 21, 29 и 25 градусов Цельсия соответственно.
92
Перев. А. Сагаловой.
93
Перев. И. Кашкина.
94
Перев. М. Буланаковой.
95
Праздношатающиеся ночные гуляки (фр.).
96
Фонари (фр.).