Книга: Элизабет Финч

Элизабет Финч
© Е. С. Петрова, перевод, примечания, 2022
© З. А. Смоленская, примечания, 2022
© А. Б. Гузман, примечания, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®
Обожаю Стивена Кинга. Он пугает меня до усрачки. А еще я очень люблю Джулиана Барнса – и это совсем, совсем другое дело.
Дэвид Боуи
Барнс всегда умен, часто оригинален и неповторимо ироничен. «Элизабет Финч» даст читателю немало пищи для размышлений – практически каждой своей фразой.
Уилл Селф (The Times)
Уникальная история одержимости загадочной преподавательницей – и фигурой Юлиана Отступника.
Daily Mail (Books to Look Out For 2022)
Джулиан Барнс всегда больше напоминал французского философа, чем британского писателя. И его новый роман «Элизабет Финч» – куда больше, чем просто роман: это еще и философский трактат обо всем на свете – монотеизме и язычестве, жизни после смерти, цензуре и моногамии, романтизме и стоицизме.
Catholic Herald
«Жалость к собственной персоне была чужда ей, как никому. Она понимала, что мир несправедлив, и считала наивным любого, кто этого не видит. Отсутствие жалости к себе было частью ее стоического отношения к жизни». Думаете, так Барнс про Элизабет Финч говорит? А вот и нет: это из некролога, написанного им в 2016 году Аните Брукнер – писательнице, историку искусства, его старому другу. Но это и абсолютно точное описание героини его нового романа.
Элизабет Финч ведет курс под названием «Культура и цивилизация» на вечернем отделении одного из лондонских университетов. Она не собирается пичкать своих студентов фактами: «Лучшая форма обучения, – утверждает она, ссылаясь на древних греков, – это сотрудничество». Также она цитирует Тургенева: «Будьте приблизительно довольны приблизительным счастьем. Несомненно и ясно на земле только несчастье».
«Ясность видения, ирония, острый ум, понимание человеческой природы» – таковы сильные стороны Элизабет Финч. А также самого Барнса. И может быть, Юлиана Отступника? Уж точно – Аниты Брукнер, получившей Букеровскую премию за роман «Отель „У озера“», в котором перечисленных достоинств – с избытком.
Новый роман Барнса – дань памяти его старому другу, но вдобавок это роман-загадка: интеллектуальный, философский детектив. А еще – вернее, в первую очередь – это исследование любви во всех ее формах, не только романтической.
The Sydney Morning Herald
Как это часто происходит с изящной (во всех смыслах) прозой Барнса, читатель постепенно вынужден усомниться в своих первых впечатлениях, в очевидных выводах, да и в самих событиях, как будто составляющих базовую сюжетную канву. Исследуя поворотную точку всей человеческой истории и культуры, Барнс мастерски препарирует мучительные потоки праведного негодования, что захлестывают нас со всех сторон.
Financial Times
Актер-неудачник и бывший официант, претендующий на нечто большее в интеллектуальном плане, – Нил пополнил собой галерею типичных барнсовских рассказчиков: как правило, они достаточно умны, чтобы осознавать, как мало понимают других людей, но никогда не умны настолько, чтобы осознать, как мало понимают сами себя.
Literary Review
Своего рода смесь художественной прозы и эссеистики, а именно такого рода гибриды удаются Барнсу лучше всего. Как обычно у Барнса, это роман идей, предъявляющий к читателю довольно высокие требования. Героиня, Элизабет Финч, ведет в лондонском университете вечерний курс «Культура и цивилизация». Она не пичкает своих студентов фактами и датами, а пытается приучить их (и читателя) думать – об искусстве, роли случайности в истории, личной ответственности, рабстве, счастье, любви. Например: должно ли искусство подражать реальности? Копировать реальность? Служить высшей заменой реальности?
Radio New Zealand
Каждой своей новой книгой Барнс будто меняет правила игры. Чтобы толком понять «Элизабет Финч», ее необходимо прочесть как минимум дважды. Это роман-кроссворд, – вероятно, даже позаковыристей, чем «Попугай Флобера».
Oldie
Бескомпромиссный роман, искренне прочувствованный гимн жизни ума – ну и плюс фирменная барнсовская ирония. К сюжетным хитросплетениям и психологической глубине здесь добавляются неоднозначность самих идей, анализ силы исторического заблуждения.
Times Literary Supplement
Сердцем романов Барнса часто служат воспоминания о прошедших событиях, о давних отношениях – и никто другой не умеет так тонко передать всю хрупкость нашей памяти, даже когда речь идет о самых важных событиях нашей жизни и самых близких людях. Вот и здесь Нил вспоминает свою бывшую преподавательницу Элизабет Финч со всеми ее причудами, пытается проанализировать тот эффект, который она на него оказала, но его внимание как биографа то и дело рассеивается, переключается на него самого. Эмоциональный пейзаж рассказчика занимает нас не меньше прихотливой сюжетной канвы, а исторические воззрения героини анализируются с той же вдумчивой легкостью, что характеризует искусствоведческие статьи Барнса (сборник «Открой глаза»). Как ни крути, «Элизабет Финч» – один из лучших его романов.
NewsChain
Центральная и самая захватывающая часть романа посвящена исторической фигуре, в которой Элизабет Финч видела родственную душу, – Юлиану Отступнику. Не книга, а триумф эрудиции, гимн тому типу мировоззрения, какой Барнс ценит превыше всего. Сам непревзойденный мастер иронии, Барнс наполняет роман множеством примеров ее живительной силы.
Sunday Times
Руками своего рассказчика Барнс мастерски переплетает противоречия Древнего мира с тревогами дня нынешнего. Нил и его любимая преподавательница рассуждают о стоицизме и романтизме, монотеизме и многобожии, эротике и целомудрии. И в то же время Барнс, как опытный фокусник, показывает нам, на что способна сама проза, без тени навязчивой дидактики разворачивая перед читателем историю больших идей и панораму потаенных чувств. Нежная и проницательная, игривая и парадоксальная, эта книга – куда больше, чем сумма составляющих ее частей.
Readings
Джулиан Барнс всегда любил размывать границу между прозой художественной и документальной, писать романы, похожие на литературоведческие или исторические работы. Треть его короткого нового романа отведена 50-страничному эссе, посвященному историческим взглядам римского императора Юлиана Отступника, который пытался (неудачно) дать отпор христианству и восстановить в Римской империи язычество.
The Guardian
«Если в романе, а тем паче в биографическом очерке или учебнике истории вам встретится описание какого-либо персонажа, спрессованное до трех обтекаемых эпитетов, не спешите воспринимать такое описание всерьез», – говорит героиня нового романа Джулиана Барнса, прообразом которой в определенной степени послужила Анита Брукнер (старый друг Барнса и тоже букеровский лауреат). Элизабет Финч призывает своих студентов «разграничивать взаимную страсть и разделенную мономанию», говорит рассказчику Нилу (бывшему актеру), что «лицедейство – это лучший пример того, как искусственность рождает достоверность», и служит ему «советодательной молнией». Она внушает ему, что нельзя недооценивать силу исторического заблуждения и что «история не будет ждать неподвижно и безучастно, когда мы решим навести на нее подзорную трубу или телескоп; напротив, история – она живая, кипучая, порой даже неудержимая». Причем не только история как наука: к истории отношений, к человеческой истории это тоже относится. Да, исторические экскурсы Элизабет Финч неизбежно напоминают нам о дне сегодняшнем, с Брекзитом и прочими напастями, но в первую очередь это роман о скрытых желаниях и разочаровании, о недостижимости прошлого и непонимании между людьми – хорошо знакомая Джулиану Барнсу (и его читателям) территория.
Spectator
Чего у Барнса не отнимешь, так это способности удивлять.
Sunday Times
Барнс рос с каждой книгой – и вырос в лучшего и тончайшего из наших литературных тяжеловесов. Читатель давно и устойчиво сроднился с его сюжетными и стилистическими выкрутасами и не променяет их ни на что.
The Independent
Любителей изящной, умной и афористичной прозы Барнс никогда не разочарует.
The Gazette
Барнс – непревзойденный мастер иронии. Все детали современной жизни он улавливает и передает со сверхъестественной тщательностью.
London Review of Books
Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.
The Independent
Фирменное барнсовское остроумие ни с чем не спутаешь.
The Miami Herald
В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.
The Scotsman
Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.
The New York Times
Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос… Опять и опять он изобретает велосипед.
Джей Макинерни
Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.
The Times
По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков.
New Republic
Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.
Российская газета
Тонкая настройка – ключевое свойство прозы букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно… В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.
Майя Кучерская (Psychologies)
Посвящается Рейчел
Она стояла перед нами – ни конспектов, ни книг, ни капли волнения. На кафедре возвышалась ее дамская сумочка. Окинув взглядом аудиторию, преподавательница улыбнулась и после короткой паузы начала лекцию.
– Наш курс, как вы, должно быть, заметили, называется «Культура и цивилизация». Но пусть это никого не пугает. Мучить вас круговыми диаграммами я не собираюсь. Не собираюсь и пичкать вас фактами, как гусей – кукурузой; такого никакая печень не выдержит, да и вообще здоровье пошатнется. Через неделю я предоставлю вам список литературы, осваивать который нет никакой необходимости; выкинув его из памяти, вы не потеряете баллов, как и не заработаете их за счет упорного штудирования. Учить вас я буду как взрослых, коими вы, несомненно, успели стать. Лучшая форма обучения – как завещали нам древние греки – это сотрудничество. Впрочем, в Сократы я никоим образом не мечу, да и вы не Платоны, если в этом случае уместно множественное число. Итак, наше с вами взаимодействие будет выстроено в форме диалогов. Но поскольку вы далеко не первоклассники, сюсюкать с вами я не собираюсь. Кому-то из вас, наверное, будет со мной нелегко – мы можем не сойтись в плане темперамента и образа мышления. Оговариваю этот момент заранее, чтобы вы знали, к чему готовиться. Само собой, я очень надеюсь, что наши встречи вы будете посещать с интересом, а главное, с удовольствием. Я имею в виду – с удовольствием, доведенным до методичности. Эти понятия, кстати, не так уж несовместимы. Поэтому и вы, смею ожидать, настроены на методичность. Витать в облаках – это не здесь. Меня зовут Элизабет Финч. Благодарю за внимание.
И снова улыбнулась.
Записать мы ничего не успели. Только смотрели на нее во все глаза: кто с благоговением, кто с недоумением на грани досады, а кто почти с обожанием.
Сейчас уже не помню, чему была посвящена та первая лекция. Зато помню призрачное чувство, будто я впервые в жизни оказался в нужном месте.
Как она одевалась. Начнем от самой земли. На ногах броги: зимой – черные, осенью и весной – из коричневой замши. Выше – чулки или колготки: Элизабет Финч никогда не оголяла ноги (невозможно было даже представить ее в купальнике). Юбка чуть ниже колен, наперекор ежегодной тирании моды. Со своим образом она, похоже, давно определилась. Пусть и не целиком, но все же он перекликался с актуальными тенденциями; однако пройдет еще десятилетие – и его окрестят старомодным либо винтажным. Летом она носила юбку плиссе, обычно темно-синего цвета; зимой предпочитала твид. Иногда надевала клетчатую, типа килта, юбку с массивной серебряной английской булавкой (которую шотландцы, без сомнения, именуют по-своему). Изрядная часть ее преподавательского заработка уходила на блузы из шелка или тонкого коттона, нередко в полоску и без малейшего намека на прозрачность. Временами на них поблескивала брошь, миниатюрная и, как говорится, неброская. Серьги – редкий аксессуар (теперь даже не уверен: были у нее вообще проколоты уши или нет?). На мизинце левой руки – серебряное кольцо: скорее унаследованное, как мы рассудили, чем покупное или дареное. Песочно-пепельного цвета волосы, стрижка объемная и неизменной длины. Видимо, в парикмахерскую она ходила регулярно, раз в две недели. И знаете что: по ее собственному выражению, ей было порой не чуждо притворство. А притворство, как она любила повторять, отнюдь не искажает правды.
Самым младшим из нас, ее студентов, было под тридцать, старшим – чуть за сорок, и тем не менее поначалу мы реагировали на нее по-детски. Нам не давали покоя детали ее прошлого и подробности личной жизни, например почему она – насколько было известно – так и не вышла замуж. Как проводит вечера. Может, готовит омлет с мелко нарубленной зеленью или балует себя бокальчиком вина (чтобы Элизабет Финч хватила лишку? только если этот мир окончательно сойдет с ума) за чтением свежей подборки статей по творчеству Гёте? Фантазировали мы на всю катушку, причем не без издевки.
Все те годы, пока я имел возможность с нею общаться, она курила. Но опять же: курила на свой собственный манер. Одни смакуют каждую затяжку; другие вместе с никотином вдыхают отвращение к себе; третьим важна сама эстетика курения; а кто-то, опять же, неустанно твердит, что позволяет себе «не больше двух сигарет в день», будто способен держать свою зависимость под контролем. Впрочем – поскольку все курильщики лгут, – «не больше двух» всегда означает три-четыре штуки, а то и полпачки. Но между Э. Ф. и курением взаимосвязи как будто не наблюдалось. Ее привычка не требовала толкования, не была частью имиджа. Сигареты она всегда перекладывала в портсигар из черепахового панциря, словно предлагая нам угадать их марку. Ее стиль курения сообщал о полном равнодушии к этому акту. Понимаете? Никакие расспросы не заставили бы ее оправдываться. Да, сказала бы она, конечно, это зависимость; и разумеется, ей известно о вреде здоровью и об асоциальности данной привычки как таковой. Но нет, бросать она не собирается, а тем более не собирается подсчитывать количество выкуренных за день сигарет; эти темы беспокоили ее менее всего. И поскольку – как я мог заключить или, скорее, предположить, – поскольку она не знала страха смерти, а жизнь в нынешнем виде считала несколько переоцененной, вопрос курения и в самом деле не входил в круг ее интересов, а стало быть, и не заслуживал обсуждения.
Естественно, всю жизнь ее сопровождали приступы мигрени.
Моему мысленному взору – взору моей памяти, единственному месту, где мне доступно лицезреть Элизабет Финч, – представляется, как она стоит перед нами, неестественно застывшая. Она не прибегала к лекторским фишкам и трюкам, призванным очаровать или огорошить слушателей, а то и продемонстрировать характер. Никогда не жестикулировала, не подпирала ладонью подбородок. Время от времени для иллюстрации некой мысли вставляла слайд в диапроектор, но, как правило, обходилась без этого. Завладеть вниманием аудитории ей помогали два средства: неподвижность и голос. Спокойный, ясный голос, сдобренный десятилетиями курения. Ее нельзя было отнести к тому типу преподавателей, чей контакт со студентами ограничивается изредка отрывающимся от заготовленных конспектов взглядом, а все потому, что, как я уже говорил, она не читала лекции по заготовкам. Весь материал, обдуманный и проанализированный самым тщательным образом, хранился у нее в голове. Это тоже привлекало внимание, уменьшая пропасть между ею и нами.
Манера подачи сдержанная, речь синтаксически выверена – на слух можно было различить, где запятые, а где точки с запятой и точки. Она никогда не начинала фразы, не зная в точности, как и когда ее закончить. При этом у нас никогда не создавалось впечатления, будто перед нами говорящая книга. Во время занятий она оперировала той же лексикой, какой пользовалась и в других случаях, будь то письменное или устное общение. Несмотря на это, ее лекции отличались живостью изложения, без всякого намека на старомодность. Иногда она – возможно, чтобы позабавить себя или растормошить аудиторию – добавляла вкрапления совсем в другой тональности.
К примеру, на одной из наших еженедельных встреч она рассказывала о «Золотой легенде» – средневековом собрании христианских чудес и мученичеств. Яркие чудеса и поучительные мученичества. Наиболее подробно Э. Ф. остановилась на истории святой Урсулы.
– Мысленно перенеситесь, если пожелаете, в четырехсотый год новой эры, во времена, когда на наших берегах еще не установилась христианская гегемония. Урсула была британской принцессой, дочерью принявшего христианство короля Дионота. Мудрая и послушная, набожная и добродетельная, она обладала полным стандартным набором достоинств любой принцессы. А вдобавок была хороша собой, но это уже спорное дополнение. Влюбившийся в нее принц Этерий, сын короля англов, попросил руки Урсулы у ее отца. Тому предстояло сделать непростой выбор, ведь, с одной стороны, англы славились неоспоримым могуществом, но, с другой, поклонялись языческим богам.
Статус невесты представлял собой товар, как часто было до и после; но, будучи мудрой, добродетельной и так далее, Урсула демонстрировала чудеса смекалки. Прими предложение сына Власти, подсказала она своему отцу, но с условием некоторой отсрочки. Попроси его: пусть три года повременит, дабы Урсула смогла совершить паломничество в Рим, а сам юный Этерий – получить наставление в истинной вере и вслед за тем креститься. Кто-то распознал бы в этом попытку избежать заключения брачного союза, но только не влюбленный Этерий. Что подумал король англов, история умалчивает.
Когда стало известно, какую авантюру, прикрытую духовными целями, затеяла Урсула, ее поддержали другие девы-единомышленницы. И здесь в самóм тексте мы натыкаемся на один нюанс. Как многие из вас знают, Урсулу сопровождали одиннадцать тысяч дев; те из вас, кто бывал в Венеции, возможно, помнят последовательное изложение этой истории на холстах Карпаччо. Шутка ли – организовать такое турне, тем более что мистер Томас Кук тогда еще не родился. Так вот: вышеупомянутый нюанс касается буквы «М» и трактовки ее писцом первоисточника. Восходит ли «М» к латинскому «милле», то есть буквенному обозначению тысячи, или же «М» толкуется как «мученик»? Кому-то из нас последнее прочтение может показаться более правдоподобным. Урсула плюс одиннадцать дев-мучениц составляют двенадцать – число, равное числу евангельских апостолов.
Тем не менее давайте позволим этой легенде разворачиваться в цвете и в широком формате по типу технологий «Техниколор» и «Синемаскоп», которые столь активно предвосхищал Карпаччо. Одиннадцать тысяч дев покинули Британию. Когда они высадились в Кёльне, Урсуле явился ангел Господень и сообщил, что на обратном пути из Рима она вместе со своей свитой, возвращаясь через тот же Кёльн, получит святой венец мученичества. Известие о такой развязке все одиннадцать тысяч встретили с равным восторгом. В Британии тем временем Этерию явился еще один из вездесущих ангелов Господа и проинструктировал, как тому встретиться со своей нареченной в Кёльне, а заодно и самому получить пальмовую ветвь мученичества.
По пути Урсула собирала больше и больше последовательниц; впрочем, конечная их цифра не зафиксирована. В Риме к этому женскому воинству присоединился сам папа, из-за чего был оклеветан и отлучен от церкви. Между тем два злонамеренных римских военачальника, опасаясь, что истерия вокруг столь успешного похода будет способствовать распространению христианства, договорились с гуннской армией, что та учинит кровавую расправу над возвращающимися паломниками. По счастливому стечению обстоятельств в это самое время гуннская армия осаждала крепостные стены Кёльна. Такие сюжетные совпадения и ангельские вмешательства мы должны принять в качестве допущения: это же не роман девятнадцатого века, в конце-то концов. Хотя, как я уже говорила, романы девятнадцатого века полны совпадений.
И вот Урсула и ее многочисленная свита достигли Кёльна, после чего гуннская армия, забросив свою осадную технику, накинулась на Одиннадцать С Лишним Тысяч, как – эта фраза приелась уже в четырехсотом году новой эры – «свирепые волки на агнцев, и убили их всех».
Замолчав, Элизабет Финч окинула взглядом аудиторию, а потом спросила:
– И какой из всего этого напрашивается вывод?
В повисшей тишине она ответила сама:
– Смею предположить: самоубийство с помощью полицейского.
Элизабет Финч нисколько не стремилась к публичности. Нагуглить про нее хоть что-нибудь – гиблая затея. В профессиональном отношении ее следовало бы отнести к независимым ученым. Кому-то покажется, что я прибегаю к эвфемизмам или, скорее, к трюизмам, – пускай. Но еще задолго до того, как официальным домом познания стало академическое пространство, наделенные недюжинным умом представители обоих полов продвигались к своим целям автономно. В том, разумеется, случае, если располагали средствами; кто-то просто вел себя эксцентрично, кто-то явно съехал с катушек. Но деньги давали возможность передвигаться по миру и заниматься исследованием того, что им требовалось, и там, где требовалось, без оглядки на график публикаций, конкуренцию в научном сообществе или одобрение начальства.
О финансовом благополучии Элизабет Финч ничего сказать не могу. В своих фантазиях я приписывал ей то фамильное состояние, то какое-нибудь наследство. В западном Лондоне у нее была квартира, куда меня не звали; судя по всему, жила она скромно, а свою преподавательскую деятельность планировала, насколько я мог судить, таким образом, чтобы оставить себе время для самостоятельных, независимых научных изысканий. Из-под ее пера вышли две книги: «Взрывные женщины», о лондонских анархистках рубежа девятнадцатого-двадцатого веков, и «Наши неизбежные мифы», о проблемах национального самосознания, веры и семьи. Небольшие по объему, впоследствии они не переиздавались. Кое-кто, наверное, скажет, что лектор-почасовик, чьи книги канули в Лету, вызывает лишь усмешку. То ли дело – штатные университетские преподаватели (даром что среди них встречается множество остолопов и зануд, которым лучше бы помолчать).
Некоторые из ее учеников добились известности. Ей выражают благодарность авторы ряда книг по истории Средневековья и феминистской мысли. Но среди тех, кто не был с ней знаком, она оставалась безвестной. Для кого-то это прозвучит тавтологией. Не стоит, однако, забывать, что сегодня, в нашей цифровой среде, такие понятия, как «друзья» и «последователи», приобрели иной, размытый смысл. Многие из нас между собой знакомы, но друг друга совершенно не знают. И вполне довольны такими поверхностными контактами.
Вы, наверное, сочтете меня старомодным педантом, каких свет не видывал (но сейчас речь не обо мне). И столь же старомодной, а то и хуже покажется вам Элизабет Финч. Пусть так, но ее старомодность была нетривиальной и проявлялась отнюдь не в приверженности истинам – на сегодняшний взгляд блеклым и замшелым – предыдущего поколения. Как бы поточнее выразиться? Она оперировала истинами не ушедших поколений, но ушедших эпох, истинами, которые многими были отброшены, но ею оберегались как живые. И не в том смысле, что, мол, она принадлежала к старомодным консерваторам, либералам или социалистам. В значительной степени она существовала вне своего возраста.
– Не становитесь заложниками времени, – как-то раз сказала она. – Не рисуйте в уме историю, а в особенности историю мыслительных исканий, как линейную.
Это была интеллектуальная, самодостаточная личность европейского уровня. Пишу эти слова – и останавливаюсь, потому что в голове крутится еще одно из ее высказываний, прозвучавших в аудитории:
– И помните: если в романе, а тем паче в биографическом очерке или учебнике истории вам встретится описание какого-либо персонажа, спрессованное до трех обтекаемых эпитетов, не спешите воспринимать такое описание всерьез.
Я стараюсь следовать этому надежному, испытанному правилу.
Вскоре мы, ее слушатели, разделились на компашки и коалиции сообразно обычному принципу риска и намерений. Некоторые сближались на почве выбора напитка после занятий: пиво, вино, пиво и/или вино и/или что-нибудь еще бутылочное; фруктовый сок; вообще ничего. В мою компанию, которая легко переключалась между пивом и вином, входили Нил (то есть я), Анна (голландка, которую порой возмущало английское легкомыслие), Джефф (провокатор), Линда (эмоционально неустойчивая, как в учебе, так и в жизни) и Стиви (градостроитель, ищущий большего). Объединяло нас еще и то, что мы, как ни парадоксально, редко соглашались в каких-либо вопросах, за исключением следующих: любое правительство, стоящее у власти, бесполезно; Бога почти наверняка нет; жизнь – для живых, а слишком много снеков, продающихся в громко шуршащих пакетиках, не бывает. Тогда в аудиториях еще не было ноутбуков, а социальные сети отсутствовали; тогда новости приходили из газет, а знания – из книг. Что это было за время: более простое или более скучное? И то и другое или же ни то ни другое?
– Монотеизм, – произнесла Элизабет Финч. – Мономания. Моногамия. Монотонность. Такое начало слов не сулит ничего хорошего. – Она выдержала паузу. – Монограмма – признак тщеславия. Равно как и монокль. Готова, пожалуй, допустить полезность монорельса. Есть ряд нейтральных научных терминов, с которыми я также готова мириться. Но там, где этот префикс затрагивает сферу человеческого… Монолингвизм – признак замкнутого общества, склонного к самообману. Монокини – столь же смехотворная этимология, как и сам предмет одежды. Монополия (настольную игру сейчас не берем), если вовремя ее не пресечь, – это неминуемый крах. Монорхизм – недуг, вызывающий только сочувствие. Какие будут вопросы?
Линда, которую нередко одолевали, по ее старомодному выражению, «сердечные тревоги», забеспокоилась:
– А что вы имеете против моногамии? Разве не к такому образу жизни стремится большинство? Разве не в этом заключается мечта очень многих?
– Остерегайтесь мечтаний, – ответила Элизабет Финч. – И кстати сказать, остерегайтесь устремлений большинства. – Помолчав, она одарила полуулыбкой Линду и через нее обратилась ко всему немногочисленному потоку. – Принудительная моногамия – это примерно то же самое, что принудительное счастье, которое, как мы знаем, невозможно. Добровольная моногамия может показаться приемлемой. Романтическая моногамия может показаться желанной. Но первая обычно скатывается назад, к некой разновидности принудительной моногамии, а вторая склонна обернуться навязчивым, истерическим состоянием. И следовательно, сближается с мономанией. Всегда необходимо разграничивать взаимную страсть и разделенную мономанию.
Мы все притихли, осмысливая эти положения. Почти все из нас к тому времени получили типичный для своего поколения сексуальный и любовный опыт, иначе говоря – чрезмерный, с точки зрения предыдущего поколения, и до смешного скудный в глазах следующего, наступавшего нам на пятки. Задумались мы и о степени соответствия этих тезисов ее личному опыту, но спросить никто не осмелился.
Надо отдать должное Линде: та не отступалась.
– Значит, по-вашему, все это безнадежно?
– Что нам говорит остроумный мистер Сондхайм? – И Элизабет нараспев продекламировала: – «Один – не решенье; двое – уныло; трое – как раз: безопасно и мило». Разумеется, это не единственная точка зрения на данный вопрос.
– Но вы лично с этим согласны или просто уходите от ответа?
– Не ухожу, а всего лишь демонстрирую альтернативы.
– То есть вы подразумеваете, что Этерий напрасно отправился в Кёльн? – Линда принимала материалы занятий, в том числе и лекций по религиозным верованиям Средневековья, очень близко к сердцу.
– Нет, не напрасно. Каждый из нас выбирает ту стезю, которую считает оптимальной, даже если она ведет к вымиранию. А подчас именно потому, что она ведет к вымиранию. Но обычно цель достигается – или не достигается – слишком поздно.
– Это не помогает нам дойти до сути, – сказала Линда с какой-то плаксивой свирепостью.
– В мои обязанности не входит вам помогать, – твердо, но без упрека в голосе ответила Элизабет Финч. – Мое дело – научить вас рассуждать, аргументировать, самостоятельно мыслить. – Она помолчала. – Но коль скоро здесь прозвучал вопрос об Этерии, давайте рассмотрим его случай. Сделавшись нареченным Урсулы, он принял ее условия: во время паломничества своей невесты в Рим он обязался изучать христианские тексты и проникаться христианскими истинами, чтобы затем креститься в эту веру. До какой степени это разгневало его отца, короля англов, закоренелого язычника, – о том история умалчивает. Но как бы то ни было, Этерию явился ангел Господень и повелел ему встретить Урсулу в Кёльне, где их ожидало всеславное совместное мученичество… Что отсюда следует? В эмоциональной плоскости мы можем узреть здесь крайнее, даже фанатичное проявление романтической любви. У другого автора этот сюжет мог бы приобрести вагнеровское звучание. В богословской плоскости поступок Этерия можно трактовать как вопиющую попытку проскочить без очереди. Помимо всего прочего, нельзя сбрасывать со счетов влияние вынужденного целомудрия на взрослого юношу – и, кстати сказать, на взрослую девушку тоже. Такое влияние может выражаться в различных патологических моделях поведения. Полагалась ли Урсуле и Этерию после трехлетней помолвки возможность провести вместе брачную ночь, прежде чем склонить головы пред тевтонскими мечами и подставить себя под тевтонские копья и стрелы? Это весьма сомнительно, ибо супружеские утехи вполне могли заставить обоих отказаться от принятых обязательств.
Когда мы после занятий гурьбой ввалились в студенческий бар, некоторые сразу заказали себе что покрепче.
Свое первое образование я получил в театральном; там же познакомился со своей первой женой Джоанной. Нас обоих отличал неокрепший и вместе с тем непоколебимый оптимизм, по крайней мере в течение первых лет совместной жизни. Я получал небольшие роли в телеспектаклях и занимался озвучкой; в соавторстве мы писали сценарии, которые уходили в никуда. Имелся у нас и парный репертуар для круизных пароходов: скетчи, репризы, вокальные и танцевальные номера. Моим постоянным источником дохода была роль зловещего бармена в живучей мыльной опере (нет-нет, не слишком известной). Потом на протяжении многих лет мне доводилось слышать от совершенно незнакомых людей: «Знаете, вы очень похожи на бармена Фредди из этого… как его… „Северо-Запад Двенадцать“». Я никогда не исправлял эту ошибку (на самом деле – «Юго-Восток Пятнадцать»), а только с улыбкой отвечал: «Да-да, мне часто об этом говорят».
Когда предложения иссякли, я стал подрабатывать в ресторанах. То есть – официантом. Но смею надеяться, выглядел в этой роли вполне убедительно, потому что вскоре дослужился до метрдотеля. Постепенно я отвык от бесплодного ожидания и уже не порывался вернуться на подмостки. У меня появились знакомые поставщики продуктов, и мы с Джоанной решили переехать в сельскую местность. Я взялся разводить шампиньоны, а потом и выращивать помидоры на гидропонике. Наша дочь Ханна уже не повторяла с детской гордостью: «Мой папа выступает по телику», но старалась произносить с тем же пафосом: «Мой папа выращивает грибы». Джоанна, больше меня преуспевшая в актерской профессии, решила, что по соображениям карьеры ей лучше будет жить в Лондоне. Без меня. Вот, собственно, и все. Да, она до сих пор мелькает на телевидении, снимается в… ладно, пропади оно пропадом.
Когда я признался Элизабет Финч, что некогда был актером, она улыбнулась.
– Так-так, лицедейство, – сказала она. – Лучший пример того, как искусственность рождает достоверность.
Я обрадовался и даже почувствовал, что меня оценили по достоинству.
Э. Ф., как мы теперь называли ее за глаза, стояла перед нами, поставив, как всегда, сумочку на кафедру, и говорила:
– Будьте приблизительно довольны приблизительным счастьем. Несомненно и ясно на земле только несчастье.
После этого она выжидала. Нам давалась возможность проявить себя. Кто решится выступить первым?
Вы, наверное, заметили, что цитата приведена без отсылки. Это был ее коронный трюк, полезный прием, помогавший нам размышлять самостоятельно. Надумай она указать авторство, мы бы тут же принялись лихорадочно соображать, что нам известно о жизни и трудах цитируемой личности, а также о господствующей точке зрения. Соответственно, мы бы стали согласно кивать или, напротив, мотать головами.
А так у нас велась живая дискуссия между юношескими (все еще) надеждами и зрелым скепсисом – по крайней мере, так нам виделось – до того момента, когда она сочтет нужным раскрыть свой источник.
– На смертном одре, в возрасте восьмидесяти двух лет, Гёте – очень немногие из нас могут надеяться на более насыщенную и яркую судьбу, чем та, которая выпала ему, – заявил, что за всю свою жизнь был счастлив только четверть часа.
Глядя на свою аудиторию, она не то чтобы реально подняла бровь (это вообще была не ее ужимка), но подняла бровь метафорически и даже морально. А мы, слушатели, выловили этот жест, втащили на борт, а потом стали думать, обречен ли великий – или хотя бы средней руки – мыслитель не знать счастья и почему люди высказываются подобным образом (как нам казалось – определенно лживо) на смертном одре: то ли потому, что уже всё позабыли, то ли потому, что пренебрежение к столь важному аспекту жизни примиряет их со скорой кончиной.
Тут Линда, которая не боялась изрекать мысли, казавшиеся другим наивными или неловкими, предположила:
– Быть может, Гёте просто не случилось встретить достойную женщину.
В присутствии другого лектора мы бы, наверное, зафыркали со смеху. Но Э. Ф., методичная в собственных суждениях, никогда не отмахивалась от наших идей и мнений, пусть мизерных, сентиментальных или безнадежно автобиографичных. Вместо этого она преобразовывала наши скудные мыслишки в нечто более значимое.
– Конечно, мы должны допускать – не только на наших лекциях, но и вне этих стен, занятые нашими собственными житейскими тревогами и перипетиями – элемент случайности. Число людей, которых мы впускаем в свою жизнь, на удивление мало. Нас неумолимо обманывают страсти. Столь же неумолимо обманывает нас разум. Нас может связать по рукам и ногам генетическая предрасположенность. Равно как и предшествующий жизненный опыт. Не только солдаты, побывавшие на поле боя, страдают от посттравматического синдрома. Он зачастую становится неизбежным следствием нормального на первый взгляд земного существования.
Тут Линда невольно преисполнилась скромного самодовольства.
Естественно, я не могу поручиться за абсолютную точность передачи слов Э. Ф. Но у меня чуткий слух на интонацию, и, хочу верить, я не опустился до карикатурного изображения ее речи. Наверное, никого из своих знакомых я не слушал с таким вниманием, как ее, – ни до, ни после. Ну, разве что на первом этапе каждого из двух своих браков: действительно, как утверждала Э. Ф., «нас неумолимо обманывают страсти».
В течение первых недель семестра та легкость, с которой она рассуждала о движениях души, естественным образом вписывая эту тему в свой курс лекций «Культура и цивилизация», делала ее мишенью язвительности. Поскольку мальчишки, даже тридцатилетние переростки, неисправимы, они сыпали шепотками и насмешками:
– Представляете? У нее сумчонка раскрылась, а там книжица про Джеймса Бонда.
– На той неделе – я своими глазами видел – за ней заехал винтажный «ягуар». А за рулем бабенка!
– Вчера вывел в свет старушку Лиз – оттянулись нормально. Выпили малость, по-быстрому перекусили, рванули в клуб, она, кстати, танцует классно, потом к ней на хаус, достает она свою нычку, свернула нам по джойнту, а потом… – на физиономии мальчишки-переростка появляется ухмылка, – а потом… нет, пардон, джентльмены об этом умалчивают.
Как вы понимаете, предлагались и другие, более причудливые версии, в которых джентльмены ни о чем не умалчивали.
Реакция такого рода просыпалась у тех, кто терялся от ее самообладания и робел перед ее авторитетом. Пусть их фантазии на поверку оказывались сплошным вымыслом, но ведь было в Элизабет Финч нечто весьма зазывное. Если не показное и даже не явное, то потаенное. И когда я давал волю своему воображению, оно услужливо подсовывало мне образ Э. Ф., скажем, в ночном поезде, где она стоит в пижаме у окна купе первого класса и тушит последнюю сигарету, а с верхней койки тихим гнусавым свистом ее подзывает таинственный и ныне уже неразличимый спутник. Между тем за окном, под «горбатой» Луной, перед ее взором проносятся склоненные французские виноградники или тускло мерцающие воды итальянского озера.
Безусловно, такие видения характеризуют не столько объект фантазий, сколько самих фантазеров. Те рисуют себе объект либо в гламурном прошлом, либо в придуманном настоящем, где женщина ищет компенсации за свою реальную жизнь; а дальше воображают, будто она, как любой живой человек, испытывает некие потребности и ощущает какую-то неудовлетворенность. Но это было далеко от истины. Та Элизабет Финч, которая стояла перед нами, была законченным шедевром, отчасти сотворенным самостоятельно, а отчасти при посредстве окружающих и при поддержке мира. Мира не только в современном проявлении, но и в его многовековой истории. Мало-помалу мы начали это понимать и отбрасывать все нелепые домыслы – наши скороспелые, пустые реакции на ее неподражаемость. А сама она без видимых усилий покоряла нас всех. Нет, это слишком поверхностное замечание. Точнее будет сказать, что она обязывала нас – просто своим примером – искать и находить в себе эпицентр серьезности.
Линда обратилась ко мне за советом. Со мной такое происходит нечасто: с виду я не тяну на образцового советчика. И что оказалось: она решила со мной посоветоваться, как бы ей спросить совета у Э. Ф. Я не стал докапываться до сути, так как Линду вечно одолевали некие эмоциональные драмы. А кроме того, я счел, что искать совета у Э. Ф. – идея неудачная. Одно дело – препарировать в аудитории любовные похождения Гёте, но совсем другое – суметь, или захотеть, или даже вообще иметь право внеурочно давать консультации по личным вопросам. Однако вскоре до меня дошло, что Линда вовсе не ищет моего мнения; точнее, что она ищет моего мнения только там, где оно совпадает с ее собственным планом действий. Так уж устроены некоторые из нас; возможно, даже очень многие. Короче говоря, чтобы немного успокоить Линду, я отступил от своего обычного правила и одобрил ее намерения.
Через пару дней, когда я одиноко сидел в студенческом баре, там откуда ни возьмись появилась Линда и уселась напротив.
– Э. Ф. была великолепна, – сказала она, уже переполняемая чувствами. – Я рассказала ей о своей сердечной тревоге и нашла у нее полное понимание. Она вытянула руку, вот так, и ее ладонь легла на стол прямо передо мной. – Линда проделала то же самое, опустив руку на середину столешницы ладонью вниз. – И сказала, что любовь – это самое важное. Важнее нет ничего.
И тут у нее – у Линды, разумеется, – хлынули слезы.
В таких ситуациях я теряюсь, а потому только и сказал:
– Возьму нам еще выпить.
Но когда я вернулся от барной стойки, Линды уже и след простыл. Сохранился только влажный отпечаток ладони посреди стола, куда она опустила руку в подражание Элизабет Финч. Оставшись в одиночестве, я задумался о Линде – понятно, что не в первый раз. Но по той причине, что Э. Ф. никогда не относилась к ее мнениям, даже самым скоропалительным, свысока, я тоже стал думать о ней более серьезно. Во взгляде Линды, смотрящей на тебя в упор, читалась некая суетливость. Суетливость по поводу чего? Или суетливость вообще? Впрочем, мысли о ней улетучивались из моей головы по мере того, как улетучивался отпечаток ее ладони.
– Сто семь лет тому назад, в разгар весны, один великий художник жил в ожидании смерти; не совсем скорой, но надвигающейся. Смерть не застала его врасплох: он понял, что конец близок, в тот момент, когда о себе заявили признаки последней стадии болезни. Инвалидная коляска стала его верной спутницей. Третичная фаза сифилиса стремится покарать человека в самых разнообразных смыслах, но нашему герою удалось избежать высшей для художника меры наказания: слепоты. Каждое утро ему приносили хрустальную вазу и охапку свежих цветов. Для него настоящая отдушина – составлять композиции. Временами он просто разглядывает натуру, представляя ее на холсте. А в те дни, когда к нему возвращаются силы, скомпонованный букет обращается в натюрморт. В силу очевидных причин работать приходится быстро.
Его задача – запечатлеть мгновение, удержать момент, прежде чем срезанные цветы начнут увядать. Ведь срезанные по нашей воле цветы умирают раньше срока; зато перенесенные нами же на холст, они сколь угодно долго хранят свою свежесть даже после отправки в мусорное ведро. И как следствие, реальностью становится искусство, а натуральные цветы – мимолетными, канувшими в Лету симулякрами.
Не поразмышлять ли нам о том, что могло тогда занимать мысли нашего художника? Например, не задавался ли он избитым вопросом, получившим впоследствии название дилеммы Моцарта: жизнь прекрасна, но печальна; или жизнь печальна, но прекрасна? Или, быть может, найденный заблаговременно ответ позволял уйти от вопроса. Ответ, например, такой: жизнь прекрасна – и точка.
С другой стороны, вы вправе заклеймить подобные фантазии как излишне замысловатые и сентиментальные. Что ж, я в предвкушении ваших суждений.
Внезапно поток ее слов прекратился, а вопросы опять адресовались нам. Да, что же мы по этому поводу думаем? И вот мы уже вовсю дискутируем о том, что есть искусство: изображение реальности, ее концентрация, первоклассная замена или просто загадочная пустышка. А Джефф привычно искал социальную и политическую подоплеку в необходимости переносить на холст вазу с цветами. Большинство из нас ограничилось повторным проговариванием давно сформулированных мнений и любимых цитат («Поэзия ничто не изменяет» против «Но мы потрясаем горы, / взметая вселенский прах»); но некоторые и в самом деле пытались в режиме реального времени расшевелить собственные извилины. Движение мысли можно было наблюдать воочию. По зрелом размышлении я, конечно, догадываюсь, какая картина представала тогда перед Э. Ф.: «самостоятельность суждений», как правило, подталкивала нас не столько к более строгим, глубоким размышлениям, сколько к замене одной прописной истины на другую; и тем не менее процесс был ценен как таковой.
В школьные годы мне так и не попался тот самый учитель – любимый, запавший в душу, который, с одной стороны, мог пробудить эмоции к предмету, будь то математика, литература или биология, а с другой – вызвать недетские, быть может, чувства к собственной личности. Потому-то я особенно благодарен – хотя это слово не в полной мере отражает суть моих ощущений – судьбе за знакомство и общение с Элизабет Финч. Как она любила повторять, в нашей жизни всегда нужно учитывать элемент случайности. Уж не знаю, есть ли у распространения госпожи удачи на жизненном отрезке какой-то средний показатель и вообще должен ли быть (на этот вопрос нам никто не ответит, особенно насчет «должен»), но я все равно уверен, что Э. Ф. – не что иное, как подарок судьбы.
Как-то за обедом, спустя годы, я снова заговорил с ней о дилемме Моцарта. Той, что вопрошает: «Жизнь прекрасна, но печальна; или жизнь печальна, но прекрасна?» Сидя напротив – нас разделяли две тарелки с пастой, – я чувствовал себя так, будто пришел за советом к оракулу. «Жизнь – это и то и другое, равно необходимое и неизбежное», – ответила она. Полагаю, ее мысль сводилась к тому, что за кардинальный вопрос выдавалось очередное заблуждение. А может, и нет.
Элизабет Финч, как мне казалось, не знала к себе никакой жалости. Жалость к собственной персоне она бы окрестила пошлостью – но только пошлостью моральной, отнюдь не социальной. Что до нее самой, отсутствие жалости к себе было частью ее стоического отношения к жизни. Знавала она – впрочем, я только строю предположения – и любовное разочарование, и одиночество, и предательство друзей, даже публичную травлю (к этому мы вернемся в свое время), но все эти перипетии сносила с невозмутимым безразличием. Ведь «переживать» предполагает некоторые внешние проявления или, по крайней мере, последовательность действий; но ее стоицизм уходил корнями вглубь ее существа. Не видела Э. Ф. другого подхода к жизни: ни в ментальном смысле, ни в чувственном. Она стойко переносила страдания и никогда не просила о помощи, то есть о моральной поддержке. Однажды под ее диктовку мы записали цитату, которую я привожу по своему студенческому конспекту:
Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. В нашей власти мнение, стремление, желание, уклонение – одним словом, все, что является нашим. Вне пределов нашей власти – наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера, одним словом – все, что не наше. То, что в нашей власти, по природе свободно, не знает препятствий, а то, что вне пределов нашей власти, является слабым, рабским, обремененным и чужим. Итак, помни: если ты станешь рабское по природе считать свободным, а чужое своим, то будешь терпеть затруднения, горе, потрясения, начнешь винить богов и людей. Но если ты будешь только свое считать своим, а чужое, как оно и есть на самом деле, чужим, никто и никогда не сможет тебя принудить, никто не сможет тебе препятствовать, а ты не станешь никого порицать, не будешь никого винить, ничего не совершишь против своей воли, никто не причинит тебе вреда.
Смею предположить, что она, впервые познакомившись с трудами Эпиктета, сочла его истины скорее данностью, нежели откровением.
Говоря о том, что среди всех моих знакомых она была единственным по-настоящему взрослым человеком, я имею в виду следующее: за всеми ее поступками и мыслями стояли принципы, и, возможно, не просто стояли, а вкладывались в них априори. В то время как я сам – практически наряду со всеми – в своих поступках и словах опираюсь на принципы скорее по касательной.
Нам как-то привычней ассоциировать романтику с оптимистичным взглядом на действительность, правда? Э. Ф. я бы назвал романтичной пессимисткой.
Или вот еще: мертвые не упрекнут вас в неправоте. Это прерогатива живых… но они могут и солгать. Поэтому я больше доверяю мертвым. Бредово звучит или здраво?
И в дополнение к этому: на основании чего мы надеемся, что наша коллективная память – так называемая «история» – в меньшей степени подвергнется искажениям, чем наша личная память?
– Наравне с тем, что уже свершилось, всегда нужно учитывать и то, что могло произойти, но не произошло. Но ведь случилось именно то, что случилось, можете сказать вы; то, с чем нам теперь приходится мириться. Так вот: мириться совершенно не обязательно. Это же не просто залихватский перебор альтернативно-исторических сценариев – что, мол, если бы бомба Штауффенберга убила-таки Гитлера?.. Нет, речь идет о масштабном исследовании. По моему разумению, зачастую мы рассматриваем историю в рамках теории дарвинизма. Выживает сильнейший; Дарвин, само собой, подразумевал не самых мощных и даже не самых умных, а просто тех, кто лучше всего подстраивается под изменчивость обстоятельств. В реальной же истории человечества дело обстоит совсем иначе. Выживает, точнее, преуспевает или подчиняет себе других тот, кто более изобретателен и лучше вооружен; тот, кому легче убить. Миролюбивые нации редко одерживают верх; в идейном плане, безусловно, еще могут, но любая идея слаба, если не подкрепляется дулом пистолета. Как ни прискорбно, все мы признаем этот факт, потому что не признать означает проявить легкомыслие. Потому что в противном случае нам остается только отлеживать бока – а вместе с боками и мозги, одобряя тем самым тот постулат, согласно которому победителю принадлежат трофеи, а это равносильно тому, что победителю принадлежит и правда… Разве мы поверим, что, к примеру, этруски в чем-то уступали римлянам? Что не оказали бы на мир большего влияния? Разве не очевидно, что альбигойская ересь по степени просвещения и праведности превосходила средневековую Римскую церковь, альбигойцев уничтожившую? Неужели можно представить, что белые поселенцы, истребившие все коренные племена в разных уголках мира, имели моральное превосходство над своими жертвами? При этом не будем забывать: тот период, который мы привыкли называть Темными веками, теперь признается «излучающим Свет». В качестве иллюстрации обратимся к двум Юлианам, двум ярчайшим примерам альтернативного развития событий. Первый из них – Юлиан Отступник, последний языческий император Рима, пытавшийся повернуть вспять воды сносящего все на своем пути христианства. А второй – менее известный Юлиан из Экланума, с раскрепощенными взглядами на проблему полового влечения; Юлиан апеллировал к его естественности, свидетельствовавшей о причастности Бога. Более того – тут Церковь занервничала основательно, – он не поддерживал учения о первородном грехе. Церковь, как вы помните, требовала – и требует до сих пор – проводить обряд крещения, дабы очистить младенца от первородного, поневоле унаследованного греха. Юлиан из Экланума не верил, что Бог задумывал именно такой сценарий. Но, увы, ему так и не удалось переиграть святого Августина, который настаивал на идее вечного проклятия, передаваемого из поколения в поколение, и, как следствие, на непреодолимом чувстве вины по поводу секса. Ощутите фундаментальность этого доктринального расхождения и представьте, каким бы выглядел мир, если бы Августин тогда не одержал верх.
Элизабет Финч, смолкнув, тут же уловила, куда движется мысль некоторых студентов.
– Нет, едва ли мы бы пришли к тому, что в шутку называют «свингующими шестидесятыми».
После лекции дискуссия уже с меньшей патетикой и большей скабрезностью продолжилась в баре. Шел второй семестр, и наша компашка, как это часто бывает, начала распадаться. Душнила Джефф – я транслирую исключительно свое восприятие – стоял у меня поперек горла со своей возведенной в культ неприязнью к Э. Ф. Мы с Линдой завязли в каком-то неловком, не поддающемся определению состоянии; наш случай я бы описал примерно так: А открылся Б, а затем обвинил Б в том, что тот позволил А открыться. Как-то так? И еще был третий участник: Анна.
Голландка – вроде я уже говорил. Ростом чуть больше пяти футов, с короткой стрижкой под горшок, с коллекцией анораков и таким взглядом… не то чтобы испытующим, но как будто подталкивающим вас во время разговора с ней все время повышать ставки; и в случае, если вы на это решитесь, она непременно заметит и оценит. Тогда я находился в межбрачном положении (в то время я бы, конечно, так не выразился), был отцом на выходные; но даже безобидные подколы и манипуляции постоянно напоминали, почему я больше не женат. К отношениям я не стремился. Женщинам симпатизировал с позиций дружбы. Особенно если они не пытались мною манипулировать. Особенно если ожидали от меня чего-то большего – но ни к чему не обязывающего – и притом были родом из Голландии.
Однажды Анна рассказала, как впервые увидела на странице словосочетание «приличный секс» и подумала, что там опечатка.
– В каком месте?
– Буквы перетасовались.
Я по-прежнему не улавливал.
– Причинный секс.
– Это как? – спросил я.
– Секс по причине.
– Разве секс не всегда бывает по причине? Даже если причина – это, ну, само занятие сексом?
– Я как раз подумала, что речь идет о какой угодно другой причине, но никак не причине простого совокупления. Секс ради дела, ради великой цели. Если ты влюблен, это понятно, или если хочешь исследовать мир. Секс ради решения демографических проблем твоей страны.
Секс как путешествие? Секс как гражданский долг? Мне даже подумалось, что это звучит очень по-голландски. И разумеется, очень притягательно.
Так наши барные поcиделки плавно сузились до двух участников; кино, прогулка, картинная галерея, книжный магазин; тихое движение вперед.
Через несколько недель я, прильнув головой к ее виску, спросил:
– Как ты смотришь на то, чтобы заняться причинным сексом?
Она повернулась ко мне:
– Это что, оговорка?
– Нет.
– Ну, только если ты серьезно.
Я ответил, что серьезно, хотя до конца не был уверен, на что подписываюсь.
Элизабет Финч не рассматривала учебные часы в качестве определенных отрезков времени, за которые необходимо представить, обсудить и закрепить какой-либо материал. Она побуждала нас развивать высказанные ею тезисы. Поэтому ее лекции были довольно свободными по форме и зачастую получали продолжение.
– Вы упоминали монокультуры, – напомнил ей Джефф едва ли не через месяц после того, как она в аудитории озвучила свой «моно»– список. – Я не понимаю, почему вы их критикуете. Они служат верным признаком эффективности хозяйствования, успешного центрального планирования.
– Да, так может показаться, – ответила она, – и преимущества на первый взгляд соблазнительны. Но давайте вернемся в прошлое – как мы несколько свысока говорим, в старые добрые времена, когда сельские жители перемещались лишь на короткие расстояния, а зачастую и вовсе не покидали насиженных мест, разве что отправлялись на рынок или в ближайший городок. На пути им встречались немногочисленные представители внешнего мира: путешественники, коробейники с аляповатыми безделушками, офицеры-вербовщики, разбойники и так далее. Наши сельские жители по необходимости были самодостаточными; им приходилось делать запасы съестного, чтобы пережить суровую зиму. Независимости они не знали: над ними стояли сильные мира сего: священник, мировой судья, помещик. Я не сгущаю краски, но эти хозяева жизни могли быть очень жестоки с простым людом. Не стоит всерьез относиться к песенкам про Старую Добрую Англию и прочим дурачествам. Но заведенный уклад существовал из века в век… Затем всю Европу пересекли железные дороги. И в чем заключалась их основная функция? Заключалась она, по мнению и Рёскина, и Флобера, в том, чтобы доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б, где они начнут сообща творить прежние глупости на новом месте. Я излагаю своими словами. Многие рассчитывали, что технический прогресс будет способствовать повышению уровня нравственности; сеть железных дорог его не повысила. Ни на йоту. Интернет тоже. Никакой нравственной пользы он не принесет. Впрочем, подчеркну: и вреда тоже – чудеса техники нравственно нейтральны. Железнодорожный состав может привезти голодающим пропитание; с таким же успехом он незамедлительно доставит на фронт пушки и пушечное мясо… Но заданный вопрос касался монокультуры. Для начала рассмотрим значение этого термина применительно к сельскому хозяйству. Жители тех старинных обособленных городов и сел обеспечивали себя продуктами питания, одеждой, а также необходимыми товарами. Продукты, одежда и товары доставлялись теперь и поездами, однако по совершенно другим ценам. Очень скоро – ибо законы рынка не берут в расчет этическую сторону вопроса – сельские жители поняли: то, что традиционно изготавливалось своими руками, обходится гораздо дешевле. И сельские местности становились все более монокультурными. Взять хотя бы очаровательные прованские города и деревеньки. Неожиданно выяснилось, что привозные вина обходятся совсем недорого, тогда как за выращенное на местных полях зерно можно выручить куда больше, если отправить его в другую провинцию. Деревни утрачивали свою самодостаточность. Поэтому, когда виноградники поражала филлоксера, а пшеничные поля уничтожались гнилью или ураганом, в местности начинался голод. Теперь она зависела от доброй воли и личных интересов соседей. Которые могли оказаться безалаберными, бесхозяйственными, а то и откровенно враждебными. Но все это вам уже известно.
Нередко она переоценивала наши знания, что нам, конечно, льстило. Оглядываясь назад, я начинаю думать, что это могло делаться намеренно и с дальним прицелом, но нам все равно было приятно.
– А теперь можно рассмотреть явление монокультуры в более широком ракурсе. Взять, например, монокультуру наций. Старинные государства Европы и не только: что их определяло? Естественно, расовые и географические особенности; завоевание и империя, а также безумные идеи этнической чистоты и исключительности. Вспомним строку из «Марсельезы»: «Пусть кровь нечистая бежит ручьем». Чистота, кровь. Плюс, конечно, религия и все конкурирующие местные монокультуры. Я тут недавно читала «Застольные беседы Гитлера», так вот: по его словам, в мире есть – то есть было – сто семьдесят значимых религий, каждая из которых претендует на истину в конечной инстанции. А значит, сто шестьдесят девять из них заблуждаются.
Джефф, который всегда держал ухо востро, если Э. Ф. вплотную приближалась к политическим темам, спросил:
– Вы добавили Гитлера в список литературы по вашему курсу?
– Если вы помните, – спокойно ответила Э. Ф., – мой список носит сугубо рекомендательный характер. В ходе каждой лекции у вас, надеюсь, будет возникать потребность ознакомиться с определенными источниками, которые вам пока не знакомы, но могут привлечь ваше внимание.
– То есть вы нам предлагаете, – в голосе Джеффа зазвучали агрессивные нотки, – читать Гитлера?
– Я предлагаю, чтобы мы знакомились и с теми источниками, в которых разделяется наша точка зрения, и с теми, которые ей противоречат, причем не важно, кто их авторы: ныне живущие фигуры или покойные, наши религиозные или политические оппоненты; полезно бывает просмотреть даже ежедневную газету или еженедельный журнал. Знай врага своего – это простое и непреложное правило, – будь то враг живой или мертвый, ибо он легко может воскреснуть. Как однажды выразился знаменитый писатель: «Эти чудовища объясняют нам историю».
Но Джефф не унимался:
– Мой отец погиб на войне, а вы рекомендуете мне читать Гитлера?
Это был единственный раз, когда Элизабет Финч у меня на глазах вышла из себя. Но – кто бы сомневался? – выразила это по-своему. Едва заметно повернувшись, она оказалась лицом к Джеффу и ответила:
– Я соболезную вашей утрате. Однако – не имея ни малейшего желания давить авторитетом – смею все же предположить, что Гитлер уничтожил гораздо больше членов моей семьи, нежели вашей. На сегодня все.
И она вышла, на ходу прихватив с кафедры свою сумку. Каждый из нас боялся нарушить молчание. В конце концов Джефф, поумерив свой пыл, сказал:
– Откуда мне было знать, что она еврейка?
Ему никто не ответил.
Не могу сказать, что мы достигли сократовского идеала, на который она ссылалась в первом своем обращении к нашей аудитории; но мы сами чувствовали, как раскрепощаемся, получаем возможность проявить свои мыслительные способности, прикоснуться к теории, не боясь встретить презрительный взгляд. Впрочем, нас тянула к ней неодолимая сила. Сама Э. Ф. теорией не злоупотребляла (а тем паче презрением); максимум, что она себе позволяла, – это какое-нибудь краткое, емкое обобщение. Если я скажу, что в процессе обучения Э. Ф. использовала свой шарм и ум, то у вас может сложиться впечатление, будто она таким способом обрабатывала нашу аудиторию, а то и намеренно соблазняла. Что ж, она и впрямь была соблазнительна, хотя и не в общепринятом смысле.
Однажды вечером она, рассказывая нам о Венеции, разбирала серию картин Карпаччо.
И при этом сделала отступление:
– Конечно, мы должны, при прочих равных условиях, быть на стороне слабых, жертв, побежденных, уничтожаемых, не так ли? – Она снова посмотрела на экран. – В случае с Георгием и змием – схватки с теологически предрешенным исходом – всякий человек, не обделенный моральным компасом, должен сочувствовать бедному змию.
Мы смотрели на картину, где Георгий в тяжелых доспехах пронзает копьем сквозь пасть череп твари, пока набожная принцесса, которую пришел спасти будущий святой, молится на скале позади него.
Змий, хотя и выглядел устрашающе-чешуйчатым, был на самом деле не больше лошади святого.
– Вы могли бы согласиться, что это демонстрация скорее превосходящего вооружения, чем высшего благочестия.
Джефф, который всегда был не прочь повозмущаться, заспорил:
– Но ведь это святой Георгий; я считаю, высказываться в таком духе не очень патриотично с вашей стороны.
– Можно сказать и так, Джефф. Но пожалуйста, учтите, что в истории было много святых Георгиев, покровителей многих стран и городов, и что пустынный пейзаж, в котором происходит эта встреча, едва ли напоминает о садах Англии. Более широкий смысл здесь в том, что наша цель – выйти за рамки простого патриотизма. Мы готовы анализировать слова «Земли надежды и славы», но петь их не будем. Вы понимаете, о чем я?
Ее высказывания носили корректирующий, но не уничижительный характер; она элегантно уводила нас в сторону от очевидных вещей.
– При этом не забывайте, что бедный змий, который терроризировал город, изображенный на заднем плане – доказательством чему служат изображенные на переднем плане расчлененные тела предшествующих жертв, – не просто пример ужасного дикого животного, пострашнее тех разъяренных слонов, что творят бесчинства в Индии. Змий символичен. Обитающий в Каппадокии, он служит олицетворением языческой земли до пришествия святого Георгия, который вознамерился продемонстрировать мощь мускулистого или, скорее, воинственного христианства. И продолжая эту религиозную раскадровку, мы увидим, как укрощение змия напрямую ведет к обращению в христианство всего региона. Поэтому Карпаччо совместил на своем полотне и стоп-кадр из боевика, и убедительное пропагандистское послание. Один из секретов успеха христианства в том, что нанимать нужно только самых лучших кинематографистов.
Чему она, вне сомнения, нас научила, так это тому, что осмысление истории требует времени и усилий; более того, история не будет ждать неподвижно и безучастно, когда мы решим навести на нее подзорную трубу или телескоп; напротив, история – она живая, кипучая, порой даже неудержимая. Полагаю, «формирующие годы» Э. Ф. пришлись на пятидесятые, однако она не служила их воплощением, как не воплощала собой эпоху Просвещения или четвертый век нашей эры. Подобно античной богине – да, я отдаю себе отчет в своих словах, – она будто оставалась в стороне от хода времени, а быть может, и возвышалась над ним.
– Мне хотелось бы предположить, что поражение может открыть нам больше, чем успех, а тот, кто не умеет проигрывать, – больше, чем принимающий поражение достойно. Более того, отступники всегда вызывают у нас больший интерес, чем правоверные и священномученики. Отступники – проводники сомнения, а сомнение – в первую очередь пылкое сомнение – это признак деятельного ума. Ранее я упоминала Юлиана Отступника. Принимая во внимание нашу сущность, нам целесообразно избрать отправным пунктом поэта Суинберна. Алджернон Чарльз Суинберн сам был отступником, восставшим против викторианских ценностей. Однако следует заметить, что он отличался некоторой аффектацией, если не сказать – истеричностью. Хрестоматийный пример ученика частной школы, познавшего на себе в прямом и переносном смыслах жестокость – а для кого-то, возможно, радость – телесных наказаний. Он шел по традиционному британскому пути разложения, и вырвал его из этой трясины поэт второго ряда Теодор Уоттс-Дантон, который поселил парня у себя в полуособняке под названием «Пайнс», что в Патни-Хилл, район Патни. Судьба, согласитесь, – известная насмешница, верно? Конечно, мотив грешника, вставшего на путь истинный, широко использовался в Викторианскую эпоху, но от этого не становился более притягательным. Впрочем, я немного уклонилась от темы.
Суинберн включил в свой «Гимн Прозерпине» следующие достопамятные строки:
Ты победил, галилеянин бледный,
но серым стал в твоем дыханье мир,
А мы, испивши вод хмельных из Леты,
на тризне в забытьи сыграли пир.
Фразу о бледном галилеянине, безусловно подразумевающую Иисуса из Назарета, Юлиан Отступник якобы произнес, умирая на поле боя. Знаменитые последние слова, признающие победу христианства над язычеством. Юлиан действительно стал последним языческим императором. Причина, по которой в газетах – как минимум в языческих – его могли назвать «стойким оловянным солдатиком». Ученый-воин: перед походом в Галлию он получил в подарок от императрицы Евсевии библиотеку, чтобы иметь возможность философствовать между сражениями. Странным образом Суинберн не упоминает имени Юлиана. Однако в названии стихотворения видим имя Прозерпины, которая, помимо прочих заслуг, была богиней и защитницей Рима в древние времена. Теперь же ее место собирались отдать другой заступнице – Марии, матери Иисуса Христа, которая и опекает город с тех самых пор.
Мы могли бы предположить, что слова Юлиана выражают не что иное, как достойное принятие духовного поражения. Ничего подобного. Суинберн, наряду с многими выдающимися предшественниками, считает этот эпизод злосчастным поворотом в европейской истории и цивилизации. Древнегреческие и древнеримские боги были богами света и радости; мужчины и женщины осознавали, что жизнь одна, поэтому свет и радость необходимо найти на земле, до перехода в небытие. В свою очередь, эти новые христиане повиновались Богу тьмы, страдания и рабства, провозгласившему, что свет и радость существуют только после смерти на созданных Им небесах, путь к которым наполнен печалью, грехами и страхом. «На тризне в забытьи сыграли пир», вот уж точно. В этом вопросе Юлиан Отступник и Суинберн солидарны.
Разумеется, – продолжала Э. Ф., – нам следует избегать жалости к себе. Неужели разумно утверждать, что в триста шестьдесят третьем году нашей эры в пустынях Персии история пошла не тем путем, а спустя шестнадцать столетий мы, как оказалось, вытянули несчастливый билет, позволивший нам кричать во все горло: «Мы тут ни при чем!»? Проще поверить, что чаша сия не миновала никого, а несчастливый билет – норма. Поэтому историческая жалость к себе не более привлекательна, чем персональная.
Уж в чем, а в этом никто не мог бы обвинить Элизабет Финч.
Еще она использовала такой прием: перед тем как начать лекцию, выясняла, что нам известно по конкретной теме. Этих моментов мы побаивались. Что мы вообще знали о чем бы то ни было? Специалисты из нас были аховые. Однако ее подход нас приободрил: «Неправильных ответов не бывает, даже если все ответы неверны». Так она сказала после объявления очередной темы – «Рабство и его отмена».
Суммирую наши ответы. Уильям Уилберфорс, отец Мыльного Сэма. Гарриет Бичер-Стоу. Тринадцатая поправка, Авраам Линкольн. Работорговцы из Африки, которые первыми стали продавать невольников для переправки. Среди торговцев были как африканцы, так и арабы. Рабовладение распространилось по всему миру. Королевский военно-морской флот патрулировал моря, задерживая и обыскивая суда, подозреваемые в работорговле. В случае изъятия «собственности» рабовладельцам выплачивали компенсацию, но тому, кто сам побывал в рабстве, никаких компенсаций не полагалось (Джефф).
– Так, – сказала Э. Ф. – Очень хорошо.
Подразумевалось, что наши ответы худо-бедно соответствуют ее ожиданиям. Какие-нибудь даты, пожалуйста. Год принятия Тринадцатой поправки. Нет ответа? Тысяча восемьсот шестьдесят пятый. Декларация независимости. Верно, тысяча семьсот семьдесят шестой. В каком году первые колонисты высадились у Плимутской скалы? Короткое жаркое обсуждение, как во время студенческой викторины. В тысяча шестьсот двадцатом, очень хорошо. И заключительный вопрос: в каком году рабы впервые были доставлены в одну из английских колоний, носившую по иронии судьбы название Пойнт-Комфорт? Нет? Никто не вспомнил?
Она выдержала паузу.
– В тысяча шестьсот девятнадцатом.
Более не распространяясь, она дала нам немного времени для размышлений и подсчетов: например, в том плане, что рабы и британцы прибыли одновременно, а значит, британцы на том континенте владели рабами чуть ли не вдвое дольше, нежели американцы.
– И это заставляет меня перевести вопрос в более широкую плоскость. – У Э. Ф. для каждого вопроса находилась более широкая плоскость. – Видный французский историк и мыслитель девятнадцатого века Эрнест Ренан говорил: «Забвение, или, лучше сказать, историческое заблуждение, является одним из главных факторов существования нации».
Но заметьте, пожалуйста, чего он не говорил. Он не говорил: «Забвение, или, лучше сказать, историческое заблуждение, является одним из главных факторов создания нации». Это, казалось бы, тоже справедливое замечание, но намного менее провокационное. Нам знакомы основополагающие мифы, которые используют и настойчиво распространяют отдельные страны. Мифы о героической борьбе против государства-захватчика, против тирании знати и Церкви, о противостояниях, в которых создавались мученики, чья кровь орошает хрупкие ростки свободы. Но Ренан ведет речь не об этом. Он утверждает, что историческое заблуждение является одним из главных факторов существования нации. Другими словами, чтобы верить в чаяния – какими они нам видятся – своей нации, мы должны постоянно, день изо дня, обманывать себя в малых и больших поступках, постоянно репетируя наши утешительные сказки на ночь. Мифы о расовом и культурном превосходстве. Веру в благосклонных монархов, непогрешимых пап, честные правительства. Убежденность, что религия, в которой мы рождены или живем по собственному выбору, – это одна-единственная истинная вера среди сотен языческих и богоотступнических сект.
И это различие между нашей сущностью и нашей кажимостью в собственных глазах естественным образом приводит к такому качеству, как лицемерие, хрестоматийный пример которого являют собой британцы. То есть хрестоматийный в глазах других наций, ослепленных своим собственным лицемерием.
Как ни странно, именно после этой лекции мы с Анной впервые поссорились. В виде исключения мы зашли вместе с нашей группой в студенческий бар. Отчего наш конфликт оказался прилюдным и особенно разрушительным. Первой начала она.
– Хочу сказать одно: никакой личной ответственности я не чувствую.
– Но у вас тоже была империя, у вас были рабы.
– Это относится ко всем европейским странам. Даже к Бельгии с ее Брюхелем.
Я посмеялся над ее пришепетыванием, которое в других обстоятельствах счел бы очень милым.
– Да уж, Бельгия – она почище всех прочих была, – согласился я. – Конрад. «Сердце тьмы».
– Но я-то так или иначе от Брюхеля далека.
– А тебе не кажется, что есть такое понятие – коллективная ответственность?
– Вот именно, – вклинился Джефф, – как у народа Германии под водительством любимого мемуариста Элизабет Финч.
Нас обоих раздосадовало такое вмешательство.
– Я не ощущаю и не несу ответственности за то, что творили выходцы из моей страны – солдаты и торговцы – за многие века до моего появления на свет. Тем более что мои предки сами были на рабском положении в одной из беднейших провинций Голландии.
– Твои предки (а): не были рабами, которых каждый волен покупать, продавать, насиловать, истязать и убивать. И (б): разве не в том заключается миссия потомков рабов, чтобы объяснять нам, не угнетает ли их память о тех жутких преступлениях, которые творились против их предков, и о тех страданиях, которые по сей день с ними?
– Давай-давай, Нил, мы из тебя еще сделаем левака.
– Отвали, Джефф.
Но я даже не смотрел в его сторону. Я смотрел только на Анну. Все остальные помалкивали.
– Ну не получится у вас навязать мне ответственность. Или вину. Это не про меня. Уж извините. Разговор окончен.
– Я вовсе не подталкиваю тебя к каким-либо поступкам или состояниям. Ты – такая, какая есть.
– Вот спасибо, что напомнил. Спасибо, что позволил мне быть собой. Как там звучит изречение, которое любит цитировать твоя святейшая Элизабет Финч? «Из существующих вещей…»
Боже правый, теперь и она ополчилась на Элизабет Финч.
– «Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет». Эпиктет.
– Без тебя знаю, что долбаный Эпиктет. Я другое хочу сказать: голландское рабство, о котором, подозреваю, тебе известно крайне мало, ко мне отношения не имеет, и ты на это повлиять не способен.
– Да я и не пытаюсь.
– Еще как пытаешься.
Даже не опустошив свои стаканы, мы разошлись в разные стороны. Может, и верно говорится: все споры на самом деле – не о том. Но сквозь призму времени видно, что тот случай стал поворотным пунктом.
В конце учебного года нам задали написать эссе. Тему каждый должен был придумать сам, но желательно – а точнее, обязательно – в рамках нашего курса лекций. Помню, как Элизабет Финч лукаво добавила:
– Кто захочет, сможет прийти на консультацию со своими наработками.
Между собой мы почти не касались этого задания, чтобы никому не дарить свои мысли. Лекции Э. Ф. нас увлекли, но вместе с тем показали, как мало оригинальных идей рождается в наших незрелых мозгах.
Мое эссе так и не родилось в срок. Я по-всякому жонглировал некоторым количеством широких понятий – непрочность исторической истины, слабость человеческой натуры, переменчивость религиозных убеждений и так далее, – но, помнится, написал лишь пару абзацев. Меня в то время поглотили другие проблемы: хрупкость человеческих отношений и неустойчивость брака. Я уже года два был в разводе и продолжал открывать для себя иллюзорность такой материи, как чистый правовой разрыв. Боль, обида, финансовые терзания – они до сих пор никуда не делись. Тут самому здравомыслящему человеку недолго оказаться в плену навязчивых состояний, мстительности, жалости к себе, а попросту говоря – свихнуться, причем порой из-за какого-нибудь рядового письма от адвоката, после первого сеанса у нового психоаналитика или в результате взрослого, казалось бы, разговора о будущем ребенка. Впрочем, не буду грузить вас подробностями, чтобы не грузить ими себя.
Я подошел к Э. Ф. и, как мог, объяснил, что за последнее время лишился мозгов и куска сердца.
– Простите, – сказал я напоследок, – у меня такое ощущение, что я вас подвел.
Мне втайне хотелось, чтобы она стала меня утешать. Но вместо этого она негромко сказала:
– Я убеждена: это временно.
Зациклившись на собственных проблемах, я решил, что она имеет в виду кризис, накрывший меня после развода. Но впоследствии понял: она подтвердила, что я не оправдал ее надежд, однако указала, что это поправимо. Что в будущем я так или иначе перед ней реабилитируюсь. Такое случалось нередко: она произносила некие фразы, которые повисали в воздухе, но запоминались и спустя годы раскрывали свой смысл.
Я никогда не отличался склонностью к авантюрам. Те житейские решения, которые по ошибке можно причислить к авантюрным (жениться, развестись, зачать внебрачного ребенка, уехать на неопределенный срок за рубеж), объяснялись либо нервным перевозбуждением, либо трусостью. Если, как утверждал философ, одни вещи находятся в нашей власти, а другие нет, причем свобода и счастье зависят от нашего умения отличить одно от другого, то моя жизнь вечно шла вразрез с философией. Я метался вверх-вниз, вправо-влево, от уверенности в своей власти над событиями – к пониманию безнадежности всего сущего и собственной несостоятельности, как в плане постижения, так и в плане бытия. Здесь я, в принципе, не отличался от большинства.
Я действительно подвел Э. Ф. Получил от нее одно-единственное задание, но и с ним не справился. Она проявила снисхождение, причем особого рода, свойственного только ей. Ничем меня не задев. Когда я уже собрался уйти, что-то меня остановило, и в момент нервного перевозбуждения (вызванного страхом никогда больше не увидеть Э. Ф.) выдавил, отводя глаза:
– Я знаю, так не принято…
– Да-да?
– Но не согласитесь ли вы… то есть… не могли бы мы с вами где-нибудь посидеть… или даже… пообедать?
Только теперь я поднял на нее взгляд: она улыбалась.
– Нил, дорогой, конечно. И лучше всего, мне кажется, было бы вместе пообедать.
Так начался новый этап моей жизни. Раза два-три в год мы встречались в итальянском ресторанчике поблизости от ее дома, в западной части Лондона. Правила были ясны, хотя никогда не проговаривались вслух. Я приезжал ровно в час; она уже сидела за столиком и курила. Мы заказывали пасту дня, зеленый салат, по бокалу белого вина и по чашке черного кофе. Однажды, еще на первых порах, я, в нарушение установленного порядка, заказал эскалоп из телятины.
– Ну как? – Она резко перегнулась через стол. – Сплошное разочарование?
Обед продолжался ровно час с четвертью. Платила всегда Э. Ф. Стоило мне присесть к столу, как она спрашивала: «Ну, с чем ты сегодня пришел?» – перекладывая инициативу на меня, но я не возражал. И, зная, что впереди у нас ровно час с четвертью, я не только сознательно выбирал тему разговора, но и в некоторой степени… нет, на полную мощность… включал мозг. Ее присутствие делало меня умнее. Откуда-то всплывали знания, рассказ становился более связным. И мне отчаянно хотелось ее порадовать.
Как я уже сказал, она была совершенно не публичной персоной, да и не стремилась таковой стать. Ни ее темперамент, ни способности не были заточены на известность. Сдается мне, она даже не рассматривала этот вопрос. Помню, как-то раз она заметила, что у древних греков Клио была музой истории: ее изображали с книгой или со свитком в руке, «а в наш более просвещенный век американцы вручают премию „Клио“ за достижения в рекламе». Ко всему прочему Клио считалась и музой игры на лире, но для прославления успешных рекламщиков почему-то не приглашают музыкантов с лирами. У нее была особая манера речи: лукаво-ироничная, а оттого совершенно не обидная – по крайней мере, для нас – и лишенная всяческой покровительственности. Вдобавок таким способом она как бы убеждала: «Не принимайте на веру провозглашенные ценности своего времени».
За одним из таких обедов я спросил, почему она решила посвятить себя обучению взрослых.
– Меня не привлекает отсутствие любознательности, – ответила она. – Как ни парадоксально, юные более самоуверенны, а их устремления, хотя и объективно туманные на посторонний взгляд, представляются им четкими и достижимыми. У взрослых не так… некоторые, конечно, поступают на вечернее отделение, чтобы только потрафить своим желаниям, но большинство все же руководствуются тем, что в их жизни чего-то недостает, что они, вероятно, нечто упустили, а теперь им дается шанс – и, возможно, последний – наверстать упущенное. И меня это глубоко трогает.
Мне вспомнилось, как встретил ее наш поток: затяжным благоговейным молчанием, ощущением неловкости и скрытой насмешкой, но очень скоро на смену всему этому пришла искренняя теплота. А вместе с тем и определенная забота: мы каким-то чудом уловили в ней неприспособленность к этому миру, некую уязвимость, рождаемую, как видно, возвышенным образом мыслей. Но с нашей стороны тоже не было и тени покровительственного тона.
С годами до меня дошло и то, что ее описание взрослых обучающихся целиком и полностью относилось ко мне; без сомнения, именно поэтому я и поддерживал с ней знакомство после вручения дипломов. И еще потому, что она сама мне это разрешала.
Иногда я в угоду ей прогибался; она же ни разу не поступилась ни одной мыслью, ни одним суждением, чтобы избежать разногласий. Я к этому привык – а куда было деваться? Однажды речь зашла о реакции общественности на какой-то политический скандал, и я предположил, что у людей вообще есть привычка искать виновных.
– Привычка – не то же самое, что хорошая привычка, – ответила она.
– Но если найти виновного, то можно изменить положение дел.
– Каким же образом?
– Проголосовать «против» на выборах.
– Это расхожее заблуждение: считать, что смена правительства ведет к улучшению ситуации.
– Надо прислушиваться к голосу отчаяния.
– Нет, надо прислушиваться к голосу разума. Ты видишь у меня признаки отчаяния?
– Нет, не вижу. Но готов поспорить, что вы всегда ходите на выборы.
– В полной уверенности, что они ни на что не влияют.
– Тогда что вас гонит на выборы?
– Гражданский долг. Автоматизм.
Тут я едва сдержался:
– Откуда такое высокомерие?
– По отношению к кому?
– Ну, как сказать… к другим избирателям.
– Ты хочешь сказать, что я обязана полностью разделять их надежды, чаяния и грядущие разочарования? Главная функция политика – вызывать разочарование.
– А это, знаете ли, уже цинизм.
– Не соглашусь. Я не причисляю себя к циникам.
– А к кому вы себя причисляете?
– Я не настолько тщеславна, чтобы навешивать на себя ярлыки.
Как всегда, она хранила сверхъестественное спокойствие. Которое порой меня бесило. Она что, использовала меня как игрушку? До сих пор не переставала поучать?
– Значит, цинизм – не ваше кредо. А каково же ваше… анархизм?
– В философском плане я вижу привлекательность такого кредо. Но в плане реальности оно всегда обречено, учитывая изломанные ветви человеческого древа.
– Значит, вы признаете, что нам необходимо какое-либо организующее начало?
– Я признаю, что оно будет с нами всегда, хотим мы этого или нет.
– И что конституционная демократия – наименее гнусный строй из тех, что мы открыли для себя на сегодняшний день?
– Такой тезис, очевидно, сформулирован кем-то из демократов, да?
– Значит, вы не относите себя ни к циникам, ни к анархистам. В таком случае… к эпикурейцам?
– Эпикур, несомненно, был очень мудрым психологом.
– По-моему, вам наиболее близок стоицизм.
– О, это очень привлекательное мировоззрение.
– По той причине, что оно развязывает вам руки и прочее?
– Нил, дорогой, ты сейчас в опасной близости от оскорблений.
– Прошу прощения. У меня…
– Нет-нет, я ничуть не обиделась. Просто отмечаю, что в большинстве случаев до оскорблений скатывается тот, кто проиграл в споре. Ты все время пытаешься навешивать на меня ярлыки. Но я же не багажный сундук.
Не теряя присутствия духа, я сделал последнюю попытку:
– Так-так, значит, вы – феминистка?
Она, глядя мне в глаза, улыбнулась:
– Естественно – ведь я женщина.
Теперь вы видите, насколько она была непрошибаема? Нет, сдается мне, это снова граничит с оскорблением. Попробую выразиться иначе: теперь вы видите, чего стоило мне и людям моего склада задавать тон в подобных разговорах или хотя бы держаться с ней на равных? Не потому, что она мною манипулировала – менее всех известных мне женщин она была склонна манипулировать, – а потому, что смотрела на вещи более широко, с иных позиций и в иных ракурсах.
Надеюсь, вы понимаете, почему я относился к ней с обожанием. Даже ее интеллектуальное превосходство вызывало у меня обожание. Когда я признался в этом – именно такими словами – Анне, та назвала меня интеллектуальным мазохистом. Против этого ярлыка у меня тоже не нашлось возражений.
Вопрос по существу, пусть даже задним числом. Поначалу Элизабет Финч представлялась мне романтической пессимисткой; сегодня я бы назвал ее романтической стоицисткой. Как соотносится одно с другим? Это совместимые или взаимоисключающие кредо? Так и тянет сказать, что Э. Ф. на первых порах стояла на возвышенных позициях романтизма, но потом, пройдя через неминуемые разочарования, обрушенные на нее жизнью, перешла к стоицизму. Причем никаких реальных доказательств у меня не было. А вдруг она когда-то была помолвлена, но по пути на регистрацию брака получила отставку? Можно также представить, что у нее было длительное увлечение, за которым последовало внезапное предательство и жестокое крушение иллюзий. Такая история могла бы послужить логическим и даже «естественным» объяснением, но при этом оказалась бы психологически банальной; а банальность вряд ли смогла бы дать ключ к пониманию Э. Ф. Я предпочитаю думать, что по мере взросления ума и сердца она превратилась в двойственную натуру: романтическую и параллельно с этим – стоическую. Необычная, непостижимая версия? Да, но такой была и она сама.
Наши отношения с Анной продлились год с лишним и пали жертвой изначально заложенной в них асимметрии. Те качества, которые на первых порах притягивали нас друг к другу – ее пылкость, моя уравновешенность, – со временем стали выглядеть иначе: с одной стороны, как мелодрама, с другой – как эмоциональная скудость.
Я не сразу рассказал ей о наших с Э. Ф. обеденных встречах, потому что… ну, потому что потому. Среди наших друзей попадаются собственники. Но однажды я все же упомянул сложившееся положение, поскольку вскоре мне предстояло свидание с Э. Ф. Анна слушала без особого интереса, но я все же описал, где и как проходят наши встречи, на каких условиях, какие блюда и напитки она заказывает.
– Тебя, наверное, это греет, – сказала Анна. – Вас обоих.
– Да. Такие отношения, в общем-то, редкость.
– А почему ты раньше молчал?
– Сам толком не знаю. Есть вещи, о которых неохота распространяться, правда же?
– Тебе неохота, – ответила она со знакомым напряжением в голосе.
Но я больше не отвечал за ее эмоции, а потому сменил тему.
Через два дня, когда мы с Э. Ф. доедали пасту, к нашему столику подвинули стул.
– Не возражаете? – спросила Анна и села, не дожидаясь ответа.
– Анна, как приятно, – ровным тоном сказала Э. Ф., будто такие вторжения происходили каждый раз и могли только приветствоваться.
– Я тут подумала: хорошо бы с вами встретиться после такого перерыва. Вы прекрасно выглядите.
– Спасибо, Анна. Вы тоже.
После обмена бессмысленными любезностями Э. Ф. поднялась со стула.
– Не буду вам мешать. – Коротко переговорив с Антонио, Э. Ф., не оглядываясь, вышла из ресторана.
– Какого хера? Что ты тут устроила?
– Просто захотела снова на нее посмотреть. Это же свободная страна, разве нет?
– Не во всем.
Тут к нам подошел Антонио.
– Синьора Финч говорит, заказывайте что угодно, она расплатится завтра.
Я пришел в бешенство и устыдился своей злости. Анна держалась так, словно я до смешного ревнив и чопорен, а она, как всегда, душевна и порывиста. Более того, она делала вид, что ее связывает с Э. Ф. такая же прочная дружба, как и меня. Во всяком случае, я придержал язык, чтобы не проронить «Больше так не делай» или «Оказывается, бесплатный сыр бывает не только в мышеловке». Насупился и молчал, а она тщетно пыталась меня поддразнивать, но я не реагировал, и… ну, короче, вы сами все понимаете.
Я написал Э. Ф. письмо с извинениями и объяснил, что появление Анны никак не связано со мной (хотя на самом-то деле из-за меня все и случилось). В ответ пришла краткая записка без единого упоминания моего письма. Там лишь было сказано:
«Отложим разговор до следующего раза».
К моему огромному облегчению, так и получилось.
Наша обеденная традиция длилась почти двадцать лет и освещала мою жизнь ровным, лучезарным сиянием. Э. Ф. предлагала дату. Я всегда выкраивал время. Годы не прошли для нее (и для меня тоже) бесследно: с возрастом у нее обнаруживались стандартные недомогания и хвори, но она не придавала им значения. Впрочем, в моих глазах она не менялась: тот же стиль одежды и беседы, тот же аппетит (весьма умеренный), те же сигареты (выбранные раз и навсегда). Я приезжал, она уже сидела за столиком, я подсаживался к ней и она спрашивала: «Ну, с чем ты сегодня пришел?»
Улыбаясь, я всегда старался удовлетворить ее любопытство, порадовать, сообщить вести из мира рухнувших браков, успешных детей и карьерных метаний. Ее интеллектуальные запросы были неподвластны времени. И по ресторанным счетам, как прежде, всегда платила она.
Дважды подряд она отменяла или, точнее, откладывала наши встречи с одной и той же формулировкой: «В силу непредвиденных, но упрямых фактов разрушения наружной оболочки». До меня так и не дошло, что она медленно угасала. Без прощаний, без каких-либо требований, без предсмертных записок. Позже я представлял себе, как она умирала: стоически, не жалуясь, молча, почти тайно. О похоронах меня известил некий Кристофер Финч – видимо, ее брат; до того момента я пребывал в заблуждении, что она росла единственным ребенком в семье. В малом ритуальном зале холодного кирпичного крематория в южной части Лондона собралось человек тридцать. Из динамиков раздавались мелодии Баха, отрывки из сочинений Джона Донна и Эдуарда Гиббона, затем брат произнес незатейливое, трогательное прощальное слово, посвященное главным образом их с сестрой общему детству; посмотрев на гроб, он разрыдался. Увидев несколько знакомых лиц, я покивал, перед уходом пожал руку Кристоферу Финчу и наотрез отказался идти в поминальный зал этажом выше, а потом и в ближайший паб, где ждали бутерброды и вино. Почему-то я не мог заставить себя говорить о ней с незнакомцами, задавать стандартные вопросы и получать стандартные ответы. И при этом отмечать, как все громче звучат голоса и раздаются неловкие смешки, которые множатся и перерастают в пронзительный хохот. Да это ж без всякой задней мысли, гости-то покуда живы, а Лиз не стала бы возражать, правда ведь – чай, не зануда какая-нибудь была наша Лиз, уж это точно. Слушай, а помнишь, как… Нет, об этом молчок. Но мне ко всему прочему хотелось избежать состязательной скорби – на таких мероприятиях это не редкость. Кто лучше всех ее знал, кто больше всех горюет. Я не хотел ни с кем делить Элизабет Финч и унес ее домой в своей памяти.
В письме из какой-то юридической конторы сообщалось, что Элизабет завещала мне все свои записи и библиотеку для последующего использования по моему усмотрению. Я был польщен и в то же время озадачен. Две выпущенные ею книги давно не переиздавались. В мечтах воображал, что она отписала мне неожиданный поздний шедевр, который при моем участии будет представлен миру. Сидящий во мне тайный вуайерист задавался вопросом, не осталось ли после нее беспощадных, саморазоблачительных дневников; временами мое непристойное воображение могло соперничать с фантазиями самых похотливых ее учеников. Почему-то мне хотелось непременно обнаружить какую-нибудь тайну, пусть даже невинную – легкое пристрастие к игре на скачках (Э. Ф. в кассе ипподрома! Или у телефона – звонит какому-то сомнительному типу, своему «личному букмекеру»!). Но разумное начало быстро отмело такие невероятные домыслы. Мне казалось, что Э. Ф., которая неустанно контролировала свою жизнь, столь же тщательно проконтролировала и наследственные дела. Вероятно, меня будет ждать записка с четкими инструкциями.
Я доехал до краснокирпичного жилого дома в западном Лондоне, куда меня никогда не звали. Все говорило о том, что раньше внизу дежурил одетый в ливрею портье; теперь ему на смену пришел кодовый замок на входной двери. Меня поджидал Кристофер Финч, единственный родственник и душеприказчик. Жизнерадостный, седой, розовощекий крепыш в коротком пальто автомобилиста поверх синего костюма и при квазиполковом галстуке. На вид столь же нетаинственный и неэкзотичный, сколь экзотична и непроницаема была его сестра.
– Даже не представляю, чего ожидать, – сказал я.
– Я и сам в неведении. Но я-то человек простой, не литератор какой-нибудь. Однако же хорошие детективчики люблю. Приятно иногда отвлечься.
– Да, это еще никому не вредило.
– Ага, только я читаю такие книжицы, которые моя сестра облила бы презрением.
– По-моему, презрения в ней было куда меньше, чем ей приписывали, – сказал я и тут же осекся – не стоило так далеко заходить. – Простите… вы ведь ее брат.
– Ну да, только не надо мне втирать, что она бы похвалила Алистера Маклина, Десмонда Бэгли и Дика Фрэнсиса.
– Трудно представить, с каким лицом она взялась бы за такое чтиво.
Он хмыкнул:
– Так же не представишь, чтобы она умяла полный английский завтрак.
В ее квартире, отделанной в коричнево-бежевых тонах, царил безупречный порядок, по стенам были развешаны книжные полки и небольшие офорты, в углу стоял торшер с громоздким абажуром. В гостиной не было телевизора, на кухне отсутствовала микроволновая печь – там находились только миниатюрный холодильник, допотопная газовая плита и электроплитка «Беби Беллинг»; в картонной коробке на полу хранились полиэтиленовые пакеты. Односпальная кровать, встроенные шкафы, тусклая прикроватная лампа. Никаких комнатных растений. Очень старый портативный проигрыватель стоял на боку, возле стопки долгоиграющих пластинок. Радиорепродуктор «Робертс» был подлинный – не какой-нибудь винтажный римейк. В домах и квартирах, опустошенных смертью, часто витает дух заброшенности и уныния; в скорбную пору нам свойственно очеловечивать такие места. Но здесь ничего подобного не наблюдалось – видимо, оттого, что Э. Ф. не приросла к этому жилищу, не полюбила его, а лишь оставалась тут посторонней. И жилище платило ей той же монетой равнодушия (как еще это выразить, если не прибегать к антропоморфизму?), свысока взирая на наше появление.
Я обвел глазами книжные полки:
– Десмонда Бэгли явная недостача.
Кристофер Финч посмеялся.
– Когда вы с ней виделись в последний раз? Если мне будет позволено…
– За несколько дней до ее кончины. А раньше, бывало, по году не виделись, а то и дольше. Я в город часто наезжаю, мы с ней обедать ходили. В безалкогольную закусочную. Как вы понимаете, выманить ее за город было непросто.
– А где вы?..
– В Эссексе. Уж такая даль – на поезде с ветерком.
Он сообщил об этом с иронией, но без обиды, просто констатировал факт: вот такой была его сестра.
И продолжал:
– Раньше-то я в полгода раз непременно в город наведывался. Это уж со временем реже стал ездить.
– Она умела людей отсекать, – сказал я. – Вежливо, но твердо.
– Что ж поделаешь, если характер такой. Почти до самого конца помалкивала про свои хвори. Ни с кем делиться не собиралась.
Мы встретились взглядом. Трудно было представить более несхожих брата и сестру. Даже вежливость они понимали по-разному.
– Вы на меня не смотрите, занимайтесь своими делами. Я только проверю: вдруг в холодильнике грешным делом спиртное выдыхается.
В незапертом конторском шкафу хранились все документы, связанные с банками, адвокатами, бухгалтерией, страховкой и так далее. На самом видном месте лежало завещание.
Ее дубовый письменный стол английской работы, изготовленный в стиле «Искусств и ремесел», оказался единственным предметом мебели, выполнявшим не только утилитарную функцию. Он тоже был не заперт. Папки, тетради, бумаги, распечатки.
– Прямо не знаю, с чего начать, – сказал я.
– А вы не хотите все с собой забрать? Если ненароком прихватите какие-нибудь фамильные реликвии, можете позже завезти.
Приятно было сознавать, что здесь мне доверяют. Я пообещал в скором времени с ним связаться, – может, выберемся вместе пообедать.
– Приезжайте в Эссекс – гостем будете, – предложил он. – На поезде с ветерком…
– Кстати, когда она составила завещание?
– Ой, давно. Лет пятнадцать-двадцать тому назад? Могу проверить, если надо.
– Да, будьте добры.
Мы протянули друг другу руки. Я выгреб содержимое письменного стола и увез с собой. А через неделю с небольшим на мой домашний адрес доставили все ее книги, аккуратно сложенные в коробки.
Несколько месяцев они так и лежали, да и содержимое письменного стола оставалось непотревоженным. Меня сдерживали не оковы ответственности, а скорее предрассудки. Тело ее было кремировано в соответствии с завещанием; память, хранимая до поры до времени родней, знакомыми и бывшими студентами, не могла жить вечно. Но здесь, у меня в квартире, поселилось нечто среднее между телом и памятью. От мертвых листов бумаги непостижимым образом веяло жизнью.
Осторожно, со смешанными чувствами я извлек несколько записных книжек. Толстые, красно-черные бруски в твердых переплетах – дешевый импорт от фирмы «Летящий орел» из Шанхая. Это меня удивило: я ожидал увидеть элегантную канцелярскую продукцию в замшевых переплетах нежных оттенков. Но потом вспомнил, что такое же удивление вызвали у меня ее дешевые сигареты в изысканном портсигаре из черепахового панциря. Все записные книжки были пронумерованы рукой Э. Ф. Некоторые номера отсутствовали, но дат не было нигде. Не было и внутренней последовательности: очевидно, Э. Ф. не раз возвращалась к этим записям, чтобы внести исправления и комментарии. Почерк можно было бы назвать курсивом – упрощенным или же персонифицированным. Все записи, исключительно карандашные, будто говорили: мысль недолговечна и легко стирается. А почерк Э. Ф. варьировался, но в зависимости от чего – то ли от возраста, то ли от усталости, то ли от настроения, – утверждать не берусь.
За бокалом вина я принялся скользить взглядом по строчкам.
• Быть стоиком в эпоху саможаления – значит обрекать себя на клеймо нелюдимости, нет, хуже: бесчувственности.
• Все личное есть политическое – так звучит мантра дня на протяжении десятилетий. Небольшое уточнение. Скорее все личное есть историческое. (И все личное, не будем забывать, есть также истерическое.)
• Как ни странно, есть мужчины, которые внушают себе, что похоть – это эмоция. Более того, одна из первичных.
• Но есть и множество таких, которые путают чувство вины с прощением. Им невдомек, что между этими крайностями существуют градации.
• Недавно одна женщина назвала себя «невероятно правдивой». Что за глупая театральщина. У правдивости градаций нет. Градации есть у лживости, но это другой вопрос.
• «Философы не могут прийти к согласию насчет количества страстей». д/обсужд. в ауд.
Нет, стоп. Не успев начать, я уже превращаю эти заметки в «Остроумие и мудрость Элизабет Финч». Она бы пришла в ярость – как от пресловутого описания в три обтекаемых эпитета, которое только путает читателя. Я уже причисляю ее к классикам, не спросив разрешения. А сам даже не уверен, что изучаю ее собственные мысли. Вот эта последняя, к примеру, насчет количества страстей – явно же цельнотянутая.
А как насчет следующей: «Задача настоящего – исправить наше понимание прошлого. И эта задача становится особенно актуальной, когда прошлое непоправимо». Вот это, предположительно, голос Э. Ф.; однако с таким же успехом это может оказаться переводом цитаты из какого-нибудь европейского философа-историка двух последних столетий.
Одни пункты укладываются в абзац, другие – в страницу, некоторые сопровождаются отсылками, но большинство – нет. Есть обрывки, есть причуды.
• Св. Себастьян // еж
Здесь, вверху страницы, особняком стоит какое-то сокращение:
• Г. Б.
Гастон Башляр? Голден-Бич? Господь Бог?
И еще одна изолированная запись, тоже вверху страницы:
• Ю., ум. в 31 год
Это заинтриговало меня более всего остального. Простые, горестные обозначения. Что я там наговорил про вуайериста, сидящего у меня внутри? Воображение услужливо нарисовало молодого человека, возбуждавшего особый интерес Э. Ф. В моем представлении – хорошо сложен, выше ее ростом. Быть может, двоюродный брат или друг Кристофера? Или ее первый любовник? Но с какой стати я решил, что это мужчина? Как бы то ни было, это человек, которого она горячо любит. Он умер в тридцать один год? Внезапно открывшаяся редкая форма рака, мотоциклетная авария, а то даже и суицид. Э. Ф. окаменела от горя, сердце парализовано, заморожено на долгие годы… или навечно?
Я потрясен – не в последнюю очередь – пошлой сентиментальностью картинок, вброшенных моей разыгравшейся фантазией. Э. Ф. сгорела бы со стыда за своего студента. И все же…
Через несколько дней мне позвонил Кристофер.
– Завещание оформлено восемнадцать лет назад. Дополнительных распоряжений нет. Требуется простое утверждение – так уверяет меня адвокат. Зная эту братию, рискну предположить, что дело затянется по меньшей мере на год.
– Спасибо. А могу я спросить… – Мне трудно было подобрать нужные слова.
– Валяйте, спрашивайте.
– Это может прозвучать немного странно. И все же. Не было ли у нее в молодости близкого человека с именем или фамилией на «Ю»?
– Как-как? Наю? Н-а-ю?
– Нет, просто по первой букве «Ю». Не знаю, что и думать. Вероятно, это человек, хорошо знавший Элизабет. Не исключено, что кто-то из ваших друзей.
– Хм, таких «Ю» немало. Юрген, Юстас, Юродивый какой-нибудь. Ну, был у меня старый приятель Юджин Мартин, ни одной юбки не пропускал. Любил приговаривать: «Не доверяй мужику с двойным именем». Ха-ха. Слушайте, а этот Юджин точно водился с Лиз? Хотите – могу ему звякнуть.
– Не стоит, в этом нет необходимости. Тот «Ю», который меня интересует, умер в возрасте тридцати одного года. Не припомните ли кого-нибудь из своего окружения или, возможно, друга семьи?..
Я решил не уточнять, что это могла быть женщина. Мы с ним еще не так близко сошлись.
Кристофер призадумался.
– В таком возрасте единицы умирают. Нет, ну был, конечно, Бенсон – аккурат лет тридцати. Ушел в лес и на суку повесился, бедолага.
– А он знал Элизабет?
– Нет, откуда? Он, как я говорю, входил в мужской клуб для тех, кто пьян и глуп. О, вспомнил. Звали его Тоби.
– Ну ладно, если что-нибудь придет на ум…
– Всенепременно. Вы, кстати, заезжайте в наши края. На поезде, с ветерком.
Из записных книжек Э. Ф.:
• Можно кичиться провалом точно так же, как иные кичатся успехом.
Стоит ли говорить, что ей было не свойственно ни первое, ни второе. И вообще у меня есть большие сомнения в том, что она примеряла к себе провал и успех.
А я? В возрасте тринадцати лет моя любимая дочь Нелл однажды изрекла: «Папа у нас – Король Заброшенных Проектов». Я улыбнулся, вспомнив эту неожиданную истину, а вместе с ней и удовольствие ежедневно ловить на себе пронзительный подростковый взгляд. Но может, я всего лишь проявлял кичливость? Вот вопрос.
Считаются ли заключения браков «проектами»? Думаю, да, хотя такое ощущение обычно возникает не сразу. И оба моих брака оказались «заброшенными», в том смысле, что они были разорваны, хотя и не мной. Как я уже говорил, мне довелось сменить множество работ, преимущественно в той сфере, которая получила название «сектор гостеприимства»; одно время я даже был совладельцем ресторана. И в том, что этот проект оказался заброшенным, был повинен экономический спад того периода. Около года я занимался переоборудованием винтажных автомобилей с последующей продажей. Энтузиазма и энергии у меня хоть отбавляй; как актер, я многое схватываю на лету. Но мною часто овладевает внутреннее беспокойство. Мне хотелось повысить свой уровень образования по сравнению с тем, которого я достиг в колледже, однако у стороннего наблюдателя (как и у жены) создавалось впечатление, что я просто зарылся в книги. Кто знает, возможно, когда я доживу до седых волос, у меня возникнет желание заняться гончарным ремеслом; говорят, оно приносит большое удовлетворение.
Но я не считаю эти метания и перемены своими провалами и уж тем более ими не кичусь. Какой есть антоним к слову «кичливый»? Скромняга? Закомплексованный? Могут ли такие эмоции служить показателями цельности? Конечно, я чувствую свою вину за распад двух моих браков и признаю за собой около сорока пяти процентов ответственности. Но готов ли я взять на себя еще большую степень вины, чтобы избежать ярлыка кичливости? Ну да ладно, вряд ли найдется много желающих ознакомиться с моим ответом на этот вопрос.
Но вот ведь странная штука: Кристофер не раз зазывал меня в гости, а я так и не удосужился съездить в Эссекс. Видимо, подсознательно принимал сторону его сестры. Однако в тех случаях, когда он наезжал в город, я неизменно приглашал в его в ресторан, причем в такой, где подают спиртное. Квартиру он выставил на продажу и получил пару предложений. Со своей стороны я ему сообщил, что заметки его сестры представляют немалый интерес, но пока не складываются для меня в единое целое. Он сочувственно посмеялся. Я сказал, что среди ее материалов может обнаружиться нечто, пригодное для печати, но на данном этапе об этом говорить рано. Для себя я наметил публикацию книжечки афоризмов тиражом примерно в сто экземпляров – попытка не пытка.
– Слушай, это все целиком на твое усмотрение. Ясно же, что Элизабет тебе доверяла, и я тоже перечить не стану.
Я воодушевился: и его прямотой, и этим обещанием.
– Странно, что вы с ней совсем не похожи.
– Это еще мягко сказано.
– А что родители ваши?
– Серединка на половинку. То есть мы с сестрой не оправдали их ожиданий. Обошлось без скандалов, да к тому же я им, как принято говорить, «внучков подарил». Но родителям хотелось, чтобы Лиз была поскромнее, как все, а я чтобы… ну, инициативы побольше проявлял, вот как-то так.
После школы Кристофер отслужил краткосрочную военную службу, а потом окончил бухгалтерские курсы. В итоге соединил эти направления, став полковым финансистом. Кто бы мог подумать, что в армии требуются счетоводы.
– Без риска, – сказал он, словно себе в укор. – Без риска.
– Раньше никто не называл ее Лиз, – заметил я.
– В детстве ее только так и звали, но в какой-то момент она меня окоротила. Мне было лет десять, а ей, стало быть, семь. Тогда она и заявила, что ее имя Элизабет. А мое – Кристофер, но не Крис. Естественно, я ее услышал. Но про себя говорил только Лиз. Лиз. Прямо бунт на корабле, да?
– Вы с ней были дружны?
– Трудно сказать. Я был ей старшим братом. Отец с матерью говорили, что я обязан сестренку оберегать. Но она этого не хотела. Никогда не ходила за мной по пятам. Это я за ней увязывался.
– Но вы играли вместе?
– Что за вопросы? Уж не задумал ли ты о ней что-нибудь написать?
– Нет, что ты. – (Не покривил ли я душой?) – Просто я ее… побаивался, что ли, а потому при жизни ни о чем таком не спрашивал. Я даже не знал, что у нее есть брат. А теперь, можно сказать, наверстываю упущенное. Хотя в каком-то смысле поздно уже.
– Вступаем в клуб, – ответил он, поднимая бокал.
– У тебя сколько детей? – (С какой целью я об этом спросил? Уж его-то биография всяко не входила в мои планы.)
– Двое. Каждого полу по штуке. А она была им хорошей тетушкой. По-своему.
– Естественно, по-своему. А как же еще?
– Никогда не забывала с днем рожденья поздравить. Я мог их одних в город отправить – она у платформы встречала. Доверяли они ей безоглядно. Она их по музеям таскала, по галереям, но всегда старалась, чтоб они не скучали. Никаких там «Это великое полотно великого художника». Ставила их перед картиной, а через некоторое время спрашивала, допустим: «Заметили белку на заднем плане?» Потом шли куда-нибудь обедать. Она им покупала и мороженое, и шоколад, и всякое такое. Разве что по луна-паркам не возила.
Элизабет Финч на электрическом автомобильчике – это был бы номер.
Но у Кристофера внезапно переменилось настроение.
– Когда она лежала в больнице, я от нее услышал смешную фразу. Ну, то есть не смешную, а странную. На нее было больно смотреть: вся исхудала, кожа да кости. Притом что и в лучшие годы толщиной не отличалась. Хотя, надо признать, она даже в больничном халате умудрялась шикарно выглядеть. Я весь на нервах был, сам понимаешь. Но знал: она не хочет, чтобы я нюни распускал или начинал разговоры, которых прежде не заводил. Так что я одно твердил: «Вот привязался ублюдочный рак, сраный ублюдочный рак, Лиз, ублюдок сраный…» А она поворачивает ко мне голову, и я вижу ее глаза – помнишь, какие у нее глаза были большие, а теперь так просто огромные стали, ввалились, голова уже как череп, а сама мне шепчет: «Рак, дорогой Кристофер, нравственно нейтрален». И как прикажешь это понимать?
Я помолчал. Мои мысли вернулись к ее лекциям. Можно было бы вспомнить и железные дороги, и монокультуру, но я счел, что это будет некстати. Так что вместо этого я ответил:
– По-моему, она с тобой согласилась. В своей манере.
Кристофер не попросил объяснений, он только улыбнулся и сказал:
– Оно и неплохо.
Мы немного посидели в молчании. Я заказал еще одну бутылку вина.
– Слушай… можно спросить… она когда-нибудь заговаривала о своей личной жизни?
– А сам-то как думаешь?
– Думаю, что нет.
– Почем я знаю – может, и был у нее муж. А то и не один. И сплошь монахи буддийские. – В его голосе скрипнула застарелая досада, даже обида.
– И ты никогда не видел ее с мужчиной?
– Никогда. Нет, на самом деле однажды видел. Мы с ней условились встретиться, уж не помню где, но не на вокзале, а в каком-то атриуме, что ли. Я приехал заранее. И вдруг вижу – она, шагах в двадцати. Прощается с каким-то субъектом. Рослый, в двубортном пальто – больше ничего не заметил. Потому как смотрел только на нее. А она руки перед собой вытягивает ладонями вниз, и он берет их в свои. Не то что за руки ее берет, а как бы свои руки под ее кисти подводит, ладонь к ладони, чтобы она опереться могла. И она, получив такую поддержку, приподнялась на одной ноге. Ну, думаю, сейчас целоваться будут, но нет. Вроде как ей просто захотелось в лицо ему заглянуть. А ногу-то, которую от пола оторвала, она как бы назад отставила, под прямым углом. Видок был… специфический, прямо цапля, что ли. Фламинго.
Похоже, Кристофера смутило это воспоминание, даже сквозь время. На щеках у него всегда играл румянец – румянец сельского жителя, не дурака посидеть в садике перед пабом, но вроде как зарделся он еще больше. Впрочем, это не важно: его неловкость была очевидной, как будто он застукал ее в постели с этим самым ухажером в двубортном пальто.
– Потом она опустилась на пятки, убрала руки с его ладоней и уставилась ему вслед.
– И даже не заметила, что ты смотришь в ее сторону?
– Нет, и я понял, что лучше ничего не говорить, не видеть и не слышать. То есть так подсказывала вся наша предыдущая жизнь. Но что-то мне в голову ударило. Даже не знаю, как описать: праведный гнев, что ли. Подошел я к ней, чмокнул в обе щеки… но только для виду, как у нас с ней было заведено, и спрашиваю: «Ну и кто же твой приятель?» А Лиз выдержала мой взгляд и ответила так, как только она умела: «А, этот? Да никто». Дело закрыто, свидетель отпущен.
Я очень живо представил себе эту сцену.
– И было ей в то время?..
– Сорок с небольшим.
При ее жизни я бы сказал себе: а чего ты ожидал – это ж не кто-нибудь, а Элизабет Финч! Но теперь, когда она ушла в мир иной, я понял, насколько болезненной оказалась та сцена для Криса. Вроде как открылась перед ним какая-то дверца, но сестра захлопнула ее у него перед носом, как отрезала: дескать, знай свой шесток.
И странное дело: когда я воображал или переосмысливал ту сцену, меня самого сковывала неловкость: как будто я лично присутствовал в том атриуме. А воспоминание Криса каким-то образом передалось мне и заняло свое место в ряду моих собственных воспоминаний. И реакция моя оказалась в точности как у Криса: не должна была Э. Ф. от меня вот так отмахиваться.
Из записных книжек Э. Ф.:
• Попросила своего лечащего врача, чтобы он, когда надежды не останется и боль станет нестерпимой, применил ко мне эвтаназию. Добавила, что обращаюсь к нему с этой просьбой на будущее в здравом уме и трезвой памяти. Он посочувствовал, но сказал, что такая процедура незаконна. Я ответила, что при любом раскладе вряд ли смогу его засудить, верно же?
• Стилистика надгробной речи или газетного некролога. Все достоинства размещены в отдельных графах и отмечены галочками. Это зримый аспект. Но определяется он менее зримой стилизацией памяти.
• Неизбежен и третий вид стилизации: он определяется посмертной памятью. И подводит к той точке, в которой последний из тех, кто тебя знал, вспоминает о тебе в самый последний раз. Следовало бы придумать название для этого заключительного события, знаменующего твое окончательное вымирание.
• Ничто из вышеперечисленного не должно подменяться саможалением.
• Я не разделяю заблуждения о том, что Изгнанию и Преследованиям религиозных или этнических групп предшествовала социальная гармония. Определенно нет: цель Изгнания – привнести в государство побольше мира. Избавиться от Смутьянов, пусть даже Смута исходит от нас. Насадить в государстве моноэтничность и монотеизм – и все изменится к лучшему в этом лучшем из миров. Естественно, этот план ни разу не сработал, причем по двум причинам. Во-первых, вражда не прекращалась, а потому вместо того, чтобы преследовать Другого на своей территории, приходилось выдвигаться за ее рубежи и преследовать Другого на его территории. А во-вторых, сокращение людского многообразия не приводит к внутренней гармонии. Об этом позаботился нарциссизм тонких различий.
Стоит ли говорить, что в ее архиве не нашлось места любовным письмам. Воображаю, как она их перечитывала одно за другим, до последней капли впитывала все, что они могли предложить, а затем просто выбрасывала. Или, возможно, выбросила все разом. Естественно, этого мне знать не дано. Но у нее была невероятная память и огромная неприязнь к беспорядку, так это мой собственный вывод. И естественно, ее определение беспорядка было куда шире, чем у многих.
Из своих редких поездок я присылал ей почтовые открытки. Она ни разу не подтвердила их получение и, понятное дело, не сохранила ни одной. В одном провинциальном французском музее я купил для нее открытку с изображением керамического блюда Бернара Палисси. Быть может, вам знакомы его работы. Жил он, если не ошибаюсь в шестнадцатом веке и занимался производством совершенно фантастических, ярких фаянсовых блюд, зачастую украшенных фигурками ползущих по дну рептилий. По-моему, блюда эти служили не столько для сервировки деликатесов, сколько для украшения интерьеров и, так сказать, для обсуждения в светском обществе. Мне они всегда доставляли огромное удовольствие. Короче говоря, во время нашего очередного обеда с Э. Ф. я, вопреки своему правилу, спросил, получила ли она мою открытку с керамикой Палисси. И в ответ услышал то, чего, наверное, заслуживал: «Его стало слишком много».
Разумеется, это отбило у меня охоту присылать открытки. Понимаю, что в моем изложении реплика ее звучит крайне сурово. Суровой Э. Ф. не была. То есть, конечно, была. Но свой вердикт изрекла с легкой, иронической каденцией. «Вопреки своему правилу», да, я должен был как следует подумать перед отправкой той открытки из Орийака. И еще, насчет «огромного удовольствия». Элизабет Финч, с ее слов, предпочитала «удовольствие, доведенное до методичности» и не снисходила до удовольствий практических, как и сентиментальных. Сдается мне, что у поздравительных открыток ко дню рождения и Рождеству срок жизни был еще короче. Видимо, Э. Ф. считала, что стоит выше (и за пределами) сентиментальности. Нет, это неверно, поскольку заставляет предположить, что она некогда всерьез размышляла на эту тему. Вряд ли. Она просто жила, и чувствовала, и мыслила, и любила (это я уже додумал сам) по-своему и на своем личном уровне. И здесь опять же уместно вспомнить о беспорядке. Многие из нас цепко держатся за свою эмоциональную сферу, упиваются подробностями – как приятными, так и неприятными, как славой, так и унижением. Э. Ф. знала, что эта сфера содержит еще и беспорядок, от которого следует избавляться, чтобы вновь получить возможность видеть и чувствовать более отчетливо. Опять же это моя догадка.
С Кристофером нас связала дружба. Это подходящее слово? Он приезжал в город раз в полтора-два месяца («опять с зубами беда»; «жене подарок прикупить»; «проведать тут одну»), и мы шли в ресторан. Для меня он сделался связующим звеном с Э. Ф.; а я для него, надо думать, – покладистым новым знакомым. К тому же я всегда расплачивался за обед. Он, конечно, протестовал, но я говорил, что это справедливо, поскольку за меня много лет платила его сестра. Но дружба – с какого момента применимо это слово?
Как-то раз Кристофер спросил (не сказать, что враждебно, но с легким подозрением), что у меня на уме.
– То есть?
– То есть ты до сих пор пристаешь ко мне с вопросами насчет Лиз.
Мне думалось, для нас это естественная точка соприкосновения. А оказалось, что нечто большее.
– Я же говорил: мне не хочется ее от себя отпускать. И не хочется вспоминать ее только как застывшую коллекцию курьезов.
Он фыркнул себе под нос.
– Уж не собираешься ли ты, – его пальцы изобразили воздушные кавычки, – «взяться за ее биографию»?
– Честно сказать, еще не решил. У нее было множество житейских пробелов и запретов.
– Что верно, то верно.
– К тому же она, по-моему, встретила бы эту идею в штыки. Чтобы кто-то «ползал по всей ее жизни», как сказал один американский писатель.
– Это какой?
– Джон Апдайк.
Кристофер помотал головой, изображая благосклонное неведение.
– А его-то биографию кто-нибудь сподобился написать?
– А как же? Вскоре после его смерти. Лет через пять.
– Вот тебе и ответ, – твердо заявил он.
Бледно-голубые глаза на розовощеком лице глядели точно вперед. Я не понимал, это одобрение или порицание.
– Ты хочешь сказать…
– Она мертва, ты жив; смотри сам.
У него это прозвучало самоочевидно, даже брутально. Впоследствии я задумался над такой твердостью. Элизабет, которая была моложе его, при жизни оставалась старшей. Неужели смерть изменила эту иерархию? Разве это так просто?
Я часто размышлял об отношениях между мужчинами и женщинами. (Реже – между мужчинами; между женщинами – практически никогда: союзы последнего рода для меня очевидны и логичны, обусловлены не вкусовыми пристрастиями, а необходимостью, поскольку этот мир испоганен мужчинами.) Мужчины и женщины: недоразумения и разночтения, мир из соображений притворства или лени, ложь во спасение, болезненная ясность, беспричинные выпады, безотказное добродушие, за которым скрывается эмоциональная черствость. И так далее. Надежды на понимание чужого сердца, хотя мы и в своем собственном разбираемся с трудом. Лично у меня на счету два развода и трое детей от разных женщин. Указывает ли это, что во многих вопросах я разбираюсь лучше или хуже? Определенно это указывает на то, что я стараюсь не давать советов. Но ко мне мало кто обращается за советом, так что я редко подвергаюсь проверкам на прочность.
Был у меня один знакомый, с виду вполне благополучный в жизни и в браке, хороший отец, крепкий профессионал, являвший миру великодушную и смешливую физиономию. У него завязалась интрижка – не знаю, первая или нет, ну… с такого рода женщиной, с которой может завязаться интрижка у мужчины такого рода. На десять лет моложе его жены, примерно равного социального статуса, жизнерадостная и общительная. Возможно, она курила и прикладывалась к спиртному больше его жены; насчет секса – кто знает, как там обстояло дело? – но у нее не было детей. Возраст – к сорока, у него – к пятидесяти. Перед ними встали обычные в таких случаях вопросы, например: как быть с его детьми (двое подростков, оба проблемные)? По натуре он был бесхитростен, но оказался на новой для себя территории – и заметался. Да, он обо всем расскажет жене, безусловно, вот прямо на выходных, правда-правда; да, он уйдет из семьи, безусловно, вот прямо на выходных, правда-правда; нужно немного потерпеть, у него такое впервые, да, конечно, он ее любит. Минуло несколько назначенных сроков. В конце концов он вознамерился действовать решительно. Да, точно, в конце этой недели, вот те крест, чтоб я сдох, он переедет к ней в воскресенье вечером, а прежде поговорит с женой. Итак, в течение пятницы, субботы и первой половины воскресенья он вел переговоры с женой и детьми: и насчет своей интрижки, и насчет предстоящего ухода, и насчет планов на будущее. Потом упаковал два чемодана, вызвал микроавтобус и приехал к любовнице. Которая через дверь, даже не сняв цепочку, сказала, чтобы он убирался назад к жене.
Это все, что мне известно. Я узнал эту историю из вторых уст; не исключено, что множественные пересказы превратили ее в скетч. Мне не под силу оценить ущерб, отследить пути к примирению или заглянуть в душу каждой из сторон. В чем-то это, конечно, банальный случай, но только не для участников.
Я уже несколько лет живу один. Вы, наверное, догадались. Впрочем (я, кажется, повторяюсь), здесь речь не обо мне.
Из записных книжек Э. Ф.:
• «Мир устроен плохо, потому что Бог создал его один. Если бы Он советовался с двумя-тремя друзьями, с одним в первый день, с другим – на пятый, с третьим – на седьмой, мир был бы совершенством». д/обсужд. в ауд.
В ее записных книжках содержались кое-какие полностью сформулированные выводы, подходящие цитаты, автобиографические заметки, воспоминания и какие-то обрывки. Например, «Коричневые яйца»: то ли название стихотворения Элизабет Бишоп, то ли первый пункт списка покупок. Элизабет Финч могла бы назвать такой тип текста «олья подрида» – увидев это словосочетание, многие полезли бы в словарь.
В записной книжке номер семь я обнаружил два аккуратных столбца:
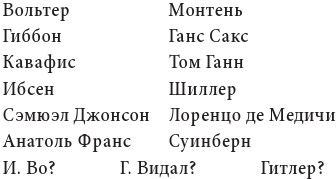
После краткого ознакомления мне вспомнилось, как на вводной лекции Э. Ф. пообещала дать нам список дополнительной литературы. Если именно его я сейчас читал, то в свое время он бы, думаю, привел меня в некоторое уныние.
А вот несколько автобиографических заметок:
• Перед смертью мама сказала, что скоро будет наблюдать за мной сверху и ожидать нашего воссоединения. Надежд на встречу с мужем в какой бы то ни было форме она не выразила. Я улыбнулась и погладила ее по руке – это самое большее, что можно было сделать в такой ситуации. А после ее смерти я ни разу не почувствовала на себе ее взгляд – ни реальный, ни гипотетический, даже в те моменты, которые некоторым – а уж ей-то бесспорно – показались бы щекотливыми или постыдными. Сейчас она всего лишь прах, и отец тоже прах, но постарше. Я всегда это знала.
И далее:
• В годы моего детства в округе проживало много «незамужних тетушек», которые уже в силу такого именования считались невинными во всем, что касается тела, и благополучно уносили девственность с собой в могилу. Они же – старые девы; сейчас этот термин практически вышел из употребления. Незамужняя дочь, ведущая хозяйство в доме овдовевшего отца или вдовицы-матери. Две сестры, которые годами делят кров: одна боится, что какой-нибудь мужчина выберет другую, и обе, вероятно, надеются на появление хоть какого-нибудь мужчины (по Чехову). Отдельное проживание давало им хоть какой-то социальный статус, окрашенный в равной степени жалостью и восхищением. Я не принадлежу ни к одной из вышеупомянутых категорий. У меня нет желания иметь сестру, с которой я могла бы разделить свою жизнь, и я отказалась (хотя меня и не особо просили) поддерживать вдовицу-мать, разве что с расстояния и материально. Что же касается сердечных дел, можно строить любые домыслы, но жалость будет неуместна и даже оскорбительна. А как от нее уйти? Но меня она не волнует.
• «Для женщин верность – добродетель, а для мужчин – тяжелый труд». д/обсужд в ауд. Ох уж эта шутливость мужской эпиграммы. Я бы ответила на нее так:
• Для женщин любовь – так уж исторически сложилось – сперва одержимость, а потом жертва. И по сей день в мире все идет заведенным порядком. «Маскировка» становится лучше, «награда» выше, но суть не меняется. Мое поколение восстало против такого уклада (причем восстания случались и раньше). Глядя на своих матерей, теток, бабушек, мы видели, что оценка (и самооценка) женщины определяется ее замужеством (или девичеством). Единицы решительно противились такому порядку, но большинство подчинялось до конца своих дней. И я, при всех своих принципах, тоже от этого не защищена.
А дальше почеркушки, сделанные в разное время простыми карандашами – с более мягким и более твердым грифелем:
М: Откуда?
И ниже:
М: Зачем?
Почему-то эта запись, пусть состоящая всего из двух одинаковых инициалов, двух местоименных наречий и двух вопросительных знаков, заговорила со мной голосом Э. Ф. Но если задать следующие два вопроса: «М: Когда?» и «М: Кто?» – ответа у меня не будет.
Понимаю, что приписываю ей свойства женщины-тайны. Она таковой не была: ее не окружал ореол таинственности. Она была исключительно светла. Все, что она тебе говорила, было правдой и с каждым словом становилось все правдивей.
Когда нас преследовали студенческие фантазии об Э. Ф., диапазон их распространялся от скабрезности до гламура. Почему-то у нас не бывало фантазий противоположного свойства: о строгости, дисциплине, уходе от мира. Без труда могу вообразить Э. Ф. настоятельницей средневековой обители: увитые плющом каменные стены, тишина, послушание, молитвы и жертвенность… Но нет, такие фантазии тут же рушатся. Э. Ф. не подходила на роль настоятельницы или святой Урсулы, не говоря уж о роли одной из ее то ли одиннадцати, то ли одиннадцати тысяч дев.
В ее записных книжках нет никакой систематизации. Записи варьируются от интимных до сугубо официальных, от личных размышлений до конспектов лекций. Вот, например, несколько записей подряд:
• Притворство, методичность, истина. Притворство в целых цивилизациях, равно как и в одежде. Притворство не противопоставлено истине, но зачастую служит ее воплощением, отчего само становится неотразимым.
• Сердечность как форма агрессии. Воистину: нетерпение сердца.
• Конечно, тот тип женщины, что мне близок, вышел из моды. Впрочем, я никогда не гналась за модой и даже никогда в нее не вписывалась. Я всегда стремилась к устойчивости.
• Ах, говорят обыватели, она никогда не была замужем. Какой редукционистский подход к описанию и содержанию человеческой жизни.
• У меня ровно столько друзей, сколько мне требуется. По большому счету они между собой не контактируют. От этого некоторые из них начинают думать, что занимают более важное место в моей жизни, чем на самом деле. А другие наоборот.
• Всегда считалось так: когда рушатся отношения, виновата по определению женщина. Если мужчина сбежал, значит женщина не сумела его удержать; если сбежала женщина, значит она была вертихвосткой, не умела идти на компромиссы, не отличалась стойкостью. Хотя на самом-то деле она просто подыхала от скуки.
• Одна студентка на полном серьезе сказала мне, что не любит роман «Госпожа Бовари», потому что «Эмма – плохая мать». О, боги.
• И не заблуждайтесь: я не одинокая женщина, я сама по себе, а это далеко не одно и то же. Кто сам по себе, тот силен; кто одинок, тот слаб. От одиночества спасет уединенье, как некогда указала мудрая ММ.
• Сама я этого не слышала, но знаю, люди говорят так: «Ну не сложилось у нее. Интересно – почему? Наверное, слишком упертая была, слишком бескомпромиссная». Что они понимают? Кроме того, я часто задаюсь вопросом: что такое пресловутое «женское счастье». Совместная жизнь среди невысказанных мыслей и трусливых сокрытий, когда часть твоего сознания хочет приставить к его горлу кухонный нож, чтобы не храпел у тебя под боком.
• «Ты победил, галилеянин бледный». Тот миг, когда история пошла не тем путем. Римляне, спевшиеся с местными богами. Монотеизм vs Плюральность. Связь того и другого с жизнью сердца. Монотеизм / Моногамия. «Но любовь от измены зачахнет». Любовь обрекает своих приверженцев на «приблизительное счастье». Монотеизм всегда навязывает сексуальную ортодоксальность.
А потом я прочел следующую запись и сразу понял, что мне делать:
• Говорят, что всё определяют генетика, воспитание, наследственность, климат, пищевые привычки, география, длительность пребывания в чреве, природа, вскармливание. Люди не слышат, как в комнате топает слон, как он трубит: это и есть история. А если услышат, то подумают: история – это то, что творится во время родительской жизни или их собственной: порабощение, геноцид, нашествие саранчи. А та история, что была прежде, инертна и не вступает в химическую реакцию с настоящим. Вместо того, чтобы брать пример с Гитлера и Сталина, я советую брать пример с Константина и Феодосия. А если ищешь себе объект восхищения, приглядись к Юлиану. Газеты назвали бы такого «стойким оловянным солдатиком».
Вот же он, неожиданно возникает передо мной. «Ю., ум. в 31 год». Юлиан Отступник, последний языческий правитель Рима, умирает в персидской пустыне, побежденный галилеянином бледным. Я взял со стола записную книжку со списком литературы для дополнительного чтения и вернулся к сложенным в коробке книгам, громоздившимся в коридоре. Суинберн, конечно же. Анатоль Франс, эссе о Юлиане. Том пятый из собрания сочинений Ибсена целиком занимает 480-страничная пьеса (мыслимо ли такую поставить? Если, конечно, ее ставили?), озаглавленная «Кесарь и Галилеянин». «Застольные беседы Гитлера» – и тот же Юлиан в указателе.
Занятый мучительным бракоразводным процессом, я не оправдал ее ожиданий. Попросил у нее прощения, и она ответила: «Я убеждена: это временно»; эти слова я истолковал неверно. А она сделала две вещи. Оставила мне в записной книжке список литературы для дополнительного чтения, а также подарила свою библиотеку, примерно… нет, в точности как та императрица, чье имя сейчас ускользнуло у меня из памяти, отправившая Юлиану книги перед его походом в Галлию. Это был, похоже, самый отчетливый сигнал. Не какое-то призрачное «посмертное послание» – просто я наконец вспомнил, и собрал все воедино в голове, и приготовился действовать. Король Заброшенных Проектов твердо решил завершить эту последнюю задачу.
Порадовать мертвых. Действительно, мы воздаем им почести, но мертвые притом становятся еще мертвее. Радуя же их, мы возвращаем их к жизни. Я понятно выражаюсь? Не напрасно я задумал порадовать Э. Ф. и правильно сделал, что решил сдержать слово. И сдержал. Вот что у меня получилось.
В одной из тетрадей – инициалы «Г. Б.» с пустой страницей после них. Я лишь мимолетно, по какому-то наитию задержал взгляд на этих буквах. А потом, хотя и не сразу, пришел к выводу, что за ними скрывается «галилеянин бледный» из стихотворения Суинберна «Гимн Прозерпине»: «Ты победил, галилеянин бледный».
Освежим в памяти:
Лирический герой – Юлиан Отступник.
Адресат его речи – Иисус Христос.
Место действия – персидская пустыня.
Время действия – 363 год.
Таким образом, Юлиан признает, что христианство восторжествовало над язычеством, эллинизмом, иудаизмом и прочими конкурирующими течениями и ересями, бурлившими в Римской империи. Которая ныне и присно и во веки веков останется также христианской империей.
После той фразы Юлиан подбрасывает в воздух пригоршню собственной крови и гибнет на поле боя. Он признал свое поражение: как богословское, так и военное.
Полное имя императора было Флавий Клавдий Юлиан, а коль скоро трофеи, что достаются победителю, включают не только господствующий нарратив и историю, но также способ именования, далее император будет зваться Юлианом Отступником.
Разумеется, изложенное здесь правдиво лишь отчасти. Версии разнятся, порою с самого начала. После безуспешной кампании против царя Шапура II римское войско, изнуренное и теснимое персами, отступало к северу через западную Ассирию, держась близ реки Тигр. Оказавшиеся на чужбине римляне (в данном случае преимущественно галлы, но также сирийцы и скифы) обессилели и оголодали. В распоряжении персов имелись боевые слоны, чьи невиданные размеры и непостижимые движения, как ранее убедился Ганнибал, наводили ужас на простых легионеров. Разгорелся недолгий, но ожесточенный бой. В этой сумятице копье, прицельно пущенное безвестным конником-персом, рассекло кожу на руке Юлиана, пробило ребра и засело в нижней части печени. Не исключено (хотя и маловероятно), что императора на щите отнесли в палатку. Не исключено (хотя и маловероятно), что император, пока из него капля за каплей уходила жизнь, вел со своими соратниками философскую беседу. Но он определенно не произносил тех предсмертных слов, которые обеспечивают ему место в словаре цитат.
«Ты победил, галилеянин». Эта фраза впервые появляется у Феодорита в его «Церковной истории», написанной примерно столетием позже. Она представляет собой блистательный вымысел, но ведь историки бывают и отличными прозаиками.
Полтора тысячелетия спустя Суинберн напишет буквально следующее: «Ты победил, галилеянин бледный». Откуда это «бледный», почему? Не потому ли, что западное искусство почти на всем протяжении своего существования изображало Иисуса бледнолицым, похожим на уроженцев Северной Европы, коим был полной противоположностью император Юлиан: он появился на свет в Константинополе и большую часть своей жизни провел под ближневосточным солнцем? Или же Назаретянин именуется бледным потому, что принадлежит к другому миру? Или потому, что он уже мертв?
Вообще-то, более вероятно другое: поэту просто требовалось дополнительное короткое слово, чтобы строка стала более ритмичной и удобной для декламации. Поэтому единожды уже сочиненная фраза пересочиняется заново, на сей раз поэтом. Поэты тоже бывают отличными прозаиками.
В чем еще можно усмотреть некоторую странность: Юлиан «сказал», что побежден галилеянином, хотя в рядах персидского войска не было христиан, а единственной документально подтвержденной причиной смерти императора стало чужеземное копье. Да, но так ли это? Раннехристианские мифотворцы не зря ели свой хлеб: Юлиан «сказал» эти слова потому, что на самом-то деле пал от руки христианина и по воле христианского Бога; а если уж быть совсем точным, от двух пар рук: его взяла в клещи пара святых, Меркурий (ок. 225–250) и Василий (ок. 329–379). Первый – уж покойный (во всяком случае, по земным меркам), другой здравствующий. Святой Меркурий, сын римского военачальника-скифа, был обезглавлен за отказ от участия в языческих обрядах жертвоприношения. Но после кончины и канонизации он остался в строю, «служа мечом своим» современникам-христианам и будущим святым – например, святому Георгию (по крайней мере одному из них) и, почти тысячелетие спустя, святому Димитрию во время Первого крестового похода. В 363 году Василий молился перед иконой с изображением Меркурия в облике воина с копьем. Когда Василий открыл глаза, образа Меркурия на иконе уже не оказалось. Когда же образ вернулся, наконечник копья был орошен кровью, и в тот самый миг Юлиан умирал в персидской пустыне. Мог ли простой язычник противостоять небесной боевой мощи?
Римский император Юлиан никогда не бывал в Риме. Императором он стал случайно: случайности в ту эпоху чаще, нежели теперь, вели к восхождению на престол. С младых ногтей склонный к наукам, он был далек от двора и от военного искусства. В 351 году ко двору в Милане призвали его брата Галла, дали ему титул цезаря и поставили управлять восточными провинциями; через три года он был отозван, отдан под суд и казнен за душегубство. Настал черед Юлиана: будучи призван в Милан, он не сомневался, что его устранят сходным образом. Но у него нашлась заступница в лице Евсевии, второй жены императора Констанция; а помимо всего прочего, в глазах властей предержащих этот склонный к наукам юноша, скорее всего, не представлял собой угрозы. Возглавив западное имперское войско в Галлии, он – во всяком случае, по собственному свидетельству – был готов к поражению. Евсевия снабжала его философскими, историческими и поэтическими сочинениями, чтобы он даже во время подавления различных германских племен не прекращал своих штудий. В ходе усмирительных войн он трижды переходил Рейн; перед вратами Парижа легионы Юлиана провозгласили его августом. Хитростью он избежал отзыва в Милан и вступил в противоборство с Констанцием, управлявшим восточными провинциями империи. Когда сошлись их армии, судьба улыбнулась Юлиану: в 361 году в Мопсуэстии лихорадка унесла жизнь Констанция, единственного его соперника.
В соответствии с Миланским эдиктом 313 года Константин и его соправитель Лициний реабилитировали христианство. Таким образом, на законодательном уровне был предусмотрен нейтралитет государства в вопросах религии, притом что христианские священнослужители пользовались правом свободного перемещения в пределах всей империи, а также освобождались от уплаты налогов. После смерти Константина, последовавшей в 337 году, его сыновья Константин II и Констанций II правили уже как христиане. В свою очередь, Юлиан после восхождения на престол объявил себя язычником и более не посещал христианские храмы, однако тем самым не расшатывал христианство, поскольку оно не имело официально закрепленного статуса. Естественно, у христиан был свой взгляд на такое положение дел: некоторые даже подозревали, что Юлиан, вернувшийся триумфатором с Персидской войны, начнет гонения на их веру. Что могло помешать ему вновь поставить их вне закона и тем самым сделаться новым Диоклетианом?
В повседневной жизни Юлиан проявил немало черт натуры – аскетизм, скромность, воздержанность, ученость, – которые можно было бы счесть приличествующими христианину. В Сирии, среди, как издревле принято было выражаться, «гнездилищ порока», он не поддавался искушениям; деятельный, неподкупный, трудолюбивый и беспристрастный, он усовершенствовал судопроизводство, пересмотрел систему налогообложения и укрепил защиту империи от внешних угроз. Но все же… все же… он оставался отступником и лишь укреплялся в своей вере. Рожденный христианином и крещенный в христианство, он воспитывался в лоне церкви, однако беспрепятственно изучал эллинистическую философию. В возрасте слегка за двадцать был посвящен в Элевсинские мистерии – древний культ Деметры. Приверженцам этого культа обещалось воскрешение, рекомендовалась воздержанность и предписывалась строжайшая секретность; противники же видели только мрачные пещеры, горящие факелы и привидения – самое что ни на есть языческое язычество, непроходимое мумбо-юмбо. При всем том на протяжении десяти лет Юлиан держался на людях как христианин. Что это было: лицемерие? Многобожие? Или простое благоразумие? Ведь в Галлии большинство его войска составляли христиане, которые вполне могли не только откреститься от главнокомандующего-язычника, но и вознамериться лишить того жизни.
Все религии (ну или почти все) куда более нетерпимы к отступникам, чем к невежественным, заблуждающимся идолопоклонникам-простолюдинам, которых методом суровых убеждений обычно удается склонить к прозрению. Историк Гиббон пишет, что в иудейской среде той эпохи вероотступничество каралось смертью. Предположительно, это относится ко всем крупным автократическим государствам: Троцкого, например, убили в Мехико за отход от единственно правильной политической веры. Но при всей своей ненависти к вероотступникам такие государства нуждаются в них для наглядности – в качестве отрицательных примеров, чтобы другим было неповадно. Откажись-ка ты от прежней религии, выступи против нее, начни проповедовать нечто иное – и увидишь, что с тобой будет: копье в печень, ледоруб в затылок. Будь Юлиан, как правитель, недалек и шумлив, продажен, жесток и вероломен, сместить его было бы проще. Но, согласно одному из комментаторов, Юлиан был «в глубине души… христианским мистиком, только наизнанку». Кто у нас писал о нарциссизме тонких различий? Совершенно верно: Фрейд. Юлиан, стало быть, превратился в бельмо на глазу, в мишень для множества последующих теоретиков христианства и оставался таковым еще долгое время после того, как эта религия заняла господствующее положение на территории почти всей Европы и за ее пределами. Репутация императора оказалась живучей; Мильтон называл его так: «самый тонкий противник нашей веры».
Позднее Юлиан стал находить отклик у мыслителей эпохи Просвещения, агностиков, либертарианцев и прочих. Благодаря этому имя его и слава не померкли. Такие фигуры оцениваются в изменчивом свете истории: для одних Юлиан, по ироническому выражению Э. Ф., «стойкий оловянный солдатик», для других – чуть ли не младший брат Сатаны.
Юлиан был плодовитым автором: диктовал он так быстро, что временами его скорописцы за ним не поспевали. Сохранившееся его наследие – «Письма», «Оратории», «Панегирики», «Сатиры», «Эпиграммы» и «Фрагменты» – составляет три тома так называемой «Лёбовской серии» античной литературы, выпущенной издательством Гарвардского университета. В центральном сочинении, «Против галилеян», он формулирует свои претензии к христианской вере. Первоначально работа была написана в трех частях; ныне вторая и третья книги утрачены. Да и первая существует лишь в отрывках, зачастую воссозданных по трудам более поздних христианских авторов, которые цитируют Юлиана с целью опровержения его взглядов. При этом они, по сути, не смягчают ни его мнений, ни тона изложения. Юлианов текст начинается так:
Мне кажется правильным изложить перед всеми людьми те доводы, которые убедили меня, что коварное учение галилеян – вымысел людей, злостно придуманный. Не заключая в себе ничего божественного, используя склонную к вымыслам детскую, неразумную часть души, оно придало чудесным выдумкам видимость истины.
Юлиан намеренно именует христиан «галилеянами», а Христа «Назаретянином», чтобы представить их происхождение и верования как провинциальные. Он рассматривает их религию не как развитие иудаизма, а как его извращение – извращение настолько сильное, что иудаизм и эллинизм для него становятся ближе друг к другу, нежели каждое из этих вероисповеданий в отдельности – к христианству. Юлиан пишет: «Я всегда почитаю бога Авраама, Исаака и Якова», которые были халдеями, принадлежали «к роду священников и теургов»; при этом Авраам, подобно эллинам, «всегда приносил жертвы… часто пользовался гаданием по планетам… занимался птицегаданием».
По Юлиану, основополагающий миф галилеян – история Эдемского сада – «верх нелепости», а кроме того, несправедлив по отношению к Адаму и Еве, поскольку Господь точно знал, что произойдет, – перст Божий касался чаши весов. Что же до десяти заповедей: «Есть ли такой народ, который не считал бы необходимым соблюдать все эти заповеди, за исключением „не поклоняйся другим богам“ и „помни день субботний“?» Мысль о «Боге-ревнителе» заключает в себе «немалую клевету на Бога». С какой стати разумный человек станет поклоняться карающему божеству, одержимому идеей направлять всех и вся, презирающему нас и возлагающему на детей грехи отцов? Юлиан считает такие положения незрелыми и половинчатыми: «Что же, или Он не в силах был, или Он вначале не желал препятствовать культу других богов? Первое предположение – что Он оказался не в силах – нечестиво…»
Наперекор своим собственным апостолам, галилеяне возвысили Иисуса до уровня бога. Они чтят мощи мучеников, «прибавив к старому трупу свежие трупы. Можно ли достойным образом оценить эту мерзость?». А если взглянуть на некоторые советы и поучения, за которые держатся христиане? Иисус наказывал им продать все свое имущество и раздать выручку бедным. Вообразите хотя бы на минуту, как это будет выглядеть на практике:
Послушайте, какое прекрасное и общественно полезное повеление: «Продайте имения ваши и давайте милостыню; приготовляйте себе влагалища неветшающие». Можно ли придумать что-либо мудрее этой заповеди? Ведь если все тебя послушаются, кто будет покупателем? Можно ли хвалить такое учение? Если б оно получило силу, не осталось бы ни города, ни народа, ни единого дома; как может сохранить ценность дом или имущество, если все продано? А что, если все сразу во всем государстве начнут продавать, они не найдут покупателей, – очевидно, и я об этом умолчу.
Юлиан подробно излагает то, что дали миру греки и дружественные им «варвары» в сравнении с этими выскочками из Иудеи. «Разве дал Он вам начало знания и философскую образованность?» Астрономия пошла из Вавилона, геометрия – из Египта, теория чисел – из Финикии. Все эти дисциплины соединили и обобщили греки. «Надо ли называть таких людей, как Платон, Сократ, Аристид, Кимон, Фалес, Ликург, Агесилай, Архидам, или, лучше, ряд философов, полководцев, строителей, законодателей?» У иудеев не было ни одного военачальника под стать Александру Македонскому или Юлию Цезарю, тогда как «если сравнить притчи Соломона с изречениями Исократа, ты убедишься, я уверен, что сын Феодора выше „мудрейшего“ царя».
Религии греков и варваров происходят от осененных временем, глубоких, вековечных цивилизаций. Что могут противопоставить им иудеи и христиане?
А теперь вы, как пьявки, отсосали оттуда испорченную кровь, а более чистую им оставили. Иисус же, прельстивший худших из вас, прославился тридцати с лишком лет от роду и за всю свою жизнь не совершил ничего достопамятного, если не считать, что исцеления слепых и хромых и заклинания бесноватых в деревушках Вифсаиде и Вифании являются великими подвигами.
В тоне Юлиана сквозит выспреннее недоверие. Как сумела религия, опирающаяся на низшие слои общества и не имеющая под собой основы в виде истинной цивилизации, покорить греко-римский мир, пусть даже угасающий, в столь краткий срок и с такими опустошительными последствиями? В особенности когда законы управления, судейская система, экономика и красота, сконцентрированные в городах, рост числа научных дисциплин и занятия свободными искусствами проявлялись в иудейской среде лишь в жалком, зачаточном состоянии? Ответ в некоторой степени прост: иудеохристианство представляло собой не цивилизацию со своей религией, а деспотичную религию, поддерживаемую весьма скромной цивилизацией. Юлиан не вполне понимал, что это и делает христианство для многих уникально притягательным. «Цивилизация» как таковая могла в лучшем случае прийти позже; религия этих народов, собственно, и стала их цивилизацией. Обособленной, а потому абсолютистской и – неизбежно – монополистической.
Для Юлиана было самоочевидным, что поборникам этой религии нельзя доверять преподавание эллинистической философии. «Если у кого-нибудь в чем-либо, самом малом, есть расхождения между мыслью и словом, то все равно это зло, хотя и терпимое; но если кто в величайших вещах думает одно, а учит другому, противоположному своим мыслям, то разве это не образ действий торгашей, причем не дельных торговцев, а самых негодных людей?» Вдобавок эти парвеню-галилеяне проявляли истерическую натуру, что подтверждается их пристрастием к мученичеству; по словам Юлиана, они «ищут смерти, надеясь, что полетят на небо, если насильственно оборвут свои жизни».
Наконец, Отступник озадачен тем, что христианству попросту недостает утонченности, признания авторитетов; тем, что христиане ставят глупца и простака превыше книжника и мудреца. В 1809 году Томас Тейлор, переводчик сочинений Юлиана на английский язык и сам «философ-политеист», с горячностью рассуждал на эту тему:
[Иисус], видимо, радовался также зрелищу малых детей, женщин и рыбаков; осторожно рекомендовал юродство своим апостолам, но предостерегал их от мудрости; и сплачивал их на примере малых детей, лилий, горчичных семечек и воробьев – сущностей неразумных и не имеющих веса, подчиняющихся только диктату природы, не ведающих ни ремесла, ни заботы…
В Писании чаще упоминаемы олени, лани, агнцы, глупее которых не сыскать, если верить аристотелевскому выражению «овечья робость», которое навеяно глупостью этого животного и обычно применяется по отношению к недоумкам и юродивым. И при этом сам Христос объявляет себя пастырем своего стада и радуется прозванию Агнец!
Стоит отметить, что недавние научные изыскания показали, вопреки устоявшемуся в веках мнению, высокий умственный уровень, сложную эмоциональную организацию и цепкую память этих животных: они способны к дружеской привязанности и тоскуют, когда их ближних отправляют на заклание.
На людях Юлиан показывал себя противником насильственных мер. «Я всегда был так кроток и человеколюбив ко всем галилеянам, – писал он, – что никогда не допускал насилия по отношению к кому-нибудь из них… Убеждать и поучать людей надлежит не кулаками, не оскорблениями и не физическим насилием, а разумными доводами». И далее: «Скорее жалости, чем злобы, достойны те, кто заблуждается в делах величайшей важности».
В этом заключался не только принцип, но и прагматизм. Раннее христианство предлагало потенциальной пастве две уникальные вещи: чудеса и мученичество. Умри за свою веру – и будешь жить вечно: такая аксиома вдохновляет некоторых и в наши дни. Но Юлиан отказывался преследовать христиан до гробовой доски. Он обязывал их пройти медленный, извилистый, каменистый путь земной жизни. Он заставлял их тянуть лямку изнурительного человеческого бытия ради отдаленного шанса попасть в рай, хотя мог бы стремительно отправлять их туда на взрывной волне крови. Тактика эта была хитроумной: лишить мученичества тех, кто жаждет смерти, – и галилейская исключительность, возможно, окажется не такой уж исключительной; она, возможно, сведется к обыкновенным богословским разногласиям.
По той же причине в начале своего правления Юлиан выказывал «изощренную милость», призывая к себе «епископов, сосланных Констанцием. Те были арианами, и он развязывал им руки в том, что касалось Церкви». Как выразился историк и воин Аммиан Марцеллин, Юлиан «знал по опыту, что дикие звери не проявляют такой ярости к людям, как большинство христиан в своих разномыслиях». Еще более провокационным был задуманный Юлианом план восстановления Иерусалимского храма. Иисус повелел своим ученикам не восстанавливать разрушенный храм до Его второго пришествия, что означало бы славный конец света. Хитроумный план Отступника показать всю лживость пророчества Христа не свершился за краткий срок его правления, но такая позиция была куда опаснее для веры, нежели вооруженное противостояние.
Поэтому Юлиан обрушил на галилеян «кротость» – снисходительность, милость, отказ от кровавой резни, то есть, как могло показаться, сплошь христианские ценности. Но совсем не те христианские ценности, кои привлекали христиан той эпохи, равно как и более позднего времени. Одним из первых Отцов Церкви был Григорий Назианзин (ок. 329–390), знавший Юлиана еще в Афинах по совместному ученичеству. В своих трудах он старается изобразить Юлиана чудовищем, открыто и последовательно сетуя на тиранию императора, лишившего христиан венца мучеников. Немногим позже святой Иероним (ок. 347–420) негодует по поводу blanda persecutio – «кротких» Юлиановых преследований.
Вспоминается, к слову, школьный анекдот. Вопрос: кто такой садист? Ответ: тот, кто щадит мазохиста.
Вот каким предстает Юлиан в описании Аммиана:
Внешность его была такова: среднего роста, волосы на голове очень гладкие, тонкие и мягкие, густая, подстриженная клином борода, глаза очень приятные, полные огня и выдававшие тонкий ум, красиво искривленные брови, прямой нос, рот несколько крупноватый, с отвисавшей нижней губой, толстый и крутой затылок, сильные и широкие плечи, от головы и до пяток сложение вполне пропорциональное, почему и был он силен и быстр в беге.
Борода – важная деталь: это атрибут философа и вместе с тем – или следовательно – примета мужчины, который сознательно отринул всякое личное тщеславие. Юлиан зарекся изображать типичного цезаря или императора. Когда ему выпадали нежданные военные успехи в далекой Галлии, придворные из окружения Констанция насмешничали: «„Противен стал со своими победами этот двуногий козел“, намекая на его длинную бороду, называли его болтливым кротом, наряженной в пурпур обезьяной, греческим пустомелей». Когда же Юлиан унаследовал константинопольский престол, он открыл для себя донельзя продажный двор, своекорыстный, охочий до наслаждений, помешанный на дорогих нарядах, дорогих тканях и чревоугодии. «Вместо победных триумфов появились столовые торжества», – подмечал Аммиан. Воины забыли о дисциплине: «солдаты разыскивали кубки более тяжелые, чем их мечи», «не камень, как прежде, был постелью для воина, но пуховики и складные кровати», «вместо бранного клича солдат распевал развратные песенки». Вскоре после прибытия в константинопольский дворец Юлиану понадобился брадобрей. Пред ним тотчас явился пышно разодетый сановник. «Я приказал позвать не придворного кассира, а брадобрея», – бросил император с притворным удивлением. Он стал расспрашивать этого человека о выгодах, доставляемых его должностью, и был поражен ответом. Немедля «Юлиан отправил в отставку всех таких людей, а также поваров и других подобных, обычно получавших такое же вознаграждение, как людей, мало ему нужных».
«Круглоголовый» против «кавалера», пуританин против паписта. Длина волос не только имела значение, но и говорила сама за себя. На раннем этапе правления Юлиана в Александрии вспыхнули беспорядки: народ выступал против засилья христиан во власти. В числе сановников второго ранга бунтарями «были убиты начальник монетного двора Драконций и некто Диодор». Второму поставили в вину среди прочего то, что он, «заведуя постройкой церкви, очень ревностно стриг волосы подросткам, полагая, что длинные волосы имеют отношение к культу богов». Поименованных христиан «волокли по улицам, связав ноги веревками», а затем «бесчеловечная толпа возложила растерзанные трупы убитых на верблюдов, отвезла их на берег моря и, предав немедленно огню, бросила в море пепел» из опасения, что «христиане, собрав их останки, воздвигнут им церкви».
Перед Персидским походом Юлиан остановился в Антиохии. Город претил ему по ряду причин: христианский, сибаритский, продажный, скупой и ленивый. Однако в городском предместье, звавшемся Дафной, находилась одна из эллинских святынь: храм Аполлона, возведенный на том самом месте, где убегающая Дафна превратилась в лавровое деревце. В храме стояла вырезанная из палисандра и укутанная в золотую мантию статуя Аполлона тринадцати метров в высоту; говорят, изваяние это не уступало великолепием статуе Зевса в Олимпии. Из Константинополя Юлиан отправил распоряжение восстановить храм к своему прибытию. Воображение рисовало ему жертвенных животных, обильные возлияния и организованную в его честь процессию юношей в белых одеждах. Но ничего подобного он не увидел. Когда жрецу храма был задан вопрос, каких животных город Антиохия приготовил для заклания, тот предъявил одного чахлого гуся, которого принес из дома.
Но сложности не ограничивались праздностью и дерзостью. Место осквернил родной брат Юлиана, Галл, который, будучи губернатором Антиохии, построил рядом с храмом церковь Святого Вавилы, местного христианского мученика, и перенес туда его мощи. В Дельфах Юлиан пришел за советом к жрице Аполлона и спросил, по какой причине умолк оракул. Ответила она так: «Мертвые препятствуют мне говорить, но ты разрушь гробницы, выкопай кости, перенеси мертвых». Вняв этому совету, Юлиан приказал извлечь саркофаг и вернуть в мартириум, откуда в свое время Галл перенес его в храм. Уличные протесты грозили перерасти в бунт, на императора сыпались оскорбления; нескольких христиан арестовали и «пытали хлыстами и железными когтями». Через пару дней храм Аполлона сгорел дотла; огонь превратил в пепел деревянное изваяние – все тринадцать метров. Подозрение, конечно же, пало на христиан (притом что виновником пожара мог с равной степенью вероятности стать и язычник, небрежно обращавшийся с восковыми свечками).
Антиохийцы встречали Юлиана со смешанными чувствами (что неудивительно: он расквартировал в городе шестидесятитысячное войско). Его обзывали бородатым карликом, обезьяной, а за жертвоприношения животных дали ему прозвище Мясник. При других правителях в Антиохии могли бы полететь головы; Юлиан же предпочел взяться за топор литературы – сочинил и опубликовал сатиру под названием «Брадоненавистник». Этот странный текст – подражание Аристотелю: отчасти упрек, отчасти самооправдание; местами панибратский, кое-где властительный; с элементами автобиографии и шутовства, иронии, сарказма; этакое театрально-самоуничижительное покаяние. Можно подумать, будто Юлиан вознамерился расположить к себе горожан комическими, но вместе с тем глубокомысленными сетованиями вкупе с публичным самокопанием. Удалось ли ему достичь запланированного эффекта – о том история умалчивает.
Он объясняет, как формировались его характер и мировоззрение: вследствие безвременной кончины матери, под влиянием учителя-евнуха, за счет пребывания среди кельтов Галлии. Не умалчивает он и о наследственности: «имею в виду поистрийских мизийцев, из которых происходит и мой род, всецело дикий и кислый, неловкий, нелюбовный, непреклонный в суждениях, – все эти качества суть, конечно же, доказательства ужасающей дикости». В результате Юлиан предстает таким, каким изображают его на карикатурах, если не хуже: шумливым, неухоженным, со знаменитой бородой («примирился я и со вшами, носящимися в ней, как зверье в подлеске»). Дальше – больше:
Поскольку же мне было недостаточно длины моей бороды, завел я и грязную голову, стал редко стричь ее, а равно с головой и ногти; пальцы же мои из-за писчей трости почти что черны. Если ты желаешь узнать то, что обычно скрывают, то моя грудь космата, заросла волосами так же, как грудь льва, царствующего, подобно мне, среди зверей; я никогда не делал ни ее, ни какую иную часть своего тела гладкой и мягкой из-за низости и тяжести моего нрава.
Он – завшивевший карлик в городе, где каждый – сам себе брадобрей: «Все вы – красивые, величавые, гладкие, бритые, и старцы, подобно юношам, соревнуют счастью феакийцев, предпочитавших благочестию „свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе“». В уста антиохийцев он вкладывает все новые обвинения: император, дескать, удручающе воздержан, ложно скромен, преувеличенно набожен. Едва ли эта ироническая самокритика могла расположить к нему читателей. Прежде всего, им было с кем сравнивать: Галл, брат Юлиана, управлял ими, как положено христианину, и построил для них великолепный новый храм. В духе мрачной шутки Юлиан упоминает своего дядю, (христианского) императора Констанция: «Стерпите же мою откровенность! Одно-единственное зло причинил вам Констанций, а именно то, что сделал меня цезарем, а не предал смерти». Выступай Юлиан с публичной речью, толпа, наверное, встретила бы эту сентенцию аплодисментами.
Один из недочетов Юлианова памфлета обусловлен тем, что ирония имеет свои пределы. Чрезмерные умствования в защиту своей предполагаемой грубости неубедительны; да что уж там – выглядят неуместными. Юлиан не собирался склонять антиохийцев к согласию, а тем более к подчинению: он всегда начинал с заведомо проигрышных позиций. В какой-то момент он с обидой вопрошает: «Что же было причиной вашей неприязни и ненависти ко мне?» Впрочем, ответы просты и, более того, вплетены в его собственные рассуждения. Он низложил религию антиохийцев и восстановил многобожие. Он совершает богохульство, потревожив прах местного святого мученика. Он вмешивается в заведенные порядки. Его попытка стабилизировать цены на зерно вышла боком: люди стали делать запасы, отчего цены только выросли. Он заседает у них в судах и мешает отправлению правосудия. И в целом выказывает пренебрежение к местной культуре: театр ему претит, конские скачки навевают тоску, музыка и танцы вызывают только презрение. Он советует гражданам держать в строгости своих женщин, хотя даже не смотрит в их сторону. Неотесанный дикарь, чуждый цивилизованных нравов, волосатый неряха: одно слово – Борода.
В довершение своих сетований Юлиан объявляет: «В силу такого положения дел я по собственному желанию оставляю ваш город». Понимая, что в Антиохии его постигла неудача, он ретируется и дает клятву никогда не возвращаться. Он не был типичным императором: игнорировал традиционный обряд убийства своей ближайшей родни и устранения политических противников, чурался пыток и казней. Терпимый к единоверцам, он обычно проявлял снисхождение к врагам по окончании боевых действий. Но мы должны делать скидку на его эпоху и помнить случай, который имел место на заре его военной карьеры, когда он вел своих легионеров от Осера до Труа. В чаще леса им устроило засаду войско германцев; легионеры, оказавшиеся в меньшинстве и как будто близкие к поражению, готовы были обратиться в бегство. На кону стояла не только репутация Юлиана как полководца, но и, видимо, его жизнь. И он принял решение назначить персональную награду за каждую голову германца, которую положат перед ним после победной битвы. Воодушевившись, его легионеры как безумные кинулись добивать поверженных врагов, а затем обезглавливать трупы. Тогда выражение «считать по головам» приобрело совершенно особый смысл.
Отправляясь в восточный поход, Юлиан взял с собою шестьдесят тысяч легионеров – ни один из цезарей не бросал на Персию более многочисленного войска. Для солдат были припасены щедрые запасы винного уксуса и сухарей. В ходе той кампании милосердие императора не слишком бросалось в глаза. В начале вторжения жители неукрепленных городов пускались в бегство; по словам Гиббона, «их жилища, наполненные продуктами грабежа и съестными припасами, были заняты солдатами Юлиана, безжалостно и безнаказанно умертвившими несколько беззащитных женщин». По достижении плодородной ассирийской равнины «философ вымещал на невинных жителях те хищничества и жестокости, которые были совершены в римских провинциях их высокомерным повелителем». Взятие города Маогамалхи обернулось «умерщвлением всех без разбора», а губернатор, «который сдался в плен, полагаясь на обещание быть помилованным, был через несколько дней после того сожжен живым». Город сровняли с землей, но это деяние вызывает у Гиббона лишь холодное, если не надменное равнодушие: «Впрочем, эти бесполезные опустошения не должны возбуждать в нас ни сильного сострадания, ни сильного негодования. Простая голая статуя, изваянная руками греческого художника, имеет более высокую цену, чем все эти грубые и дорогие памятники варварского искусства; если же мы стали бы скорбеть о разрушении дворца более, чем о сожжении хижины, мы этим доказали бы, что наше человеколюбие весьма неправильно взвешивает бедствия человеческой жизни». Иными словами: незачем растрачивать на них наше сочувствие.
Разрушители, в свою очередь, не оставались равнодушными к тому, что предстало перед их взорами. После сдачи Перисабора «огромные запасы зернового хлеба, оружия и дорогой мебели были частью розданы войскам, частью предназначены на удовлетворение общественных нужд». Многие ли из этих богатств вернулись с войсками в империю, летописи умалчивают. Вне сомнения, немногие, поскольку вскоре, после перехода через Тигр, Юлиан принял спорное решение сжечь (буквально) свои корабли. Он обосновал это тем, что в половодье так или иначе невозможно будет двигаться вверх по течению; а бросить флот как есть означало бы сделать подарок врагу. Кстати, в свое время и Александр Великий поступил точно так же.
Пока солдаты грабили и насиловали, Юлиан являл собой отстраненный оплот умеренности и трезвости. Теория о влиянии климата не распространялась на цезаря даже отдаленно. Вновь слово Гиббону: «В жарком климате Ассирии, вызывающем сладострастных людей на удовлетворение всех чувственных влечений, юный завоеватель сохранил свое целомудрие чистым и неприкосновенным; Юлиан даже не пожелал, просто из любопытства, посмотреть на тех попавшихся к нему в плен красавиц, которые не стали бы противиться его желаниям, а, напротив того, стали бы соперничать одна с другой из-за его ласк».
Юлиана нередко описывают – причем не только его воинственные противники – как фанатика, пусть даже терпимого или милосердного. Обвинения, во-первых, касались его глубокой вовлеченности в мистические аспекты своей религии. (Не-язычники обычно предпочитают язычество более спокойное, с более философским лицом.) Во-вторых, Юлиан, как считалось, заходил слишком далеко – если не сказать больше – в вопросах предзнаменований. В его мире было тесно от языческих богов, каждый из которых обладал своими особыми умениями и своими специализациями, требующими признания и преклонения. В этом мире обитали оракулы, с которыми полагалось советоваться, а также несметные количества птиц и животных, которых полагалось забивать и рассекать.
Помимо внешних знаков и предзнаменований, существовали еще и внутренние, исходящие от души и тела. Причем дилетантства здесь не допускалось: «Какое-то покалывание у меня в костях» не считалось: здесь требовалось авторитетное философское обоснование. «Открывает грядущее и дух человеческий, – пишет Аммиан, – когда он находится в состоянии вдохновения и изрекает божественные глаголы». По определению натурфилософов, «Солнце, мировой разум… источает из себя наши души, как искры, и когда оно сильнее их воспламенит, то делает их способными познавать будущее. Потому-то и сивиллы часто говорят о себе, что они пылают, сжигаемые мощным пламенем».
Кроме того, приходилось еще и толковать сновидения. Здесь Аммиан вторит Аристотелю: «Можно было бы вполне и без всяких сомнений полагаться на сны, если бы истолкователи не ошибались в объяснениях. Иногда, как утверждает Аристотель, сны вполне достоверны, а именно: когда зрачок крепко спящего человека, не отклоняясь ни в ту ни в другую сторону, смотрит совершенно прямо». Казалось бы, имея в своем распоряжении множество различных инструментов прогнозирования, авгуры и императоры могли бы выдавать беспроигрышные предсказания хотя бы только за счет системы перекрестных отсылок. Но разве птичье нутро всегда соответствовало человеческим сновидениям, пламени сердца или словам сивиллы, которая изрекала в пещере свои истины, маскируя их двусмысленностями?
Дивинации также таили в себе неизбежный подвох. Как писал Цицерон, «знамения будущего даются нам богами. Если кто ошибся в них, то причина погрешности не в богах, а в человеческом толковании». Таким образом, нам постоянно напоминают об их непогрешимости и нашей суетливой бестолковости.
Выводя легионы из усмиренной Западной Империи навстречу конфронтации со своим дядей, Констанцием, Юлиан сделал остановку в Дакии, где «ревностно предавался исследованию внутренностей жертвенных животных и наблюдал полет птиц». Ответы, отнюдь не впервые, были «сомнительны и неясны». И вот один галльский ритор, который специализировался как раз на гадании по внутренностям, обнаружил чью-то печень с двойной оболочкой, что якобы предвещало успешный поход. В каком именно смысле и по какой именно причине, о том Аммиан умалчивает. Но как бы то ни было, на пути у Юлиана все же возникло одно затруднение. Он убоялся, что пророчество может оказаться ложным, рассчитанным лишь на то, чтобы прорицатель мог подольститься к нему, полководцу. Терзаясь своими страхами, он задержался в Дакии, чтобы самолично получить убедительное знамение. И как-то раз солдат, который подсаживал на коня Юлиана, подставляя ему под ступню свою правую руку, споткнулся и рухнул оземь. Впору было бы опасаться, что бедняге не сносить головы, но Юлиан усмотрел в этом происшествии не человеческую оплошность, а волю богов, согласно которой тот, кто высоко его вознес (то есть Констанций), сам низко пал. Однако Юлиан тянул время, пока не прибыли отправленные к нему посланники, которые подтвердили, что в тот самый миг, когда оступился солдат, Констанций скончался, успев на смертном одре провозгласить императором Юлиана. Чудесное совпадение или обыденная реальность, какую привнесли боги в подвластный им мир? Это уже не имело значения, поскольку знак свыше в кои-то веки был истолкован правильно.
В своем персидском походе Юлиан тоже не пренебрегал знамениями. «Однако слишком уж часто и обильно, – пишет Аммиан, – он поливал жертвенники кровью животных: иной раз он закалывал по сто быков, без счета приносил в жертву множество разного скота и белых птиц, которых отыскивали на суше и на море». Фанатизм или военная хватка? В любом случае эти действия граничили с комизмом: «каждый почти день можно было видеть, как наедавшихся без меры мяса и напившихся до бесчувствия солдат после оргий в лупанариях тащили по улицам в казармы на своих плечах прохожие».
Когда Юлиан перешел через Евфрат и направился в Ассирию, остановки на гадания участились, а вместе с тем среди приближенных разгорелось соперничество за близость к императору. Заявила о себе, например, кучка прорицателей-этрусков, у которых были с собой особые руководства для предсказаний в военное время: в них запрещалось вторжение на чужую территорию, даже ради правого дела. От этого предостережения этрусков с презрением отмахнулась группа философов, чье влияние было на подъеме.
Но что позволительно было считать предзнаменованием свыше, а что – нет? Вечером 7 апреля 363 года в небе появилась туча; она превратилась в непроглядную пыльную бурю, и солдата по имени Иовиан вместе с двумя лошадьми, которых он вел с водопоя, убило молнией. Толкователи погодных знамений узрели в этом – до чего же дивное название – «советодательную молнию». Но предсказание в очередной раз отмели философы, заявив, что это обычное ненастье: если оно о чем-нибудь и говорит, так только о преклонении природы перед императором. Наступление продолжилось.
После победоносной осады Ктесифона, в которой, по ряду источников, пало две с половиной тысячи персов, при римских потерях в семьдесят человек, Юлиан решил принести жертву Марсу Мстителю, дабы закрепить успех. Для этой цели был заказан десяток великолепных быков, но…
…девять, еще не будучи подведены к жертвенникам, сами жалостно простерлись на земле, а десятый оборвал веревку и убежал. С трудом привели его назад, и когда его принесли в жертву, знамения по внутренностям оказались неблагоприятными. Увидев это, Юлиан в сильном негодовании…
И что же он сделал в сильном негодовании? Устроил поставщику великолепных жертвенных быков экзекуцию? Или что-нибудь похуже? Вовсе нет. Он «воскликнул, призывая в свидетели Юпитера, что он не будет более приносить жертв Марсу». В запальчивости? В порядке неразумного искушения судьбы? «И он сдержал свою клятву, похищенный вскоре смертью».
Да и самой смерти его предшествовало немало поводов для дивинаций. Накануне, когда стемнело, «он увидел, как рассказывал об этом приближенным, в смутных очертаниях образ Гения римского государства, который он видел в Галлии, когда принимал верховную власть. Голова и рог изобилия были закрыты, и видение грустно прошло через занавес его палатки». Тогда Юлиан вышел на воздух и «увидел пламенеющий факел, который, казалось, падал с неба. Ужас охватил его при виде этого явления, так как он боялся, не сам ли Марс столь открыто явил бедой грозящее небесное знамение». Юлиан призвал к себе этрусков-прорицателей, и те вновь объявили, что военные действия следует приостановить, и вновь этрусских авгуров не стали слушать. Они умоляли его не выдвигаться хотя бы несколько часов, но «император отверг всякую науку предсказаний». Юлиан выдвинулся маршем, Юлиан погиб.
«Звезды прочат нам злой фарс:
Летом в Землю врежется Марс».
«Кто б мог подумать?»
Для своих сторонников Юлиан на протяжении веков сохранял притягательность как Утраченный Вождь. А вдруг бы он остался у кормила власти еще лет на тридцать, год за годом оттесняя христианство и – поначалу осторожно, а затем энергичнее – укрепляя политеизм греко-римского образца? А вдруг бы эту политику пронесли через века его преемники? Что тогда? Тогда, возможно, не понадобилась бы никакая эпоха Возрождения, поскольку древние греко-римские обычаи сохранились бы в неприкосновенности, равно как и крупнейшие научные библиотеки. Тогда, возможно, не понадобилась бы никакая эпоха Просвещения – оно бы в значительной степени уже свершилось. Тогда удалось бы избежать вековечных нравственных и социальных перекосов, навязанных чрезвычайно могущественной государственной религией. А там, глядишь, подоспела бы эпоха разума, и на сегодняшний день мы бы уже существовали в ней четырнадцать столетий. А уцелевшие христианские священнослужители со своими особыми, прихотливыми, но безобидными – точнее, вынужденно безобидными – верованиями соседствовали бы на равных с язычниками и друидами, с менталистами и шаманами, с иудеями и мусульманами – и т. д. и т. п. под благосклонным и терпимым покровительством той или иной потенциально возможной формы европейского эллинизма. Представьте себе последние пятнадцать столетий без религиозных войн, а возможно, и без религиозной и даже без расовой нетерпимости. Представьте себе науку, свободную от оков религии. Уберите всех этих миссионеров, которые не без помощи солдат насаждали религиозные верования среди туземных народов, пока солдаты разворовывали туземное золото. Вообразите торжество разумного начала той жизненной философии, которая сближала большинство эллинов: если возможны в жизни хоть какие-то радости, искать их надо в том кратком отрезке времени, что нам отпущен в подлунном мире, а не в надуманном посмертном диснейленде, что ожидает нас на небесах.
Разумеется, такая альтернативная история не менее фантастична, чем небеса обетованные. Как первой указала бы Элизабет Финч, нам приходится что ни день сталкиваться с изломанными ветвями человеческого древа: возможно ли избавить человечество от безрассудства, алчности и своекорыстия? Добавим сюда еще страх, как существенный фактор, которым определяются наши поступки: страх гореть в адском пламени, страх лишиться милости Господней, страх вековечного проклятия. Притом что насильственно внедренная добродетель вряд ли может считаться истинной добродетелью. Но ведь против мыслителей эпохи Просвещения использовался именно такой довод: ослабь узы и догматы христианского вероучения, перечеркни понятие Страшного суда – и какая же сила тогда остановит мужчин и женщин от превращения в зверей? Впрочем, те мыслители эпохи Просвещения почему-то не превратились в зверей. Ну, то мыслители, а как насчет простого люда? В некоторой степени странно, что Церковь настолько не доверяет своей пастве. Священнослужитель, конечно, ответит, что кому, как не пастырю, лучше знать свою паству. Но Церковь в ту пору проявляла бдительность, граничащую с паранойей, в вопросах сохранения своего могущества и влияния. А это возвращает нас к Юлиану.
Я бы дорого дал, чтобы обсудить все эти вопросы с Элизабет Финч. Она бы сгладила мою грубость и показала, как можно выровнять (или прихотливо искривить) ход моих рассуждений. А вдруг я мыслю как раз так, как она, паче чаяния, могла бы от меня ожидать? Нет, смысл вопроса затерялся в таком количестве неопределенностей. Зато я сам для себя уяснил, насколько мне до сих пор ее не хватает.
И еще она могла бы указать на возможность совсем иного развития событий. С годами у правителей, за редкими исключениями, прибавляется консерватизма и убывает терпимости. Тогда следует допустить, что Юлиан, проживи он еще те три десятка лет, которые мы ему отвели, счел бы свой курс на кроткое преследование галилеян чересчур неспешным. Ведь его изощренные соперники находили все новые способы достичь множественного мученичества. Естественно было ожидать от них новых поджогов языческих святынь, а то и покушений на жизнь самого императора. Что могло помешать ему обречь христиан на «сильные и длительные мучения», раздавить под грузом камней – и до крайности ослабить их религию? Мученичества захотели? Пусть получат и еще приходят. Уж тогда численность галилеян на планете резко упадет: жестокость, надо думать, не менее – а то и более – эффективна, нежели кротость. А потом на протяжении веков у оставшихся приверженцев этой сильно потесненной конфессии от одного упоминании имени Юлиана будут мурашки бежать по коже и крепнуть желание предать его анафеме.
Но в реальности вышло так, что история Юлиана была написана не кем иным, как христианами. Феодорит Кирский (393–457) указал на два существенных императорских промаха. Юлиан, который считался блистательным полководцем, на деле проявил себя никудышным стратегом и допустил две элементарные ошибки.
Во-первых, он сжег свой флот, чем, согласно Феодориту, подорвал боевой дух легионов, да еще вынудил их по сорокаградусной жаре влачиться через раскаленную пустыню. При этом император не успел своевременно запасти достаточного количества провианта и не сумел толком поживиться съестным на пути следования армии.
Во-вторых, еще более обстоятельно Феодорит высказался о сущности языческих идолов. Не важно, где они были созданы – в германской ли роще, в греческом ли храме, но факт остается фактом: не очень-то они выполняют свою божественную функцию. Вопрос даже не в том, существуют они в действительности или нет; просто многочисленные языческие боги не обладают такой силой, как единый (в трех ипостасях) христианский Бог, да еще в окружении целого сонма святых и мучеников. Боги языческие отличаются переменчивостью и вероломством. «Не сдержал обещания, – пишет Феодорит, – и не помог ему могущественный в брани Арей, ложным оказалось пророчество Локсия, и молниеносец не поразил перунами убийцы. Вот хвастовство угроз простерто на земле! Кто нанес Юлиану этот праведный удар, и доселе еще никому не известно». Довод выдвигался как в религиозной, так и в политической плоскости по принципу: «У нас не только вера более правильная, но и Бог наш сильней и надежней. С нами вы как за каменной стеной. Голосуйте за галилеян!»
Вопрос: Что происходит (в людских умах), когда прекращается культ некоего божества? Оно перестает существовать? Или по-прежнему летает вокруг Земли, словно космический мусор, и с надеждой подает короткие сигналы на мертвой длине волны?
Сравним и сопоставим следующие системы верований:
(А) Над нами довлеет воля Божия, все мы в Его власти. Молиться Богу нужно добросовестно и часто. Бог посылает нам знаки и предостережения, кои надлежит понимать и толковать. Земная жизнь – лишь подготовка к иной жизни, в которой дух отделен от плоти. Бывает, что человек находит способ приблизить это разделение.
(Б) Над нами довлеет воля богов, все мы в их власти. Молиться богам нужно добросовестно и часто. Боги посылают нам знаки и предостережения, кои подлежат восприятию и толкованию. Блаженство духа превыше блаженства плоти, а посему разделение лучшего и худшего есть повод для радости, но не для скорби. Бывает, что человек находит способ приблизить это разделение. Бывает также, что человеку сообщается место, где ему суждено умереть, равно как и место, где суждено ему быть похороненным, дабы он со спокойной уверенностью двигался в сторону тех мест.
По прошествии времени отличия выглядят не столь разительными, хотя нарциссизм и паранойя, ими вызванные, по-прежнему процветают. Одна из причин такого положения кроется во властности монотеизма. Как выразился Артур Хью Клаф: «Других богов не почитай: к чему / Молиться двум, коль можно одному?» Действительно, все силы надо отдавать служению единому Богу, ибо Он знает ответы на все вопросы, дает советы на все случаи жизни и требует безраздельного служения. Христианский Бог никому не передоверяет власть. Он ревниво берется за все дела в одиночку. В свою очередь, языческие и эллинские боги многочисленны и многообразны. Из их числа можно выбрать себе наиболее близких: каждый отвечает за определенное поле деятельности, и каждый волен приближать к себе любимцев из числа людей. Конечно, между богами вспыхивают раздоры, и люди нередко попадают под горячую руку. По собственной прихоти боги могут от тебя отвернуться, а значит, им надо постоянно угождать. Тратиться на очередного белого быка! Ходить перед ними, перед этими многочисленными богами, на цыпочках. А разве у христианского Бога требования скромнее? Вопрос непростой.
Второе неистребимое различие между системами (А) и (Б) касается того, что происходит потом. Согласно обеим системам, существует тело, в котором живет душа, но со смертью душа высвобождается и взмывает вверх: вертикальность – это предпочтительная метафора. И что дальше? Христианство стоит на том, что именно здесь начинается драма нашего бытия. Земная жизнь – это суетный и всего лишь подготовительный этап: ты ютишься где-то на задворках и ждешь, когда же перед тобой распахнет свои двери Главный Чертог. После убогого земного прозябания настанет вечная жизнь в раю или вечная смерть в аду. Настанет Судный день. А дальше встает вопрос об иных материях – материальных. Самым поразительным изобретением галилеян оказалось Общее Воскресение Тела. Платоники считали не только абсурдным, но и отталкивающим представление о том, что мы обречены вечно таскать на себе всю телесную оболочку, вплоть до последнего прыща, бельма или нароста.
В своей патетической предсмертной речи (почти наверняка придуманной Аммианом) Юлиан замечает, что «всякое отделение лучшего элемента от худшего должно внушать радость, а не скорбь». И далее: «С благодарностью склоняюсь я перед вечным богом за то, что ухожу из мира не из-за тайных козней, не от жестокой и продолжительной болезни…» Однако «вечный бог», по сути, не бог, а, скорее, личный гений Юлиана, призванный его охранять, – сам же допустил (или подстроил, или накликал) его уход «в расцвете» сил и славы. Личный гений, заметим, позволил Юлиану расстаться с жизнью всего через полтора года его усилий в деле восстановления эллинского язычества как предпочтительной религии Римской империи – начинания, которому суждено было почить вместе с ним в персидской пустыне.
После такого самопрославления Юлиан «властным тоном порицал» присутствующих за их слезы, «говоря им, что не достойно оплакивать государя, приобщенного уже к небу и звездам». Согласно Гиббону, «это соединение человеческой души с божественной, небесной субстанцией вселенной представляет древнюю доктрину Пифагора и Платона; но оно, по-видимому, несовместимо ни с каким личным или сознательным бессмертием». Чтобы без дрожи созерцать умирание, требуется твердый рассудок. Но в то же время твердый рассудок требуется и для того, чтобы выслушивать, как судит тебя всемогущее божество.
Даже если Юлиан и не произносил своих знаменитых предсмертных слов, христиане взяли верх и сами это знали. В качестве доказательства они не подвергли серьезным карам или гонениям ближайших сподвижников и единоверцев Отступника: те остались теологически безоружными. На протяжении тысячелетия и еще нескольких веков христиане по своему усмотрению распоряжались этой историей и ее основной мыслью, а Юлиан стал в их антипантеоне одним из наиболее одиозных персонажей, которого если и упоминали вслух, то на одном зловонном дыхании с Иродом, Понтием и Иудой, имя его приравняли к обозначению зла, к отрицанию справедливости Господа и Его неуклонной защиты единственно верного монотеистического вероучения. Странно: печатая слово «монотеистический», я каждый раз невольно вспоминаю Э. Ф.
Но подобные притчи редко сохраняются в первозданном виде. Юлиана стали приплетать к историям мучеников, хотя он не имел к ним никакого отношения. Позднее имя его начали упоминать в квазимирском контексте, как возвышенном, так и низменном. В 1491 году Лоренцо Медичи сочинил пьесу, в которой Юлиан уже выведен в качестве не столько средневекового чудовища, сколько трагически погибшего героя эпохи Возрождения. В 1556-м Ганс Сакс (тот самый мейстерзингер) написал пьесу-балладу под названием «Омовение императора Юлиана». В ней Юлиан после охоты на вепря совершает омовение – и в это время лишается своей одежды, похищенной ангелом. Без царственного облачения император становится неузнаваемым для своих приближенных и даже для супруги. Он теряет всю свою власть и все достоинство. Униженный язычник молит христианского Бога о прощении, после чего удивительным образом получает назад – не странно ли, как по-вашему? – и одежду, и трон, и государство.
Первым из независимых мыслителей Нового времени высказался об Отступнике Мишель де Монтень (1533–1592) в своем эссе «О свободе совести». Сам француз под политическим щитом католицизма был стоиком, скептиком, эпикурейцем и терпимым деистом. С детства он говорил на латинском языке и немного владел греческим (тогда как Юлиан с детства говорил на греческом и немного владел латинским). Оба испытывали граничащее с презрением равнодушие к смерти. И оба оказались в эпицентре религиозной вражды. Монтень пережил почти все гугенотские войны, которые терзали Францию между 1562 и 1598 годами и унесли три миллиона жизней.
Свое эссе Монтень начинает с упоминания именно о «той распре, из-за которой Францию наших дней терзают гражданские войны». Одной из причин (и фатальным следствием) такого положения стало то, что Страсти возобладали над Разумом. Даже между «честными и добропорядочными людьми» из правящей католической среды встречалось «довольно много таких, кого страсть увлекает за пределы разумного и заставляет принимать порою решения несправедливые, жестокие и вдобавок еще и безрассудные». И так было всегда: Монтень отсылает нас к раннехристианской эпохе, «когда впервые утверждалась наша религия и с нею начинали считаться законы». «Рвение к ней» вылилось в очищающую ярость, что привела к повсеместному уничтожению языческих книг, «от чего ученые люди понесли ни с чем не сравнимый ущерб; полагаю, что эти бесчинства причинили науке гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведенные варварами». Христианские фанатики, например, стремились (и вплотную подошли) к тому, чтобы уничтожить все экземпляры «Анналов» Тацита, причем, как выразился Монтень, «из-за пяти или шести ничтожных замечаний, враждебных нашей вере».
Итак, Юлиан подает впечатляющий пример из Древнего мира миру современному. Хотя «в делах религии он был кругом неправ… но он не проливал крови христиан»; по утверждению Монтеня, «это был человек и впрямь великий и редкостный». Целомудрие, справедливость, трезвость, философский склад ума – «поистине нет ни одной добродетели, замечательные образцы которой он не оставил бы по себе». Мало этого: «он был к тому же превосходно осведомлен в любом роде литературы». Здесь чувствуется сильное тяготение одного писателя-философа к другому. И Монтень с улыбкой повторяет меткое замечание о сверхревностной приверженности Юлиана язычеству: «современники, даже из числа его единоверцев, посмеивались над ним, утверждая, что, если бы ему удалось одолеть парфян, он истребил бы всех быков, какие только водятся на свете, беспрерывно принося их в жертву своим богам».
В 1644 году Джон Мильтон выступил в английском парламенте с речью, впоследствии опубликованной под заголовком «Ареопагитика», в которой он протестовал против официального лицензирования (а следовательно, потенциальной цензуры) печати. Печать – это одна из великих и мощных опор свободы слова, в коей Мильтон видит не только содействие учености, но и поддержку добродетели. Кроме того, она показывает, управляет ли парламент «нацией не ленивой и тупой, а подвижной, даровитой и обладающей острым умом». Мильтон исходит как из принципиальных, так и из практических соображений. Цензура, заявляет он, попросту тщетна: можно «сравнить ее с подвигом того доблестного мужа, который хотел поймать ворон, закрыв ворота своего парка». Мильтон настаивает: «Дайте мне поэтому – что выше всех свобод – свободу знать, свободу выражать свои мысли и свободу судить по своей совести».
Это не только возвышенный аргумент на все времена, но и политический аргумент конкретной эпохи. Ибо что было более чуждо английскому протестантскому либертарианству, чем католичество: деспотичное папство, «тираническая» инквизиция, «Индекс запрещенных книг», цензура, преследование Галилея и многих других. Конечно, на раннем этапе своего существования Церковь была скорее не гонительницей, а гонимой; в этой связи Мильтон и называет Юлиана Отступника «самым тонким противником нашей веры». В таком контексте Юлиан может показаться фигурой парадоксальной: в конце-то концов, повсеместное уничтожение рукописей и книгохранилищ, повлекшее за собой упадок наук, было направлено ранними христианами против язычников, но не наоборот. Ни один галилейский текст, насколько нам известно, не был уничтожен по приказу Юлиана.
А в чем заключалась тонкость его действий: возможно, он не подвергал цензуре и не уничтожал книги, но он подвергал цензуре читателей. Самой опасной тактикой был наложенный им запрет на изучение христианами «языческих наук». Невелика потеря – так могло показаться на первый взгляд; более того: отлучение от языческих книг могло показаться благом для христианина. Но побочный эффект запрета на доступ к эллинской науке и философии – разрешение галилеянам преподавать только свое священное писание в своих собственных храмах – заключался в том, чтобы оттеснить их на второй план и отрезать от гражданских прав и свобод. Христиане сразу насторожились. Как выразился Мильтон: «Лишение греческой науки казалось тогда столь великим ущербом, что, как полагали, это гонение гораздо более подрывало и тайно разрушало церковь, чем открытая жестокость Деция или Диоклетиана». К счастью, христианский Бог узрел опасность, которую представлял собой Отступник, и действовал через святого Василия и святого Меркурия. По Мильтону: «Промысл Божий позаботился об этом… уничтожив упомянутый варварский закон вместе с жизнью того, кто его издал».
Отступник, так и оставшийся настоящим бельмом на глазу для английских протестантов, опять возник в связи с Биллем об отводе 1679–1681 годов. Карл II правил как христианский король с 1660 года; но его брат и преемник, Джеймс, герцог Йоркский, будущий король Яков, был католиком и жаждал восстановить в стране истинную веру. Это тревожило многих: палата общин не раз голосовала за исключение Якова из очереди на престолонаследие, после чего либо палата лордов сама отменяла билль, либо Карл попросту распускал парламент. Множились памфлеты и трактаты за и против, и самое знаменитое сочинение такого рода вышло из-под пера некоего Сэмюэла Джонсона – нет-нет, не знаменитого лексикографа (того еще не было на свете), а домашнего капеллана лорда Расселла, возглавлявшего движение в защиту Билля об отводе. Трактат Джонсона получил пространный заголовок «Юлиан Отступник: его краткое жизнеописание; чувства древних христиан по поводу его преемства и поведение их по отношению к нему». Ключевое слово здесь – «преемство»; ниже идет подзаголовок, проливающий дополнительный свет на авторский замысел: «Вкупе со сравнением папства и язычества».
Джонсон считает, что Отступник – один из жесточайших злодеев христианского мира, наряду с «Гонителем Иродом», «Предателем Иудой» и «Христоубийцей Пилатом», и отводит ему, «богоненавистнику», место «рядом с иудеями». Хорошо еще, что те древние христиане «поспоспешествовали его смерти силой молитвы», и теперь он в аду «вкушает безмерные кары». Был он не только негодяем Отступником, но и негодяем Притворщиком; христиане называли его не Юлианом, а Идолианом или еще Быкосжигателем – за его любовь к жертвоприношениям. Страсть его к прорицаниям была столь же мерзкой, сколь и богохульной, ибо кому дозволено ставить под сомнение волю Божию на то, что должно свершиться в Его мире? И даже если Юлиан самолично не отдавал приказов о физической расправе над христианами, то у его предтеч, адептов и приспешников руки по локоть в крови. «В Аскалоне и в Газе они рассекали тела христиан и, обсыпав ячменем трепещущие внутренности, кидали свиньям». Между тем во времена Константина некий Кирилл, глава Гелиополиса, «сжигаемый Божественным пылом», сокрушил множество языческих идолов. В отместку «гнусные язычники… не просто убили его, но, вспоров ему живот, вкусили его сырой печени». Такое бесстыдное чревоугодие переходило всякие границы, и виновные понесли должное наказание: «согласно запискам историка», вскоре после этого «у них вывалились зубы, языки и глаза».
Лорд верховный судья Пембертон объявил, что «папство в десять раз хуже всех языческих предрассудков». Джонсон продолжает: «Значит, мы, я уверен, ни в чем не уступаем древним христианам, коль скоро наше отвращение к преемнику-паписту вдесятеро сильнее того, которое они питали к Юлиану». Мрачная была перспектива: «Жизни всех протестантов будут во власти каждого мирового судьи, констебля или сборщика церковной десятины, у которого достанет рвения, чтобы их уничтожить. Каждый офицер и янычар сможет убивать и казнить беспрепятственно». Папистам надлежало считать английских протестантов «прекрасным, легким лакомым куском».
У папистов есть три точки соприкосновения с язычеством: политеизм, идолопоклонство и жестокость. Они поклоняются «большому числу ложных богов» и молятся самым разным святым – даже небесным покровителям «зверья и скота». Они чтят кости, молятся ангелам и «вездесущей» Деве Марии. Естественное следствие многобожия – идолопоклонничество. «Вот уже восемь с лишним столетий христианский мир утопает в гнусном идолопоклонстве, самом богомерзком пороке и самом пагубном для человека». Христианские святые мужеского пола подобны «принцам земли Персидской», а женского пола – «смазливым и ухоженным блудницам». Паписты одобряют паломничества, возжигают свечи, дают обеты, верят в слезоточивые камни, чудесные исцеления и падают ниц перед «любым деревянным крестом или мельчайшей высохшей каплей, почитаемой за кровь Христову». Боготворят они и «презренную» облатку – «жалкий круглый хлебец, хотя и украшенный изображением распятия».
Что же касается жестокости, то здесь паписты превосходят даже язычников. «Они не успокоятся, покуда не навяжут нам свое идолопоклонничество (подобно королю Франции, торгующему своей солью), и не важно, представится ли для этого случай и будет ли на то наше желание или нет». Приводится ряд примеров «слепого католического фанатизма», довлеющего над Англией. Джонсон напоминает читателю об «адских заговорах», которыми полнилась Елизаветинская эпоха. Те, кто нынче ратует за короля Якова, не знают, как видно, «ничего ни о Парижском венчании, ни о Пороховом заговоре, ни об Ирландской резне».
Это сочинение принесло Джонсону прозвище Юлиан Джонсон и спровоцировало выход таких полемических отповедей, как «Иовиан» и «Констанций Отступник». Оно также навлекло на автора массу неприятностей, усугубленных последовавшей в 1683 году казнью его патрона, лорда Расселла, через неумелое усекновение головы, осуществленное Джеком Кетчем в Линкольнс-Инн-Филдс. Сам Джонсон дважды привлекался к суду: в первый раз – за подстрекательство к мятежу в 1683 году, когда его книга была сожжена палачом, а во второй – в 1685-м – за неуточненные «грубые нарушения законности». Его приговорили к четырехкратному стоянию у позорного столба, выплате штрафа в размере 200 марок и порке на всем пути «от Ньюгейта до Тайберна». Якова II, уже восседающего на троне, просили вмешаться, но тот ответил: «Коль скоро мистер Джонсон проникся духом мученичества, ему полезно будет помучиться». Джонсон получил 317 ударов «плеткой с девятью узловатыми хвостами». Осужденный не дрогнул: еще не оправившись от увечий, он перепечатал свое «Сравнение папства и язычества» тиражом в три тысячи экземпляров и вдобавок опубликовал рассказ о своих мытарствах.
Вершиной посмертной известности Юлиана стал XVIII век. Особое внимание привлекали два аспекта его жизни и философии: во-первых, знаменитая (или пресловутая) Юлианова «кротость», которая в эпоху Просвещения трансформировалась в идею «терпимости», и, во-вторых, в бытность его принцем и впоследствии просвещенным монархом, его ипостась философа. Сходные принципы лежали в основе дружеских отношений Дидро с российской императрицей Екатериной II, которая приобрела его библиотеку с сохранением за ним права на пожизненное пользование книгами, а вдобавок назначила его библиотекарем. В это же время прусский король Фридрих Великий усердно обхаживал Вольтера: «Мой Сократ», – вздыхал император; «Мой Траян», – отвечал философ.
Впрочем, прежде других следует упомянуть Монтескьё. В своем сочинении «О духе законов» (1748) он дает высокую оценку стоикам: «Если бы я мог на минуту забыть, что я христианин, я бы признал уничтожение школы Зенона одним из величайших несчастий, постигших человечество». Далее он особо выделяет Юлиана как величайшего правителя: «…после него не было государя, более достойного управлять людьми». Но Монтескьё добавляет одну поправку, необходимую в ту эпоху для его собратьев по перу: «…эта невольная похвала не сделает меня, конечно, соучастником его отступничества».
Современную трактовку фигуры Юлиана предложил Вольтер в двух типично воинственных, как всегда, статьях своего «Философского словаря» 1764 года издания. С самого начала он отказывается от предуведомления «Не будь я христианином», которое благоразумно использовал Монтескьё. Вольтер не использует даже ставшее привычным уничижительное именование «Отступник»: ни друзья, ни враги Юлиана, заявляет он, не оставили никаких свидетельств, что Юлиан перешел от искренней христианской веры к искренней вере в богов Римской империи; его «христианство» было жизненно необходимым прикрытием, а потому он не мог быть отступником. И теперь наконец-то, после четырнадцати веков клеветнических обвинений и выдумок со стороны Отцов Церкви и их последователей, пришло время здравого анализа. Истинный Юлиан, далекий от того чудовищного образа, который нарисован его теологическими противниками, следовал правилам «справедливости, умеренности и благоразумия». А если под давлением фактов нам придется все же признать, что он не любил христианство, то «возможно, мы сочтем простительной его ненависть к вероучению, окропленному кровью родных». Но, претерпев от галилеян «преследования, лишение свободы, изгнание и смертельные угрозы», ответных гонений он не допускал и даже помиловал шестерых солдат-христиан, готовивших покушение на его жизнь. Он обладал всеми достоинствами Траяна, Катона, Юлия Цезаря и Сципиона, но был свободен от их недостатков. В целом он ничем не уступал Марку Аврелию, «первому среди людей».
Для Вольтера терпимость и свобода вероисповедания были основными факторами на пути к просвещению. Поэтому двумя главными бедствиями раннехристианской истории он считал насаждение монотеизма и предпринятое Константином слияние Церкви с государством. Юлиан, государь-философ и эталон терпимости, был в глазах Вольтера вовсе не краткой исторической флуктуацией, не последней доблестной (или продиктованной заблуждением) попыткой остановить натиск христианства, – напротив, сегодня его следует, наверное, считать ослепительным провозвестником эпохи Просвещения. Во время аудиенции у Фридриха Великого Вольтер сделал императору самый большой комплимент из своего лексикона, адресовав ему слова «новый Юлиан».
Эдуард Гиббон, который познакомился с Вольтером во время обучения в Лозанне зимой 1757–1758 годов, посвятил затем Юлиану три главы своего «Упадка и разрушения». Историк ставил Юлиана почти так же высоко, как и Вольтер, хотя испытывал чувство неловкости из-за фанатичной императорской приверженности язычеству. Его окончательное суждение было чуть более осторожным: Юлиан, возможно, и не обладал гением Юлия Цезаря, высшей степенью осмотрительности Августа, добродетелями Траяна или философским умом Марка Аврелия. Впрочем:
После стодвадцатилетнего промежутка времени, истекшего со смерти Александра Севера, римляне созерцали деяния такого императора, который не знал других удовольствий, кроме исполнения своих обязанностей, который трудился с целью облегчить положение своих подданных и вдохнуть в них бодрость и который старался всегда соединять власть с достоинством, а счастье с добродетелью. Даже крамола, и даже религиозная крамола, нашлась вынужденной признать превосходство его гения и в мирных, и в военных делах управления и с прискорбием сознаться, что вероотступник Юлиан любил свое отечество и был достоин всемирного владычества.
Гиббон восхищался стойкостью Юлиана перед лицом смертельной опасности: после осады Перисабора он объявил своим когортам: «…я готов стоя умереть, и я не дорожу скоропреходящей жизнью, которая может ежечасно прекратиться от случайно схваченной лихорадки». Но такая высокоморальная позиция не учитывала практических аспектов управления империей. На смертном одре Юлиан отказался назначить себе преемника и тем самым, по мнению Гиббона, оставил империю в очень «тревожном и опасном положении», допустив торжество христианства. Очень скоро «гений язычества… безвозвратно превратился в прах», а философы «сочли благоразумным сбрить свои бороды».
Осталось, помимо примера его жизни, его знаменитое последнее выступление против христианства, тем более знаменитое, по Гиббону, что с самого начала было обречено:
Юлианова гения и могущества было недостаточно для восстановления религии, у которой не было ни богословских принципов, ни нравственных правил, ни церковной дисциплины, которая быстро приходила в упадок и которая была недоступна ни для каких прочных или серьезных преобразований.
Придя к власти, Юлиан избавился от нечистых на руку и продажных придворных евнухов, точно так же, как прежде избавился от невообразимого числа брадобреев. Возможно, сам он являл собою пример аскетизма и простоты, но его примеру не следовали даже самые доверенные из приближенных. Обосновавшись в константинопольском дворце, он призвал к себе Максима, своего старинного друга. «Путешествие Максима через города Малой Азии, – пишет Гиббон, – было триумфом философского тщеславия», и тот по прибытии «мало-помалу вовлекся в соблазны, окружающие двор». Когда закончилось недолгое правление Юлиана, Максим «подвергся унизительному расследованию» для выяснения того, «какими способами последователь Платона, так недолго пользовавшийся милостями своего государя, мог нажить такое громадное состояние». Прежде жребий пал на евнухов и брадобреев; теперь настал черед «философов и софистов», из коих «лишь немногие сохранили свою нравственную чистоту и свою хорошую репутацию».
Но у эллинского политеизма была еще одна слабость, структурная: он состоял «из тысячи отдельных и гибких частиц, так что поклонник богов мог по своему произволу определять степень и меру своих религиозных верований». Возможно, в других обстоятельствах это была бы не столько слабость, сколько толерантная сила. Юлиан определенно исповедовал максималистский подход к религии. Его благосклонность к иудеям была характерна для «политеиста, заботившегося лишь об увеличении числа богов». Сам Юлиан отправлял религиозные обряды истово, регулярно и на высочайшем уровне.
Несмотря на скромное молчание самого Юлиана, мы знаем от его верного друга оратора Либания, что он жил в постоянных сношениях с богами и богинями, что они сходили на землю для того, чтобы наслаждаться беседой со своим любимым героем, что они деликатно прерывали его сон, прикасаясь к его руке или к его волосам, что они предупреждали его о всякой приближающейся опасности и своей непогрешимой мудростью направляли все действия его жизни и что он так близко познакомился со своими небесными посетителями, что без труда различал голос Юпитера от голоса Минервы и формы Аполлона от наружности Геркулеса.
Гиббон, комментируя это высказывание, утверждает, что такие видения были «обычным последствием поста и фанатизма», которые почти способны «низвести императора на один уровень с любым из египетских монахов». Почти: бытие египетского монаха обходится сравнительно недорого, тогда как установление столь близких контактов с верховными божествами, чтобы те прикасались к твоим волосам, – чудовищно дорогое удовольствие. Юлиан приносил жертвы ежедневно, по утрам и вечерам, не оставляя ничего на волю случая или на волю других:
…император занимался тем, что приносил дрова, разводил огонь, вонзал в жертву нож, всовывал свои окровавленные руки во внутренности издыхающего животного, вынимал из него сердце или печень и, с искусством самого опытного гаруспика, читал на них воображаемые предзнаменования будущих событий.
Конечно же, самые главные боги заслуженно получали самые щедрые жертвы: неиссякаемым потоком «самые редкие и самые красивые птицы привозились из отдаленных стран». Нередко случалось, что в один и тот же день приносилось в жертву по сотне быков. Солдаты, впрочем, только приветствовали такое усердие императора, поскольку им доставалось вдоволь мяса.
На протяжении восемнадцатого и девятнадцатого веков имя Юлиана оставалось на слуху. Шиллер, который десять лет кряду готовился написать драму на темы его жизни, поделился своими планами с Гёте, но никаких следов того замысла не сохранилось. Дабы предотвратить упадок литературы и искусства в Германии, эти двое даже образовали альянс: с 1789 года они издавали серию журналов. Но писать для журналов приходилось почти исключительно им самим, и особым успехом эта серия не пользовалась. В какой-то момент Гёте мрачно сравнил их миссию с безуспешной попыткой Юлиана потеснить христианство.
Байрон открывает своего «Дон Жуана» (1819–1824) саркастическим посвящением собрату по перу, поэту Роберту Саути, который, подобно Вордсворту, начинал как пламенный революционер, однако под влиянием времени и возраста превратился в консервативного представителя истеблишмента. В 1813 году «Боб» Саути получил титул поэта-лауреата – придворного стихотворца, отчего Байрон обращается к нему «почтенный ренегат». Посвящение заканчивается так:
До ренегатства мне не дорасти,
Хоть без него живется многим худо —
Тем, кто не Юлиан и не Иуда…
Биография Юлиана и его мысли адаптировались и переписывались богословами и историками в угоду веяниям времени (а также изменчивым вечным истинам). Эти переработки мало у кого получались более изобретательными или более личностными, чем у Генрика Ибсена. «Кесарь и Галилеянин» (1873), пьеса, входящая в его раннюю драматическую тетралогию вместе с «Брандом» и «Пер Гюнтом», поднимается до широких обобщений: «Почему нельзя написать драму в десяти актах? – риторически вопрошает Ибсен. – В пяти актах мне тесно». На его взгляд, это произведение было автобиографическим. «Я вложил в эту книгу часть пережитого мной, – писал он своему английскому другу и стороннику Эдмунду Госсу. – То, что я здесь описываю, я сам в той или иной форме пережил, и самый выбор темы находится в более близкой связи с течениями нашего времени, нежели можно усмотреть сразу». Он дал этой пьесе подзаголовок «Мировая драма» и называл ее «мой шедевр».
Пьеса колоссальна по объему: в английском издании 1907 года (один из томов «Собрания сочинений») она занимает 480 страниц. Именно на это намекает Ибсен, говоря о подготовке к «чтению»: сам он именует ее то книгой, то пьесой. Издание 1873 года, опубликованное тиражом в четыре тысячи экземпляров, разошлось очень быстро; аванс за второе издание Ибсен целиком вложил в акции шведских железных дорог. Этот гигантский драматургический текст ни по каким общепринятым меркам не укладывается в понятие сценического произведения: своевольный режиссер вынужден будет врубаться в него, как в открытый карьер, чтобы, отбросив большое количество излишней, по театральным меркам, экспозиции, явить миру скрытую в глубине драму.
«Кесарь и Галилеянин» – произведение, далекое от подлинной истории; оно драпирует известные факты толстым покровом насущных вопросов девятнадцатого века. Сюда входят: стремление к самореализации личности, основополагающее значение воли, а также несовместимость христианства с «радостью жизни». Здесь присутствуют знакомые ибсеновские мотивы: и непорочная дева (которая на поверку может оказаться не такой уж непорочной), и незаконнорожденное дитя (чье существование немало удивило бы супругу реального императора, Елену). Сам Юлиан – как Ибсен, как Кьёркегор, но совсем не как исторический Отступник – стремится к разрыву со своим глубоко религиозным воспитанием. К тому же он, как и положено представителю ибсеновской плеяды реформаторов – плохо информированных идеалистов, убежден, что ему по плечу изменить ход мировой истории с помощью непорочной девы.
В начале этой пьесы Юлиан ищет совета у своего друга-мистика по имени Максим, который вызывает духов трех мужчин, оказавших наибольшее влияние на ход истории, – Каина, Иуды Искариота и еще кого-то третьего, окутанного непроницаемым покровом, а все потому, как понимает Максим, что под его личиной скрывается либо Юлиан, либо Максим собственной персоной. Также Максим изрекает, что всемирно-историческая миссия императора заключается в соединении мудрости христианской с мудростью языческой: в то время этот вопрос муссировался беспрерывно.
Ибсеновский Юлиан – отнюдь не тот умный, милосердный, тонкий правитель, что привык побеждать искусными маневрами; он представляет собой типичного римского тирана. Свою смерть он встречает в персидской пустыне, но не от руки безвестного копьеметателя и уж тем более не от чудесного союза пары христианских святых. Нет, его убивает Агафон, близкий друг, узревший в императоре Антихриста. Умирающий Юлиан признает, что его тирания оказалась бесплодной; она только настроила против него христиан и утвердила будущее господство их религии. На первый план опять выходит закон непредсказуемых последствий, как это было в случае с Каином и с Иудой Искариотом.
В книжном формате произведение «Кесарь и Галилеянин» пользовалось оглушительным успехом, а в драматургическом воплощении – наоборот. Только через тридцать лет оно достигло норвежской сцены: в 1903 году, за три года до смерти драматурга (да и то поставлена была только первая часть). Великобритания всегда оставалась лояльной Ибсену территорией, но лондонская премьера той пьесы, которую автор называл своим шедевром, состоялась лишь в 2011 году. Обозреватель (доброжелательный) «Гардиан» заключил, что постановка «на несколько градусов не дотягивает до шедевра», тогда как рецензент (недоброжелательный) «Телеграф» назвал спектакль «почти невыносимым занудством».
Небольшое примечание, пущего педантизма ради. Первым из напечатанных образцов публицистики Джеймса Джойса стала длинная, на восемь тысяч слов, рецензия на спектакль по пьесе Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». За нее автор получил гонорар от «Фортнайтли ревью» в сумме двенадцати гиней; Джойсу тогда было восемнадцать лет. Он объявил Ибсена крупнейшим психологом и мыслителем современности, а конкретно – более крупным, нежели Руссо, Эмерсон, Карлейль, Гарди, Тургенев и Джордж Мередит. Неудивительно, что драматург был доволен такой оценкой и отправил юному дублинцу благодарственное письмо в дружеском тоне. Без малого сорок лет спустя Джойс вновь отдал дань уважения писателю, на сей раз – в своем романе «Поминки по Финнегану», где содержится более шестидесяти каламбуров, обыгрывающих имя драматурга и названия его пьес, например: «Для пэров и джентов, цензряшных и причинодралов, франтоузников мирских строчек и дряхлых едкобаев». Выражение «цензряшных и причинодралов» («quaysirs and galleyliers») содержит каламбур на «Kejser og Galilaeer» – исходное норвежское наименование «Кесаря и Галилеянина». Ибсен, проживи он на тридцать с лишним лет дольше, возможно, одобрил бы эту назойливую игривость.
А теперь вернемся к Суинберну и его стихотворению «Гимн Прозерпине», о котором я впервые услышал в незапамятные времена из уст Э. Ф. В 1878 году Суинберн написал второе стихотворение о Юлиане, «Последний оракул», повествующее о неоднократно описанном эпизоде из самого начала правления Отступника. В 362 году, дабы узнать от пифии свои шансы на успех в персидском походе, Юлиан отправил своего друга Орибасия в Дельфы. По возвращении Орибасий принес не какое-нибудь иносказательное пророчество, над которым могли бы поразмыслить гадатели, а самое что ни на есть скверное: оракул на самом деле закрыт и никого не принимает. Слова, принесенные Орибасием от пифии, звучат так:
Скажите царю – разрушен сей дом непорочный
И ручья говорящего сила почила, мертва.
Нет приюта для Бога нигде, ни дома, ни крыши,
И пророческий лавр больше в руках не цветет.
Орибасий послушно передает эти слова Юлиану, и…
Пало сердце царя, безнадежные вести услышав,
Верный твой друг понял, что скоро умрет.
Безутешно вниз он склонил лицо,
Признавая стихийных сил произвол…
Как и «Гимн Прозерпине», «Последний оракул» оплакивает сумерки старых языческих богов и непрошеное пришествие новой религии – «Царство чужого Бога», в котором «огнь, а не свет, ад вместо неба, псалмы – не пэаны». Однако поэт, признавая поражение, нанесенное язычеству христианством, вместе с тем взывает поверх голов обеих религий к Аполлону, источнику всех песен и всего солнца, властвующему над всем сущим:
Бог за Богом уйдут, позабудем деянья и лики,
Но бессмертна душа, что им слово и облик дает.
Вот молитвенный рефрен этого стиха:
О отец наш, Пэан, Аполлон,
Палач и целитель, внемли!
Таким образом, два стихотворения Суинберна маркируют границы правления Отступника: в начале его царствования умолк Дельфийский оракул, а в конце раздался предсмертный крик императора. В действительности ни одного из этих «событий» не происходило. Как Юлиан не произносил своей знаменитой предсмертной речи, которая была выдумана лишь в последующие годы, так и Орибасий никогда не совершал паломничества в Дельфы. Создается впечатление, будто оно «вспомнилось» посланнику только в глубокой старости, долгое время спустя после кончины Юлиана.
Кстати, в 362 году пифия, по словам одного современного биографа, «была все еще активна, хотя страдала артритом», и служила своему туманному делу еще лет двадцать после того.
В эпоху Юлиана западные провинции управлялись из Милана, а восточные – из Константинополя. Его любимый город не шел ни в какое сравнение со столицами – Лютеция (ныне Париж) занимала всего лишь островок на Сене, да еще несколько кварталов на левом берегу: там были жилые дома, какой-то дворец, амфитеатр, термы, акведук и Марсово поле, где муштровали римских солдат. Вдобавок там нерешительно выращивали виноградные лозы и фиговые деревья. Но больше всего подкупали Юлиана строгие и простые нравы местных жителей. В них не было притворства: театр в Лютеции был то ли неизвестен, то ли презираем. Будущий император «с негодованием противопоставлял изнеженности сирийцев храбрость и честную простоту галлов». И вообще единственное, что бросало тень на местные обычаи, – это «страсть к спиртным напиткам».
Гиббон позволил себе телепортировать императора Юлиана в Париж восемнадцатого столетия:
Если бы Юлиан мог теперь снова посетить столицу Франции, он нашел бы в ней ученых и гениальных людей, способных понимать и поучать воспитанника греков; он, вероятно, извинил бы игривые и привлекательные безрассудства нации, в которой любовь к наслаждениям никогда не ослабляла воинственного духа, и, конечно, порадовался бы успехам того неоцененного искусства, которое смягчает, улучшает и украшает общественную жизнь.
Возможно, Юлиана порадовал бы прием, оказанный ему французскими философами-историками того времени. Но радость его была бы недолгой. Через столетие их преемники ополчились против него. Писатель Анатоль Франс был смущен и обескуражен той встречей, которую устроили императору Огюст Конт и Эрнест Ренан. «Конт обращается с ним чрезвычайно жестко», – замечал он. Что же до Ренана, в своих массивных трудах о зарождении христианства он постоянно, хотя и вскользь выказывает свое пренебрежение. Ренану христианство виделось высшей формой монотеизма, и попытки Юлиана возродить старую религию представлялись «бессодержательным капризом». Язычество было на последнем издыхании, и Отступник попросту оказался не на той стороне. Он стоял перед судом истории вместе с Антиохом, Иродом и Диоклетианом («все великие принцы этого мира, которых народная молва обрекла на вечное проклятье»). Как-то на званом вечере Франс услышал, как Ренан «по секрету шепчет» перед всеми, кто оказался в пределах слышимости: «Юлиан! Он же реакционер».
Франс ставит его куда выше: «Юлиан явил миру уникальное зрелище: толерантного фанатика». Но вместе с тем он склонен к романтической, если не сказать литературной трактовке образа императора как юноши, который обязан «кое-чем большим, чем жизнь» не кому-нибудь, а «мудрой красавице Евсевии, которая его любила». Когда он отправился в Галлию, она дала ему с собой «обширную библиотеку из книг поэтов и философов»; в связи с этим сам Юлиан отмечал: «Галлия с Германией стали для меня музеем эллинской литературы». Франция теплеет к образу философа-принца, который в военном походе сражается с гуннами, но при этом за чтением книг вспоминает императрицу.
И все же здесь есть некий парадокс, во всяком случае для искушенного француза:
Но из тех мужчин, которые обязаны своим преуспеянием любви, Юлиан, по-видимому, меньше всех старался нравиться женщинам. Должно быть, вкусы Евсевии выделяли ее среди представительниц одного с нею пола, коль скоро она прикипела душой к такому аскетичному молодому человеку. Приземистый, коренастый, Юлиан не отличался красотой и за счет нарочитой небрежности пытался сделать свою персону еще более непримечательной. Он носил козлиную бородку, которой не касался гребень. Только напрасно он мнил, что борода, когда она грязная, придает ему философский вид.
Надменностью Анатоль Франс дает сто очков вперед любому антиохийцу. Понятно же, что в парижском салоне императора сочли бы немытым битником. Что же до «приземистости», в императоре было пять футов один дюйм – такой рост, как сообщает Аммиан, считался в то время «средним». Прошелся Франс и насчет его склонности к пуританству в сочетании с мистицизмом. «Глубокий богослов и суровый моралист, он действовал по зову совести и по воле судьбы, ублажаемой постами и бессонницей… С содроганием представляешь себе императора, который никогда не спит».
Вместе с тем Франс подводит нас к всеобъемлющему, хотя и нерешаемому затруднению.
Несмотря ни на что, эллинизм, гибкий в своих догматах, изобретательный в своей философии, поэтичный в своих традициях, мог бы, вероятно, расцветить человеческую душу свежими и многообразными оттенками, но каким был бы современный мир, живи он под мантией доброй богини, а не в тени Креста – это большой вопрос. К сожалению, ответа на него нет.
К двадцатому веку притягательность Юлиана несколько померкла. Он по-прежнему обсуждался в научных кругах, но в других сообществах ужался до исторической фигуры, на которую каждый отдельно взятый автор реагирует индивидуально. По крайней мере, у меня сложилось именно такое ощущение. Должен также признать, что мое исследовательское рвение шло на убыль. Например, у Никоса Казандзакиса обнаружилась непереведенная пьеса, которая выдержала ровно один показ в Париже – в 1948 году: возникло ли у меня желание изучить этот источник? Том Ганн опубликовал туманно-благоговейное стихотворение, а Кавафис – целую дюжину более внятных. Но в сторону Клеона Рангависа и Дмитрия Мережковского я косился с опаской, да и в знакомстве с Мишелем Бютором и Гором Видалом далеко не продвинулся. Похоже, я занимался составлением библиографии еще не прочитанного.
Но век двадцатый все же исторг одного неожиданного и нежеланного последователя Отступника. Если Юлиан, по мнению некоторых, действительно отличался фанатичностью, то заинтересовался им не кто иной, как фанатик из фанатиков. Гитлер.
Цитирую его «Застольные беседы» (полдень 21 октября 1941 года):
Если вспомнить мнения о христианстве, высказанные нашими лучшими умами лет сто-двести тому назад, делается стыдно, что с тех пор мы так недалеко ушли. Я и подумать не мог, что Юлиан Отступник изрекал столь здравые суждения о христианстве и христианах. Вам бы не помешало с ними ознакомиться.
Интересно знать, кто именно указал фюреру на Юлиана. В любом случае к этой теме он вернулся четырьмя днями позже, вечером, в присутствии почетных гостей: рейхсфюрера СС Гиммлера и генерала СС (обергруппенфюрера) Гейдриха:
Книгу, содержащую размышления императора Юлиана, следует распространить миллионными тиражами. Какой великолепный ум, какая проницательность, вся мудрость Античности. Невероятно.
И ранее, в ночь с 11 на 12 июля 1941-го:
Самым жестоким ударом, постигшим человечество, стало нашествие христианства. Незаконнорожденный сын христианства – большевизм… В Древнем мире отношения между людьми и богами основывались на инстинктивном уважении. Это был мир, проникнутый идеей терпимости. Христианство стало первой религией в мире, которая именем любви истребляла своих противников. Лейтмотив этой религии – нетерпимость.
В такой защите толерантности слышится громоподобная ирония. Но Гитлер хотя бы истреблял своих противников не во имя любви. Без ложного лицемерия он уничтожал их во имя ненависти и расового превосходства. А значит, восхищаясь императором, он явно его не понимал. Как писал Юлиан: «Убеждать и поучать людей надлежит не кулаками, не оскорблениями и не физическим насилием, а разумными доводами». И о галилеянах: «Скорее жалости, чем злобы достойны те, кто заблуждается в делах величайшей важности».
Завершив эссе о Юлиане Отступнике, я успокоился и одновременно воодушевился. Разумеется, я никому его не показывал – да и кому такое покажешь, только Э. Ф. Оно меня увлекло, и этого было достаточно. Кроме того, оно доказало, что я не какой-нибудь Король – а точнее, Шут – Заброшенных Проектов. Пришло время двигаться дальше. Раз уж я порадовал Э. Ф. своим Юлианом (хотя откуда мне знать?), теперь настала пора воздать должное ей самой.
На раннем этапе моей работы Крис однажды спросил, уж не пишу ли я биографию его сестры. Я смутился и ничего не ответил, потому что это предположение показалось мне каким-то… пошловатым. При посредстве императора Юлиана я узнал поэта Константиноса Кавафиса, автора следующих строк:
Изо всего, что сделал и сказал я,
пусть не пытаются понять, каким я был.
Несмотря на это предостережение, у Кавафиса все же нашелся биограф. Поэт, несомненно, хранил какие-то тайны, причем явно интимного свойства (а у кого их нет?), которые не хотел разглашать. Стихотворение заканчивается так:
Потом – в каком-то обществе посовершенней —
другой, устроенный, как я,
появится, конечно, и все сделает свободно.
Много лет его не публиковали. Тем не менее посыл был ясен: оставьте меня в покое, не ворошите прах. А что же Элизабет Финч? Сомневаюсь, что у нее достало тщеславия думать, будто кто-нибудь «попытается понять, какой она была».
В свидетельстве о рождении у нее значилось: Элизабет Рейчел Джейн Финч; затем дата, имена родителей, фамилия и подпись лица, выдавшего документ. Свидетельства о браке не было, но это не исключало тайного венчания в Мексике под вымышленным именем (степень вероятности: нулевая). А вот свидетельство о смерти было. Было и завещание: немногочисленные отписанные суммы, пожертвования в благотворительные фонды, распоряжение о передаче мне ее книг и рукописей, а все остальное переходило Кристоферу. Если загуглить ее имя, найдется ссылка на сайт некой газеты с предвзятым рассказом о Травле. Сдается мне, в силу своего темперамента я не готов к такому чтению.
Я расспросил Кристофера об их родителях. Отец семейства торговал мехами; прекрасный семьянин, он жил в постоянной тревоге о близких; от случая к случаю у него получалось внушить себе надежду, что комфортная загородная жизнь, которую он обеспечил родным, – это на долгие годы. Тревога его была не напрасной: в возрасте пятидесяти пяти лет он умер от застойной сердечной недостаточности. Мать делала вид, будто ничего особенного не происходит, ну разве что временное недомогание, вроде подагры. На смертном одре ее муж был вверен заботам Элизабет. Она часами молча сидела рядом, просто ожидая, что он вот-вот откроет глаза и улыбнется, а она улыбнется ему в ответ. Больше ничего и не требовалось; оба это знали.
– А что было потом?
– Мама осталась жить в том же доме. Раз в неделю ходила в парикмахерскую, командовала уборщицей и садовником (хотя «командовала» – это сильно сказано), сиживала в чайной, играла в бридж, состояла в местном обществе помощи онкологическим больным. Впрочем, сбор средств, как я понял, тоже не был ее сильной стороной. Папа-то умер вовсе не от рака.
– А как жила Элизабет?
– Наезжала где-то раз в полтора месяца. Чисто ради приличия. По-моему, никакого сопереживания там не было в помине. Интереса – тоже. Причем с обеих сторон. Мама иногда проявляла… эгоцентризм, а Элизабет… привередливость – это подходящее слово?
Я усмехнулся. Кому, как не мне, было это знать.
– Она даже с родной матерью вела себя как привереда. Не то чтобы стыдилась ее, будем справедливы. Но словно бы не верила, что перед ней действительно ее мать, понимаешь меня?
– Но ты-то этих чувств не разделял?
– Ну, я человек простой. Все принимаю за чистую монету и стараюсь никого не судить. В конце-то концов, для парня мать есть мать, разве нет?
Я не ответил. В моем случае… но мой случай к делу не относится. Мне нравился Кристофер Финч, хотя, на мой взгляд, он был не так уж прост. Вряд ли все хитросплетения и тонкости их общих генов достались одной Элизабет.
– И… как все это закончилось?
– У мамы… Любопытно понаблюдать, куда мы направляем свою благотворительность, согласен? Я, допустим, жертвую в фонд доктора Барнардо, потому что несказанно благодарен судьбе за свое благополучное детство. И в общество спасения на водах: почему-то мне кажется, что оно убережет меня от кораблекрушения. Хотя не сказал бы, что часто покупаю билеты на теплоход. Разве что на паром… Да и не верю я в приметы, связанные с благотворительностью. Короче, у мамы нашли онкологию, вот ведь какая ирония судьбы, кто бы мог подумать? Лиз приезжала к ней так же часто… или так же редко, как и прежде. Все заботы легли на меня: врачи, стационар, оформление доверенностей и прочее. Организация похорон. Нотариусы.
– Можно спросить: что было в материнском завещании? И в завещании отца, раз уж мы об этом заговорили?
– Отец все завещал маме, а мама оставила мне две трети, шестую часть отписала Лиз и еще одну шестую направила на благотворительность.
– И как на это отреагировала Элизабет?
– Двумя словами: «Совершенно справедливо», хотя она знала, что папа был бы недоволен. Я предложил ей часть своей доли, чтобы обоим досталось поровну, но она ни в какую. Сказала, что надо уважать мамину волю, – и все. Откровенно говоря, я испытал некоторое облегчение: у меня ведь жена и двое детей.
– Она проявила великодушие.
– Знаешь, и да и нет. Я тогда не думал и сейчас не думаю, что сестра отказалась ради меня. Она просто считала, что поступает по совести. К тому же перекраивать завещание матери наверняка показалось бы ей…
– Пошлым? – Я использовал это слово в узком, финчевском значении морального убожества, не рассчитывая, что Крис это заметит.
– Вроде того. В любом случае мы с Лиз никогда не конфликтовали. Хотя мне вечно приходилось ей уступать. По сути, с тех пор, как она говорить научилась.
– И ты не обижался?
Он задумался.
– Наверное, бывало такое, где-то в глубине души. Я рос обычным мальцом, ребячливым, как было не обижаться? Но ты пойми: Лиз – это Лиз, и я с малых лет перед ней благоговел. А родители не вмешивались, никогда ее не ругали… за узурпацию власти. Вот я и думал, что это нормально.
Казалось, мыслями он перенесся куда-то далеко, в пору своего детства.
– А как тебе помнится: она проявляла интерес к истории раннего христианства?
Крис очнулся от своей задумчивости:
– Ну и шутки у тебя.
Из записок Э. Ф.:
• Разумеется, продолжают они, детей у нее никогда не было, и даже если она с этим «примирилась», бездетная женщина всегда в некоторой степени не состоялась в главном, правда ведь? Удивительная смесь высокомерия и паранойи.
• Поймите, я ничего не имею против детей. Из меня получилась любящая тетя и крестная. Просто дети слишком медленно взрослеют. Каждый ежегодно отмечает свой день рождения. По заведенному порядку, раз за разом – а признаков взросления как не было, так и нет. Серьезный недочет проекта.
• Магазин религий, широкий ассортимент на любой вкус.
• Каждый год в день своего рождения навожу порядок в шкафах и на полках. Для меня это равносильно соблюдению личной гигиены. И порой остается только гадать, почему мои родные и близкие думают, будто мне требуется такое количество ароматических свечей, столько кремов для лица, такое множество сортов варенья из невероятных ингредиентов, столько разнообразных деликатесов с трюфелями, где содержание трюфелей, если посмотреть состав, ограничивается 0,05 процента.
А вот она готовится к лекции:
• Если бы церкви не были так монотеистичны и деспотичны, если бы не отторгали тех, «кто не похож на нас», то различные национальности, представленные в составе Великобритании, смешивались бы свободнее, креолизация стала бы нормальным явлением, а белая кожа не считалась индикатором превосходства. Получилось бы общество с меньшим количеством очевидных маркеров статуса, богатства и власти. Вероятно, история Британских островов стала бы рассказом о том, что у инаковости есть чему поучиться вместо того, чтобы отторгать ее и подавлять. Тогда вместо страны-завоевательницы, на которую смотрят извне с разными чувствами, от осторожного уважения до жгучей ненависти, мы бы получили страну, ведущую мир (или хотя бы его часть) по другому пути, являя пример тех ценностей, что в принципе бытуют в обществе, хотя нередко затушевываются, – таких, как терпимость, либерализм и доброжелательная открытость «иному». С наших сегодняшних позиций это задачи трудноразрешимые. Нам предстоит выбросить из головы столько самообмана и лжи, столько исторических заблуждений. За публичной оглаской неминуемо последует обычное в таких случаях навешивание ярлыков: пораженчество, розовые, самобичевание, размывание исконно английских и, шире, британских кровей, враги государства и т. д. Но тесты ДНК неизменно продолжают удивлять «белых людей», показывая неоднородность их «происхождения». Насколько же порочна идея о чистоте расы. На смену ей придет, по выражению консерваторов-фантазеров, идея «государства-полукровки», но это будут не пустые амбиции, а скорее признание того положения, которое, несмотря ни на что, сложилось повсеместно.
Во время одного из наших совместных обедов в итальянском ресторанчике, ничего еще не зная о составе и степени сплоченности ее семьи, я спросил, как у них дома отмечается Рождество.
– В день Рождества, – ответила она, – я хожу в больницу – проведать пациентов.
Меня это поразило.
– Это очень… очень по-христиански, – сказал я.
– Вряд ли благотворительность присуща только христианской вере, – ответила она.
Впоследствии я невольно задумался, к чему сводится ее общение с некоторыми пациентами. Многим ли из них охота муссировать вопросы европейских литератур? Прикрепляет ли она к одежде брошь в виде веточки остролиста? Но я отшутился и не воздал ей должное. Вполне возможно, что некоторые с замиранием сердца ожидали появления этой феи; кое-кто мог бы даже уловить в ней полное отсутствие осуждения. Да и вечно улыбчивому, мягкому больничному капеллану она легко могла бы составить здоровую конкуренцию.
Когда Крис выпил пару бокалов домашнего белого, я решился:
– Слушай, не сочти за бесцеремонность…
– Выкладывай.
– У вас семья была… еврейская, так ведь?
– Еврейская?
– Да, твоя сестра как-то проговорилась на лекции.
– Что же она сказала?
В довольно приглаженной форме я пересказал ему спор Э. Ф. с Джеффом.
– Бред какой-то. – Лицо его выражало скорее недоумение, чем обиду. – Почему ты так решил? Наверно, потому, что Лиз была умницей-брюнеткой… – Мы уставились друг на друга с равной степенью удивления. Но Крис, как я уже имел случай убедиться, не страдал излишней обидчивостью и всегда предпочитал сводить к шутке непрозрачные житейские вопросы. – Нет, если ты попросишь меня спустить штаны…
– Прости, это, вероятно, какое-то чудовищное недоразумение.
Впоследствии я еще поразмыслил, но не нашел никакого чудовищного недоразумения. Значит, Э. Ф. сознательно пошла на обман. Она произнесла ту фразу насчет потери родных и вышла из аудитории. В наступившей тишине Джефф выдавил: «Откуда мне было знать, что она еврейка?» Сам-то я даже не сомневался, и дальнейшие сведения только подтвердили эту информацию: отец-меховщик, сменивший, должно быть, фамилию; изнеженная, всем недовольная мать (впрочем, эти стереотипы приписывают и другим национальностям…).
Но зачем? У меня созрело одно простое объяснение и одно посложнее. Простое: Э. Ф. подумала, что Джефф играет на публику, и решила сбить с него спесь. Хм-м-м… А вот более сложное: она изображала еврейку или, выражаясь без обиняков, надумала выдать себя за еврейку. Опять же – зачем? Чтобы противостоять английскому антисемитизму, если она с ним столкнется? А смысл? Или она решилась на некое притворство для создания имиджа? И снова: с какой целью? Что пользы выдавать себя за ассимилированную, далекую от иудаизма еврейку? Может, это требовалось ей для формирования стиля, как ее прическа или броги? Но для таких розыгрышей Э. Ф. была слишком серьезна, вы согласны? Если только она не придумала для себя такой имидж по молодости лет, а потом с ним сроднилась.
Я решил до поры до времени отбросить эти мысли.
Зачастую поражаюсь, как биографам удается слепить достоверное, теплое, связное жизнеописание из случайных, противоречивых, а то и вовсе отсутствующих фактов. Биографы, должно быть, ощущают себя так же, как император Юлиан со свитой прорицателей перед выступлением в поход. Этруски советуют ему одно, философы другое; боги говорят, оракулы молчат или нагоняют туману; сны извещают, что опасность грядет вот оттуда, видения – что вот отсюда, а внутренности животных отделываются двусмысленными намеками; небо предрекает одно, а пыльная буря и «советодательная молния» настаивают совсем на другом. Где же истина, куда кидаться?
А может быть, логичное повествование – это химера, как и попытки примирить разнонаправленные суждения. Наверное, можно рассказать о чьей-нибудь жизни, используя только выхолощенные, знаковые факты. Например:
• Будучи судьей в Антиохии, император оштрафовал себя на десять фунтов золотом за необдуманное вторжение в область полномочий другого судьи.
• В Юлиане есть нечто от Кромвеля: суровость, пуританская строгость, безжалостность в бою. Рассмотрим тот эпизод, где он выговаривает портретисту, приукрасившему его внешность: «Почему же, друг, ты придал мне чужой образ? Каким меня видишь, таким и пиши». С бородавками и всем прочим.
• Успехи его в реформировании налоговой системы были обусловлены пониманием человеческой природы и экономики. Большинство граждан считали налоговое бремя непомерным и потому скрывали свое ценное имущество и всячески занижали доходы. Сборщики налогов традиционно завышали свои требования, дабы восполнить недоимки. Юлиан, напротив, понимал, что снижение налогов примирит граждан с выплатой требуемых сумм, заставит поступать по чести и считать налогообложение справедливым.
• После штурма и разграбления Маогамалхи в 363 году Юлиан отказался от своей доли трофеев. Он «взял себе немого мальчика, умевшего выразить все, что понимал, изящными жестами, и три золотые монеты как приятную и радостную, по его представлениям, награду за одержанную победу».
Вносит ли это хоть какую-нибудь ясность? Что это: выжимка или простая россыпь фактов? Мелкие эпизоды (а их наберется на целую книгу), в совокупности составляющие единую картину, или просто собрание разрозненных фрагментов? Или все это лишь порождает новые вопросы – например, как сложилась судьба немого мальчика после смерти его господина?
Я старался выпутаться из сети навалившихся на меня отчаянных сомнений. А потом вспомнил некогда прочитанное: как римские панегиристы восхвалениями возвращали к жизни какого-нибудь умершего сановника при помощи набора риторических тропов и конвенций. В чем-то – и только в этом – был он мудр, в чем-то другом храбр, еще в чем-то добродетелен. И тогда изрытое, угреватое лицо усопшего покрывалось гладкой массой, чтобы получше идеализировать и увековечить этого человека. Но – и в том вся штука – это был установленный набор характеристик, который ранее применялся к другим людям и сохранялся для применения к нескончаемой веренице выдающихся покойников будущего. То есть человека невозможно «понять» в нынешнем смысле слова. Сколь же разительно это отличается, судя по всему, от героев современных биографий и от наших живых современников. А может быть, и нет.
В моих размышлениях ее прошлое сводилось к поискам конкретного мужчины в двубортном пальто. Этот образ, которым вооружил меня Крис, маячил перед глазами какой-то графической загадкой. Как же его отыскать? Я долгими часами ломал голову, пока не догадался, что у Э. Ф. наверняка была адресная книжка, где с большой долей вероятности могло присутствовать его имя, пусть даже не под буквой «М» – сокращением от МВДБП. Если, конечно, он не умер, точнее, даже если умер.
Эта небольшая книжица в сером тканевом переплете была заполнена весьма своеобразно. Знакомые и коллеги вносились в нее чернилами, не то письменными, не то наклонными печатными буквами. Коммивояжеры и представители других профессий вносились карандашом, потому что требовались только на случай. Родня вносилась под буквой «Р», соседи – под буквой «С». Часть имен была заключена в карандашные квадратные скобки. Так, надо думать, обозначались покойные – все лучше, чем при помощи вычеркиваний. Странно было увидеть там мою фамилию: я вроде как нашел объективное доказательство своего существования. И мимолетно представил себе тот миг, когда этакая небесная рука заключит мое существование в квадратные скобки.
Во вcяком случае теперь у меня появился благовидный предлог ни с того ни с сего названивать чужим людям. Я, мол, из тех бывших студентов Э. Ф., которые продолжали общаться с ней после выпуска. В мои планы входит подготовка небольшой книги воспоминаний, поскольку – вы, думаю, согласитесь, – Э. Ф. была в числе самых оригинальных личностей, с какими только сводила меня жизнь. А потом, если собеседник проявит заинтересованность, можно будет скромно напроситься к нему для беседы.
Но это все теория. А на практике обнаружилось, что многие не разделяют моего восторга по отношению к Э. Ф., да к тому же считают звонки от незнакомцев бестактностью, а мою скромность и осторожность – признаком непрофессионализма. Мне и вправду недоставало напористости заправского исследователя. Ответы варьировались от «Перезвоните, когда получите контракт… нет, лучше напишите» до «Вообще-то, я смутно ее помню, но, если будет настроение, милости прошу на чашку кофе» – и это от человека, живущего миль за двести пятьдесят. Порой на языке вертелось: «Разрешите без обиняков, у вас когда-нибудь было двубортное пальто? Кстати, не вы ли, часом, стали любовью всей ее жизни?»
Много лет назад я дружил с одним актером, который, засидевшись допоздна в незнакомой компании, обращался к таким же полуночникам с вопросом: «Вам когда-нибудь разбивали сердце?» Одни вдруг вспоминали, что завтра им рано вставать, другие отвечали: увольте, это, мол, слишком личное. Колеблющиеся педанты нередко тянули время, требуя точных дефиниций, положений и условий. Но я восхищался своим приятелем за его напор, а оставшиеся гости переходили на жаркий шепот и либо в силу врожденной искренности, либо в силу подпития начинали делиться признаниями, чему способствовала очевидная готовность самого инициатора выложить им, сколько раз и какими способами бывало разбито его собственное сердце.
Я иногда задумывался, как отреагировала бы на такой вопрос Элизабет Финч. Кто-то может предположить, что эта изящная, хладнокровная женщина с улыбкой отправилась бы спать. Но я считаю, она бы ответила на открытость моего приятеля такой же искренностью. А слушатели поражались бы ее рассказу – не перечислению лиц и обстоятельств, а отчетливому ви`дению и беспощадности к себе самой.
Мне представляется так. Мужчина в двубортном пальто. С ним Элизабет Финч – игрива, если можно так выразиться, словно котенок. Держится как заправская любовница. И это определенно не начало, но и не конец их романа. И речь не о том, что кто-то застукал их en flagrant délit[1], как выразилась бы она сама. Я поинтересовался у Кристофера насчет ее багажа, он ответил, что не припоминает, но, коль скоро в тот день они вместе обедали, он непременно заметил бы у нее дорожную сумку.
Она вытягивает перед собой руки ладонями вниз. Он подставляет ей руки ладонями вверх. Перенеся свой вес на эту опору, она приподнимается на пальцы одной ноги, а вторую будто бы непроизвольно отрывает от пола, сгибает в колене – и застывает в позе фламинго. Поза эта, конечно же, не случайна: так у них заведено прощаться – и здороваться, кстати, тоже. Этот образ неизгладимо запечатлелся у меня в памяти. Но не в виде застывшей, воочию виденной сцены, а скорее в виде фотоснимка или закольцованного зернистого видео. В конце эпизода она провожает его взглядом.
Со стороны это выглядит как финал тайного свидания. Он – человек занятой. Место встречи – безликое многолюдное пространство, где они не привлекают лишнего внимания, хотя и учитывают, что Кристофер может появиться раньше запланированного часа. Я делаю вывод, что мужчина женат или по крайней мере не одинок. Времени у него в обрез. Она от него без ума. Когда он удаляется, она с тоской смотрит ему вслед.
А может, все как раз наоборот. Он мчался через весь город ради того, чтобы вместе с ней до появления Криса наспех проглотить по чашечке эспрессо. Он от нее без ума. В этот пасмурный день они улучили несколько драгоценных мгновений. Осмотрительный и скрытный, он уходит не оглядываясь. Но столь же вероятно, что не оглядывается он по другой причине: расставание для него мучительно, и даже в преддверии завтрашней встречи или в преддверии намеченной совместной поездки за рубеж в купе первого класса сегодняшний прощальный взгляд только усугубляет его муки. Возможно, его душат рыдания; возможно, он готов прилюдно взвыть в полный голос. В плане стоицизма ему определенно до нее далеко.
Нам хотелось бы знать (точнее, это я хотел бы уяснить): зачем при всем своем стоицизме она, когда пробил ее час, попросила лечащего врача об эвтаназии. Разве стоикам не положено стоически переносить боль? Или я путаю их с теми из христиан, которые верят, что на все воля Божия и нужно испить свою чашу до дна, повинуясь Божьему промыслу? Для них божественным планом предусмотрено еще несколько тысяч мучительных спазмов и прерывистых вздохов, плюс приступы боли, которые не снимаются морфином, плюс убийственные кошмары – а все ради того, чтобы они учились понимать свое божественное предназначение, пока наследуют землю и принимаются в объятия небесные («Ты победил…»). Нет, согласно философии Элизабет Финч, среди всего сущего одни вещи находятся в нашей власти, а другие нет. Стоической женщине дана власть: сколь же невыносимо, бессмысленно и неимоверно затянуто для всех это умирание, и в первую очередь для нее самой, а потому она предлагает – нет, требует, – чтобы мы согласились положить ему конец. Да вот только вся ее власть уже перешла в другие руки на основании письменной доверенности, составленной с ее молчаливого согласия. А после остается только ждать везенья или невезенья – смотря в чьи исцеляющие руки мы попадаем.
Это не моя история – кажется, я уже говорил. Моя жизнь в то время была мне интересна, но мало в ком еще пробуждала обоснованный интерес. Она шла предсказуемой дорогой многократных ожиданий и разочарований. Но могу привести здесь одну знаменитую цитату о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Я всегда считал, что автор здесь ошибся. Большинство известных мне несчастливых семей, включая две мои собственные, укладываются в довольно распространенные схемы, тогда как счастливые семьи, хоть и далекие от распространенной благодушной нормы, зачастую возникают там, где есть активные, незаурядные характеры и действия. Но существует и третья категория: семьи, которые либо притворяются счастливыми, либо живут придуманными воспоминаниями о былом счастье: «Забвение является одним из главных факторов существования семьи». Но почему-то на моей памяти не было счастливых семей, которые притворялись бы несчастными. Впрочем, я слегка отклоняюсь от темы.
Кстати говоря: через несколько дней меня посетила еще одна мысль о еврействе. Что, если Э. Ф. говорила правду, а лгал ее брат? Да, именно Крис, англичанин до мозга костей, светловолосый, причем сельского вида, сознательно избегающий высоких дум и высокой культуры, не дурак выпить, обычный увалень из эссекского предместья, который в шутку предложил спустить штаны. На самом деле шельма не она, а он. Нет, это слишком резко. Наверное, из них обоих именно он сам себя создал (или, по выражению Э. Ф., утвердил свою достоверность) за счет притворства, искусственности. Впрочем, обратись я к нему в таких выражениях, он бы нацепил свою привычную маску озадаченного, глуповатого пентюха, на которую, как по заказу, я купился.
Размышляю дальше. Я предпочитаю верить Э. Ф. В конце-то концов, она всегда говорила правду. За исключением тех случаев, когда лгала. Например, когда Крис ее спросил, кто такой этот человек в двубортном пальто, она ответила: «А, этот? Да никто». Неприкрытая ложь, хотя кому из нас не случалось привирать в вопросах любви и секса? По-моему, вопрос в том, кому и чему ты веришь. Но смерть все меняет. Посмертное доверие каким-то образом цементирует достоверность.
Дело было так. От случая к случаю она писала для «Лондонского книжного обозрения». Редакция организовала цикл публичных лекций и пригласила ее поучаствовать. За выступление ей предложили гонорар, от которого она отказалась, но тут же поставила одно условие: чтобы во время лекции не велась никакая запись. По ее мнению, у таких мероприятий был особый статус: они считались публичными, но по сути оказывались в такой же мере личными. Ведь от слушателей требовались определенные усилия, чтобы прийти ее послушать, а ее это обязывало говорить только для них. Быть может, с ее стороны такие рассуждения были наивными. Но она же не всегда была столь опытной, какой виделась своим студентам.
О предстоящем мероприятии я узнал из небольшого объявления. Естественно, Э. Ф. никогда бы мне не сказала: «Кстати, у меня тут намечается публичная лекция, приходи меня поддержать». Такую просьбу она сочла бы не только унижением, но и манипуляцией, вмешательством в мою личную сферу.
Лекцию она собиралась озаглавить «Ты победил, галилеянин бледный», но редколлегия «ЛКО» аккуратно подкорректировала: «Где истоки нашей морали?» Я занял место подальше от ее глаз и склонил голову набок. Можно было подумать, я вернулся к ней в аудиторию, только без обычной тревожности. Содержание лекции в тот раз я знал наперед. Вначале она рассказала, как погиб Юлиан в персидской пустыне и почему его смерть обернулась одной из бед язычества и эллинизма. И триумфом – а также катастрофой – для монотеизма. Как возвышение и извращение христианства привело к «зашоренности европейского сознания». Как Юлиан морально превосходил череду римских пап. Как из Европы вымывалась радость (да, именно так она и сказала: «радость»), оставаясь только в разрешенных Церковью языческих рудиментах вроде карнавалов. Далее она завела речь о деспотической природе католицизма и протестантизма. О позорных преследованиях и изгнаниях иудеев и мусульман. О своей твердой убежденности в том, что источник наших нравственных воззрений и поступков отстоит от нас во времени дальше, чем представляется большинству, но, к сожалению, не так далеко, как краткое царствование Юлиана Отступника.
В другое время ее лекция не получила бы такого резонанса; возможно, престарелый корреспондент «Таймс», специалист по вопросам Античности, откликнулся бы заметкой в пару сотен слов. Но стояло лето: парламент был на каникулах, британская армия в кои-то веки не участвовала ни в каких войнах, а в стране не осталось нераскрытых преступлений, связанных с похищением детей. Для журналистов наступил мертвый сезон. А кроме всего прочего, правая пресса с большим недоверием косилась на «Лондонское книжное обозрение» – гнездо леваков, диверсантов, псевдоинтеллектуалов, космополитов, предателей, ничтожеств и антимонархического сброда. Не стоит также забывать об исторической предрасположенности англичан к публичным припадкам нравственности.
Газетный заголовок гласил: «ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЗУМНОЙ ЛЕКТОРШИ: НАШУ ПОЛОВУЮ ЖИЗНЬ ЗАГУБИЛИ РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ». Нетрудно представить, как из трезвых фактов и рассуждений Э. Ф. раздули шумный скандал. Например: поэт Суинберн был отъявленным гомосексуалистом со склонностью к флагелляции; и по мнению ученой дамочки, это почтенный английский джентльмен, чьи взгляды стоит принимать во внимание? Например: что, хотелось бы знать, она имела в виду под «зашоренностью европейского сознания», если это сознание подарило миру Шекспира, Леонардо да Винчи, Данте, Бетховена, Дарвина, Исаака Ньютона и многих других? Не говоря уже о «Монти Пайтоне», составляющем разительный контраст с вышеупомянутой эрудиткой, начисто лишенной чувства юмора? А сама мысль о том, что на наши интимные предпочтения каким-то образом влияют давно почившие в бозе христиане и папы, «вообще притянута за уши», по словам одного из авторов редакционной статьи.
За эту историю неожиданно ухватилась пресса. Репортеры осаждали дом Элизабет Финч и фотографировали ее в самых невыигрышных ракурсах. Газетчики откопали ее «бывшего студента», утверждавшего, что Э. Ф. как-то раз «насмехалась» над памятью его отца, павшего на войне, «щеголяла» тем, что ее родственники гибли в концлагерях, и при этом рекомендовала обучающимся «Застольные беседы Гитлера». Ей задавали вопросы типа «Элизабет Финч – это ваше настоящее имя?» (или переделанное из какой-нибудь «Джессики Финкельштейн»?). Один редакционный мыслитель узрел в ее критике монотеизма «очередную попытку гибридизации нашей культуры, типичную для интеллигентов-космополитов. Они кичливо заявляют, что их отечество – весь мир, тогда как на деле их отечество – пшик; они желают превратить милые нашему сердцу приходские англиканские церкви в „межконфессиональные центры“». Одна газета потребовала уволить Э. Ф. из Лондонского университета. Когда же членам редколлегии указали, что эта преподавательница уже несколько лет как отошла от дел, те потребовали лишить ее пенсии. «Гардиан» опубликовала передовицу о свободе слова, а какая-то газетенка с задворков Флит-стрит выпустила номер с двумя фотографиями на первой полосе: на одной Э. Ф., застигнутая у собственного порога, усталая и встревоженная, а на другой – «гламурная модель», которая однажды «пробовалась на роль девушки Бонда», а нынче собирается издать книжку о своих «секретах красоты». Ниже шла текстовка: «Спрашивается, кто из этих двух больше смыслит в любви и сексе: проф. Лиз или Леденцовая Линзи? Решать вам». Далее следовал телефонный номер, по которому можно было «зафиксировать свое мнение». «Гардиан» тут же отметила, что издательство, где готовится книга Линзи, принадлежит, равно как и упомянутая газетенка, миллиардеру, который скрывается за границей от налогов. Но мало кто придал значение этому факту.
Сама Э. Ф. не делала никаких заявлений и только попросила «Лондонское книжное обозрение» воздержаться от комментариев. Редакция журнала предложила выпустить ее лекцию в виде брошюры, но встретила отказ.
Когда поток дерьма наконец-то иссяк, я написал ей письмо… какое? Утешительное? Трудно было выбрать подходящую интонацию. Не в меру (а хоть бы и в меру) сочувственный тон так или иначе подразумевал, что она – слабое и беспомощное существо. Да еще и мало приспособленное к обыденным жестокостям этого мира. Возможно, даже лишенное внутренней стойкости, требуемой для преодоления того удара, который я про себя именовал Травлей.
Как ни удивительно, она мне позвонила. Такое случалось редко: мы в основном общались по переписке да изредка выбирались куда-нибудь пообедать.
– Они просто решили не вникать, – сказала она так буднично, словно ученому после выхода на пенсию естественно терпеть издевательства и насмешки. – Спасибо, что ты за меня переживал, но в этом не было необходимости. Они просто решили не вникать.
А затем, высказав все, что собиралась, она повесила трубку, и к этой теме мы больше не возвращались.
Не поручусь, что эта история сделала ее более – еще более – нелюдимой. Распорядок ее дней был давно определен раз и навсегда. Но после той истории она зареклась выступать с лекциями и ничего не публиковала, даже рецензий на книги.
Не имея возможности обсудить с ней какие-либо из этих вопросов, я вновь обратился к ключевым начальным строчкам «Краткого руководства к нравственной жизни» Эпиктета. «Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет». То, что зависит от нас, «по природе свободно, не знает препятствий», а то, что от нас не зависит, «является слабым, рабским, обремененным и чужим». Только признавая существенное различие между тем, что тебе по силам изменить и что не по силам, можно жить свободно и счастливо. Среди вещей, не находящихся в нашей власти, – «наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера». Доброе имя.
А вторая моя мысль заключалась в следующем: невзирая на все вышесказанное, на известный характер Э. Ф. и ее склад ума, на телефонные ответы, я все же, все же считаю происшедшее не чем иным, как своего рода мученичеством. И вам, и, безусловно, ей это могло бы показаться риторическим преувеличением. В самом деле: никто же не погиб, да она и сама не хотела становиться ни жертвой, ни легендой. Но все равно на ее долю выпало жестокое публичное унижение и осмеяние всего, во что она верила. А потому, если вы не возражаете, я буду держаться идеи мученичества.
И заключительная мысль. По поводу Травли. Э. Ф. замкнулась в себе, удалилась от мира. Но не была затравлена.
Годы спустя, после ее смерти, я за обедом разговорился об этом с Крисом. Начал издалека, подозревая, что газета, которую регулярно читал Крис, инициировала или, во всяком случае, рьяно поддерживала травлю.
– Когда у нее начались неприятности, ну, ты знаешь, из-за той лекции, она обсуждала с тобой эту историю? Со мной-то, понятное дело, она об этом даже не заговаривала.
Моя напускная скромность была слегка лицемерной, нефинчевской.
Он немного помолчал.
– Я, разумеется, узнал об этом из газет. Пробегал глазами заголовки, но специально не отслеживал. Только думал: вот гады. Чем вам помешала Лиз, чем это заслужила? Я даже от подписки отказался – на месяц примерно, но все же. Может, ты мне объяснишь, о чем была та лекция?
К этому я оказался не готов. Завел рассказ о Юлиане Отступнике и галилеянах, но вскоре он меня прервал.
– Да не трудись, мне даже слушать неохота. Я тогда подумал: вот говнюки, догадались поместить ее фото рядом с какой-то полуголой шлюшкой, вываливающейся из купальника. Наверняка они из ее лекции ничего не поняли – им такое не по уму.
– Но ты с ней об этом не заговаривал?
– Я ей открытку послал. Неделю с лишним от нее ни слуху ни духу не было, хотя она обычно сразу же отвечала. А открытку со стола прямо в мусорку. – Он вдруг улыбнулся. – Однако дней десять спустя пришло от нее короткое письмецо. В нем вся Лиз. Извинялась, что семью опозорила… нет, у нее по-другому было: что, дескать, больно ей «оттого, что запятнала фамильный герб» и только надеется, что нас не выпрут из деревни. Пусть только попробуют. Как-никак Финч – фамилия распространенная, а Лиз, как я уже говорил, в Эссекс много лет носу не казала. А подписалась она так: «Твоя грешная, но не нераскаявшаяся сестра Элизабет».
– Это действительно в ее духе.
– Что правда, то правда. Если честно, письмецо ее меня приободрило. Показало, что эти гады ее не растоптали.
– А дальше что?
– А дальше я, как у нас было заведено, приезжал к ней в город, и мы шли обедать в безалкогольный ресторан. Она постоянно ребятишек куда-нибудь водила… теперь-то они большие уже.
– Просто из интереса хочу спросить… почему ты соглашался на безалкогольный обед? Вряд ли она стала бы возражать, если б ты немного выпил.
Он ненадолго задумался.
– Да потому, что мне это в удовольствие. У меня потребности нету за обедом выпивать, мне и так хорошо. И опять же приятно, что иное Лиз даже в голову не приходило. Я сижу такой и думаю: «Ты и умней меня, и моложе, и люблю я тебя, сестренку мою, а все ж ты кой-чего не знаешь». И от этого – смешно, конечно, – любил я сестренку еще сильней. Странная штука жизнь, ты не находишь?
Я согласился.
Этот последний разговор (как и его неожиданный предмет) навел меня на мысли о тайнах любви, о том, чего не расскажешь и не покажешь. Я имею в виду не «ту любовь, что о себе молчит» и далее по тексту, а простые удовольствия… чего?.. какой-то избирательной скрытности. Я упоминал, что любил Элизабет Финч – почти наверняка любил и до сих пор люблю, – смерть ее мне не помеха. Любовь зародилась в университетской аудитории, но то было не романтическое увлечение и не щенячья привязанность к учительнице. Мне, шутка ли сказать, уже шел четвертый десяток. Но то была и не супружеская любовь – по крайней мере, в браке меня такая не посещала. Да и к любовным фантазиям ее не отнесешь, хотя и примешивались к ней легкие эротические мечтания. (Как на духу: в минуты ленивых раздумий я приходил к выводу, что всю жизнь, даже если у нас в каком-нибудь необозримом будущем случится близость, я не перестану называть ее официально – «Элизабет Финч». В этих нелепых снах наяву я воображал, будто она с радостью примет такое именование, ибо в постели оно лишится своей официальности и два этих слова приобретут интимно-игривый, дразнящий, сексуальный оттенок. Думайте что хотите.) При всем том моя любовь не была наваждением. Конечно, я никогда не заговаривал о ней вслух, но, приди мне такое на ум, она бы, наверное, потянулась ко мне через стол, как проделывала это с Линдой, положила свою руку подле моей и ответила: «Вот это самое важное. Важнее нет ничего». Что, по-моему, было бы не кокетливым поощрением, а скорее простой констатацией признанного факта.
В какую категорию попадала моя любовь к Э. Ф.? Я бы назвал ее романтически-стоической. Любил ли я ее сильнее, чем обеих своих жен? Скажем так: любовь – это способность удивляться любимому человеку, которого знаешь глубоко и досконально. Это признак того, что любовь жива. Привычка убивает любовь, причем не только чувственную – всякую. Из своего супружеского опыта я вынес, что «сюрпризы» супружеской любви через несколько лет совместной жизни порой оборачиваются в лучшем случае банальными и причудами, а в худшем – признаками того, что на женщину нагоняет тоску не только муж, но и она сама, и жизнь в целом. Конечно, в то время я этого не понимал. Сюрпризы Э. Ф. были другого рода. Есть люди, которые, боясь глубоких и тревожных привязанностей, подменяют жизнь книгами. Смею надеяться, это не про меня; но, пожалуй, соглашусь, что мне больше нравилось любить Э. Ф., нежели кого бы то ни было другого, до или после нее. Не скажу, что любовь к ней была сильнее всего на свете – такое немыслимо, но я любил ее чистосердечно: чисто и сердечно.
Попросту говоря, она была самым зрелым человеком из всех, мне известных. Возможно, единственной зрелой личностью. Ее, разумеется, не интересовали ни футбол, ни знаменитые шеф-повара, ни переменчивые законы моды, ни подарочные книжные наборы или сплетни. Она давно определила для себя круг интересов, ограниченный нормальной для человека широтой внимания (и нет, снобом она совсем не была). Она просто смотрела с более высокой точки, а потому видела дальше и шире. Однажды мы обсуждали – точнее, я резонерствовал – об одном министре, навлекшем позор на свой пост по одной из обычных для таких случаев причин. Вдруг я умолк и спросил ее:
– По-моему, вы презираете политиков, это верно?
– Почему ты так решил?
– Потому что они продажны, своекорыстны, тщеславны и некомпетентны.
– Не согласна. Думаю, большинство из них действуют из лучших побуждений или, по крайней мере, так считают. От этого их духовная трагедия становится еще более жалкой.
Понимаете, что я имею в виду? Какая блестящая формулировка, какое сияние мысли.
Вот еще одно воспоминание. Ее карие глаза выглядели очень большими, потому что всегда были широко распахнуты. Не помню, чтобы она моргала. Казалось, для нее моргнуть означало бы лениво и испуганно отгородиться от мира или упустить пару миллисекунд своей жизни на этой планете.
Из записных книжек Э. Ф.:
• Есть ли в английском языке слово более мифологизированное, более затертое, более недопонятое, более гибкое по значению и по цели, более опозоренное, более замаранное, более засаленное слюной миллиарда лживых языков, нежели слово «любовь»? И что может быть банальнее, чем на это сетовать? При всех искажениях смысла заменить его нечем, потому что при всем том оно прочно, как гранит, и броня его нерушима. Оно водонепроницаемо, штормоустойчиво, неуязвимо для молний.
Я время от времени перечитывал этот отрывок, порой задумываясь о том, что считал универсальной истиной. Недавно я вырезал из газеты статью о женщине, сбежавшей из Северной Кореи в Южную. Она говорила о любви. «Тот, кто вырос на Западе, – рассказывала она, – привык считать, что любовь получается сама по себе, но это не так. Люди учатся романтике из книг и фильмов или из наблюдений. Но в свое время моим родителям неоткуда было этому научиться. Они даже не знали, какими словами выражать свои чувства. Оставалось только угадывать чувства твоего любимого по выражению глаз или тону голоса».
Или: она приподнимается, опираясь на его руки, пока одна ее нога не встает на носок, а вторая остается чуть позади, как у фламинго. Мне кажется, что мы все порой превращаемся в северокорейцев.
Из моих записок (если бы они у меня были):
• Опишите пятью словами свои отношения с Элизабет Финч. «Она была моей советодательной молнией».
Я снял с полки ее экземпляр «Золотой легенды». Перечел место про святую Урсулу и стал перелистывать страницы, выискивая ее карандашные пометки. Линия, галочка, крестик – вот ее единственный комментарий. Обыкновенно они касались нормальных реакций обычных людей, которые не были центральными фигурами этого длинного перечня мученичеств. Вот, например, случай двоих знатных братьев из Нарбонны, стремящихся к мученической кончине. Вот как их мать, уже готовая к потере, упрекает сыновей:
Новый способ умирать придумали люди: они сами приглашают палача, чтобы тот их казнил, они стремятся жить, чтобы умереть, они призывают смерть, чтобы та пришла к ним поскорее. Новая скорбь, новая беда, когда по своей воле юноши покидают родных и оставляют родителей доживать свой век в горькой старости!
Когда к мольбам матери присоединяются их престарелый отец и жены, решительность молодых людей начинает ослабевать. Между тем на сцене появляется будущий святой Себастьян, чтобы укрепить дух братьев, совершить чудо и воздать хвалу мученической смерти. Его слова, подчеркнутые Э. Ф. двойной карандашной чертой, – это порицание жизни и утверждение смерти: «Ведь от начал мира эта жизнь обманывает наши надежды и не оправдывает наших ожиданий, смеется над нашими планами и ничего не обещает твердо, ибо мы должны понять, что все вокруг призрачно и тщетно». Лучшее решение – уйти из жизни как можно раньше, и два брата, еще больше утвердившиеся в своей вере, были привязаны к столбу и пронзены копьями.
Но эти две смерти всего лишь предвозвестницы смерти Себастьяна. Как лучшие из мучеников, он переживает несколько попыток убить его. Одно из самых известных предсмертий – когда император Диоклетиан велел привязать его к дереву и использовать в качестве мишени для стрельбы из лука: «По приказу императора воины пронзили Себастьяна столькими стрелами, что мученик стал подобен ежу»… (Ага, подумал я, вспомнив о записках Э. Ф., – вот ее галочка на полях.) «Затем, решив, что тот умер, стражники ушли». Эта сцена известна по многочисленным картинам, и я всегда думал – как и Диоклетиановы лучники, – что стрелы и были причиной его смерти. На самом деле святой Себастьян пережил это превращение в ежа, а мученический венец обрел в результате избиения дубинами до смерти, после чего тело его бросили в клоаку. Но художники правильно поступали, что иллюстрировали более ранний фрагмент жития. Я вспомнил слова Э. Ф.: «Один из секретов успеха христианства в том, что нанимать нужно только самых лучших кинематографистов».
Современные мученики исламистского толка в момент своей священной трансформации стараются прихватить с собой как можно больше неверных. Христианские мученики, напротив, так хорошо умели убеждать, что перед смертью успевали обратить уйму людей, побуждая их пролезть без очереди к райским вратам. Так или иначе, я вспомнил реплику Э. Ф. о том, что «такое стремление к смерти почти сладострастно».
Язычники вроде Юлиана Отступника, следуя своей вере, приносили в жертву животных; и хотя это расходование белых быков мы сочтем чрезмерным, они таким образом чтили богов (и привлекали их на свою сторону), отдавая им самое лучшее. Если вам это видится примитивным, то современность может показаться еще более примитивной по сравнению со старой языческой эпохой: веками мы убивали быков не по теологическим причинам, а только чтобы взимать со зрителей плату за допуск к кровавому зрелищу.
Существует ли прогресс цивилизации? Элизабет Финч любила задавать этот вопрос. Разумеется, существует, если речь идет о медицине, точных науках, технологических достижениях. А в плане человечности и морали? А в плане философии? В плане серьезности? В 400 году от Рождества Христова неподалеку от Кёльна, говорила нам Э. Ф., английская принцесса, святая Урсула, и вместе с нею одиннадцать тысяч дев были зверски убиты во имя любви к Богу и надежды на райское блаженство. Во Франции эти мученицы известны как Les onze mille vierges. Без сомнения, число жертв было преувеличено, но тем не менее. Пятнадцать столетий спустя поэт Аполлинер написал порнографический роман под названием Les onze milles verges – одна гласная пропущена, а слово «verge» значит «пенис», – где путем флагелляции, обезглавливания и других садистских сексуальных практик проливается почти столько же крови, сколько пролилось под стенами Кёльна.
У меня начались грезы наяву. Вот я лежу в больнице. Под Рождество. К моей кровати подходит посетительница. Я с удивлением разглядываю ее с ног до головы, от черных ботинок-брогов до укладки из светлых волос, тронутых сединой. Сдается мне, гостья не удивляется, что я здесь. Она разворачивает стул так, чтобы мы смотрели друг на друга в упор. И кладет свою руку рядом с моей.
– Ну как? – спрашивает она бодрым и в то же время насмешливым тоном. – Сплошное разочарование?
Затем, как бывает во сне, она исчезла, и хотя я знал, что она умерла, вопрос ее остался жить. Впрочем, я так и не понял, о чем она спрашивала. О моей жизни? О моей смерти? О смерти в целом? Такова была привычная уловка Э. Ф.: задать мучительно простой вопрос, который ввергнет тебя в пучину мыслей. Если речь шла о моей смерти, то я был разочарован оттого, что не смогу встретить ее с тем же равнодушием, переходящим в презрение, какое продемонстрировали Юлиан Отступник, Монтень и многие другие, о ком я читал, не говоря уже о самой Э. Ф. Что же до затяжного умирания, разочарован я был оттого, что оно виделось мне всего лишь процессом, который нужно претерпеть: боль, избавление от боли, тоска и одиночество, невзирая на профессиональное выражение сочувствия на лицах врачей и сиделок; у меня даже в первом приближении не получилось придумать эффектную предсмертную речь, способную прославить меня в веках, – или на худой конец просто ловкую фразу. А если речь о моей жизни – считать ли ее разочарованием? Да какая теперь разница? Я не пришел ни к каким заключениям, и хотя знатоки танатологии утверждают, что умирающему полезно смириться с тем, как прошла его жизнь, дабы «понять свою собственную историю», я не чувствовал в этом нужды. Король Заброшенных Проектов такой проект даже не начнет. Однако не все мои проекты рухнули. Я воздал должное Элизабет Финч. И если бы, подобно древним, я верил в вещие сны и знамения, то мог бы прийти к выводу, что ее визит был знаком одобрения моих деяний.
Но сейчас меня подстерегала опасность погрязнуть в самодовольстве, так что я отодвинул в сторону грезы и спустился с небес на землю доживать остаток своего срока.
Наперекор себе я продолжал читать о Юлиане Отступнике, которого в некотором смысле не мог отпустить от себя, как не мог отпустить Э. Ф. Вскоре я обнаружил в этом ложку дегтя: не все, что я написал, было правдой. Вместо того чтобы внести правку в свой текст, я добавил к нему следующее:
• Поначалу его не звали Юлианом Отступником. Раннехристианские авторы называли его просто Отступник, а это одно из прозвищ Сатаны. Его и считали дьяволом во плоти. Лишь позднее он обрел полное именование, наводившее на мысль, что главным его грехом был отказ от христианства.
• Раньше я считал историю смерти Юлиана от «христианского копья» выдумкой распространителей христианства, но это было не так: первым о христианском копье заговорил Либаний, друг и биограф Юлиана, а уж потом ее с энтузиазмом подхватили христиане.
• Еще одна ошибка – или невольная оплошность: сказав, что Юлиан «сочинил и опубликовал» сатиру «Брадоненавистник», я не учел, что означал второй глагол в те времена. Я представлял себе, что произведение тем или иным способом было размножено и вся Антиохия вздрагивала от императорской сатиры. Но «публикация» сводилась всего лишь к следующему: текст вывесили неподалеку от дворца, на Слоновьей арке, «дабы все прочли и переписали». Многие ли повиновались – этого нам знать не дано, да к тому же император и его когорты вскоре покинули город. Вероятно, Юлиан написал это произведение главным образом для того, чтобы потешить себя и своих приближенных, и это роднит его деяние с «псевдоречами поздней Античности, которые не оглашались вслух и не предназначались для этой цели».
• Все это время я (вслед на Э. Ф.) называл христианство монотеизмом. В конце-то концов, так мы его воспринимаем по сей день. Однако эллинисты рассматривали христианство как политеистическую религию, включающую в себя идею триединого Бога – Отца, Сына и Cвятого Духа. В Англии такое представление бытовало вплоть до семнадцатого века: «Юлиан» Джонсон отвергал католицизм именно как «политеистическую» религию.
• Оказывается, история о том, как святой Меркурий и святой Василий объединили свои метафизические силы, была «позднехристианским изобретением». И что совсем уж прискорбно, святого Меркурия, «как и большинства раннехристианских мучеников», не существовало вовсе.
А теперь – самое главное. Я, наверно, всегда инстинктивно (или по лености ума) считал, что те прекрасные мифы и громогласно вещающие о спасении жития мучеников, хотя и, несомненно, «улучшенные» в процессе передачи из уст в уста, имели под собой какую-то основу, привязанную к грубой реальности. Глядя на великое произведение живописи со сценой кровавого мученичества, ты начинаешь невольно и твердо верить, что видишь нечто, имевшее когда-то место. Однако все священные сборники, такие как «Деяния христианских мучеников» и последовавшие за ними трактовки, – это всего лишь назидательный вымысел, а не Реальные Жизнеописания. Современные ученые сходятся не только в том, что лишь небольшая часть этих знаменитых мучеников действительно существовала, но и в том, что их реальна численность крайне мала. Разумеется, многие христиане были убиты «всего лишь» за принадлежность к христианской вере (и за отказ отречься от своей веры в зале суда), но все равно их было меньше, чем считалось ранее. «Трезвые расчеты» показывают, что в первые триста лет христианской эры «по приговору светских властей Римской империи были казнены от двух до десяти тысяч христиан». (Куда там святой Урсуле с ее одиннадцатью тысячами дев!) А вот то, что касается числа добровольно принявших смерть в твердой надежде скорой отправки на небеса, то здесь «даже Отцы Церкви не могут назвать больше одного-двух случаев добровольного мученичества». Далее: мы думаем (ну или я думал), что язычники убивали христиан, а христиане – язычников по принципу «око за око, зуб за зуб». Такое бывало, но в количественном отношении эти случаи намного уступают случаям насилия среди приверженцев разных течений христианства. (Нарциссизм тонких различий.) Как говорил Аммиан Марцеллин, «дикие звери не проявляют такой ярости к людям, как большинство христиан в своих разномыслиях»; ему саркастически вторит Гиббон: «Мы должны сознаться, что во время своих внутренних раздоров христиане причинили одни другим гораздо более зла, чем сколько они потерпели от усердия неверующих».
Вначале, признаюсь, это меня обескураживало. Но с учетом этих сведений я сделал два вывода. Во-первых, из богословов зачастую выходят замечательные писатели. А во-вторых, историческое заблуждение является одним из главных факторов создания религии. Кроме того, я кое-что узнал о загробной жизни святой Урсулы. В начале XII века, когда Кёльн стал разрастаться за пределы старой городской стены, во время земляных работ было найдено огромное захоронение – десятки тысяч скелетов. К тому времени город уже привлекал толпы паломников; но тут археология (если это не слишком современный термин) изящно подтвердила религиозное предание. К тому же местному епископу явилась голубка, чудесным образом точно указавшая, которые из найденных останков принадлежат этой святой. Тысячи скелетов и шесть сотен черепов были перенесены в сооруженный для этой цели храм Святой Урсулы. Эта самая большая костница к северу от Альп долго служила утешительным доказательством правдивости легенды и на протяжении веков манила к себе христиан. Увы, анализ ДНК показал, что тем костям примерно две тысячи лет, а найдены они были на древнеримском кладбище. Однако паломники ничтоже сумняшеся тянутся, как и прежде, к этим самозваным реликвиям.
Найдя в адресной книжке Э. Ф. имя Анны, я даже вздрогнул. Наши контакты прервались вскоре после того, как она без приглашения заявилась на тот самый обед, что выглядело заключительной провокацией, то ли умышленной, то ли нечаянной. Но это дело прошлое. В какой-то момент она вернулась в Голландию: в книжке значился ее адрес в Алкмаре. В своем мишленовском путеводителе я нашел сведения об этом городке. Сырная столица Голландии. Весовая палата. Каналы, старинные здания, художественный музей. Почему бы и нет, подумалось мне.
Разумеется, никакого электронного адреса. Я вспомнил, как Э. Ф. сравнивала интернет с железными дорогами. Заманчивое ощущение удобства, которое не приносит никакой нравственной пользы. Так что Анне я написал старомодное письмо: в самом деле, ни с того ни с сего – просто увидел ее имя в адресной книжке Э. Ф. (пусть понимает, как хочет), собираюсь посетить Амстердам, могу заехать в Алкмар поездом или автобусом. Пообедаем, посмотрим картины в память об Э. Ф., купим сыров… а если не срастется, то подожду ее приезда в Лондон. Писать старался безлико. Помню, что вызывал у нее нешуточное раздражение. Она досадовала, когда подозревала меня в нахальстве или эгоизме, но в равной степени – когда усматривала во мне бесхребетность или нерешительность. В глазах Анны я, похоже, не имел внутреннего стержня, а потому не знал инстинктивных нравственных ориентиров. Вот так она трактовала мою личность. Я поставил подпись и добавил адрес электронной почты.
По своему обыкновению, Анна тянула с ответом, пока я не потерял всякую надежду. И вот наконец мейл. Можно встретиться в любой четверг сентября, в тринадцать часов у входа в Музей искусств. Никакого объяснения по поводу дня недели или конкретного часа. Никакого «буду рада встрече». Либо да, либо нет, сейчас или никогда. Я, в свой черед, решил ее помурыжить и выбрал последний четверг месяца.
Из Лондона в Амстердам через Брюссель. Мне всегда нравились долгие путешествия по железной дороге. Люблю заранее планировать, что захватить с собой из еды, какую книжку взять в поезд. И в этот раз, как мне казалось, с книжкой я не просчитался.
Изучение посмертной славы Юлиана я почти забросил, дойдя до периода новейшей истории, когда Отступник стал восприниматься не как пробный камень всеобъемлющих вопросов культуры, а скорее как объект личного отклика. Хотя, честно говоря, мне уже сделалось невмоготу вновь и вновь перелопачивать груды знакомого материала. Так что биография Юлиана, написанная в 1975 году Робертом Браунингом, решительно избавила меня от обращения к роману Дмитрия Мережковского («изложенный высокопарным языком и путано выстроенный… не добавляет ничего нового к нашему пониманию личности Юлиана»), а также от чтения «гигантской трагедии» Клеона Рангависа (полторы тысячи прозаических строк и девять тысяч стихотворных), «слишком громоздкой для театральной постановки и тяжелой для чтения, написанной на бескомпромиссно классическом греческом языке». Я с интересом узнал, что Отступник стал героем двух опер: одну (1928) сочинил австрийский композитор и дирижер Феликс Вайнгартнер, а другую – композитор из России Лазарь Саминский (написана в тридцатые годы, но опубликована только в 1959-м). Впрочем, я не слишком огорчился, когда выяснил, что ни одна из них не выпускалась студиями звукозаписи и уж тем более не ставилась на сцене.
И все же порой я едва ли не с ностальгией просматривал список, который сам же назвал библиографией еще не прочитанного. Так я наткнулся на «Изменение» – книгу Мишеля Бютора, видного представителя жанра нового романа. Как подсказывает заглавие английского перевода этого произведения, «Смена колеи», дело происходит в поезде – точнее, в нескольких поездах. Не на маршруте Лондон – Амстердам – это было бы слишком, – а на маршруте Париж – Рим и обратно. В центре повествования Леон Дельмон, директор фирмы по производству пишущих машинок, который разрывается в географическом и эмоциональном смысле между женой и семьей в Париже и любовницей в Риме. Роман состоит из воспоминаний и предчувствий Дельмона, из фантазий и сомнений, которые посещают его, пока он сидит в поездах, курсирующих между двумя городами. Следует также добавить, что роман написан во втором лице; у некоторых это вызывает раздражение.
Для юлианологов начало у книги весьма многообещающее.
С. 14. Поезд отбывает из Парижа рано утром; герой смотрит в окно на «пустынные тротуары, витрины запертых магазинов… церковь Сорбонны и… руины, именуемые термами Юлиана Отступника, хотя, вероятно, термы были выстроены еще до рождения этого императора». И правда, мой старый путеводитель Бедекера подтверждает, что это остатки дворца, построенного между 292 и 306 годами императором Констанцием Хлором, и что именно там «солдаты провозгласили Юлиана своим императором в 360 году».
С. 61. Рассказчик вспоминает, что ему приходилось ходить «словно какому-нибудь туристу, пешком, не торопясь, прогуливаться по бульвару Сен-Жермен»… и затем мимо «стен из камня и кирпича, оставшихся от терм, в которых бывал Юлиан Отступник, – единственного осколка его „любезной Лютеции“, – впрочем, одного этого факта вполне достаточно, чтобы навсегда связать его имя с этими руинами».
С. 81. Действие накаляется. Рассказчик теперь уезжает из Рима в Париж. «Ты устроился в своем купе… и погрузился в чтение посланий Юлиана Отступника».
Естественно, что на этом этапе читатель задумается о том, есть ли какая-либо связь между директором парижского филиала фирмы «Скабелли (пишущие машинки)» и римским императором. У меня возникло предположение: быть может, для женатого человека бросить жену и детей и удрать с любовницей – это своего рода отступничество? К тому же Дельмоны – верующие католики. Что такого в посланиях Юлиана Отступника могло отозваться в сюжете и повлиять на его развитие?
С. 168. В другом поезде (вроде бы). «Ты взял книгу посланий Юлиана Отступника с полочки, где ты ее оставил, и, не раскрывая, загляделся в открытое окно – порывом ветра в него заносило иногда песок».
Некоторые читатели могут счесть такое нагнетание саспенса невыносимым. Когда же тайна раскроется? Осталось всего шестьдесят страниц.
С. 169. «ТЫ ДЕРЖАЛ НА КОЛЕНЯХ ЗАКРЫТУЮ КНИГУ – ПОСЛАНИЯ ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА, – КОТОРУЮ ТОЛЬКО ЧТО ДОЧИТАЛ». Негодующие прописные буквы я добавил от себя. А может быть, Бютор просто нас дразнит (у нового романа была своя игривая сторона) и все будет открыто ближе к концу.
С. 208. Времени до развязки все меньше. «В пустом купе, с посланиями императора Юлиана в руках – пригороды Генуи остались позади». Думай, думай: между этими двумя должна быть какая-то связь. Может статься, это контраст между парижским изменщиком и целомудренным Юлианом, который прошел незапятнанным через «гнездилища порока» в Антиохии и презрел прелести пленниц своей Персидской кампании? Не видно, чтобы Бютор упоминал личную жизнь императора или хоть какие-нибудь касающиеся его факты.
С. 215. «Ты поставил на стол чемодан [в комнате римской гостиницы], извлек из него ПЕРВЫЙ ТОМ „ЭНЕИДЫ“ В СЕРИИ, ИЗДАВАЕМОЙ БЮДЭ». Это уже не шутка, это, я бы сказал, какая-то писательская наглость.
С. 225. «Сидя у окна [в своей парижской квартире], ты снял с книжной полки послания Юлиана Отступника, и в эту минуту вошла Анриетта [твоя жена], чтобы узнать, будешь ли ты ужинать». Но ты предпочитаешь вагон-ресторан. А теперь – реприза:
С. 225. На улице темно и дождливо, так что ты берешь такси до вокзала. Оно «свернуло за угол разрушенного дворца, создание которого приписывают парижскому императору Юлиану».
На этом автор заканчивает с Юлианом Отступником. Да и я, пожалуй, тоже. Несколько страниц спустя читателю – тебе – сообщается, что рассказчик – тоже ты – планирует написать роман о своей (твоей) эмоциональной дилемме, дабы ее осмыслить. И знаете что? Роман, который ты только что прочитал, и есть тот самый роман, который директор парижского филиала фирмы «Скабелли (пишущие машинки)» (тоже ты) впоследствии как раз и написал!
Казалось уместным, что изучать посмертную жизнь Юлиана я закончу на таком диминуэндо. И мое время с Элизабет Финч тоже подходило к концу. Прошло много месяцев с тех пор, как я встретился с Кристофером в бежево-коричневой квартире Э. Ф. в западном Лондоне, с тех пор, как я рылся в ее столе, сентиментально воображая, что она оставила мне на хранение неоконченный шедевр. Она оставила мне кое-что более реальное и неуловимое: идеи, которым нужно следовать. Не мне судить, как у меня получилось: это дано знать ей одной.
Проведя несколько дней в Амстердаме, я сел на дневной поезд, следовавший в Алкмар. Заказал номер в гостинице недалеко от центра города. К Музею искусств отправился пешком, рассчитывая прийти не возбужденно рано и не раздражающе поздно, – хотя Анна могла поставить мне в упрек и раздражающую пунктуальность. Она, как в пародии, появилась в тот же момент. Поскольку дело было в Европе, я решил, что будет безопасно поцеловать ее в щеку.
– Мы оба поседели, – сказал я.
– Мне это идет больше, чем тебе. И я поседела по собственной воле.
Но она слегка улыбалась, и я рассмеялся.
В музее шла выставка Цезаря ван Эвердингена – «алкмарского Рембрандта», как его называли. Она включала в себя несколько больших групповых портретов городских стражников, портрет милого двухлетнего мальчика со щеглом (к моему удивлению, предоставленный музеем Барнсли), нравоучительную сцену с Диогеном, ищущим честного человека на современной художнику улице, и портрет торговца Ост-Индской компании с двумя чернокожими рабами. Все эти картины были мне уже известны, потому что перед поездкой в Алкмар я заказал каталог выставки. Мы стояли напротив картины с киником Диогеном, держащим средь бела дня фонарь, дабы подчеркнуть бессмысленность своих поисков. На картине также была изображена тачка, наполненная репой, – намек на скудный рацион философа; даже собака на переднем плане имела отношение к философу – слово «киник» восходит к греческому «кион», что значит «собака». Анну насторожили мои неожиданные познания, но спорить она не стала. Указывая на тачку с репой, я сказал:
– Из Элизабет Финч никогда не вышел бы киник.
– Давай просто посмотрим картины, хорошо?
– Я все их знаю наперечет, потому что заказал каталог еще в Англии.
– Ну, ты безнадежен, – раздраженно бросила Анна.
Безнадежен, потому что никогда не научусь хитрить, – так я понял ее слова. Это было правдой. И я уже раскрыл свои карты, когда упомянул Э. Ф. Как мог указать какой-нибудь мозгоправ, вероятно, моя хитрость заключалась в имитации бесхитростности: безнадежность – вот мое оружие.
Мы стали смотреть картины.
Говорят (или, скорее, «говорят»), Никогда не Возвращайся, так ведь? Не гонись за упущенной любовью, за полузабытой любовью, за непонятой любовью. Если не удалось в первый раз, не удастся и во второй. И так далее. Но я никуда не Возвращался, не в этом смысле (насколько я знал, во всяком случае). У меня была другая цель. Поэтому, когда мы сидели за блюдом яркого плавленого сыра и стаканом вина на залитой солнцем площади, мощенной брусчаткой, нам было легко друг с другом. Анна работала переводчицей, прожила в Алкмаре шесть лет, переехала из Амстердама по неназванным причинам. Обручального кольца у нее на пальце не было, но допытываться я не стал. Рассказал ей о своей жизни, о втором разводе, о том, чем занимаются мои дети. Она не горела желанием задавать вопросы, но в моем присутствии, кажется, чувствовала себя спокойно. Мы еще немного поговорили о Цезаре ван Эвердингене, посетовали на референдум по Брекзиту и тому подобное.
– Я вот думаю написать об Элизабет Финч. Отдать, как говорится, дань уважения. Ловлю себя на том, что до сих пор по ней скучаю.
Вопреки моим смутным ожиданиям, Анна не ответила: «Я так и знала» – и, вопреки моим опасениям, не припечатала: «Сперва писать научись». Вместо этого она лишь покивала и выговорила: «Я тоже». В смысле, «скучаю», а не «думаю написать».
Для начала мы просто вызвали в памяти ее образ: одежду, посадку головы, остроумие, методичность. То, чему она учила нас на лекциях, а также (в большей степени) за стенами аудитории. То, что осталось с нами.
– Урсула и ее одиннадцать тысяч дев, – сказал я.
– Самоубийство с помощью полицейского, – тут же ответила она, и мы сердечно рассмеялись, вглядываясь друг в друга с теплотой и мысленно прикидывая ущерб, нанесенный временем.
– Юлиан Отступник, – предложил я.
– Не помню такого.
– Последний император-язычник. Она говорила, что его смерть – это «тот миг, когда история пошла не тем путем».
– Я бы это непременно запомнила. А так припоминаю только какого-то другого Юлиана, который говорил, что секс – это круто, а первородный грех – дурацкая идея.
Мне подумалось, что это очень по-голландски с ее стороны.
– Хм-м. Вероятно, ты права – такое могло быть в одной из ее записных книжек. У меня иногда путаются воспоминания и материалы исследований.
Я немного рассказал ей о Юлиане, хотя писал преимущественно не о нем, а об Э. Ф.
– Ты еще была в Англии, когда началась так называемая Большая Травля?
Анна к тому времени уже уехала, но все еще поддерживала отношения с Э. Ф., которая, естественно, не упоминала в своих письмах ни о какой травле. Я открыл Анне глаза; она внимательно выслушала.
– Отвратительно, – сказала она. – Какая мразь эти ваши английские газеты.
– Да. Я бы не сказал, что это стоило ей работы. Но она точно перестала читать лекции и писать книжные рецензии.
– У нее остались какие-нибудь материалы, подготовленные для печати?
– По сути, нет. – Я рассказал ей об исчезнувших записных книжках и своих мыслях на этот счет. – Возможно, она даже планировала роман, – закончил я.
– Очень в этом сомневаюсь.
– И правильно делаешь.
Я не знал, как мне пробиться сквозь вступительную фазу. Кончай мямлить, приказал я самому себе.
– Ты не возражаешь, если я задам тебе пару вопросов?
– Задавай.
– О’кей, я понимаю, что это маловероятно, но она когда-нибудь упоминала при тебе мужчину в двубортном пальто?
Анна рассмеялась:
– Да ты прямо Шерлок Холмс.
Мне это понравилось. Мне нравилось, что она меня поддразнивает. Это навевало воспоминания. Мы вернулись мыслями к нашей учебе, поговорили о занятиях, о том, что запомнилось, о том, кто нам нравился или не нравился.
– Она была к нам очень добра, – сказал я. – А помнишь Линду?
– Конечно, – ответила Анна, но, по-моему, в ее лице что-то едва уловимо изменилось.
– У нее всегда были, как она выражалась, «сердечные тревоги». Помню, она у меня спрашивала, не стоит ли ей проконсультироваться на этот счет с Э. Ф. Я пытался ее отговорить, но она все равно сунулась. И какую замечательную фразу сказала ей Э. Ф.: «Вот это самое важное. Важнее нет ничего», – с оттенком самодовольства процитировал я.
– Какой же ты недоумок, – раздраженно бросила Анна. – И совсем в этом плане не изменился, так ведь? Линда – говоря твоими словами, бедняжка Линда – консультировалась, как ты выразился, о тебе!
– Обо мне? Черт. Почему… почему же она мне ничего не сказала? Почему никто не сказал мне ни слова? – А сам подумал: «недоумок» – не в бровь, а в глаз. – Тьфу, черт. Мне нужно время, чтобы это переварить.
– Ну, у тебя вся жизнь впереди, – бессердечно, как мне показалось, напомнила Анна.
Я проглотил язык и смог выдавить только одно:
– Можно, мы продолжим этот разговор позднее? За ужином? Я здесь с ночевкой.
– Конечно, – сказала она. – Обед с меня, ужин с тебя.
В ее тоне слышалось некоторое торжество. Я вернулся к себе в номер и рухнул на кровать. В голову лезли мысли о мужчинах и женщинах, о том, что некоторых вечно приходится, так сказать, вытаскивать за волосы.
После того как мы сделали заказ, я вынул записную книжку и уже было полез в карман пиджака за ручкой, когда Анна меня остановила:
– Нет, не надо.
– Но…
– Это подчеркивает, что ее нет в живых.
– Да ведь…
– Я согласилась о ней поговорить. И от своих слов не отказываюсь. Но если ты начнешь у меня на глазах делать записи, я буду чувствовать себя… предательницей. Понимаешь?
Я не понимал, но кивнул.
– Это подчеркивает, что ее нет в живых, – повторила она. – Не хочу об этом думать. К тому же она не давала мне согласия. В любом случае самое важное ты и так запомнишь.
Я замер, надеясь, что Анна раскроет дополнительные подробности, а то и передумает. Но она молча указала на мою записную книжку; пришлось ее убрать.
Из дальнейшего разговора я отчетливо понял, что Анна знала Э. Ф. лучше, чем я, – по крайней мере, в том, что касалось личной, потаенной сферы. Состязаться с ней я не мог и только завидовал.
– Характер ее тебе известен, – приступила Анна. – Смесь полной откровенности и неожиданной скрытности. А также глубокого сострадания и эпизодической отстраненности. Ни одна женщина не разговаривала со мной так, как она. У женщин обычно какие темы: «Как мы с ним познакомились», и «Что пошло не так», и «Чем это закончилось», и «Какие уроки я извлекла». Я этого не осуждаю: сама так делаю – превращаю свою жизнь в рассказ. Все так делают. Но Э. Ф. была не такой. Она выкладывала тебе вывод, а не повествование. Почему? Очевидной, естественной причиной обычно считается осмотрительность, желание оградить свою приватность. Но мне кажется, тут замешано нечто большее: осознание того факта, что жизнь, вопреки нашим желаниям, не укладывается в рассказ – по крайней мере, в такой, который понятен и предсказуем.
Мне нравится слушать женщин, которые умнее и проницательнее меня. По этой причине я вспомнил тот год, когда мы с Анной были вместе. Но в данный момент это мне ничем не помогло.
– Ну а ты… хотя бы… можешь привести пример?
– Однажды она сказала: «У меня такое ощущение, что я всю жизнь фокусируюсь либо на недосягаемом, либо на нежелательном».
Я невольно улыбнулся: в этих словах явственно звучал голос Э. Ф.
– Она не пояснила? Не назвала конкретные имена?
– Подожди. Есть кое-что еще, от чего я не могу отделаться. В свое время даже записала. – Она достала из сумки сложенный листок бумаги. – «Любовь – это всегда нечто нутряное и нечто абстрактное. Конечно, мы редко признаем наличие абстрактного – оно слишком глубоко уходит корнями в историю и в систему родственных связей. Но именно поэтому любовь – чувство искусственное. Разумеется, в лучшем смысле этого слова. А та любовь, которую мы называем романтической, наиболее искусственна. И следовательно, она самая возвышенная и вместе с тем самая разрушительная».
– Ни фига себе, – пробормотал я. – Теперь понятно, почему распались оба моих брака.
– Так-так, – протянула Анна, – знакомая британская шутливость перед лицом любви. Как же, помню. Мужская шутливость, естественно.
– По-твоему, женщины разбираются лучше? В любви?
Мне несвойственна преувеличенная лояльность своему полу, но заявление Анны подтолкнуло меня к оборонительным позициям.
– Конечно. Мы и более нутряные, и более возвышенные.
На это я решил не отвечать.
– По-твоему, Э. Ф. тоже так считала?
– Не уверена.
– Может, в ее жизни все нутряные мужчины были нежелательны, а возвышенные – недосягаемы. Или наоборот.
Мне подумалось, что мужчина в двубортном пальто принадлежал к категории возвышенного.
– Далее, – сказал я, – мой вопрос, вероятно, покажется тебе избитым, но как по-твоему: она была когда-нибудь счастлива?
Я готовился к тому, что Анна обрушится на меня за такую банальность. Но этого не произошло.
– Не знаю, верила ли она, что счастье – это естественное или желательное следствие любви. По-моему, она считала, что в любви важнее не столько счастье, сколько правда. Помню, как-то раз она сказала: «Сейчас, когда любовь для меня уже канула в прошлое, она стала мне понятней: и в плане ясности, и в плане бредовости».
Такие абстракции поставили меня в тупик. Мыслимо ли искать любовь и при этом не хотеть счастья? Мне хотелось конкретики.
– Ты можешь назвать какие-нибудь имена?
– Никогда их не знала. А если бы и знала, то тебе бы точно не открыла. Зачем тревожить стариков? Только отравлять им псевдосчастливые воспоминания.
– Есть какие-нибудь догадки?
– Говно вопрос.
Я не сдержал улыбку. Анна всегда отличалась удивительной способностью невпопад, но без тени сомнения вставлять в разговор хлесткие словечки. А еще в силу своего европейского происхождения она более свободно, чем я, оперировала абстракциями и теориями. Помню, как трудно было мне следить за ходом рассуждений Э. Ф., когда она мало-помалу знакомила нас с философией Эпиктета и стоиков.
– Помнишь, она часто цитировала что-то насчет вещей, которые от нас зависят…
– «Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет».
– А дальше?
– И следует научиться различать их и уяснить, что мы не можем ничего поделать с вещами, которые от нас не зависят, и осознание этого приводит нас к верному философскому пониманию жизни.
– Так, а про счастье? – спросил я.
– По-моему, то, что люди вроде нас с тобой, не наделенные философским складом ума, называют счастьем, у стоиков признавалось всего лишь верным пониманием жизни.
Я порадовался, что она включила нас в одну категорию, пусть даже основанную на общем недостатке.
– Значит, понимание – это высшее благо?
– Конечно.
– Хорошо, тогда ответь мне на такой вопрос. Любовь находится в нашей власти или нет? Что сказала бы на этот счет Э. Ф.?
Анна помолчала.
– Думаю, она бы сказала: люди в большинстве своем считают, что любовь находится в их власти, хотя на самом деле это далеко не так.
– И мы должны с этим смириться, если хотим вести жизнь, исполненную философского смысла, которая, прямо скажем, большинству людей по барабану. А кроме того, нам с тобой уже поздновато на нее подписываться.
– Да.
– То есть Э. Ф. признавала, что любовь не находится в нашей власти?
– Конечно.
– И потому считала, что любовь способна дать только понимание, но не счастье? Или счастье все же возможно, хотя и необязательно?
– Давай-давай, Нил, мы из тебя еще сделаем неплохого философа.
– Не трудись. Во мне говорит проклятый алкоголь.
– Голландское пиво, как известно, прочищает мозги.
– Как думаешь, она была лесбиянкой?
– Вот спасибо: вернулся в привычное состояние. Запел, как англичанин.
– А что прикажешь делать? Англичанин я или нет, в конце-то концов?
– Мог бы попробовать с этим бороться.
– У тебя когда-нибудь был лесбийский секс?
– Отцепись ты наконец, – пренебрежительно сказала Анна. Эту фразу она всегда произносила к месту.
– Я просто пытаюсь представить влюбленную Э. Ф.
– Не пытайся. У тебя воображения не хватит.
– А у тебя хватит?
– Думаю, да, но я этим не слишком интересуюсь.
– Лесбийским сексом?
– Нет, пошлыми сплетнями о замечательной ныне покойной женщине.
– Сдается мне, пытаться понять другого человека и распространять о нем пошлые сплетни – это не совсем одно и то же.
– Тогда я оставлю тебя в блаженном неведении.
Так обычно и разгорались наши ссоры. Но я отказался предаваться ностальгии. Меня терзало лишь застарелое, утомительное раздражение. Некоторые вещи находятся в нашей власти, но Анна не относилась к их числу. И даже будь оно иначе, я бы не приблизился к пониманию жизни и философскому счастью. Пути просвещения, даже на первый взгляд разумные, всегда вызывали у меня недоверие.
– Когда она это сказала?
– Что «это»?
– Что теперь понимает любовь лучше, когда та уже канула в прошлое.
– Лет за пять-шесть до смерти.
– То есть можно предположить, что она – извини за выражение – была еще в игре, когда мы у нее учились?
– Я промолчу.
– Дашь почитать, что она тебе писала?
– Конечно нет.
– Кофе и шнапс?
– Идеально.
Итак, утерянный баланс дружелюбия восстановился. Нет, с моей стороны это было нечто большее. Мне до сих пор очень нравилась Анна, как бы это ни выглядело со стороны.
– Когда я думаю об Э. Ф., мне иногда кажется, что я не оправдал ее ожиданий.
– В каком смысле? Ты же не забросил… как его… исследования ее жизни.
– Но кто знает, как бы она к этому отнеслась? Нет, я имел в виду другое: несмотря на ее постоянное присутствие, даже влияние, я вел все ту же убогую жизнь, что и прежде.
Анна не стала насмешничать; она понимала, что я не просто занимаюсь самокопанием.
– Невзирая на свои высокие требования, – сказала она, – Э. Ф. умела прощать.
– Допустим; но я не хочу, чтобы меня прощали. Понятно?
Она протянула руку через весь стол и погладила меня по запястью:
– Да, Нил, все понятно.
За ресторанным порогом накрапывал легкий голландский дождик. Я взял ее под руку:
– Ну, спасибо тебе за все.
В ответ она легко прислонилась к моему плечу, будто хотела сказать… сказать что?
Осмелев от ее жеста и от шнапса, я выпалил:
– А что нам мешает перепихнуться, вот прямо сейчас?
– Как что? – ответила она. – Твоя формулировка.
Я рассмеялся. Что правда, то правда. Грубость свойственна не только молодости.
Но она не обиделась и еще посидела со мной в кафе на площади, мощенной брусчаткой, когда я предложил выпить кофе перед моим отъездом в Амстердам.
– Только сейчас вспомнила, – спохватилась Анна. – Э. Ф. прекрасно плавала.
– Плавала?
– Ну да, плавала. Отлично.
У Анны на лице появилась неприятная полуулыбочка, будто бы говорившая: я знаю о ней такое, что тебе и не снилось. Нет, «будто бы» можно вычеркнуть.
Я попытался вообразить плывущую Э. Ф., но не сумел.
– На пляже в Брайтоне?
– Нет, в «Санктуарии».
– А что это?
– Спа-салон с бассейном. У Ковент-Гардена… Закрылся несколько лет назад. Туда пускали только женщин. Мы ходили раз в месяц, пока я не переехала.
Это известие, как ни странно, ударило под вздох. На меня вдруг нахлынуло полупостыдное воспоминание. Впервые описывая Э. Ф., я упомянул, что она всегда ходила в юбке ниже колен и ее невозможно было представить в купальнике.
– И… какой же у нее был купальник?
Анна в голос расхохоталась.
– Ну, в бикини она не появлялась. – (Я испытал дурацкое облегчение.) – Но так и быть, открою тебе секрет, Нил. У некоторых женщин больше одного купальника.
– Естественно. Я, пожалуй, возьму себе шнапса – плеснуть в кофе.
Это было смехотворным мальчишеством. Я уже признал – точнее, меня заставили признать, – что Анна, по всей вероятности, знает о частной жизни Э. Ф. больше моего. А теперь я обзавидовался из-за… плавания. И купальников. Случись это в прежние времена, я бы нахохлился и был осмеян, но сейчас не собирался доставлять Анне такое удовольствие.
– Так вот, – жизнерадостно продолжила она, – если ты действительно хочешь о ней писать, тебе придется дать слово и другой стороне.
– Какой еще стороне?
– Ой, я тебя умоляю. – Не спросив разрешения, она хлебнула шнапса из моей рюмки.
– О чем ты меня умоляешь?
– Не забывай, что ты был в нее влюблен. По-своему, бестолково и сбивчиво.
– Все не так, – запротестовал я. А потом с вызовом добавил: – Но это правда: я ее любил. Как и ты.
– Я – по-другому, но в сущности это верно. Не вижу проблемы.
– А я вижу?
– О, да. Но ближе к делу: ты бы поверил биографии, написанной любовником героини?
– Я не собираюсь писать биографию. И я не был ее любовником.
– Допустим, но неужели тебе не приходило в голову разыскать, к примеру, Джеффа?
– Джеффа? Этого засранца? Нахера мне его искать?
– Чтобы узнать мнение другой стороны.
– Другой стороны? Другая сторона, если я правильно помню, состояла только из Джеффа.
– Помнишь, что она сказала на первом занятии? Как-то так: «Возможно, я не всех устрою в качестве лектора». Для нас с тобой она была лучшим преподавателем. Но не для всех. Ребята хотели чего-то более традиционного. Даты, имена, факты – и отсюда общие представления. А не общие представления, из которых надо извлекать даты, имена и факты. Конечно, поначалу им было интересно, но затем это стало… доставать.
– Точно. Меня… и тебя… она доставала, то есть встряхивала мозги, заставляла думать снова и снова, чтобы искры в голове вспыхивали.
Анна улыбнулась мне нарочито-снисходительной улыбкой.
– Да, разжигала в голове искры. Но многие считали, что ее хлебом не корми – дай только запрячь любимого конька.
– Оседлать. Оседлать любимого конька.
– Без разницы. Людям не терпелось сдать экзамены и вернуться к нормальной жизни.
– Тогда они просто дураки.
– Нил, учитель-энтузиаст – это в некоторой степени удобный миф. На него иногда ведутся подростки, но никак не тридцатилетние лбы. А тебя, кстати, всегда тянуло к женщинам, которые все разложат по полочкам. Как я, например.
Я смешался, а затем вспылил. Анна, кажется, путала два совершенно разных этапа моей жизни.
– То есть ты ставишь себя на одну доску с Э. Ф.? – возмущенно спросил я, подразумевая: считаешь себя такой же знающей, такой же неподражаемой, такой же замечательной?
– Нил, у нас обоих волосы сединой тронуты, нам уже поздновато обижаться.
– Не знаю, не знаю. Но ты, очевидно, возомнила, что можешь все разложить по полочкам. Мне это уже не интересно. И мы, похоже, сильно отклоняемся от темы.
– Нет, не отклоняемся.
– То есть ты теперь отрицаешь, что Э. Ф. была одной из самых экстраординарных личностей, какие тебе встречались?
– Ничего я не отрицаю. Я всего лишь подвожу тебя к мысли – ничего не раскладывая по полочкам, – что не стоит превращать задуманную тобой книгу в хвалебный монолог. Не забывай, что говорила Э. Ф. о словах на «моно-».
– Я не забываю. Монологи монотонны, мономаниакальны и…
– …монокультурны.
Мы рассмеялись. Все стало на свои места, мы по-прежнему оставались друзьями.
– Но ты же не предлагаешь мне, правда ведь, советоваться с Джеффом?
– Могу дать тебе адрес его электронной почты.
– Черт возьми. – У меня в голове мелькнула тревожная мысль. – Вы же не… не это… с Джеффом?
Она подмигнула. На самом деле у нее плохо получалось подмигивать, так же как и правильно произносить некоторые просторечные английские фразы. То ли она подмигнула, то ли просто моргнула.
– Ох уж эти мужики, – только и сказала она. – Ох уж эти англичане.
Домой я привез солидную головку сыра и пару репродукций «алкмарского Рембрандта». Мысленно продолжая перепалку с Анной (и при этом понимая, что следую ее совету), я включил компьютер.
Привет, Джефф.
Вот, свалился на тебя ни с того ни с сего. Встречался в Алкмаре с Анной, она дала мне адрес твоей почты. Я планирую написать небольшую книгу воспоминаний об Элизабет Финч. Не мог бы ты поделиться какими-нибудь историями, занятными случаями, конкретными эпизодами? Интересно также, изменилось ли твое мнение о ней с течением времени. Возможно, ты не захочешь, чтобы я на тебя ссылался, или предпочтешь, чтобы твое имя не афишировалось и было заменено другим. Дай мне знать.
С наилучшими пожеланиями,
Два дня спустя:
Привет, Нил.
Да, Старуха Финчи была той еще штучкой, согласен? У нее определенно присутствовал, даже не знаю, как выразиться, стиль, способ самоподачи, какой и не снился многим другим училкам. Я ничего не имел против. Спору нет, она много знала, хотя читать обзорный курс всегда проще. Она была преподавателем даже не старой, а древней формации, чем меня и поразила. Я в курсе, что ты давно объявил меня свихнувшимся троцкистом, но ее взгляды на сущность культуры и цивилизации даже близко не стояли к современной философии, к систематической мысли, критической и интеллектуальной теории. Она все время толковала про «методичность», но для меня ее манера читать лекции отдавала самолюбованием. Безусловно, она считала себя «оригиналкой», но, по мне, более подходящим словом будет «дилетантка». Однако, дружище, времена дилетантства в науке давно прошли. Начав преподавать, я использовал ее как контрпример лектора. Помнишь, она рекомендовала нам почитать Гитлера? И еще у нее был какой-то бзик насчет истории раннего христианства. Сейчас бы такой номер не прошел. Не скажу, что она причинила нам большой вред, но ее общая методология и «причудливые воззрения» были не совсем уместны. Можешь цитировать это, сколько душе угодно. Желаю поскорее найти издателя!
Счастливо,
Джефф
P. S. По прошествии стольких лет я, хотелось бы верить, тебя не обижу, если скажу, что ты не просто на ней слегка помешался, но и превратил ее в миф. Это, вообще говоря, не страшно. Всем нам нужны свои маленькие мифы, чтобы держаться на плаву, правда ведь?
Как же меня взбесило слово «маленькие» – плюс еще идиотское обращение «дружище». Вот кусок дерьма, подумал я. К тому же он, считай, признался, что сам слил таблоиду историю про Э. Ф. и Гитлера. Спасибо, хоть не позвал меня вместе выпить и «вспомнить старые времена».
Я невольно признал, что Анна даже столько лет спустя читает меня как открытую книгу. Взять хотя бы ее своевременные примирительные слова о монологе. Помню, как высказывалась на эту тему Э. Ф.: «Не отрицаю, что монолог может оказаться блестящим сценическим приемом. Я всего лишь указываю на его крайнюю искусственность, которая, собственно, и придает ему блеск». За всю свою скромную актерскую карьеру я никогда об этом не задумывался.
До меня дошло, что, помимо наследства по завещанию, Э. Ф. оставила мне еще кое-что: слова и фразы, идеи, которые я не всегда мог понять, а тем более принять, но которые будут преследовать меня на протяжении многих лет.
Еще одно соображение по поводу моей встречи с Анной. Кое-что из сказанного ею подтолкнуло меня к мысли: не скрывался ли за обращенной к миру маской спокойствия и сдержанности Э. Ф. омут (или, точнее, ревущий поток) ярости. Нет, вряд ли. Но потом я вдруг вспомнил, до какой степени удивился, когда одна из моих бывших жен обратилась к гомеопату с вопросом, существует ли средство от ее нынешнего состояния, которое можно описать как «все достало».
Недавний биограф Юлиана пришел к выводу, что все грандиозные замыслы императора окончились неудачей и даже его явные победы – в административной, военной, религиозной сфере – были кратковременны, если не сказать иллюзорны. «Более того, единственной реальной победой „могучего воина“ была реформа налоговой системы». Это напомнило мне, как Э. Ф. предположила, что неудача зачастую представляет больше интереса, чем успех, а стало быть, неудачники могут поведать нам больше, чем победители. Еще она говорила, что мы не можем сказать, даже на смертном одре – особенно на смертном одре, – как о нас будут судить в будущем и будут ли помнить вообще. Мы можем оставить след на песке, который тут же сдует ветром. А можем оставить след в пыли, и его отпечаток сохранится на века, просто потому, что нам случилось жить в Помпеях. Думая о Линде (несмотря на откровение Анны десятилетия спустя), я утверждаюсь в мысли, что всегда буду связывать ее облик с влажным отпечатком ладони на столе в студенческом баре. Я в одиночку осушил сначала свой бокал, потом заказанный для Линды, а когда поднялся из-за стола, отпечатка ладони уже не было – он сохранился только в моей упрямой памяти.
Я думал о Юлиане, о том, как осмысливали и переосмысливали его личность уходящие столетия: будто он расхаживал по сцене истории в лучах разноцветных прожекторов. Ага, да он красный; ну, скорее оранжевый; ничего подобного – густо-синий, граничит с черным; да нет же, просто черный. По-моему, сходное впечатление, хотя и не столь драматичное, без крайностей, производит на нас жизнь любого человека: он по-разному видится родителям, друзьям, врагам, возлюбленным, детям; случайные прохожие вдруг подмечают его истинную сущность, тогда как старинные знакомцы напрасно силятся его понять. А потом этот человек смотрит на тебя – и видит совсем не то, что ты сам. И впрямь: заблуждение является одним из главных факторов создания личности.
Могу признать, хотя и с запозданием, что одни – например, такие, как Джефф, – попросту не воспринимали Э. Ф., а другие хотели от нее чего-то иного. Готов также допустить, что многие – возможно, даже бóльшая часть нашего потока – спустя годы вообще забыли ее или же вспоминали как единственный в своем роде занятный курьез.
Но я не переживал. Наоборот, от этого она еще в большей степени принадлежала мне одному.
Вернемся к началу: Элизабет Финч стоит перед нами и говорит прямо как по писаному, не оставляя заметных пробелов между мыслями и речью, уравновешенная, элегантная, будоражащая, цельная. Была ли она отшлифованной личностью, которая годами доводила до совершенства свой имидж? Другими словами, искусственной, притворной. Не исключено; однако такого рода искусственность работает на достоверность. Именно это подразумевала и даже озвучивала Э. Ф. Улавливаете смысл? Каждый из нас может припомнить знакомых, которые используют отшлифованную, то есть искусственную простоту как способ существования в этом мире. Назовем их мнимо-наивными. Э. Ф. не была ни мнимой, ни наивной, более того: она существовала на противоположном конце спектра, но не выходила за его пределы.
Скажем так. Я наблюдал за Э. Ф. в лекционной аудитории, издалека – на вечеринках (с которых она всегда сбегала пораньше) и во время наших с ней многочисленных обедов. Она была мне другом, и я ее любил. Своим присутствием и примером она заряжала мои мозги и подталкивала меня совершить качественный скачок в осмыслении мира. Я прочел ее записи, которые она никому не показывала; я исследовал карандашные пометки, все до единой, в завещанных мне книгах. Но вероятно, все наши встречи и беседы, как и все мои воспоминания о них (воспоминания – это в конечном счете функция воображения), были и остаются фигурами речи. Наверное, по существу я «знаю» и «понимаю» Элизабет Финч не лучше (хотя и по-другому), чем «знаю» и «понимаю» императора Юлиана. И когда я это уяснил, пришла пора остановиться.
Я снова вижу ее: она склоняется ко мне через ресторанный столик после того, как я предпочел говяжий эскалоп нашей с нею традиционной пасте. «Ну как? – нетерпеливо спрашивает она. – Сплошное разочарование?» А впечатление такое, будто она одновременно спрашивает обо всем: о жизни, о Боге, о погоде и правительстве, о любви и смерти, о бутербродах и неоконченных шедеврах.
И вот еще что: она задумала книгу об императоре и его роли во всемирной истории, но дело застопорилось. То ли навыка не хватает. То ли мешает историческая и богословская казуистика. То ли сам Юлиан оказывается не таким, как она думала. То ли изначальная грандиозная дерзновенность этого замысла никак не вознаграждается: «Ты победил, галилеянин бледный», но это не открыло заметного подхода к эмоциональной холодности и папскому авторитаризму христианской Европы – ни к безрадостному, отягощенному чувством вины протестантизму, ни к порочному, отягощенному чувством вины католичеству. А если и наметился такой подход, то ей не суждено было освоить его первой.
И тогда она уничтожила все написанное (до или после своего «мученичества»?), а предварительные наметки и мысли передала другому – мне. Зная, а может, и не зная, что доверяет их тому, кто печально известен своими заброшенными проектами. В любом случае она не могла не оценить иронию такого положения.
Хотя Э. Ф. редко полагалась на волю случая, сдается мне, как ни смешно, что именно так она и поступила, оставив мне свои литературные крохи. Да, «как ни смешно»: не будем забывать, что ей было присуще тонкое, ироничное остроумие. А хватит ли у меня интереса или энергии нащупать подход, который она наполовину стерла, – это как раз и осталось на волю случая. Только случай мог решить, сделаю ли я попытку хоть как-то воссоздать ее «книгу». Не говоря уже о попытке (которой она и вовсе не могла предвидеть) воссоздать ее жизнь.
Вот я и решил положиться на волю случая, на волю судьбы. Сохраню все, что получилось, в ящике письменного стола – быть может, вместе с записными книжками Э. Ф. Временами я представляю, как после моей смерти кто-нибудь из детей находит эту рукопись.
– Ой, смотрите-ка, папа книжку накропал! Кто-нибудь хочет почитать?
– Наверняка очередной заброшенный проект.
– Прямо как мы.
Вслед за тем разговор их, скорее всего, перейдет на мои никудышные отцовские качества. А распечатку вернут в ящик стола, предоставив домработнице переместить ее в мусорный бак.
Нет, я к ним несправедлив. В ком-нибудь одном, быть может, шевельнется сентиментальность, некоторая пытливость к отцовским интересам. Другой, полюбопытствовав, кто такая Элизабет Финч и была ли между нами любовная связь, прихватит с собой записные книжки, но, скорее всего, будет разочарован (слишком много выводов, слишком мало повествования) и отправит их в макулатуру. Не исключено и другое: моя «книга», если она заслуживает такого слова, перекочует в другой ящик другого стола и дальнейшая судьба ее окажется в руках того, кто еще не родился.
Так было бы справедливо. Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. Эта вещь более не в моей власти и потому не сможет стать мне помехой на пути к свободе и счастью.
А если вам слышится какой-то иронический смех, то исходит он от меня.
Хочу поблагодарить моего брата Джонатана Барнса за устранение множества ошибок, а также Мэттью Белла, Питера Бина, Ванессу Гиньери, Кристи Клинкерт, Гермиону Ли, Питера Милликена, Сумайю Партнер, Роберта Приста, Стефана Ребенича, Ритчи Робертсона и Джорджа Сиримиса.
С. 20. …«Золотой легенде» – средневековом собрании христианских чудес и мученичеств. – «Золотая легенда» («Legenda Aurea») – собрание христианских легенд и житий святых, составленное ок. 1260 г. Иаковом Ворагинским. В XIV–XVI вв. была второй по популярности книгой после Библии.
С. 21. …Урсулу сопровождали одиннадцать тысяч дев… последовательное изложение этой истории на холстах Карпаччо. – Цикл картин венецианского живописца Раннего Возрождения Витторе Карпаччо (1465–1520) к житию святой Урсулы состоит из девяти произведений и хранится в венецианском музее Галерея Академии.
…организовать такое турне, тем более что мистер Томас Кук тогда еще не родился. – Томас Кук (1808–1892) – британский предприниматель, родоначальник организованного туризма. Первое в истории туристическое агентство было открыто им в 1841 г. и работало до сентября 2019 г.
С. 22. «Техниколор» – технология цветопередачи кинематографического изображения, разработанная в 1917 г.
«Синемаскоп» – система широкоэкранного кинематографа, основанная на принципе анаморфированного изображения.
С. 23. И вот Урсула и ее многочисленная свита достигли Кёльна, после чего гуннская армия… накинулась на Одиннадцать С Лишним Тысяч, как… «свирепые волки на агнцев, и убили их всех». – «Золотая легенда» Иакова Ворагинского – том 2, глава CLVIII («О святых одиннадцати тысячах дев») – цитируется в переводе И. Кувшинской по изданию: Иаков Ворагинский. Золотая легенда. Том 2. М.: Издательство францисканцев, 2018.
Самоубийство с помощью полицейского – фраза, ставшая мемом: нападение на сотрудника правоохранительных органов, охранника, часового с целью спровоцировать его на применение оружия.
С. 27. Монорхизм – врожденное отсутствие одного яичка.
С. 28. Что нам говорит остроумный мистер Сондхайм? 〈…〉 «Один – не решенье…» – Стивен Джошуа Сондхайм (1930–2021) – американский композитор, поэт и драматург, автор бродвейских мюзиклов, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». Цитируется его песня «Side by Side by Side» из мюзикла «Company» (1970), позже давшая название спектаклю-ревю «Side by Side by Sondheim» (1976).
С. 32. Будьте приблизительно довольны приблизительным счастьем. Несомненно и ясно на земле только несчастье. 〈…〉 Вы, наверное, заметили, что цитата приведена без отсылки. – Цитируется письмо И. С. Тургенева графине Е. Е. Ламберт от 17 декабря 1860 г. (29 декабря по новому стилю).
С. 35. …под «горбатой» Луной… – «Горбатой» называют Луну между второй четвертью и полнолунием, то есть в период, когда освещено более половины Луны.
С. 38. Сто семь лет тому назад… один великий художник жил в ожидании смерти… 〈…〉 Третичная фаза сифилиса стремится покарать человека в самых разнообразных смыслах, но нашему герою удалось избежать высшей для художника меры наказания: слепоты. Каждое утро ему приносили хрустальную вазу и охапку свежих цветов. 〈…〉 Временами он просто разглядывает натуру, представляя ее на холсте. А в те дни, когда к нему возвращаются силы, скомпонованный букет обращается в натюрморт. – Имеется в виду Эдуард Мане (1832–1883). А значит, действие эпизода происходит около 1990 г.
С. 39. Например, не задавался ли он избитым вопросом, получившим впоследствии название дилеммы Моцарта: жизнь прекрасна, но печальна; или жизнь печальна, но прекрасна? – Ср.: «Вот еще одна головоломка, над которой ему случалось раздумывать. Как правильно – или правильнее: „Жизнь прекрасна, но печальна“, или „Жизнь печальна, но прекрасна“? Одна формулировка, безусловно, верна, но он так и не смог решить, которая из двух» (Дж. Барнс. Одна история. Перев. Е. Петровой). Барнс здесь ссылается на эссе о Моцарте ирландского писателя Фрэнка О’Коннора (1903–1966).
«Поэзия ничто не изменяет»… – У. Оден. Памяти У. Б. Йейтса. Перев. А. Эппеля. То же в переводе Г. Кружкова: «Поэзия ничего не свершает».
«Но мы потрясаем горы, / взметая вселенский прах». – Стихотворение английского поэта Артура О’Шонесси (1844–1881) «Ода», открывающее его сборник «Музыка и лунный свет» (1874), цитируется в переводе В. Кормана.
С. 41. Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. 〈…〉 …никто не причинит тебе вреда. …трудами Эпиктета… – Эпиктет. Энхиридион (Краткое руководство к нравственной жизни). СПб.: «Владимир Даль», 2012. Перев. А. Тыжова.
С. 43. …залихватский перебор альтернативно-исторических сценариев… – В оригинале здесь («jolly game of counterfactuals» – «развеселая игра в контрафакты») анахронистичная отсылка к 3-му эпизоду 4-го сезона сериала «Теория Большого взрыва», озаглавленному «Замена Лапусика» (вар.: «Пуфыстая замена») и вышедшему в эфир 7 октября 2010 г. В эпизоде Эми и Шелдон «играют в контрафакты», например: «В мире, в котором носороги одомашнены, кто выиграет Вторую мировую войну?»
…что, мол, если бы бомба Штауффенберга убила-таки Гитлера?.. – Подполковник Клаус фон Штауффенберг (1907–1944) был одним из организаторов и исполнителем неудачного покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 г.
С. 44. …победителю принадлежат трофеи… – Фразу эту произнес сенатор от Нью-Йорка Уильям Марси в 1832 г., описывая практику назначения на государственные должности представителей партии, победившей на выборах.
С. 45. «Свингующие шестидесятые» – период оптимизма и гедонизма, культурной и сексуальной революции в 1960-е гг., ставший следствием восстановления британской экономики.
С. 49. …когда виноградники поражала филлоксера… – Гибель французских виноградников произошла во второй половине XIX в., когда бóльшая часть виноградников Франции была поражена виноградной филлоксерой. Эту корневую тлю родом из Северной Америки случайно перевезли через Атлантику в конце 1850-х гг. Хотя Франция считается страной, наиболее пострадавшей от болезни, филлоксера нанесла существенный ущерб и другим европейским странам.
С. 50. Вспомним строку из «Марсельезы»: «Пусть кровь нечистая бежит ручьем». – Перев. Н. Гумилева.
С. 51. Как однажды выразился знаменитый писатель: «Эти чудовища объясняют нам историю». – Так семнадцатилетний Флобер ответил на вопрос, чем ему интересны личности наподобие Нерона и маркиза де Сада. Барнс неоднократно ссылался на эти его слова: и в романе «Попугай Флобера», и, например, в рецензии на биографию Эдуарда Лимонова, написанную Эмманюэлем Каррером.
С. 53. «Земля надежды и славы» («Land of Hope and Glory», 1902) – песня Эдварда Элгара на стихи Артура Кристофера Бенсона, считается неофициальным гимном Великобритании.
С. 56. Ты победил, галилеянин бледный, но серым стал в твоем дыханье мир, / А мы, испивши вод хмельных из Леты, на тризне в забытьи сыграли пир. – Здесь и далее перевод фрагментов «Гимна Прозерпине» А. Ч. Суинберна частично основывается на переводе этих строк А. Кривцовой (1933) и Н. Маркович, Н. Шерешевской (1970) в романе Томаса Гарди «Джуд Незаметный», где это стихотворение цитировалось.
С. 58. Уильям Уилберфорс, отец Мыльного Сэма. – Уильям Уилберфорс (1759–1833) – британский политик, член британского парламента, благотворитель. Один из авторов билля об отмене работорговли в британских владениях, утвержденного в качестве закона в 1838 г. Мыльный Сэм – прозвище третьего сына У. Уилберфорса, Сэмюэля Уилберфорса (1805–1873), религиозного деятеля и духовного писателя. По одной версии, прозвище закрепилось за проповедником из-за его привычки потирать ладони схожим с мытьем рук образом. В 1869 г. в журнале Vanity Fair появилась карикатура на Мыльного Сэма с характерным жестом. По другой версии – из-за манеры поведения, которую британский премьер-министр Бенджамин Дизраэли охарактеризовал как «елейную, скользкую».
Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) – американская писательница, автор романа «Хижина дяди Тома» (1852), обличающего американское рабовладение.
Тринадцатая поправка, Авраам Линкольн. – В 1865 г., незадолго до окончания Гражданской войны в США, президент Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении Тринадцатой поправки к Конституции, провозглашавшей отмену рабства на всей территории государства.
С. 59. …Эрнест Ренан говорил: «Забвение, или, лучше сказать, историческое заблуждение, является одним из главных факторов существования нации». 〈…〉 Он не говорил: «Забвение, или, лучше сказать, историческое заблуждение, является одним из главных факторов создания нации». – Э. Ренан. Что такое нация? Доклад, прочитанный в Сорбонне 11 марта 1882 г. Перев. под ред. В. Михайловского. (На самом деле Ренан говорил именно о создании нации, но часто эту его фразу цитируют неправильно, заменяя «создания» на «существования».)
С. 61. Да уж, Бельгия – она почище всех прочих была… Конрад. «Сердце тьмы». – Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, 1857–1924) – английский писатель польского происхождения, автор повести «Сердце тьмы» (1902), написанной под впечатлением от путешествия в Бельгийское Конго, где он наблюдал жестокое обращение колонизаторов с коренным населением. По мотивам этой повести Фрэнсис Форд Коппола снял «Апокалипсис сегодня» (1979).
С. 77. …умяла полный английский завтрак. – Традиционный плотный завтрак; включает яичницу-глазунью, жареные грибы и помидор, сосиски, тушеную фасоль, тосты с маслом.
С. 79. В Эссексе. Уж такая даль… – Графство Эссекс, по сути, граничит с юго-восточной окраиной Лондона. Административный центр графства, г. Челмсфорд, находится в 50 км от центрального Лондона.
Ее дубовый письменный стол английской работы, изготовленный в стиле «Искусств и ремесел»… – Художественное движение «Искусства и ремесла» (Arts & Crafts) было основано Уильямом Моррисом (1834–1896) – английским литератором, художником по ткани, видным представителем прерафаэлитизма, пропагандировавшим принципы ручного производства и опору на традиционные ремесла.
С. 82. Недавно одна женщина назвала себя «невероятно правдивой». – «Невероятно правдивой» (англ. preternaturally truthful) называла себя американская писательница-мемуаристка Элизабет Вуртцель (1967–2020) в своей статье «I Refuse to Be a Grown-Up» («Отказываюсь быть взрослым», 2013).
С. 83. Гастон Башляр (1884–1962) – французский философ и искусствовед, неорационалист, специализировавшийся на философии естественных наук, автор влиятельного пятитомника о «психоанализе стихий».
С. 93. Насадить в государстве моноэтничность и монотеизм – и все изменится к лучшему в этом лучшем из миров. – Ср.: «…в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. 〈…〉 …те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость, – нужно говорить, что все к лучшему» (Вольтер. Кандид, или Оптимизм. Перев. Ф. Сологуба). Вольтер здесь пародирует философию Лейбница, утверждавшего, что сотворенный Богом мир является лучшим из возможных миров, поскольку перевес добра над злом в нем больший, чем во всех других возможных мирах.
С. 94. …керамического блюда Бернара Палисси. – Бернар Палисси (1510–1589) – французский естествоиспытатель, религиозный диссидент-мистик, один из величайших мастеров искусства керамики. Работы Палисси представлены в крупнейших музеях мира, в том числе в Государственном Эрмитаже.
С. 95. Орийак – город в центральной Франции, известен с I века.
С. 97. Джон Апдайк. 〈…〉 А его-то биографию кто-нибудь сподобился написать? 〈…〉 Вскоре после его смерти. Лет через пять. – Имеется в виду биография Джона Апдайка (1932–2009), написанная Адамом Бегли и опубликованная в 2015 г. (A. Begley. Updyke. Harper-Collins, 2015).
С. 99. «Мир устроен плохо, потому что Бог создал его один. Если бы Он советовался с двумя-тремя друзьями, с одним в первый день, с другим – на пятый, с третьим – на седьмой, мир был бы совершенством». – Жюль Ренар. Дневник (1887–1910). Перев. Н. Жарковой, Б. Песиса.
С. 100. Элизабет Бишоп (1911–1979) – американская поэтесса, лауреат Пулицеровской премии; своего рода ученица упоминаемой ниже Марианны Мур.
Элизабет Финч могла бы назвать такой тип текста «олья подрида»… – Букв. «гнилой горшок» (исп.), то есть смесь. Блюдо испанской кухни, известное со времен Средневековья (упоминается в романе «Дон Кихот» Сервантеса) и представляющее собой тушеное мясо с овощами.
С. 103. Воистину: нетерпение сердца. – «Нетерпение сердца» (1939) – единственный завершенный роман австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942).
С. 104. От одиночества спасет уединенье, как некогда указала мудрая ММ. – Ставшая крылатой в англоязычной культуре фраза принадлежит американской поэтессе, лауреату Пулицеровской премии Марианне Мур (1887–1972); фигурирует в постскриптуме к ее письму, написанному поэту Джеку Спайсеру (1925–1965) по поводу выхода сборника его стихов «After Lorca» («После Лорки», 1957).
«Но любовь от измены зачахнет». – Снова цитата из «Гимна Прозерпине» А. Ч. Суинберна.
С. 105–106. Том пятый из собрания сочинений Ибсена целиком занимает 480-страничная пьеса (мыслимо ли такую поставить? Если, конечно, ее ставили?), озаглавленная «Кесарь и Галилеянин». «Застольные беседы Гитлера» – и тот же Юлиан в указателе. – Пьеса, опубликованная в 1873 г., была впервые поставлена в 1896 г. в Лейпциге. Есть мнение, что трактовка Ибсеном образа Юлиана Отступника оказала большое влияние на Адольфа Гитлера. Также см. с. 165–169, 175–176.
С. 111. «Ты победил, галилеянин». Эта фраза впервые появляется у Феодорита в его «Церковной истории»… – «Церковная история» блаженного Феодорита, епископа Кирского (393–457), цитируется по переводу с греческого, сделанному при Санкт-Петербургской духовной академии и опубликованному в 1852 г.
С. 112. …святому Георгию (по крайней мере одному из них)… – Святой Георгий Победоносец – наиболее почитаемый христианский великомученик среди святых с таким именем, которых, согласно английской Википедии, было не менее двенадцати.
…«служа мечом своим»… святому Димитрию во время Первого крестового похода. – Речь идет о битве за Антиохию в 1098 г. Победу крестоносцев над превосходившими силами мусульманского войска приписывают в том числе Божьему провидению. Согласно хронике Петра Тудебода, святой великомученик Димитрий Солунский (ум. 306) вместе с великомучениками Георгием (275/281–303) и Феодором (281–319) явились на помощь христианам во главе небесного воинства – многие крестоносцы видели спускавшееся с гор войско на белых конях с белыми знаменами.
С. 113. Мопсуэстия – древний город на территории современной Турции, один из важных религиозных центров раннехристианской эры.
С. 114. …сделаться новым Диоклетианом? – Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (244–311) – римский император, инициировавший в 303 г. последнее и самое жестокое гонение на христиан в Римской империи.
С. 115. Историк Гиббон пишет, что в иудейской среде той эпохи вероотступничество каралось смертью. – Эдуард Гиббон (1737–1794) – британский историк, мемуарист, член британского парламента; автор шеститомника «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). Здесь отсылка к тому 2, гл. XXIII: «…они заслужили милостивое расположение Юлиана своей непримиримой ненавистью к последователям Христа. Бесплодная синагога питала ненависть и зависть к плодовитости мятежной церкви; материальные силы иудеев не стояли на одном уровне с их зложелательством, но самые серьезные из их раввинов одобряли тайное убийство вероотступников…» (перев. В. Неведомского).
С. 116. …Юлиан был «в глубине души… христианским мистиком, только наизнанку». – «Не уведи Максим у нас Юлиана, это сделали бы епископы: в глубине души он был христианским мистиком, только наизнанку» (Гор Видал. Император Юлиан. Перев. Е. Цапина).
Кто у нас писал о нарциссизме тонких различий? Совершенно верно: Фрейд. – Термин «нарциссизм тонких (тж. малых, мелких, незначительных) различий» был использован З. Фрейдом в работе «Цивилизация и ее недовольство» (1930) под влиянием концепции британского антрополога Э. Кроули. Понятие нарциссизма тонких различий сводится к тому, что чем тоньше различия между двумя индивидами или сообществами, тем более человек склонен их гиперболизировать, а сообщества со смежными территориями и тесными отношениями более склонны к вражде.
Репутация императора оказалась живучей; Мильтон называл его так: «самый тонкий противник нашей веры». – Цитируется полемический трактат английского поэта и публициста Джона Мильтона «Ареопагитика: Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии» (1644). Перевод, без указания переводчика, был впервые опубликован в Казани в 1905 г. и в 1997 г. переиздан под редакцией П. Когана в первом выпуске альманаха «Современные проблемы» (Москва – Новосибирск). Также см. с. 151–153.
С. 117. Мне кажется правильным изложить перед всеми людьми те доводы, которые убедили меня, что коварное учение галилеян – вымысел людей, злостно придуманный. Не заключая в себе ничего божественного, используя склонную к вымыслам детскую, неразумную часть души, оно придало чудесным выдумкам видимость истины. – Трактат Юлиана «Против галилеян» здесь и далее цитируется в переводе А. Рановича («Против христиан») по изданию: А. Ранович. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства (М.: Политиздат, 1990). Переводы Рановича, впервые выпущенные в 1933 и 1935 гг. двумя отдельными книгами в издательстве ГАИЗ (Государственное антирелигиозное издательство), дополнительно сверены по изданию «Император Юлиан. Полное собрание творений» (СПб.: Издательский проект «Quadrivium», 2016), где опубликованы под редакцией Т. Сидаша. За консультацию о трудах Юлиана переводчик благодарит д. ф. н., проф. Р. Светлова.
С. 118–119. Они чтят мощи мучеников, «прибавив к старому трупу свежие трупы. Можно ли достойным образом оценить эту мерзость?». – Выражение «прибавив к старому трупу свежие трупы» А. Ранович комментирует так: «То есть к почитанию трупа Иисуса прибавив культ святых».
С. 119. Иисус наказывал им продать все свое имущество и раздать выручку бедным. – Ср.: «Продавайте имения ваши и давайте милостыню» (Лк. 12: 33); «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19: 21).
Послушайте, какое прекрасное и общественно полезное повеление: «Продайте имения ваши и давайте милостыню; приготовляйте себе влагалища неветшающие». Можно ли придумать что-либо мудрее этой заповеди? Ведь если все тебя послушаются, кто будет покупателем? Можно ли хвалить такое учение? Если б оно получило силу, не осталось бы ни города, ни народа, ни единого дома; как может сохранить ценность дом или имущество, если все продано? А что, если все сразу во всем государстве начнут продавать, они не найдут покупателей, – очевидно, и я об этом умолчу. – Так звучит фрагмент второй книги «Против галилеян» в переводе А. Рановича. То же в переводе Т. Сидаша (из вышеупомянутого сборника «Император Юлиан. Полное собрание творений»): «Послушайте прекрасное политическое распоряжение. „Продайте, что имеете, и дайте нищим. Сотворите себе кошельки не изнашивающиеся“. Может ли кто-нибудь изречь заповедь более политичную? Допустим, все люди поверят тебе, [Иисус,] кто тогда будет покупать? Почему кто-то хвалит это учение? Если бы оно возобладало [в общественной жизни], то ни полис, ни народ, ни один дом не остались бы вместе [всякое общество атомизировалось бы]. Ибо как может иметь ценность состояние или семья, если все продано [– и имущество и домочадцы]. К тому же, если весь полис ринется продавать, покупателей не найдется. Это очевидно, не буду говорить об этом».
С. 121. Для Юлиана было самоочевидным, что поборникам этой религии нельзя доверять преподавание эллинистической философии. «Если у кого-нибудь в чем-либо, самом малом, есть расхождения между мыслью и словом, то все равно это зло, хотя и терпимое; но если кто в величайших вещах думает одно, а учит другому, противоположному своим мыслям, то разве это не образ действий торгашей, причем не дельных торговцев, а самых негодных людей?» – Юлианов «Эдикт, запрещающий христианам преподавать» цитируется в переводе Д. Фурмана по изданию: Император Юлиан. Письма // Вестник древней истории. № 2 (112), 1970.
Вдобавок эти парвеню-галилеяне проявляли истерическую натуру, что подтверждается их пристрастием к мученичеству; по словам Юлиана, они «ищут смерти, надеясь, что полетят на небо, если насильственно оборвут свои жизни». – Письмо Юлиана к жрецу цитируется в переводе Д. Фурмана по изданию: Император Юлиан. Письма // Вестник древней истории. № 3 (113), 1970.
С. 122. Я всегда был так кроток и человеколюбив ко всем галилеянам… что никогда не допускал насилия по отношению к кому-нибудь из них… – Послание «Юлиан жителям Эдессы» цитируется в переводе Д. Фурмана по изданию: Император Юлиан. Письма // Вестник древней истории. № 3 (113), 1970.
Убеждать и поучать людей надлежит не кулаками, не оскорблениями и не физическим насилием, а разумными доводами… Скорее жалости, чем злобы, достойны те, кто заблуждается в делах величайшей важности. – Послание «Юлиан бострийцам» от 1 августа 362 г. цитируется в переводе Д. Фурмана по изданию: Император Юлиан. Письма // Вестник древней истории. № 3 (113), 1970.
С. 123. По той же причине в начале своего правления Юлиан выказывал «изощренную милость», призывая к себе «епископов, сосланных Констанцием. Те были арианами, и он развязывал им руки в том, что касалось Церкви». – Цитируется эссе Анатоля Франса «Император Юлиан» (см. с. 172–174).
Как выразился историк и воин Аммиан Марцеллин, Юлиан «знал по опыту, что дикие звери не проявляют такой ярости к людям, как большинство христиан в своих разномыслиях». – «Римская история» Аммиана Марцеллина здесь (XXII.5.4) и далее цитируется в переводе Ю. Кулаковского и А. Сонни, опубликованном в 1906–1908 гг., с необходимыми изменениями.
С. 124–125. Внешность его была такова… быстр в беге. – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.4.22.
С. 125. Когда ему выпадали нежданные военные успехи в далекой Галлии, придворные из окружения Констанция насмешничали: «„Противен стал со своими победами этот двуногий козел“, намекая на его длинную бороду, называли его болтливым кротом, наряженной в пурпур обезьяной, греческим пустомелей». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XVII.11.1.
«Вместо победных триумфов появились столовые торжества», – подмечал Аммиан. – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.4.5.
Воины забыли о дисциплине: «солдаты разыскивали кубки более тяжелые, чем их мечи», «не камень, как прежде, был постелью для воина, но пуховики и складные кровати», «вместо бранного клича солдат распевал развратные песенки». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.4.6.
«Я приказал позвать не придворного кассира, а брадобрея», – бросил император с притворным удивлением. 〈…〉 Немедля «Юлиан отправил в отставку всех таких людей, а также поваров и других подобных, обычно получавших такое же вознаграждение, как людей, мало ему нужных». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.4.9–10.
С. 126. «Круглоголовый» против «кавалера»… – Отсылка к Английской революции 1639–1660 гг. Старый феодальный порядок поддерживали «кавалеры», сторонники монархической формы правления, а новый капиталистический строй и власть Парламента – «круглоголовые» (то есть не носившие длинных волос и париков) во главе с Оливером Кромвелем (1599–1658).
…пуританин против паписта. – Пуританизм – реформационное движение в Англии и Шотландии XVI–XVII вв., настаивавшее на «очищении» англиканской церкви от «папизма» – элементов католической догматики и обрядности.
В числе сановников второго ранга бунтарями «были убиты начальник монетного двора Драконций и некто Диодор». Второму поставили в вину среди прочего то, что он, «заведуя постройкой церкви, очень ревностно стриг волосы подросткам, полагая, что длинные волосы имеют отношение к культу богов». Поименованных христиан «волокли по улицам, связав ноги веревками», а затем «бесчеловечная толпа возложила растерзанные трупы убитых на верблюдов, отвезла их на берег моря и, предав немедленно огню, бросила в море пепел» из опасения, что «христиане, собрав их останки, воздвигнут им церкви». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.11.9–10.
С. 127. «Мертвые препятствуют мне говорить, но ты разрушь гробницы, выкопай кости, перенеси мертвых». – Иоанн Златоуст. Похвалы святым. О святом священномученике Вавиле. Цит. по: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание Санкт-Петербургской духовной академии, 1902.
С. 127–128. …нескольких христиан арестовали и «пытали хлыстами и железными когтями». – Здесь Барнс цитирует рассказ «Дом Аполлона» («The House of Apollo») из сборника американского писателя Дэвида Бентли Харта «Дьявол и Пьер Герне» («The Devil and Pierre Gernet», 2012).
С. 128. …храм Аполлона сгорел дотла; огонь превратил в пепел деревянное изваяние – все тринадцать метров. Подозрение, конечно же, пало на христиан (притом что виновником пожара мог с равной степенью вероятности стать и язычник, небрежно обращавшийся с восковыми свечками). – Ср.: «Был, однако, ничем, правда, не доказанный слух, будто храм сгорел по следующей причине: философ Асклепиад… прибыл издалека с целью повидать Юлиана и остановился в этом предместье. Он поставил у ног большой статуи маленькое серебряное изображение Небесной богини, которое повсюду носил с собой, и, возжегши, по обычаю, перед ним восковые свечи, ушел из храма, а после полуночи, когда никого не было в храме и никто не мог прийти на помощь, вылетавшие искры упали на старое дерево, вспыхнувший в сухом материале огонь разгорелся и пожрал все до самого верха здания» (Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.13.3).
Его обзывали бородатым карликом, обезьяной, а за жертвоприношения животных дали ему прозвище Мясник. – Ср.: «Его называли в насмешку Кекропсом (обезьяной), карликом, который выставляет вперед свои узкие плечи и свою козлиную бородку… называли его не почитателем богов, а виктимарием, так как многие высмеивали его частые жертвы. Эти насмешки попадали в цель, так как он, желая выставить напоказ свое усердие, сам подносил вместо жрецов священную утварь и совершал моления, окруженный толпой женщин» (Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.14.3).
С. 129. Не умалчивает он и о наследственности: «имею в виду поистрийских мизийцев, из которых происходит и мой род, всецело дикий и кислый, неловкий, нелюбовный, непреклонный в суждениях, – все эти качества суть, конечно же, доказательства ужасающей дикости». – Здесь и далее сатира Юлиана «Антиохийцам, или Брадоненавистник» [«Мисопогон»] цитируется в переводе Т. Сидаша по изданию: Император Юлиан. Сочинения (СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007).
…феакийцев, предпочитавших благочестию «свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе». – Ср.:
Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску,
Свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе.
Но пригласите сюда плясунов феакийских…
С. 132. …по словам Гиббона, «их жилища, наполненные продуктами грабежа и съестными припасами, были заняты солдатами Юлиана, безжалостно и безнаказанно умертвившими несколько беззащитных женщин». – Здесь и далее «История упадка и разрушения Римской империи» (том 3, глава XXIV) цитируется в переводе В. Неведомского, опубликованном в 1883–1886 гг. и доработанном Санкт-Петербургским отделением издательства «Наука» в 1997–2000 гг.
С. 134–135. «Открывает грядущее и дух человеческий… сжигаемые мощным пламенем». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI.1.11.
С. 135. Кроме того, приходилось еще и толковать сновидения. Здесь Аммиан вторит Аристотелю: «Можно было бы вполне и без всяких сомнений полагаться на сны, если бы истолкователи не ошибались в объяснениях. Иногда, как утверждает Аристотель, сны вполне достоверны, а именно: когда зрачок крепко спящего человека, не отклоняясь ни в ту ни в другую сторону, смотрит совершенно прямо». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI.1.12.
Как писал Цицерон, «знамения будущего даются нам богами. Если кто ошибся в них, то причина погрешности не в богах, а в человеческом толковании». – Ср.: «Прекрасно, как всегда, высказался по этому поводу Туллий (Цицерон): „Знамения будущего даются нам богами. Если кто ошибся в них, то причина погрешности не в богах, а в человеческом толковании“» (Аммиан Марцеллин. Римская история. XXI.1.14). Также ср.: «Если ошиблись в [понимании] их, то виною тому не боги, а люди, толковавшие эти предзнаменования» (Марк Туллий Цицерон. Философские трактаты. О природе богов. Книга II. Перев. М. Рижского).
С. 136. …Юлиан сделал остановку в Дакии, где «ревностно предавался исследованию внутренностей жертвенных животных и наблюдал полет птиц». Ответы, отнюдь не впервые, были «сомнительны и неясны». – «…Юлиан среди множества разнообразных дел в Иллирике ревностно предавался исследованию внутренностей жертвенных животных и наблюдал полет птиц, стараясь узнать наперед исход событий; но ответы были сомнительны и неясны, и он пребывал в безвестности относительно будущего» (Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.1.1).
С. 137. «Однако слишком уж часто и обильно, – пишет Аммиан, – он поливал жертвенники кровью животных: иной раз он закалывал по сто быков, без счета приносил в жертву множество разного скота и белых птиц, которых отыскивали на суше и на море». Фанатизм или военная хватка? В любом случае эти действия граничили с комизмом: «каждый почти день можно было видеть, как наедавшихся без меры мяса и напившихся до бесчувствия солдат после оргий в лупанариях тащили по улицам в казармы на своих плечах прохожие». – Ср.: «Однако слишком уж часто и обильно он поливал жертвенники кровью животных: иной раз он закалывал по сто быков, без счета приносил в жертву множество разного скота и белых птиц, которых отыскивали на суше и на море, так что каждый почти день можно было видеть, как наедавшихся без меры мяса и напившихся до бесчувствия солдат тащили по улицам в казармы на своих плечах прохожие из общественных зданий с пиров, которые следовало бы скорее запретить, чем допускать» (Аммиан Марцеллин. Римская история. XXII.12.6).
С. 138. …девять, еще не будучи подведены к жертвенникам, сами жалостно простерлись на земле, а десятый оборвал веревку и убежал. 〈…〉 «И он сдержал свою клятву, похищенный вскоре смертью». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.6.16.
С. 139. …он увидел, как рассказывал об этом приближенным, в смутных очертаниях образ Гения римского государства, который он видел в Галлии, когда принимал верховную власть. 〈…〉 …но «император отверг всякую науку предсказаний». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.2.3–8.
«Звезды прочат нам злой фарс: / Летом в Землю врежется Марс». / «Кто б мог подумать?» – Дуэт из киномюзикла «Высшее общество» (1956, реж. Ч. Уолтерс, по пьесе Ф. Бэрри «Калифорнийская история») в исполнении Фрэнка Синатры и Бинга Кросби. Автор текста и музыки Коул Портер.
С. 142. …обречь христиан на «сильные и длительные мучения», раздавить под грузом камней… – «Сильные и длительные мучения» (букв. перевод заимствованного французского термина «peine forte et dure») – в англосаксонской системе права разновидность пыток, применявшихся к тем обвиняемым, которые отказывались признавать свою вину. На грудь обвиняемого помещали доску, на которую постепенно укладывали тяжелые камни, что нередко приводило к смерти.
С. 143–144. «Не сдержал обещания, – пишет Феодорит, – и не помог ему могущественный в брани Арей, ложным оказалось пророчество Локсия, и молниеносец не поразил перунами убийцы. Вот хвастовство угроз простерто на земле! Кто нанес Юлиану этот праведный удар, и доселе еще никому не известно». – «Церковная история» блаженного Феодорита, епископа Кирского, цитируется по переводу с греческого, сделанному при Санкт-Петербургской духовной академии и опубликованному в 1852 г.
С. 145. Как выразился Артур Хью Клаф: «Других богов не почитай: к чему / Молиться двум, коль можно одному?» – Из сатирического стихотворения Артура Хью Клафа (1819–1861) «The Latest Decalogue» («Современный декалог»), в котором по-новому осмысляются десять заповедей. Цит. по: Джулиан Барнс. «Непоэтичный Клаф» // За окном. М.: Эксмо, 2013. Перев. Е. Петровой.
С. 146. В своей патетической предсмертной речи (почти наверняка придуманной Аммианом) Юлиан замечает, что «всякое отделение лучшего элемента от худшего должно внушать радость, а не скорбь». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.3.15.
С. 146–147. …«С благодарностью склоняюсь я перед вечным богом за то, что ухожу из мира не из-за тайных козней, не от жестокой и продолжительной болезни…» – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.3.19.
С. 147. …Юлиан «властным тоном порицал» присутствующих за их слезы, «говоря им, что не достойно оплакивать государя, приобщенного уже к небу и звездам». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXV.3.22.
С. 148. В 1491 году Лоренцо Медичи сочинил пьесу, в которой Юлиан уже выведен в качестве не столько средневекового чудовища, сколько трагически погибшего героя эпохи Возрождения. – Мистерия «Святой Иоанн и Павел» была впервые поставлена за год до смерти Лоренцо Великолепного (1449–1492) и посвящалась его сыновьям.
С. 149. Свое эссе Монтень начинает с упоминания именно о «той распре, из-за которой Францию наших дней терзают гражданские войны». – Здесь и далее эссе «О свободе совести» цитируется в переводе А. Бобовича.
С. 156. …подобно королю Франции, торгующему своей солью… – Соляной налог (габель) существовал во Франции в 1286–1790 гг.
Те, кто нынче ратует за короля Якова, не знают, как видно, «ничего ни о Парижском венчании, ни о Пороховом заговоре, ни об Ирландской резне». – Парижское венчание – неугодный брак гугенота Генриха Наваррского, будущего короля Франции Генриха IV, с католичкой Маргаритой Валуа 18 августа 1572 г., следствием которого стала печально известная Варфоломеевская ночь – массовая резня гугенотов в Париже 24 августа 1572 г.
Пороховой заговор 1605 г. – неудачная попытка группы английских католиков во главе с Гаем Фоксом взорвать здание парламента с целью убийства британского короля Якова I во время произнесения им тронной речи.
Ирландская резня – серия учиненных ирландскими католиками нападений на протестантские поселения в первые месяцы Ирландского восстания 1641 г. Крупнейшим и самым кровавым событием начала столкновений считается резня в Портадауне в ноябре 1641 г., когда ирландские повстанцы-католики убили около 100 поселенцев-протестантов, столкнув их с моста в реку Банн и расстреляв тех, кто пытался выбраться на берег.
Это сочинение принесло Джонсону прозвище Юлиан Джонсон и спровоцировало выход таких полемических отповедей, как «Иовиан» и «Констанций Отступник». – С Джонсоном полемизировали среди прочих Джордж Хикс в трактате «Иовиан» («Jovian», 1683), пропагандировавшем пассивное сопротивление, и Джон Беннет в трактате «Констанций Отступник» («Constantius the Apostate», 1683). К слову сказать, сам Джонсонов трактат явился реакцией на проповедь Хикса «Рассуждение о верховной власти» («A Discourse of the Sovereign Power», 1682).
…неумелое усекновение головы, осуществленное Джеком Кетчем… – Джек Кетч (ум. 1686) – палач, служивший английским королям Карлу II и Якову II в 1663–1686 гг. и работавший нарочито халтурно: тупым топором, отрубая голову не с одного удара и т. п.
С. 157. «Мой Сократ»… «Мой Траян»… – Сократ (469–399 до н. э.) – величайший античный философ; в исторической памяти человечества – идеал истинного мудреца. Траян (53–117) – римский император, правивший в 98–117 гг.; полководец, просвещенный правитель. Траян не остановил полностью, но значительно ослабил гонения на христиан.
С. 158. …упомянуть Монтескьё. В своем сочинении «О духе законов» (1748) он дает высокую оценку стоикам… – Здесь и далее трактат Монтескьё «О духе законов» цитируется в переводе А. Горнфельда, впервые опубликованном в 1900 г.
…дает высокую оценку стоикам: «Если бы я мог на минуту забыть, что я христианин, я бы признал уничтожение школы Зенона одним из величайших несчастий, постигших человечество». – Зенон Китийский (ок. 334 – ок. 262 до н. э.) преобразовал учение киников в стоицизм (по названию «стои», или портика, где он преподавал). Стоики учили, что счастье заключается в мудрости и добродетели, то есть в верном понимании добра и зла и в господстве над всеми страстями и неразумными влечениями. Стоицизм пережил упадок после того, как христианство стало государственной религией Римской империи в IV в.
С. 160. После стодвадцатилетнего промежутка… 〈…〉 …вероотступник Юлиан любил свое отечество и был достоин всемирного владычества. – Здесь и далее «История упадка и разрушения Римской империи» (том 2, главы XXII, XXIII) цитируется в переводе В. Неведомского, опубликованном в 1883–1886 гг. и доработанном Санкт-Петербургским отделением издательства «Наука» в 1997–2000 гг.
С. 163. …с искусством самого опытного гаруспика… – Гаруспик – древнеримский жрец, гадавший по внутренностям жертвенных животных, особенно часто – по печени. Лучшими гаруспиками в Риме считались этруски, у которых был заимствован этот вид гадания – гаруспиции.
С. 165. До ренегатства мне не дорасти… – Посвящение к поэме Дж. Г. Байрона «Дон Жуан» цитируется в переводе Т. Гнедич.
«Я вложил в эту книгу часть пережитого мной, – писал он своему английскому другу и стороннику Эдмунду Госсу. – То, что я здесь описываю, я сам в той или иной форме пережил, и самый выбор темы находится в более близкой связи с течениями нашего времени, нежели можно усмотреть сразу». – Письмо Ибсена английскому писателю и литературному критику Эдмунду Уильяму Госсу (1849–1928) от 14 октября 1872 г. цитируется в переводе А. и П. Ганзен, В. Адмони.
С. 168–169. …Джойс вновь отдал дань уважения писателю, на сей раз – в своем романе «Поминки по Финнегану», где содержится более шестидесяти каламбуров, обыгрывающих имя драматурга и названия его пьес, например: «Для пэров и джентов, цензряшных и причинодралов, франтоузников мирских строчек и дряхлых едкобаев». Выражение «цензряшных и причинодралов» («quaysirs and galleyliers») содержит каламбур на «Kejser og Galilaeer» – исходное норвежское наименование «Кесаря и Галилеянина». – Цитируется перевод А. Рене (глава 3, эпизод 5), озаглавленный «На помине Финнеганов».
С. 169. Скажите царю – разрушен сей дом непорочный… И пророческий лавр больше в руках не цветет. – Здесь и далее стихотворение А. Ч. Суинберна «Последний оракул» цитируется в переводе Э. Ермакова.
С. 171. Будущий император «с негодованием противопоставлял изнеженности сирийцев храбрость и честную простоту галлов». И вообще единственное, что бросало тень на местные обычаи, – это «страсть к спиртным напиткам». – Ср.: «Он с негодованием противопоставлял изнеженности сирийцев храбрость и честную простоту галлов и почти готов был извинить страсть к спиртным напиткам, которые были единственным пятном на характере кельтов» (Э. Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Том 2, глава XIX).
С. 172. Ренану христианство виделось высшей формой монотеизма, и попытки Юлиана возродить старую религию представлялись «бессодержательным капризом». – Книга Эрнеста Ренана «Марк Аврелий и конец античного мира» (1882) – заключительный том семитомника «История первых веков христианства» – цитируется в переводе В. Обручева, опубликованном в 1907 г.
С. 172–173. «Юлиан явил миру уникальное зрелище: толерантного фанатика». – Из статьи Анатоля Франса «Император Юлиан», вышедшей на страницах газеты «Le Temps» в 1891 г. в его персональной рубрике «Литературная жизнь». Позднее коллекция критических статей была опубликована в четырехтомнике под тем же заголовком.
С. 174. …у Никоса Казандзакиса обнаружилась непереведенная пьеса, которая выдержала ровно один показ в Париже – в 1948 году. – Пьеса так и называлась: «Юлиан Отступник».
Том Ганн – псевдоним англо-американского поэта, критика Томсона Уильяма Ганна (1929–2004).
Кавафис, Константинос (1863–1933) – греческий поэт, оказавший заметное влияние на современную европейскую поэзию и литературу в целом.
С. 175. Но в сторону Клеона Рангависа и Дмитрия Мережковского я косился с опаской, да и в знакомстве с Мишелем Бютором и Гором Видалом далеко не продвинулся. – Клеон Ризос Рангавис (1842–1917) – греческий поэт, драматург и дипломат, автор пьесы «Юлиан Преступник» (1862). Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) – русский писатель и поэт, религиозный философ, автор исторического романа «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895), первого в трилогии «Христос и Антихрист». Мишель Бютор (1926–2016) – французский писатель, яркая фигура в движении «нового романа»; главный герой его романа «Изменения» (1957) читает послания Юлиана Отступника и упоминает «церковь Сорбонны и ее безлюдную площадь, руины, именуемые термами Юлиана Отступника, хотя, вероятно, термы были выстроены еще до рождения этого императора» (перев. С. Тархановой, Ю. Яхниной). Роман американского писателя Гора Видала (1925–2012) «Император Юлиан» (1964) уже упоминался в примеч. к с. 116. Также см. с. 221–225.
Если Юлиан, по мнению некоторых, действительно отличался фанатичностью, то заинтересовался им не кто иной, как фанатик из фанатиков. Гитлер. Цитирую его «Застольные беседы»… – Существующие переводы этого сочинения (Генри Пикер. Застольные разговоры Гитлера (1993) и Хью Тревор-Роупер. Застольные беседы Гитлера (2003)) внесены на территории РФ в список экстремистских материалов.
С. 179. Изо всего, что сделал и сказал я, / пусть не пытаются понять, каким я был. – Здесь и далее стихотворение «Скрытые вещи» Константиноса Кавафиса цитируется в переводе В. Некляева.
С. 189. В Юлиане есть нечто от Кромвеля… 〈…〉 С бородавками и всем прочим. – Фраза, адресованная, по преданию, Оливером Кромвелем своему портретисту, стала крылатым выражением и в переносном смысле обозначает «без прикрас». Обычно употребляется в отношении правдивых портретов и жизнеописаний.
Рассмотрим тот эпизод, где он выговаривает портретисту, приукрасившему его внешность: «Почему же, друг, ты придал мне чужой образ? Каким меня видишь, таким и пиши». – Обрывочное письмо Юлиана «К художнику» цитируется в переводе Т. Сидаша по изданию «Император Юлиан. Полное собрание творений» (СПб.: Издательский проект «Quadrivium», 2016), раздел «Фрагменты».
С. 190. После штурма и разграбления Маогамалхи в 363 году Юлиан отказался от своей доли трофеев. Он «взял себе немого мальчика, умевшего выразить все, что понимал, изящными жестами, и три золотые монеты как приятную и радостную, по его представлениям, награду за одержанную победу». – Аммиан Марцеллин. Римская история. XXIV.4.26.
С. 201. …газетенка с задворков Флит-стрит выпустила номер с двумя фотографиями на первой полосе: на одной Э. Ф., застигнутая у собственного порога, усталая и встревоженная, а на другой – «гламурная модель»… Ниже шла текстовка: «Спрашивается, кто из этих двух больше смыслит в любви и сексе: проф. Лиз или Леденцовая Линзи? Решать вам». – Вся история с «Травлей» Элизабет Финч из-за лекции, прочитанной ею под эгидой «Лондонского книжного обозрения», отсылает к раздутому британской «желтой прессой» скандалу вокруг опубликованной на сайте «Лондонского книжного обозрения» лекции писательницы и дважды лауреата Букеровской премии Хилари Мантел «Royal Bodies» (2013) о супругах британских королей и принцев, а особенно – о том их образе, который тиражируют и эксплуатируют СМИ; среди прочего в лекции говорилось, что герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон выбрали на роль супруги принца из-за «ее безукоризненности», «отсутствия индивидуальности» (по сравнению, например, с принцессой Дианой) и «лишь для того, чтобы плодить потомство». Раздувая скандал, таблоиды, скажем, предлагали читателям выбрать, кого те поддерживают: Кейт Миддлтон, с ее модельной внешностью, или Хилари Мантел, с ее лишним весом и бездетностью, вызванными эндометриозом.
С. 202–203. …издательство… принадлежит, равно как и упомянутая газетенка, миллиардеру, который скрывается за границей от налогов. – Имеется в виду медиамагнат австралийского происхождения Руперт Мёрдок (р. 1931), с 1974 г. живущий в США. Его «News Corporation» владеет более чем 800 компаниями в 50 странах – газетами, журналами, издательствами, киностудиями, телеканалами и т. п. (в том числе британскими таблоидами «Sun» и «News of the World», газетами «The Times» и «The Sunday Times», издательством «HarperCollins»).
С. 206. …«ту любовь, что о себе молчит»… – Ср.: «Я – та Любовь, что о себе молчит». Заключительная строка стихотворения Альфреда Дугласа «Две любви» (перев. А. Лукьянова). Имеется в виду гомосексуализм: английский поэт и переводчик лорд Альфред Дуглас (1870–1945) наиболее известен как близкий друг и любовник Оскара Уайльда.
С. 210–211. Новый способ умирать придумали люди… 〈…〉 «Затем, решив, что тот умер, стражники ушли». – Иаков Ворагинский. Золотая легенда. Том 1. Глава XXIII. О святом Себастьяне. Перев. И. Аникьева. М.: Издательство францисканцев, 2017.
С. 216. …текст вывесили неподалеку от дворца, на Слоновьей арке, «дабы все прочли и переписали». 〈…〉 Вероятно, Юлиан написал это произведение главным образом для того, чтобы потешить себя и своих приближенных, и это роднит его деяние с «псевдоречами поздней Античности, которые не оглашались вслух и не предназначались для этой цели». – Здесь цитируется монография американского историка Роберта Браунинга «Император Юлиан» («The Emperor Julian», 1975). Также см. с. 221.
С. 218. …саркастически вторит Гиббон: «Мы должны сознаться, что во время своих внутренних раздоров христиане причинили одни другим гораздо более зла, чем сколько они потерпели от усердия неверующих». – Э. Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Том 2, глава XVI.
С. 221. …Отступник стал героем двух опер… другую – композитор из России Лазарь Саминский (написана в тридцатые годы, но опубликована только в 1959-м). – Лазарь Семенович Саминский (1882–1959) – российско-американский композитор и музыковед, исследователь еврейского фольклора, ученик Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова. Речь идет о его опере «Поражение цезаря Юлиана (Christus Vincit)».
С. 222. …«пустынные тротуары, витрины запертых магазинов… церковь Сорбонны и… руины, именуемые термами Юлиана Отступника, хотя, вероятно, термы были выстроены еще до рождения этого императора». – Здесь и далее роман Мишеля Бютора «Изменение» цитируется в переводе С. Тархановой и Ю. Яхниной по изданию: Мишель Бютор. Изменение. Ален Роб-Грийе. В лабиринте. Клод Симон. Дороги Фландрии. Натали Саррот. Вы слышите их? М.: Художественная литература, 1983.
«…руины, именуемые термами Юлиана Отступника, хотя, вероятно, термы были выстроены еще до рождения этого императора». И правда, мой старый путеводитель Бедекера подтверждает, что это остатки дворца, построенного между 292 и 306 годами императором Констанцием Хлором, и что именно там «солдаты провозгласили Юлиана своим императором в 360 году». – Большинство историков сейчас все же полагает, что Юлиан был провозглашен императором во дворце, расположенном не на левом берегу Сены, а на острове Сите. Также см. след. примеч.
С. 222–223. …мимо «стен из камня и кирпича, оставшихся от терм, в которых бывал Юлиан Отступник, – единственного осколка его „любезной Лютеции“, – впрочем, одного этого факта вполне достаточно, чтобы навсегда связать его имя с этими руинами». – Бютор здесь ссылается на следующее место из «Брадоненавистника»: «Случилось мне как-то зимовать в любимой Лютеции – так кельты называют городишко Паризиев. Это маленький остров, лежащий в реке, он полностью окружен стеной, деревянные мосты ведут к нему с обоих берегов».
С. 226. Барнсли – город в графстве Южный Йоркшир.
А. Гузман, Е. Петрова, З. Смоленская