Книга: Призрак Оперы
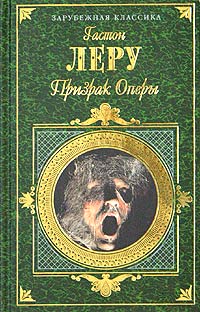
Призрак Оперы
Моему приятелю Жо, который, конечно же, не призрак и тем не менее, подобно Эрику, – самый настоящий Ангел музыки.
в котором автор этого необычного произведения рассказывает читателю, каким образом ему довелось удостовериться в том, что Призрак Оперы действительно существовал
Призрак Оперы существовал. Он не был, как долгое время думали, порождением воображения артистов и суеверия директоров, беспочвенной выдумкой разгоряченных умов девиц из кордебалета и их мамаш, билетерш, служащих гардероба и консьержки.
Нет, он существовал во плоти, хотя и придавал себе видимость самого настоящего призрака, то есть тени.
Как только я стал наводить справки в архиве Национальной академии музыки[1], меня с самого начала поразило удивительное совпадение странных явлений, которые связывали с присутствием Призрака, и событий, сопутствовавших одной из самых таинственных и фантастических драм, и вскоре я пришел к мысли о том, что можно, вероятно, разумно объяснить одно с помощью другого. От всего случившегося нас отделяет не больше тридцати лет, и было бы совсем нетрудно даже сегодня найти в самом танцевальном фойе весьма почтенных старцев, в чьих словах никто не посмеет усомниться, которые доподлинно вспомнят, словно все это происходило вчера, подробности загадочных и трагических обстоятельств, сопровождавших похищение Кристины Дое, исчезновение виконта де Шаньи и смерть его старшего брата графа Филиппа, чье тело обнаружили на берегу озера, находящегося в подвальной части театра Оперы со стороны улицы Скриба. Но до сего дня ни один из свидетелей не додумался заподозрить в причастности к этой ужасной истории персонажа, можно сказать, легендарного – Призрака Оперы.
Истина медленно прокладывала себе путь сквозь строй моих мыслей, смущенных расследованием, то и дело натыкавшимся на явления, которые на первый взгляд вполне можно отнести к разряду потусторонних, и я уже готов был отказаться от предпринятого мной труда, ибо, изнемогая, преследовал призрачный образ, ни разу так и не поймав его.
Но в конце концов мне удалось получить доказательство того, что мои предчувствия не обманули меня, и однажды я был вознагражден за свои усилия, удостоверившись, что Призрак Оперы отнюдь не был тенью.
В тот день я много часов провел, склонившись над «Мемуарами одного директора», легкомысленным творением великого скептика Моншармена, который за время своего недолгого пребывания в Опере так и не сумел разобраться в тайнах, окружавших Призрака, и даже имел неосторожность потешаться над ними в тот самый момент, когда сам стал жертвой прелюбопытной финансовой операции, свершившейся внутри «колдовского конверта».
Отчаявшись, я вышел из библиотеки и вдруг встретил премилого администратора нашей Национальной академии, болтавшего на лестничной площадке с очень живым, кокетливым старичком, которого он тут же с удовольствием и представил мне. Господин администратор был в курсе моих исследований и знал, с каким нетерпением я понапрасну пытался отыскать убежище господина Фора, судебного следователя по знаменитому делу Шаньи. Никто не ведал, что с ним сталось, жив он или умер, и вот теперь, по возвращении из Канады, где он, как выяснилось, провел пятнадцать лет, бывший судебный следователь первым делом отправился в секретариат парижской Оперы, чтобы получить право на бесплатное место. Ибо этот старичок и был господином Фором.
Большую часть вечера мы провели вместе, он рассказал мне все, что знал о деле Шаньи. За отсутствием доказательств ему в свое время пришлось признать безумие виконта и смерть его старшего брата результатом несчастного случая, однако он не сомневался, что между братьями произошла страшная драма из-за Кристины Дое. Но он так и не смог сказать мне, что сталось с Кристиной и виконтом. Когда же я завел речь о Призраке, он только посмеялся над этим. Хотя тоже был в курсе явлений, которые, казалось, свидетельствовали о существовании некоего исключительного человека, избравшего местом своего жительства один из самых таинственных уголков театра Оперы; ему также была известна история с «конвертом», однако во всем этом он не усмотрел ничего такого, что могло бы привлечь внимание должностного лица, которому поручили расследовать дело Шаньи, и потому едва выслушал показание одного свидетеля, явившегося по собственному почину, дабы заявить, что ему не раз доводилось встречаться с Призраком.
Персонаж этот, то есть свидетель, был не кто иной, как Перс – так весь Париж называл человека, которого хорошо знали завсегдатаи Оперы.
Следователь принял его за ясновидца.
Вы, конечно, понимаете, что меня страшно заинтересовала история с Персом.
Мне хотелось отыскать, если это еще было возможно, столь ценного и самобытного свидетеля. Удача сопутствовала мне, и я нашел его в маленькой квартирке на улице Риволи, где он и проживал с тех самых пор и где скончался через пять месяцев после моего визита.
Поначалу я отнесся к нему с недоверием, но когда Перс с детским простодушием рассказал все, что ему лично было известно о Призраке, и передал мне в полную собственность доказательства его существования, в том числе и странные письма Кристины Дое, письма, проливавшие ослепительный свет на ее ужасную судьбу, я уже не имел оснований сомневаться! Нет! Нет! Призрак не был мифом!
Я прекрасно знаю: мне ответят, что письма эти, возможно, вовсе не были подлинными, что они могли быть подделаны мужчиной, чье воображение наверняка питалось самыми обворожительными сказками, однако мне посчастливилось отыскать почерк Кристины, причем отнюдь не в пресловутой пачке писем, и, следовательно, заняться сравнительным изучением, которое избавило меня от всяких сомнений.
Кроме того, я навел справки относительно Перса и обнаружил, что он – человек честный, неспособный на какую-либо махинацию, которая могла бы ввести в заблуждение правосудие.
Впрочем, таково мнение самых именитых персон, причастных в какой-то мере к делу Шаньи и бывших друзьями этого семейства; я познакомил их со всеми своими документами, изложив те выводы, к которым пришел. С их стороны я получил благороднейшее поощрение и позволю себе в связи с этим привести лишь несколько строк, адресованных мне генералом Д.
«Сударь!
Сумею ли я уговорить вас предать гласности результаты вашего расследования? Я отлично помню, что за несколько недель до исчезновения великой певицы Кристины Дое и разразившейся затем драмы, которая повергла в траур все предместье Сен-Жермен, в танцевальном фойе много было разговоров о Призраке, и думается, что говорить о нем перестали лишь из-за этого дела, завладевшего тогда всеми умами. Однако, если возможно – а выслушав вас, я полагаю, что это именно так, – найти объяснение драмы при помощи Призрака, прошу вас, сударь, напомните нам снова о Призраке. Каким бы таинственным ни казался он поначалу, понять его все-таки легче, нежели ту мрачную историю, в которой злонамеренные люди пожелали усмотреть лишь смертельный раздор двух братьев, на самом деле обожавших друг друга всю жизнь…
Примите уверения и пр.».
И вот с моим досье в руках я снова исследовал обширные владения Призрака, гигантский монумент, где он основал свою империю, и все, что представало моим глазам, все, что открывал мой разум, неоспоримо подтверждало документацию Перса, а в довершение мои труды увенчала чудесная находка, положившая конец любым сомнениям.
Вы помните, как совсем недавно, когда копали в подвалах театра Оперы, дабы разместить там записанные на фонографе голоса артистов, кирка рабочих наткнулась на труп, так вот, я сразу же получил подтверждение тому, что это был труп Призрака Оперы. Я заставил удостовериться в том самого администратора, и теперь мне совершенно безразлично, что в газетах пишут, будто найдена одна из жертв Парижской Коммуны.
Несчастные, погибшие в подвалах Оперы во времена Коммуны, погребены в другой стороне; я скажу, где можно отыскать их скелеты: очень далеко от этого гигантского склепа, куда во время осады свозили всевозможные съестные припасы. Я напал на этот след в поисках останков Призрака Оперы, которые мне не удалось бы обнаружить, если бы не столь неслыханный случай захоронения живых голосов!
Но мы еще поговорим об этом трупе и о том, как следует с ним поступить. Теперь же хотелось бы завершить столь необходимое предисловие, поблагодарив скромных второстепенных персонажей, таких как комиссар полиции господин Мифруа (в свое время первым призванный констатировать исчезновение Кристины Дое), бывший секретарь господин Реми, бывший администратор господин Мерсье, бывший хормейстер господин Габриель и в особенности баронесса де Кастело-Барбезак, некогда звавшаяся «крошкой Мег» (и не стыдящаяся этого), самая очаровательная звезда нашего восхитительного кордебалета, старшая дочь почтенной госпожи Жири – ныне покойной, – бывшей билетерши ложи Призрака, все они оказали мне посильную помощь, и благодаря им я вместе с читателем в мельчайших подробностях вновь смогу пережить минуты чистой любви и несказанного ужаса[2].
Неужели это Призрак?
Тем вечером, когда господин Дебьенн и господин Полиньи, подавшие в отставку директора театра Оперы, устраивали по случаю своего ухода прощальное торжество, гримерную Сорелли, одной из лучших представительниц танца, внезапно заполонили с полдюжины девиц кордебалета. Станцевав «Полидевка», они устремились туда в величайшем смятении: одни неестественно громко смеялись, другие кричали от ужаса.
Сорелли, желавшая побыть какое-то время одна, дабы «повторить» приветственную речь, которую вскоре ей предстояло произнести в фойе в адрес господина Дебьенна и господина Полиньи, с досадой увидела эту ошалевшую толпу, ворвавшуюся вслед за ней. Повернувшись к своим подругам, она спросила о причине столь бурного волнения. И тогда крошка Жамм – носик, дорогой сердцу Гревена[3], небесно-голубые глазки, розовые щечки, лилейная грудка – объяснила эту причину дрожащим от страха голосом:
– Призрак! – И заперла дверь на ключ.
Гримерная Сорелли отличалась формальным и, пожалуй, весьма банальным изяществом. Высокое зеркало на ножках, диван, туалетный столик и шкафы составляли необходимую обстановку. На стенах – несколько гравюр: память о матери, знававшей прекрасные дни в прежней Опере на улице Лепелетье. Портреты Вестри, Гарделя, Дюпона, Биготтини. Эта гримерная казалась дворцом девочкам из кордебалета, размещавшимся в общих комнатах, где они проводили время, распевая, ссорясь, награждая тумаками парикмахеров и костюмерш и угощаясь черносмородиновой наливкой или пивом, а то и ромом, пока не прозвучит предупредительный звонок.
Сорелли была очень суеверна. Услыхав слова крошки Жамм о Призраке, она, вздрогнув, молвила:
– Вот дурочка! – И так как сама первая была готова поверить в призраков вообще и в Призрака Оперы в частности, пожелала сразу же все выяснить. – Вы видели его? – спросила Сорелли.
– Как вижу вас сейчас! – простонала крошка Жамм и упала на стул, не в силах больше держаться на ногах.
И тотчас крошка Жири – глаза-черносливенки, волосы как смоль, лицо смуглое, а сама – кожа да косточки – добавила:
– Если это он, то очень уж безобразен!
– О да! – хором подхватили танцовщицы и заговорили все разом.
Призрак предстал перед ними в виде господина в черном фраке, который вырос вдруг в коридоре, неизвестно откуда взявшись. Его появление было столь внезапно, что, казалось, он вышел из стены.
– Ах! – не выдержала одна из девиц, сохранявшая в какой-то мере хладнокровие. – Вам всюду мерещится Призрак.
И в самом деле, вот уже несколько месяцев в Опере все толковали об этом призраке в черном фраке, который разгуливал по всему зданию сверху донизу, ни с кем не разговаривая. Да к нему никто и не решался обратиться, к тому же стоило его увидеть, и он тут же исчезал, неведомо куда и как. Шагов его не было слышно – обычное дело для любого настоящего призрака. Поначалу все только веселились, насмехаясь над этим привидением в одежде светского человека или служащего похоронного бюро, однако вскоре легенда о Призраке приобрела в кордебалете колоссальный размах. Танцовщицы уверяли, будто сталкивались с этим сверхъестественным существом, становясь жертвами его злых чар. И те, кто громче всех смеялся, отнюдь не были самыми бесстрашными. Даже оставаясь невидимым, Призрак давал знать о своем присутствии то смешными, а то зловещими событиями, которые едва ли не всеобщее суеверие приписывало именно его влиянию. Случилось какое-нибудь несчастье, подружка подшутила над одной из девиц кордебалета, пропала пуховка для рисовой пудры? Во всем виноват был Призрак, Призрак Оперы!
А по сути, кто его видел? В Опере столько черных фраков, и это вовсе не обязательно призраки. Однако у того была одна особенность, не присущая остальным черным фракам. Под ним скрывался скелет.
Во всяком случае, так говорили девицы.
И вместо головы, разумеется, был череп.
Насколько этому можно было верить? Истина заключалась в том, что представление о скелете возникло после описания Призрака, сделанного Жозефом Бюке, старшим машинистом сцены, который действительно его видел. Он столкнулся – нельзя сказать «нос к носу», ибо у Призрака такового не было – с таинственным персонажем на маленькой лестнице, которая от рампы ведет непосредственно «в низы», в подвалы. Бюке успел заметить его в считаные доли секунды – ибо Призрак бросился бежать – и сохранил об этой встрече неизгладимое воспоминание.
Вот что рассказывал о Призраке Жозеф Бюке любому, кто готов был его выслушать:
«Он чудовищной худобы, и черный фрак болтается на нем, как на скелете. А глаза так глубоко запали, что с трудом можно различить неподвижные зрачки. И в общем-то видны лишь две огромных черных дыры, словно на черепе у мертвецов. Кожа, которая натянута на кости, как на барабан, вовсе не белая, а безобразно желтая; нос такой малюсенький, что в профиль совсем незаметен, отсутствие носа – вещь ужасная на вид. Три или четыре длинные темные пряди на лбу и за ушами – вот и вся шевелюра».
Напрасно Жозеф Бюке кинулся вдогонку за этим странным видением. Оно исчезло, словно по волшебству, и старший машинист сцены не сумел отыскать его следов.
Он был человеком серьезным, степенным, непьющим и не отличался живым воображением. Его словам внимали с изумлением и интересом, и тут же нашлись такие, кто стал утверждать, будто и они тоже видели черный фрак с черепом вместо головы.
Люди разумные, до которых дошел слух об этой истории, заявили сначала, что Жозеф Бюке стал жертвой одного из своих подчиненных, подшутившего над ним. Но затем последовали столь странные и необъяснимые события, что и умники заколебались.
Лейтенант-пожарный, безусловно, – человек отважный. Он ничего не боится и, главное, не боится огня!
Так вот этот самый лейтенант-пожарный[4], который отправился с обходом в подвалы и, судя по всему, зашел дальше обычного, внезапно снова появился на сцене – бледный, растерянный, с выпученными глазами, дрожащий в испуге – и едва не лишился чувств, упав на руки благородной мамаши крошки Жамм. А почему? Да потому, что увидел приближавшуюся к нему на уровне головы, но только без туловища, огненную голову! Хотя лейтенант-пожарный, как известно, огня не боится.
Звали лейтенанта-пожарного Папен.
Кордебалет был потрясен. Прежде всего эта огненная голова ни в коей мере не соответствовала описанию Призрака, данному Жозефом Бюке. Пожарного засыпали вопросами, потом еще раз расспросили старшего машиниста сцены, после чего девицы пришли к выводу, что у Призрака, видимо, несколько голов и он меняет их, как вздумается. Они, естественно, тотчас вообразили, что подвергаются величайшей опасности. Раз уж лейтенант-пожарный едва не лишился чувств, то что тут говорить о кордебалете: и у корифеев, и у молоденьких фигуранток, именуемых мышками, нашлось немало оправданий тому ужасу, который заставлял их бежать со всех ног, когда они оказывались у темной дыры какого-нибудь плохо освещенного коридора.
А посему, дабы уберечь прославленное сооружение от ужасных колдовских козней, Сорелли в окружении всех танцовщиц и даже мелюзги младших классов в трико на другой день после истории с лейтенантом-пожарным самолично положила на стол привратника в вестибюле, расположенном рядом с административным двором, подкову, до которой любому, кто входил в Оперу не в качестве зрителя, надлежало дотронуться, прежде чем ступить на первую ступеньку лестницы. Иначе легко было стать добычей таинственных сил, завладевших зданием от подвалов до чердачных помещений!
Подкову эту, как, впрочем, и всю историю целиком, я – увы! – не выдумал: ее и сегодня можно увидеть на столе в вестибюле возле комнаты привратника, если войти в Оперу через административный двор.
Таково вкратце было состояние умов этих девиц в тот вечер, когда мы вместе с ними проникли в гримерную Сорелли.
– Призрак! – воскликнула, стало быть, крошка Жамм.
Беспокойство танцовщиц все возрастало. В гримерной воцарилось тревожное молчание. Не слышно было ничего, кроме прерывистого дыхания. Наконец Жамм с выражением неподдельного ужаса бросилась в самый дальний угол и, прислонившись к стене, прошептала одно лишь слово:
– Слушайте!
И в самом деле, всем почудилось, будто за дверью раздался какой-то шорох. Но шагов не было слышно. Казалось, прошелестел легкий шелк, задев дверную филенку. И все.
Сорелли попыталась выглядеть менее трусливой, чем ее подруги. Подойдя к двери, она спросила слабым голосом:
– Кто там?
Но ей никто не ответил.
Тогда, чувствуя на себе пристальные взгляды, следившие за каждым ее движением, она заставила себя быть храброй и очень громко сказала:
– Есть кто-нибудь за дверью?
– О да! Да! Наверняка за дверью кто-то есть! – вскрикнула эта сушеная слива Мег Жири, геройски схватив Сорелли за газовую юбку. – Только не открывайте! Боже мой, не открывайте!
Но Сорелли, вооружившись стилетом, с которым никогда не расставалась, отважилась повернуть ключ в замочной скважине и открыть дверь, в то время как танцовщицы отпрянули назад, а кое-кто даже укрылся в туалете, и Мег Жири со вздохом прошептала:
– Мама! Мама!
Сорелли бесстрашно выглянула в коридор. Там было пусто; язычок пламени отбрасывал из своего стеклянного заточения неверный красный отблеск средь окружающего мрака, не рассеивая его. И танцовщица со вздохом облегчения поспешно закрыла дверь.
– Нет, – сказала она, – никого нет!
– А между тем мы все его видели! – снова заявила Жамм, боязливо занимая свое место возле Сорелли. – Должно быть, он бродит где-то там. Я ни за что не пойду переодеваться. Мы сейчас все вместе спустимся в фойе для «приветствия», а потом все вместе поднимемся.
С этими словами девочка благоговейно коснулась крохотного коралла, призванного отводить от нее беду. А Сорелли кончиком розового ногтя большого пальца правой руки украдкой нарисовала Андреевский крест на деревянном кольце, надетом на безымянный палец ее левой руки.
«Сорелли, – писал знаменитый журналист, – великая балерина, красавица со строгим и чувственным лицом, с похожей на ивовую ветку гибкой талией; ее обычно называют «прекрасным созданием». Светлые, чистого золота волосы обрамляют матовый лоб, а глаза сияют, словно два изумруда. Голова ее, будто султан, слегка покачивается на длинной, изящной, горделивой шее. Во время танца для нее характерно особое, неописуемое движение бедер, отчего по всему ее телу пробегает несказанной томности дрожь. Когда она поднимает руки и склоняется, собираясь начать пируэт, подчеркивая тем самым линию лифа, а наклон туловища в это время вырисовывает бедро этой прелестной женщины, подобное зрелище, по общему мнению, способно заставить человека пустить себе пулю в лоб и распроститься с мозгами».
Кстати о мозгах: считается доказанным, что у нее их вовсе не было. Но ей это не ставили в упрек.
– Дети мои, – снова обращается Сорелли к маленьким танцовщицам, – не пора ли опомниться!.. Призрак? Никто его, возможно, никогда не видел!..
– Нет-нет! Мы видели!.. Только что видели! – возразили крошки. – Он был во фраке и с черепом вместо головы, как в тот вечер, когда явился Жозефу Бюке!
– И Габриель тоже его видел! – добавила Жамм. – Не далее как вчера! Вчера после обеда, средь бела дня.
– Габриель, хормейстер?
– Ну да… Как! Вы этого не знали?
– И он был во фраке средь бела дня?
– Кто? Габриель?
– Да нет! Призрак!
– Конечно, во фраке! – заявила Жамм. – Сам Габриель мне это сказал. Потому-то он его и узнал. Вот как это случилось. Габриель находился в кабинете управляющего. Вдруг дверь распахнулась. И вошел Перс. А у Перса, сами знаете, «дурной глаз».
– Да, верно! – хором вторили маленькие танцовщицы и, представив себе образ Перса, тут же показали рожки Судьбе, вытянув указательный палец и мизинец, в то время как согнутые средний и безымянный пальцы прижимались к ладони большим.
– А Габриель такой суеверный! – продолжала Жамм. – Хотя всегда отменно вежлив и, когда видит Перса, просто преспокойно кладет руку в карман, чтобы потрогать ключи. Так вот, как только открылась дверь перед Персом, Габриель вскочил с кресла, на котором сидел, и бросился к замочной скважине в шкафу, чтобы успеть дотронуться до железа! По дороге, зацепившись за гвоздь, он разорвал полу своего пальто. А поторопившись уйти, ударился лбом о вешалку и набил огромную шишку; потом, попятившись внезапно, задел рукой за ширму у пианино; хотел опереться на пианино, но до того неудачно, что крышка упала ему на руки, прищемив пальцы; как сумасшедший, выбежал он из кабинета и, наконец, заспешив, спускаясь по лестнице, пересчитал спиной все ступеньки второго этажа. Я как раз проходила мимо вместе с мамой. Мы кинулись поднимать его. Он сильно расшибся, все лицо было в крови, мы даже испугались. Но он сразу заулыбался, воскликнув: «Благодарю тебя, Господи, за то, что так легко отделался!» Тут мы стали расспрашивать его, и он рассказал нам о своих страхах. А испугался-то он потому, что за спиной Перса стоял Призрак! Призрак с черепом вместо головы, каким описывал его Жозеф Бюке.
Конец истории, которую, с трудом переводя дух, торопливо, словно за ней гнался Призрак, поведала Жамм, встретили испуганным шепотом. И снова наступило молчание, которое нарушила крошка Жири, а Сорелли тем временем взволнованно полировала ногти.
– Жозефу Бюке лучше бы помолчать, – заявила сушеная слива.
– А почему он должен молчать?
– Так считает мама… – ответила Мег на этот раз едва слышно, оглядываясь по сторонам, словно опасаясь, что ее могут услыхать другие уши кроме тех, что находились рядом.
– А почему твоя мама так считает?
– Тише! Мама говорит, что Призрак не любит, когда ему досаждают!
– А почему твоя мама говорит это?
– Да потому что. Потому что ничего особенного…
Такая искусная уклончивость разожгла любопытство девиц, и они, окружив крошку Жири плотным кольцом, обуреваемые ужасом, склонились в едином порыве, умоляя ее объясниться. Заражая друг друга страхом, они получали острое удовольствие, от которого кровь стыла в жилах.
– Я поклялась ничего не рассказывать! – еле слышно пролепетала Мег.
Но они не оставляли ее в покое, истово пообещав хранить секрет, и Мег, горевшая желанием поведать то, что знала, начала в конце концов, не спуская глаз с двери:
– Так вот, это все из-за ложи…
– Какой ложи?
– Ложи Призрака!
– У Призрака есть ложа?
При мысли, что Призрак имеет собственную ложу, танцовщицы не могли сдержать охватившего их жуткого восторга, удивлению их не было предела. Они только вздыхали, повторяя: «Ах, боже мой! Рассказывай… Рассказывай…»
– Потише! – приказала Мег. – Это ложа первого яруса, да вы знаете, ложа номер пять на первом ярусе, у самой сцены с левой стороны.
– Не может быть!
– Точно вам говорю. А билетершей там – моя мама… Но вы клянетесь ничего не рассказывать?
– Ну конечно! Дальше!..
– Так вот, это и есть ложа Призрака… Туда больше месяца никто не приходил, кроме Призрака, разумеется, и в администрацию отдали распоряжение никому ее не сдавать…
– И Призрак действительно туда приходит?
– Ну конечно…
– Стало быть, кто-то все-таки приходит?
– Да нет же!.. Приходит Призрак, но там никого нет.
Крошки-танцовщицы переглянулись. Если Призрак являлся в ложу, его должны были видеть, раз на нем был черный фрак, а вместо головы – череп. Они попытались втолковать это Мег, но та возразила:
– В том-то и дело! Призрака не видно! У него нет ни фрака, ни головы!.. Все, что рассказывали о черепе и огненной голове, выдумки! Ничего такого у него нет… Его только можно слышать, когда он в ложе. Мама никогда его не видела, но зато слышала. Уж мама-то знает, ведь это она приносит ему программу.
Сорелли сочла своим долгом вмешаться:
– Жири, ты смеешься над нами?
Тут крошка Жири заплакала.
– Лучше бы я молчала. Если мама когда-нибудь узнает!.. И все-таки Жозеф Бюке напрасно лезет не в свое дело, что верно, то верно. Ему это принесет несчастье… Мама еще вчера вечером говорила…
В эту минуту в коридоре послышались тяжелые торопливые шаги и громкий голос:
– Сесиль! Сесиль! Ты здесь?
– Это мамин голос! – сказала Жамм. – Что случилось? – И она открыла дверь.
Почтенная дама, скроенная наподобие померанского гренадера, ринулась в гримерную и со стоном упала в кресло. Она в страхе таращила глаза, придававшие мрачное выражение ее лицу цвета обожженного кирпича.
– Какое несчастье! – проговорила она. – Какое несчастье!
– В чем дело? В чем дело?
– Жозеф Бюке…
– Ну что там с Жозефом Бюке?
– Жозеф Бюке умер!
Гримерная наполнилась удивленными возгласами, испуганными требованиями разъяснения…
– Да. Его только что нашли повешенным в третьем подвале!.. Но самое ужасное, – задыхаясь, продолжала несчастная почтенная дама, – самое ужасное то, что машинисты сцены, которые обнаружили его тело, уверяют, будто возле трупа слышны были какие-то звуки, похожие на погребальное пение!
– Это Призрак! – невольно вырвалось у крошки Жири, однако она тут же опомнилась и закрыла рот руками: – Нет!.. Нет!.. Я ничего не сказала!.. Я ничего не сказала!..
Вокруг нее все подружки тихонько повторяли в ужасе:
– Так и есть! Это Призрак!..
Сорелли побледнела…
– Ни за что я не сумею произнести приветственную речь, – молвила она.
Мамаша Жамм, осушив забытую на столе рюмку ликера, тоже высказала свое мнение: тут наверняка замешан Призрак…
Истина же заключается в том, что никто так никогда и не узнал, как умер Жозеф Бюке. Расследование, довольно поверхностное, не дало никаких результатов, если не считать вывода о естественном самоубийстве. В «Мемуарах одного директора» господин Моншармен, один из двух директоров, сменивших господина Дебьенна и господина Полиньи, так описывает случай с повешенным:
«Прискорбный инцидент нарушил небольшое торжество, устроенное господином Дебьенном и господином Полиньи по случаю их ухода. Я находился в директорском кабинете, когда туда внезапно вошел Мерсье – администратор. Он в панике сообщил мне, что в третьем подвальном этаже под сценой, между стропильной фермой и декорациями «Короля Лагорского», обнаружено тело одного машиниста сцены.
«Надо пойти снять его!» – воскликнул я.
Но пока я бегом спустился по ступенькам, а потом по приставной лестнице, у повесившегося уже не оказалось веревки!»
Вот, стало быть, какое событие господин Моншармен считает естественным. Человек висит на веревке, его собираются снять, а веревка исчезает. О! Господин Моншармен нашел тому весьма простое объяснение. Послушайте его:
«Тут как раз закончился танец, и корифеи с мышками поспешили принять меры предосторожности от сглаза». Небольшой штрих, и только. Вы представляете себе девочек кордебалета, которые спускаются по приставной лестнице и делят между собой веревку повесившегося быстрее, чем это можно описать? Несерьезно! Зато когда я обдумываю, в каком точно месте было найдено тело – в третьем подвальном этаже под сценой, – на ум мне приходит, что, возможно, у кого-то был интерес, чтобы эта веревка, сделав свое дело, исчезла. И позже мы увидим, прав ли я был, предположив такое…
Мрачная новость быстро распространилась по всему зданию Оперы, сверху донизу: ведь Жозефа Бюке здесь очень любили. Гримерные опустели, и молоденькие танцовщицы, собравшись вокруг Сорелли, словно испуганные овцы вокруг пастуха, направились в фойе по плохо освещенным лестницам и коридорам, торопливо семеня своими розовыми лапками.
Новая Маргарита
На первой площадке Сорелли столкнулась с поднимавшимся графом де Шаньи. Граф, обычно такой сдержанный, не скрывал своего восторженного волнения.
– Я шел к вам, – сказал граф, весьма галантно приветствуя молодую женщину. – Ах, Сорелли! Какой прекрасный вечер! А Кристина Дое… Какой триумф!
– Не может быть! – возмутилась Мег Жири. – Всего полгода назад она пела так, что уши вяли! Однако позвольте нам пройти, дорогой граф, – сказала девочка с шаловливым реверансом, – мы хотим узнать новости о несчастном человеке, которого нашли повесившимся.
Услыхав ее слова, проходивший мимо озабоченный администратор внезапно остановился.
– Как! Вам уже об этом известно, мадемуазель? – спросил он довольно резким тоном. – Ну что ж, только никому не говорите, в особенности господину Дебьенну и господину Полиньи, они ничего не должны знать! Их это сильно расстроит – в последний-то день!
Все направились к танцевальному фойе, уже заполненному людьми.
Граф де Шаньи оказался прав: ни одно торжество нельзя было сравнить с этим. Те, кому посчастливилось присутствовать на нем, до сих пор с волнением рассказывают о своих впечатлениях детям и внукам. Еще бы: Гуно, Рейер, Сен-Санс, Массне, Гиро, Делиб по очереди вставали за пульт и самолично дирижировали своими произведениями. Среди прочих звезд следует назвать Фора и Краусс, а кроме того, именно в тот вечер удивленному и очарованному всему Парижу явила себя в полном блеске та самая Кристина Дое, о таинственной судьбе которой я хочу поведать в этом произведении.
Гуно исполнил «Траурный марш»; Рейер – свою прекрасную увертюру к «Сигурду»; Сен-Санс – «Танец смерти» и «Восточные грезы»; Массне – никогда не звучавший раньше «Венгерский вальс»; Гиро – свой «Карнавал»; Делиб – «Медленный вальс Сильвии» и пиццикато из «Коппелии». Пели мадемуазель Краусс и Дениза Блох, первая – болеро из «Сицилийской вечерни», вторая – застольную из «Лукреции Борджиа».
Но истинный триумф выпал на долю Кристины Дое, исполнившей сначала несколько отрывков из «Ромео и Джульетты». Молодая артистка впервые пела это произведение Гуно, которое, впрочем, еще не было перенесено на сцену Оперы, а лишь восстановлено в «Опера комик» спустя долгое время после того, как было поставлено госпожой Карвало в бывшем «Театре лирик». Ах! Остается лишь пожалеть тех, кто не слышал Кристину Дое в роли Джульетты, не видел ее наивной грации, не содрогался при звуках ее ангельского голоса, не ощущал, как собственная душа вместе с ее душой устремляется ввысь над могилами веронских любовников:
«Господь, прости меня!»
Но все это ничто по сравнению с неземными интонациями, зазвучавшими в сцене тюрьмы и финального трио «Фауста», где она пела, заменив почувствовавшую недомогание Карлотту. Никто никогда не слыхивал и не видывал ничего подобного!
То была «новая Маргарита», которую раскрыла Дое, Маргарита небывалого великолепия и блеска.
Весь зал целиком, охваченный необычайным волнением, восторженными криками приветствовал рыдавшую Кристину, без сил упавшую на руки своих товарищей. Пришлось отнести ее в гримерную. Казалось, она отдала богу душу. Известный критик П. де Ст.-В. запечатлел незабываемое воспоминание об этой чудесной минуте в статье, которую так и назвал – «Новая Маргарита». Будучи сам великим артистом, он просто-напросто поделился своим открытием: это прекрасное и нежное дитя подарило в тот вечер зрителям не только свое искусство, но и сердце. А любому из приверженцев Оперы было известно, что сердце Кристины оставалось столь же чистым, как в пятнадцать лет, и П. де Ст.-В. заявлял:
«Дабы понять, что же произошло с Дое, приходится сделать вывод, что она впервые полюбила! Возможно, я проявляю нескромность, – добавлял он, – но лишь любовь способна сотворить подобное чудо, совершив ошеломляющее преображение. Два года назад мы слышали Кристину Дое на конкурсном экзамене в консерватории, она вселила в нас надежду. Но откуда сегодня взялось это возвышенное величие? Если оно не снизошло с небес на крыльях любви, мне остается думать, что оно послано адом и что Кристина, вроде мошенника Офтердингена, заключила договор с самим дьяволом! Тот, кто не слышал Кристину в финальном трио «Фауста», понятия не имеет о «Фаусте»: только восторженный голос и священное упоение чистой души не смогли бы достигнуть таких высот!»
Между тем некоторые зрители возмущались. Как могли скрывать от них подобное сокровище? До сих пор Кристина Дое была всего лишь приемлемым Зибелем рядом с чересчур заземленной блистательной Маргаритой Карлотты. И понадобилось непонятное, необъяснимое отсутствие Карлотты на праздничном гала-концерте, чтобы в той части программы, которая отводилась для испанской дивы, малютка Дое без всякой подготовки показала, на что она способна. И почему, лишившись Карлотты, господин Дебьенн и господин Полиньи обратились к Дое? Стало быть, они знали о ее скрытом даровании? А если знали, почему таили его? А она, почему она таила его? Вещь странная, но в настоящий момент у нее, как известно, не было учителя. Она не раз заявляла, что отныне будет работать одна. Все это было непостижимо.
Граф де Шаньи присутствовал при восторженном исступлении зала и, стоя в своей ложе, присоединял оглушительные браво к общим аплодисментам.
Графу де Шаньи (Филиппу Жоржу Мария) исполнился сорок один год. Это был настоящий вельможа и статный мужчина. Ростом выше среднего, с приятным, несмотря на суровое выражение и несколько холодный взгляд, лицом, он был изысканно любезен с женщинами и немного высокомерен с мужчинами, не всегда прощавшими ему успехи в светском обществе. Сердце у него было прекрасное и совесть чиста. После смерти старого графа Филибера он стал главой одного из самых прославленных и старинных семейств Франции, чья родословная восходит к Людовику Сварливому.
Состояние де Шаньи было немалым, и когда старый граф, оставшийся вдовцом, умер, на долю Филиппа выпала нелегкая задача: ему пришлось согласиться взять на себя ответственность распоряжаться столь значительным наследством. Две его сестры и брат Рауль и слышать не хотели о разделе имущества, во всем полагаясь на Филиппа, словно право первородства не переставало существовать. Когда обе сестры вышли замуж – в один и тот же день, – то получили свою долю из рук брата не как что-то причитающееся им по праву, а как приданое, за которое они выразили ему свою признательность.
Графиня де Шаньи – урожденная де Мерожи де ла Мартиньер – умерла, произведя на свет Рауля, родившегося на двадцать лет позже своего брата. Когда старый граф умер, Раулю было двенадцать лет. Филипп активно занимался воспитанием мальчика. В этой задаче ему старательно помогали сначала сестры, а потом старая тетка, вдова моряка, жившая в Бресте; она-то и привила Раулю вкус ко всему, что связано с морем.
Он поступил в морское училище, закончил его в числе лучших выпускников и преспокойно совершил кругосветное плавание. Благодаря могущественной поддержке его включили в состав официальной экспедиции, отправлявшейся на борту «Акулы» на поиски в полярных льдах оставшихся в живых членов экспедиции с «Артуа», о которой не было известий вот уже три года. А пока он предавался радостям длительного отпуска, заканчивавшегося лишь через шесть месяцев, и при виде этого красивого мальчика, казавшегося таким хрупким, престарелые дамы благородного предместья уже жалели его ввиду предстоящих суровых испытаний.
Робость этого моряка и, я бы даже сказал, его невинность бросались в глаза. Казалось, будто он лишь накануне вышел из-под женской опеки. И в самом деле, взлелеянный сестрами и старой теткой, он сохранил неизгладимый след чисто женского воспитания – чуть ли не наивные манеры, безусловно исполненные очарования, которое ничто до сих пор не в силах было заставить потускнеть.
В ту пору ему минул двадцать один год, но выглядел он не старше восемнадцати. У него были светлые усики, прекрасные голубые глаза и девичий цвет лица.
Филипп баловал Рауля, ни в чем ему не отказывая. Прежде всего он гордился им и с радостью предвкушал для младшего брата славную карьеру на флоте, где один из их предков, знаменитый Шаньи де ла Рош, состоял в ранге адмирала. Воспользовавшись отпуском молодого человека, Филипп хотел показать ему Париж, которого тот практически не знал, не имея представления о роскошных радостях и артистических удовольствиях, какие можно было там найти.
Граф полагал, что в возрасте Рауля неразумно быть чересчур благоразумным. Филипп отличался весьма уравновешенным нравом, соблюдая умеренность и в работе и в удовольствиях, он всегда держался безупречно и неспособен был подать брату дурной пример. Он всюду брал его с собой. И привел даже в танцевальное фойе.
Я прекрасно знаю, что все говорили, будто граф состоял «в самых коротких отношениях» с Сорелли. Ну и что! Можно ли вменить в вину этому дворянину, оставшемуся холостым и, следовательно, располагавшему свободным временем, в особенности с тех пор, как сестры его были устроены, что после ужина он проводил час или два в обществе танцовщицы, которая не отличалась, разумеется, умом, но зато имела самые красивые глаза на свете? К тому же существуют места, где истинный парижанин, занимающий положение графа де Шаньи, просто обязан показываться, а в ту пору танцевальное фойе Оперы было одним из таких мест.
Хотя Филипп, возможно, и не повел бы своего брата за кулисы Академии национальной музыки, если бы тот сам несколько раз не просил его об этом с мягкой настойчивостью, о чем графу придется вспомнить впоследствии.
В этот вечер Филипп, поаплодировав Дое, повернулся к Раулю и, заметив его бледность, даже испугался.
– Разве вы не видите, – сказал Рауль, – что этой женщине плохо?
В самом деле, Кристину на сцене пришлось поддерживать.
– Ты и сам, того гляди, лишишься чувств, – заметил граф, наклоняясь к Раулю. – Что с тобой?
Но Рауль уже был на ногах.
– Пойдем, – молвил он дрожащим голосом.
– Куда ты хочешь идти, Рауль? – спросил граф, удивляясь волнению младшего брата.
– Пойдем посмотрим! Ведь она впервые так поет!
Граф с интересом взглянул на брата, и на губах его появилась едва заметная улыбка.
– Вот как! – И он поспешил добавить: – Пойдем! Пойдем!
Вскоре они очутились у входа для абонированных зрителей, где было очень людно. Дожидаясь, когда можно будет проникнуть на сцену, Рауль, не сознавая, что делает, разрывал свои перчатки. Филипп, отличаясь добротой, вовсе не думал смеяться над его нетерпением. Теперь он был осведомлен. Он понял, почему Рауль бывал рассеян, разговаривая с ним, и почему с таким нескрываемым удовольствием всякий раз переводил беседу на оперу.
Они вышли на сцену.
Черные фраки устремлялись к танцевальному фойе либо направлялись к артистическим гримерным. Крики машинистов сцены смешиваются с яростными нареканиями руководителей различных служб. Расходятся статисты из последней картины, безмолвные «фигурантки» толкают вас, кто-то несет штатив, с колосников спускается задник, декорации укрепляют оглушительными ударами молотка, вечное «дорогу театру» звучит у вас в ушах, словно предвестие некой катастрофы, грозящей вашему цилиндру, либо крепкого удара в спину, – такова обычная суматоха, сопутствующая антрактам. Она не может не вызвать волнения у новичка вроде молодого человека со светлыми усиками, голубыми глазами и девичьим цветом лица, торопливо, насколько позволяла ему теснота, пересекавшего ту самую сцену, на которой только что с триумфом выступала Кристина Дое и под которой скончался Жозеф Бюке.
Никогда еще не наблюдалось такого смятения, как в тот вечер, но и Рауль утратил свою привычную робость. Крепким плечом он отстранял любое препятствие, встававшее на его пути, не обращая ни малейшего внимания на то, что говорилось вокруг него, и не пытаясь понять растерянные толки машинистов сцены. Им владело одно-единственное желание: увидеть ту, чей волшебный голос отнял у него сердце. Да, он прекрасно сознавал, что его бедное сердце больше не принадлежит ему. Хотя он всеми силами пытался защитить его с того самого дня, когда перед ним вновь предстала Кристина, которую он знал еще совсем маленькой. При виде ее Рауля охватило сладостное волнение, от которого он по зрелом размышлении хотел было избавиться, ибо, испытывая уважение к себе и своей вере, поклялся, что будет любить лишь ту, кто станет его женой, и, разумеется, ни на мгновение не мог подумать, что женится на певице; однако на смену сладостному волнению пришло ужасное ощущение. Ощущение? Чувство? Трудно сказать: было тут что-то и физическое, и нравственное. Он испытывал боль в груди, словно ее раскрыли, чтобы забрать у него сердце. Ощущал там страшную пустоту, самую настоящую, заполнить которую могло только другое сердце! Таковы симптомы совершенно особого психологического состояния, которые, похоже, могут понять лишь те, кого любовь сразила наповал, нанесла неожиданный удар, именуемый в обыденной жизни «любовь с первого взгляда».
Граф Филипп, по-прежнему улыбаясь, с трудом поспевал за ним.
Миновав в глубине сцены сдвоенную дверь, которая открывается на ступени, ведущие в фойе, и на те, что ведут к гримерным в левом крыле первого этажа, Рауль вынужден был остановиться перед маленькой группой мышек, которые, спустившись в эту минуту со своего чердака, загородили проход, куда он намеревался ринуться. Немало приятных слов было сказано в его адрес накрашенными губками, но он и не думал отвечать. Наконец ему удалось пройти, и он углубился в полумрак коридора, гудевшего от восхищенных возгласов восторженных почитателей. Одно имя перекрывало все шумы: «Дое! Дое!»
Следовавший за Раулем граф говорил себе: «Проказник знает дорогу!» – и задавался вопросом, каким образом он ее узнал. Сам он ни разу не приводил Рауля к Кристине. Тот, надо полагать, приходил сюда один, пока граф, по своему обыкновению, оставался поболтать в фойе с Сорелли, часто просившей его побыть с ней до ее выхода на сцену, а иногда, из пристрастия к тиранству, отдававшей ему на хранение маленькие гетры, в которых она спускалась из гримерной, дабы обеспечить блеск своих атласных туфелек и безупречную чистоту трико. У Сорелли было извинение: она потеряла мать.
Итак, граф, отложив на несколько минут визит к Сорелли, следовал по коридору, который вел к Дое, отметив, что никогда еще не толпилось там столько посетителей, как в тот вечер, когда весь театр, казалось, был потрясен успехом артистки и ее обмороком. Ибо прелестное дитя все еще не приходило в сознание, и потому послали за доктором театра, который наконец прибыл, пробравшись сквозь взволнованные группы. За ним, не отставая ни на шаг, шел Рауль.
Таким образом, врач и влюбленный одновременно оказались рядом с Кристиной, от одного получившей первую помощь и открывшей глаза на руках у другого. Граф вместе со всеми остальными остался в дверях, где началась давка.
– Вам не кажется, доктор, что этим господам следует освободить гримерную? – спросил Рауль с невероятной смелостью. – Здесь нечем дышать.
– Вы совершенно правы, – согласился доктор и выставил за дверь всех, за исключением Рауля и горничной.
Та раскрыла глаза от удивления. Никогда прежде она его не видела.
Однако не решилась ни о чем расспрашивать.
А доктор вообразил, что если молодой человек поступал так, значит, имел на это право. И виконт остался в гримерной, созерцая возвращавшуюся к жизни Дое, в то время как даже оба директора, господин Дебьенн и господин Полиньи, явившиеся выразить восхищение своей подопечной, были вытеснены в коридор вместе с чернофрачниками.
Граф де Шаньи, выброшенный, как и все остальные, в коридор, громко смеялся.
– Ах, проказник! Ах, проказник! – И мысленно добавил: «Вот и доверяй после этого юнцам, изображающим из себя святую невинность!»
Граф сиял. «Сразу видно, настоящий Шаньи!» – пришел он к выводу и направился в гримерную Сорелли, но та спускалась в фойе вместе со своим маленьким табуном, дрожащим от страха, и граф, как уже говорилось, встретил ее по дороге.
А в гримерной Кристины Дое послышался тем временем ее глубокий вздох, которому вторил чей-то стон. Повернув голову, она увидела Рауля и вздрогнула. Взглянув на доктора, она улыбнулась ему, потом перевела взгляд на горничную и снова на Рауля.
– Сударь! – обратилась Кристина к последнему пока еще едва слышно. – Кто вы?
– Мадемуазель, – отвечал молодой человек, встав на одно колено и запечатлев пылкий поцелуй на руке дивы, – мадемуазель, я тот самый маленький мальчик, который подобрал в море ваш шарф.
Кристина опять взглянула на доктора и горничную, и все трое рассмеялись. Рауль, покраснев, встал.
– Мадемуазель, если вам угодно не узнавать меня, я хотел бы сказать вам одну вещь наедине, очень важную вещь.
– Когда мне будет получше, сударь, хорошо?.. – Голос ее дрожал. – Вы очень любезны…
– Однако вам следует уйти, – добавил доктор с очаровательнейшей улыбкой. – Позвольте мне оказать помощь мадемуазель.
– Я не больна, – заявила вдруг Кристина с весьма странной и столь же неожиданной решимостью. Поднявшись, она торопливо провела рукой по векам. – Благодарю вас, доктор!.. Мне необходимо побыть одной. Уходите все, прошу вас, оставьте меня… У меня сегодня нервы разыгрались…
Врач пытался было протестовать, но ввиду возбужденного состояния молодой женщины счел, что лучшее средство в подобном случае – не противоречить ей ни в чем. И он вышел вместе с Раулем, который остановился в коридоре в полной растерянности.
– Сегодня я просто не узнаю ее, – заметил доктор, – обычно она такая мягкая…
На том они и расстались.
Рауль остался один. Теперь эта часть театра опустела: должно быть, в танцевальном фойе началась церемония прощания. Рауль подумал, что Дое, возможно, тоже направится туда, и стал ждать в безмолвном одиночестве. Он даже нашел благоприятную тень в углу у двери, где и спрятался. На месте сердца по-прежнему ощущалась все та же боль. Именно об этом ему хотелось без промедления поговорить с Дое.
Внезапно дверь отворилась, и он увидел горничную, которая вышла с какими-то вещами. Он остановил ее, чтобы справиться о здоровье хозяйки. Она со смехом отвечала, что та чувствует себя хорошо, но только не следует ее беспокоить, потому что Дое желает побыть одна. И горничная убежала. В воспаленном сознании Рауля вспыхнула мысль: конечно же, Дое хотела остаться одна ради него!.. Разве не сказал он ей, что желает поговорить с ней наедине, и не в том ли причина, по которой она отослала всех? Едва дыша, он приблизился к гримерной и, приникнув ухом к двери в ожидании ответа, собрался постучать. Однако рука его тут же опустилась. Из гримерной до него донесся голос мужчины, говорившего необычайно властным тоном:
– Кристина, любите меня!
И горестный голос Кристины, в котором угадывались слезы, с дрожью отвечал:
– Как вы можете говорить мне это? Мне! Ведь я пою только для вас!
Рауль прислонился к стене – такой боли он еще не испытывал. Сердце, которое он считал потерянным навсегда, вернулось снова и громко стучало в груди. Весь коридор сотрясался от его ударов, оглушавших Рауля. Если сердце и дальше будет так стучать, его наверняка услышат и откроют дверь, и молодой человек будет с позором изгнан. Достойно ли это Шаньи! Слушать под дверью! Он сжал сердце двумя руками, чтобы заставить его замолчать. Но сердце – не собачья морда, и даже когда держишь морду собаки обеими руками – собаки, которая невыносимо громко лает, – ворчание ее все равно слышно.
– Вы, должно быть, очень устали? – продолжал мужской голос.
– О! Сегодня я отдала вам всю душу и осталась без сил.
– Твоя душа прекрасна, дитя мое, – снова послышался низкий голос мужчины, – и я благодарю тебя. Вряд ли найдется император, который получил бы подобный дар! Ангелы плакали сегодня вечером.
Рауль между тем и не думал уходить, но, опасаясь, что его могут увидеть, забился в свой темный угол, решив дождаться там, пока мужчина выйдет из гримерной. В одно и то же время ему довелось узнать любовь и ненависть. Он понял, что любит. И хотел знать, кого ненавидит.
К его великому изумлению, дверь открылась, и Кристина Дое, закутавшись в меха и опустив на лицо вуаль, появилась одна. Она закрыла дверь, но, как отметил Рауль, не заперла ее на ключ. Кристина прошла мимо. Он даже не следил за ней, ибо взгляд его был прикован к двери, которая больше не открывалась. Коридор снова опустел. Он пересек его, открыл дверь в гримерную и тотчас закрыл ее за собой, очутившись в полной темноте. Газовый рожок погасили.
– Здесь кто-то есть! – громким голосом сказал Рауль. – Зачем прятаться? – Произнося эти слова, он по-прежнему прислонялся спиной к закрытой двери.
В ответ – тьма и молчание. Рауль не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Он наверняка не отдавал себе отчета в том, что нескромность его поведения превосходила все допустимые границы.
– Вы не выйдете отсюда, если я не позволю! – воскликнул молодой человек. – Если вы не ответите мне, значит, вы – трус! Но я сумею разоблачить вас! – И он чиркнул спичкой.
Пламя осветило гримерную. Там никого не было! Заперев предварительно дверь на ключ, Рауль зажег все лампы. Он заглянул в туалет, открыл шкафы, продолжая поиски, шарил по стенам вспотевшими руками. Ничего!
– Вот как! – сказал он вслух. – Неужели я схожу с ума?
Минут десять он стоял, прислушиваясь к шипению газа в тишине покинутой всеми гримерной; он был так влюблен, что даже не подумал украсть какую-нибудь ленту, чтобы вдыхать аромат той, кого любил.
Рауль вышел, не зная, что делает и куда идет. В какой-то момент его сумбурного шатания в лицо ему пахнуло холодным ветром. Он очутился в самом низу узкой лестницы, по которой вслед за ним спускалась процессия рабочих, склонявшихся над подобием носилок, накрытых белой простыней.
– Будьте любезны, где выход? – спросил он одного из этих мужчин.
– Вы же видите! Прямо перед вами, – ответил тот. – Дверь открыта. Но позвольте нам пройти.
Рауль машинально спросил, показывая на носилки:
– Что это?
– Это? – сказал в ответ рабочий. – Это Жозеф Бюке, которого нашли повесившимся в третьем подвальном этаже, между стропильной фермой и декорациями «Короля Лагорского».
Рауль посторонился, пропуская процессию, поклонился и вышел.
в которой господин Дебьенн и господин Полиньи впервые сообщают по секрету новым директорам Оперы господину Арману Моншармену и господину Фирмену Ришару истинную, но таинственную причину своего ухода из Национальной академии музыки
Тем временем началась церемония прощания.
Я уже упоминал, что это великолепное торжество устроено было по случаю ухода из Оперы господина Дебьенна и господина Полиньи, которые пожелали умереть, как принято говорить сегодня, красиво.
В осуществлении этой безупречной похоронной программы им помогали все, кто что-нибудь значил в ту пору в парижском обществе и искусстве.
И весь этот люд должен был собраться в танцевальном фойе, где Сорелли с бокалом шампанского в руке и заученной коротенькой речью ожидала отставных директоров. Позади нее теснились молодые и старые подружки из кордебалета, одни тихонько обсуждали события дня, другие незаметно подавали условные знаки своим друзьям, говорливая толпа которых окружила буфет, расположившийся на покатых подмостках между воинственным и сельским танцами господина Буланже.
Некоторые танцовщицы уже облачились в городские наряды; большинство же оставалось в легких газовых юбках; но все они почитали своим долгом принять соответствующее обстоятельствам выражение лица. Одна лишь крошка Жамм, чьи пятнадцать весен – счастливый возраст! – казалось, уже забыли беспечно и о Призраке, и о смерти Жозефа Бюке, не переставала тараторить, болтать, подпрыгивать, подшучивать, так что, когда господин Дебьенн и господин Полиньи показались на ступенях танцевального фойе, ее сурово призвала к порядку сгоравшая от нетерпения Сорелли.
Все отметили: вид у отставных директоров был веселый, что в провинции никому не показалось бы естественным, зато в Париже это сочли проявлением очень хорошего вкуса. Никогда не стать парижанином тому, кто не научится скрывать скорбь под маской радости и набрасывать черную полумаску грусти, скуки или безразличия на тайное ликование! Если вы узнаете, что у кого-то из ваших друзей неприятности, не пытайтесь его утешить – он скажет, что уже утешился; если же у вашего друга случилось радостное событие, воздержитесь от поздравлений – выпавшая удача кажется ему вполне естественной, и он удивится, когда вы заговорите об этом.
Париж – это нескончаемый бал-маскарад, и такие «сведущие» люди, как господин Дебьенн и господин Полиньи, ни за что не совершили бы ошибки, да к тому же в танцевальном фойе, показав свою печаль, которая, несомненно, была истинной. И они вовсю уже улыбались Сорелли, произносившей приветственную речь, когда восклицание этой сумасшедшей дурочки Жамм смело директорскую улыбку столь неожиданным образом, что взорам присутствующих открылись прятавшиеся под ней лики безутешной тоски и страха.
– Призрак Оперы!
Жамм выкрикнула эту фразу с невыразимым ужасом в голосе, указав пальцем на затерявшееся средь толпы черных фраков мертвенно-бледное лицо, до того мрачное и безобразное, с черными провалами глазниц до того глубокими, что череп, на который указали таким образом, немедленно возымел бешеный успех.
– Призрак Оперы! Призрак Оперы!
Все смеялись, толкали друг друга, желая предложить выпить Призраку Оперы, но тот уже скрылся! Он проскользнул в толпе, и напрасно все кинулись искать его, пока два старых господина пытались успокоить крошку Жамм, а крошка Жири кричала как оглашенная.
Сорелли была в ярости; ей не удалось закончить свою речь; поцеловав и поблагодарив ее, господин Дебьенн и господин Полиньи исчезли столь же быстро, как и Призрак. Никто этому не удивился, ибо все знали, что точно такая же церемония предстояла им этажом выше, в музыкальном фойе, и что наконец они в последний раз собирались принять своих близких друзей в большом вестибюле директорского кабинета, где тех ожидал настоящий ужин.
Там-то мы и встретимся с ними вновь, равно как и с новыми директорами господином Арманом Моншарменом и господином Фирменом Ришаром.
Первые едва знали вторых, что отнюдь не помешало им рассыпаться в громогласных выражениях дружеских чувств, а те в ответ не скупились на комплименты; таким образом, приглашенные, с опаской ожидавшие несколько унылого вечера, тут же возрадовались. Ужин прошел почти весело, и прозвучал не один тост, причем представитель от правительства проявил такую небывалую ловкость, объединив славу прошлого с успехами будущего, что вскоре среди гостей воцарилось редкостное воодушевление. Передача директорских полномочий произошла накануне с предельной простотой, вопросы, которые оставалось урегулировать между бывшей и новой дирекцией, разрешились под руководством правительственного представителя в обстановке величайшего стремления к согласию и с той, и с другой стороны, так что, по правде говоря, в тот достопамятный вечер нечего было удивляться при виде четырех улыбчивых директорских лиц.
Господин Дебьенн и господин Полиньи уже вручили господину Арману Моншармену и господину Фирмену Ришару два крохотных ключика-отмычки, открывавших все двери Национальной академии музыки, а их несколько тысяч. И тотчас эти маленькие ключики, предмет всеобщего любопытства, стали передавать из рук в руки, однако внимание кое-кого из гостей отвлекло сделанное ими открытие: в конце стола они заметили странное мертвенно-бледное, фантастическое лицо с запавшими глазами, то самое, которое уже появлялось в танцевальном фойе и было встречено резким криком крошки Жамм: «Призрак Оперы!»
Он сидел, будто самый обычный гость, если не считать того, что он ничего не ел и не пил.
Те, кто поначалу взирал на него с улыбкой, в конце концов попросту отвернулись, ибо это видение незамедлительно настраивало мысли на мрачный лад. Никому и в голову не пришло возобновить шутку, прозвучавшую в фойе, никто не вздумал кричать: «Вот он, Призрак Оперы!»
Он не произнес ни слова, и даже его соседи не смогли бы сказать, в какой именно момент он пришел и сел там, но каждый решил, что если усопшие возвращаются порой, чтобы присесть за стол живых, то и у них вряд ли могли бы оказаться более жуткие лица.
Друзья господина Фирмена Ришара и господина Армана Моншармена полагали, что этот изможденный гость – один из близких господина Дебьенна и господина Полиньи, в то время как друзья господина Дебьенна и господина Полиньи решили, что этот мертвец принадлежит к окружению господина Ришара и господина Моншармена. А посему загробному пришельцу нечего было опасаться требования объяснений либо неприятного замечания, а то и грубой шутки дурного вкуса. Те, кто слышал легенду о Призраке и знал его описание, сделанное старшим машинистом сцены, – никто из них пока не ведал о смерти Жозефа Бюке, – думали про себя, что человек в конце стола вполне мог бы сойти за живое воплощение персонажа, возникшего, по их мнению, благодаря неискоренимому суеверию персонала Оперы. А между тем, согласно легенде, у Призрака не было носа, в то время как у этого персонажа таковой имелся, хотя господин Моншармен утверждает в своих мемуарах, что нос гостя казался прозрачным. «Нос его, – говорит он, – был длинным, тонким и прозрачным»; добавлю от себя, что это мог быть и фальшивый нос. За прозрачность господин Моншармен мог принять то, что всего-навсего блестело. Всем известно: наука обеспечивает восхитительными фальшивыми носами тех, кто лишен их от природы либо вследствие какой-то операции. Действительно ли в ту ночь Призрак явился на директорский банкет без приглашения? И можем ли мы быть уверены, что это лицо в самом деле принадлежало Призраку Оперы? Кто осмелится утверждать такое? И если я упоминаю об этом инциденте, то вовсе не потому, что желаю хоть на секунду заставить поверить читателя или, по крайней мере, попытаться заставить его поверить, что Призрак способен был на столь неслыханную дерзость, но потому, что, в сущности, такая вещь вполне допустима.
И вот, как мне кажется, достаточное тому доказательство. Господин Арман Моншармен все в тех же мемуарах пишет в главе XI буквально следующее:
«Когда я думаю об этом первом вечере, то не могу отделить признание, сделанное нам господином Дебьенном и господином Полиньи в их кабинете, от присутствия на нашем ужине призрачного персонажа, которого никто из нас не знал».
Вот как все в точности произошло.
Господин Дебьенн и господин Полиньи, сидевшие в середине, еще не успели заметить человека с черепом вместо головы, а тот вдруг решил заговорить.
– Мышки правы, – заявил он. – Смерть бедняги Бюке, возможно, совсем не так естественна, как полагают некоторые.
Дебьенн и Полиньи подскочили.
– Бюке умер? – воскликнули они.
– Да, – спокойно ответил человек или тень человека. – Сегодня вечером его нашли повесившимся в третьем подвальном этаже, между стропильной фермой и декорациями «Короля Лагорского».
Оба директора или, вернее, бывших директора тотчас встали, пристально глядя на своего собеседника. Они разволновались сверх всякой меры, то есть не в меру того волнения, какое может вызвать известие о повешении старшего машиниста сцены. Переглянувшись, оба побледнели, став белее скатерти. Наконец Дебьенн подал знак господину Ришару и господину Моншармену, Полиньи в нескольких словах извинился перед гостями, и все четверо направились в директорский кабинет.
Предоставляю слово господину Моншармену.
«Господин Дебьенн и господин Полиньи проявляли все большее беспокойство, и нам показалось, будто они хотят о чем-то поведать, о чем-то таком, что сильно их смущает. Прежде всего они спросили нас, знаем ли мы человека, сидевшего в конце стола, который сообщил им о смерти Жозефа Бюке, и после того, как мы ответили отрицательно, еще больше разволновались. Они взяли у нас из рук ключики-отмычки и, внимательно оглядев их, покачали головой, затем посоветовали сделать новые замки – причем при соблюдении полнейшей тайны – в апартаментах, кабинетах и прочих помещениях, которые мы сочтем необходимым запирать наглухо. При этом они выглядели так странно, что мы со смехом спросили: неужели в Опере есть воры? Они ответили, что есть кое-кто похуже – призрак. Мы опять рассмеялись, полагая, что они затеяли какую-то шутку, которой должен был завершиться этот маленький дружеский праздник. По их просьбе мы снова обрели «серьезность», решив войти в такого рода игру, дабы доставить им удовольствие. Они сказали, что никогда не заговорили бы с нами о Призраке, если бы не получили формальный приказ самого Призрака убедить нас проявить любезность в отношении него и предоставить ему все, что он у нас попросит. Однако, чрезвычайно обрадовавшись возможности покинуть места, где безраздельно властвует эта тираническая тень, и разом избавиться от всего, они колебались до самого последнего момента, не решаясь посвятить нас в столь странную историю, к восприятию которой наши скептически настроенные умы вовсе не были подготовлены, но тут известие о смерти Жозефа Бюке сурово напомнило им о том, что всякий раз, как они осмеливались пойти наперекор желаниям Призрака, некое фантастическое или роковое событие живо возвращало их к ощущению полной своей зависимости.
Во время этих неожиданных речей, произносимых тоном строжайшей секретности и чрезвычайной важности, я не сводил глаз с Ришара. Господин Ришар в бытность свою студентом слыл великим шутником, иными словами, в совершенстве владел несметным количеством способов насмехаться над другими: консьержки бульвара Сен-Мишель прекрасно об этом знали. И потому он, судя по всему, буквально наслаждался поданным ему угощением, стараясь не потерять ни крошки, хотя приправа была несколько мрачноватой по причине смерти Бюке. Внимая их рассказу, он с грустью качал головой, и постепенно выражение его лица становилось жалостливым, как у человека, глубоко сочувствующего, – ну как же, в деле, оказывается, замешан Призрак Оперы. Я не мог придумать ничего лучшего, как в точности копировать эту отчаянную безысходность. Между тем, несмотря на все наши усилия, под конец мы не выдержали и прыснули со смеху прямо в лицо господину Дебьенну и господину Полиньи. При виде того, как мы без всякого перехода сменили мрачное выражение лиц на безудержную веселость, те повели себя так, будто поверили, что мы тронулись умом.
Однако шутка немного затянулась, и Ришар нерешительно спросил:
– Но чего же все-таки хочет этот Призрак?
Господин Полиньи направился к своему письменному столу и вернулся с копией договорных условий.
Договорные условия начинаются такими словами: «Дирекции Оперы вменяется в обязанность проводить спектакли в Национальной академии музыки с должным блеском, приличествующим первой французской лирической сцене», и заканчиваются статьей 98, составленной следующим образом: «Это преимущественное право может быть отменено в случае: 1. Если директор не выполнит распоряжений, предписанных договорными условиями».
Далее следуют распоряжения.
Копия эта была написана черными чернилами и полностью соответствовала той, какая была у нас.
Однако мы заметили, что договорные условия, представленные нам господином Полиньи, содержали in fine[5] один абзац, написанный красными чернилами, причем странным неровным почерком, как будто слова были начертаны кончиками спичек, – почерком ребенка, который все еще выводит палочки, не научившись пока соединять их в буквы. В этом абзаце, неправомерно удлинявшем статью 98, говорилось буквально следующее:
«5. Если директор задержит больше чем на две недели ежемесячное вознаграждение, которое он обязан выплачивать Призраку Оперы; вплоть до нового распоряжения месячная плата устанавливается в размере 20 000 франков – 240 000 франков в год».
Господин де Полиньи неуверенно показал нам пальцем на этот последний пункт, для нас, разумеется, неожиданный.
– Это все? Ничего другого он не хочет? – с величайшим хладнокровием спросил Ришар.
– Ну как же! – возразил Полиньи. Еще раз перелистав договорные условия, он прочитал: – «Статья 63. Большая литерная ложа справа под номером один резервируется на всех спектаклях для главы государства. Ложа бенуара под номером двадцать по понедельникам и литерная ложа первого яруса под номером тридцать по средам и пятницам предоставляются в распоряжение министра. Ложа второго яруса под номером двадцать семь ежедневно резервируется для нужд префектов департамента Сена и полиции».
И опять в конце этой статьи господин Полиньи показал нам строчку, добавленную красными чернилами: «Ложа первого яруса под номером пять на все представления отдается в распоряжение Призрака Оперы».
После этого нам оставалось лишь встать и горячо пожать руки двух наших предшественников, поздравив их с изобретением очаровательной шутки, лишний раз доказывавшей, что старинная приверженность французов к веселью по-прежнему остается в силе. Ришар счел даже своим долгом добавить, что теперь он понимает, почему господин Дебьенн и господин Полиньи покидают дирекцию Национальной академии музыки. С таким требовательным призраком невозможно больше вести дела.
– Еще бы, – не моргнув, согласился господин Полиньи, – 240 000 франков на дороге не валяются. А представляете, во что может обойтись резервирование для Призрака ложи номер пять на все представления! И это не считая того, что нам пришлось вернуть деньги за абонирование, ужас! В самом деле, стоит ли работать, чтобы содержать какого-то призрака!.. Мы предпочитаем уйти!
– Да, – подхватил господин Дебьенн, – мы предпочитаем уйти! Пошли! – И он встал.
– Но в конце-то концов, – заметил Ришар, – мне кажется, вы прекрасно ладите с этим призраком. Если бы у меня завелся такой же обременительный призрак, я без колебаний велел бы его арестовать.
– Но где? Но как? – воскликнули те в один голос. – Мы никогда его не видели!
– А когда он приходит в свою ложу?
– Мы ни разу не видели его в ложе.
– В таком случае сдайте ее.
– Сдать ложу Призрака Оперы! Что ж, господа, попробуйте!
С этими словами мы все четверо вышли из директорского кабинета. Никогда в жизни ни я, ни Ришар так не смеялись».
Ложа номер пять
Арман Моншармен написал столь объемистые мемуары, что мы вправе задаться вопросом, особенно в отношении довольно длительного периода его совместного с господином Ришаром руководства театром: оставалось ли у него хоть какое-то время заниматься делами Оперы, а не только рассказывать, что там происходит? Господин Моншармен не знал ни одной музыкальной ноты, зато был на «ты» с министром образования и изящных искусств, немного занимался бульварной журналистикой и владел довольно большим состоянием. Наконец, это был очаровательный человек, далеко не лишенный ума, раз, решившись финансировать Оперу, он сумел выбрать того, кто действительно смог бы принести пользу в качестве директора, и направился прямо к Фирмену Ришару.
Фирмен Ришар был известным музыкантом и галантным мужчиной. Вот портрет, который в момент его вступления в должность дает журнал «Ревю де театр»:
«Господину Фирмену Ришару где-то около пятидесяти лет. Высокого роста, с крепкой шеей, без лишней полноты, он обладает прекрасными манерами, густые волосы подстрижены бобриком, борода – под стать волосам, несколько печальное выражение лица с ярким румянцем смягчаются прямым, открытым взглядом и прелестной улыбкой.
Господин Фирмен Ришар – очень известный музыкант, искусный специалист в области гармонии, мастер полифонии. Величие – вот основная черта его сочинений. Он автор камерной музыки, получившей высокую оценку ее любителей, музыки для фортепьяно, исполненных оригинальности сонат и фуг, а также сборника романсов. Наконец, в «Смерти Геркулеса», которую можно услышать на концертах в консерватории, ощущается могучая эпическая сила, напоминающая Глюка, одного из самых почитаемых господином Фирменом Ришаром мастеров. Однако, обожая Глюка, ничуть не меньше он любит и Пиччини; господин Ришар ничего не упустит. Восторгаясь Пиччини, он преклоняется перед Мейербером, наслаждается Чимарозой, и никто лучше его не сможет оценить неподражаемый гений Вебера. Наконец, в отношении Вагнера господин Ришар готов утверждать, что он, Ришар, первый во Франции и, возможно, единственный, кто его понял».
На этом я заканчиваю цитату, из коей, как мне думается, явствует, что если господин Фирмен Ришар любит, можно сказать, едва ли не всю музыку и всех музыкантов, то и все музыканты обязаны почитать своим долгом любить господина Фирмена Ришара. В заключение этого наскоро набросанного портрета добавим, что господин Ришар был, как принято говорить, человеком властным, то есть обладал прескверным характером.
В первые дни, проведенные компаньонами в Опере, их окрыляло радостное сознание того, что они – хозяева столь обширного и прекрасного предприятия, и оба наверняка не вспоминали о весьма забавной и странной истории с призраком, пока не произошло событие, которое доказало им, что шутка – если то была шутка – продолжается.
В то утро господин Фирмен Ришар явился в свой кабинет в одиннадцать часов. Его секретарь господин Реми показал ему полдюжины писем, которые он не распечатывал, так как на них стояла пометка «лично». Одно из таких писем сразу же привлекло внимание Ришара не только потому, что надпись на конверте была сделана красными чернилами, но еще и потому, что, как ему показалось, он уже где-то видел этот почерк. Вспоминать пришлось недолго: таким же почерком и красными чернилами были странным образом дополнены договорные условия. Он узнал детскую манеру письма палочками. Распечатав конверт, господин Ришар прочитал следующее:
«Дорогой директор, прошу прощения за вторжение в столь драгоценные для вас минуты, когда решается судьба лучших артистов Оперы, когда вы возобновляете важные ангажементы и заключаете новые; и все это с поразительно точным видением, пониманием театра, знанием публики и ее вкусов, авторитетом, который, признаюсь, изумил меня, несмотря на мой немалый опыт.
Я знаю о том, что вы сделали для Карлотты, Сорелли и крошки Жамм да и некоторых других, чьи восхитительные качества, талант и гений вы сумели разгадать. (Вы, надеюсь, понимаете, кого я имею в виду, когда пишу эти слова; ну разумеется, речь не о Карлотте, которая так фальшивит, ей никогда не следовало бы покидать ни театр «Амбассадёр», ни кафе «Жакен»; и не о Сорелли, которая может похвастаться разве что телосложением; и не о крошке Жамм, которая танцует как корова на льду. И конечно же, не о Кристине Дое, чей гений бесспорен, хотя вы почему-то стремитесь держать ее подальше от любых значительных ролей.) В конце концов, вы вольны управлять своим маленьким дельцем, как вам вздумается, не так ли?
Однако я желал бы воспользоваться тем, что вы пока не выставили Кристину Дое за дверь, и послушать ее сегодня вечером в роли Зибеля, раз уж роль Маргариты после ее триумфа в тот знаменательный день для нее недоступна. Кроме того, я просил бы вас не располагать моей ложей ни сегодня, ни в последующие дни, ибо не могу закончить это письмо, не признавшись вам, как неприятно удивляло меня в последнее время одно обстоятельство: приходя в Оперу, я узнавал, что моя ложа занята, билеты продавались через кассу – по вашему распоряжению.
Я не выражал ни малейшего возмущения прежде всего потому, что являюсь противником любого скандала, и еще потому, что вообразил, будто ваши предшественники, господин Дебьенн и господин Полиньи, которые всегда были чрезвычайно любезны со мной, забыли перед своим уходом сообщить вам о моих маленьких причудах. Так вот, я только что получил ответ от господина Дебьенна и господина Полиньи на мою просьбу о разъяснениях, ответ, который свидетельствует о том, что вы в курсе моих договорных условий и, следовательно, грубо насмехаетесь надо мной.
Если вы хотите, чтобы мы жили в мире, не следует с самого начала лишать меня моей ложи! С такими мелкими оговорками соблаговолите рассматривать меня, дорогой директор, как вашего смиреннейшего и покорнейшего слугу.
Письмо сопровождалось выдержкой из коротких сообщений «Ревю театраль», где значилось следующее:
«П. О.: Р. и М. нет оправданий. Мы предупредили их и оставили им ваши договорные условия. Всего хорошего!»
Едва господин Фирмен Ришар закончил чтение этого письма, как дверь его кабинета распахнулась и появился направлявшийся к нему с письмом в руке господин Арман Моншармен – таким же точно письмом, какое получил его коллега. Переглянувшись, они расхохотались.
– Шутка продолжается, – заметил господин Ришар, – но это уже не смешно!
– Что это означает? – спросил господин Моншармен. – Неужели они думают, что раз они были директорами Оперы, то мы навсегда бесплатно предоставим им ложу?
Ибо как у первого, так и у второго ни на секунду не возникало сомнения, что двойное послание было плодом шутливого сотрудничества их предшественников.
– Я не намерен позволять долго дурачить меня! – заявил Фирмен Ришар.
– Но это безобидно! – возразил Арман Моншармен.
– Чего же они все-таки хотят? Ложу на сегодняшний вечер?
Господин Фирмен Ришар отдал распоряжение своему секретарю отправить господину Дебьенну и господину Полиньи билеты в ложу номер пять первого яруса, если она еще не занята.
Она оказалась свободной.
Билеты тут же отправили господину Дебьенну и господину Полиньи: первый жил на углу улицы Скриба и бульвара Капуцинок; второй – на улице Обера. Оба письма Призрака Оперы были сданы на почту бульвара Капуцинок. Это обнаружил Моншармен, изучая конверты.
– Ты же видишь! – воскликнул Ришар.
Они пожали плечами, сожалея, что люди столь почтенного возраста все еще развлекаются, забавляясь невинными играми.
– Однако можно быть и повежливее! – не удержался Моншармен. – Видел, как они третируют нас в связи с Карлоттой, Сорелли и крошкой Жамм?
– Что ж, дорогой, эти люди заболели от зависти!.. Как подумаешь, до чего они дошли: поместить сообщение в «Ревю театраль»!.. Неужели им нечего больше делать?
– Кстати! – заметил Моншармен. – Они, похоже, очень интересуются малюткой Кристиной Дое…
– Ты знаешь не хуже меня, что у нее безупречная репутация! – ответил Ришар.
– Репутация часто бывает обманчивой, – возразил Моншармен. – Разве за мной не закрепилась репутация ценителя музыки, хотя я не знаю разницы между ключом соль и ключом фа?
– Никогда у тебя не было такой репутации, – заявил Ришар, – успокойся.
Затем Фирмен Ришар отдал распоряжение привратнику впустить артистов; те уже два часа расхаживали по длинному коридору, дожидаясь, пока откроется директорская дверь, та самая дверь, за которой их ждут слава и деньги или увольнение.
Весь день прошел в спорах, переговорах, подписывании и разрывании контрактов; так что поверьте: в тот вечер – вечер двадцать пятого января – наши два директора, измучившись за этот жестокий день, исполненный гнева, интриг, угроз, советов, заверений в любви или ненависти, легли рано, даже не заглянув в ложу номер пять, чтобы узнать, понравился ли спектакль господину Дебьенну и господину Полиньи.
После ухода прежних директоров Опера отнюдь не простаивала, и господин Ришар распорядился осуществить некоторые необходимые работы, не нарушая порядка спектаклей.
На следующее утро господин Ришар и господин Моншармен обнаружили в своей почте благодарственную открытку от Призрака, составленную таким образом:
«Дорогой директор!
Спасибо. Прелестный вечер. Дое восхитительна. Последите за хором. Карлотта – великолепный, но банальный инструмент.
Вскоре напишу вам по поводу 240 000 фр., точнее – 233 424 фр. 70 сант., так как господин Дебьенн и господин Полиньи передали мне 6575 фр. 30 сант., составляющих плату за первые десять дней этого года, – их права кончились вечером десятого числа.
Ваш покорный слуга
И письмо от господина Дебьенна и господина Полиньи:
«Господа!
Мы благодарим вас за ваше любезное внимание, но вы наверняка поймете, что возможность еще раз услышать «Фауста», сколь сладостна ни была бы она для бывших директоров Оперы, не заставит забыть нас, что мы не имеем ни малейшего права занимать ложу номер пять первого яруса; такое исключительное право принадлежит тому, о ком мы имели случай сообщить вам, перечитывая в последний раз вместе с вами договорные условия, – последний абзац статьи 63.
Примите, господа, наши уверения и пр.».
– Эти люди начинают действовать мне на нервы! – гневно заявил Фирмен Ришар, хватая письмо господина Дебьенна и господина Полиньи.
В тот вечер билеты в ложу номер пять были проданы.
На другой день, придя в свои кабинеты, господин Ришар и господин Моншармен нашли донесение инспектора относительно событий, имевших место накануне вечером в ложе номер пять.
Вот основной, немногословный кусок этого донесения:
«Сегодня вечером, – инспектор писал свое донесение накануне вечером, – я вынужден был обращаться за помощью к муниципальному дежурному дважды – в начале и в середине второго акта, – чтобы вывести зрителей, занимавших ложу первого яруса под номером пять. Они явились к началу второго акта и создавали поистине скандальную обстановку своими смешками и нелепыми замечаниями. Вокруг них со всех сторон слышалось шиканье, зал начал возмущаться, и тогда билетерша пришла за мной; войдя в ложу, я сказал все, что следовало. Однако люди эти, казалось, были не в своем уме и вели глупые речи. Я предупредил их, что, если подобный скандал повторится, я буду вынужден освободить ложу. Как только я вышел, снова послышались смешки и возмущенные протесты в зале. Я вернулся с муниципальным дежурным, который вывел их. Они возражали, со смехом заявляя, что не уйдут, пока им не вернут деньги. Наконец они успокоились, и я позволил им войти в ложу; но тотчас же снова начались смешки, на этот раз я распорядился окончательно удалить их».
– Пусть вызовут инспектора! – крикнул Ришар своему секретарю, который первым прочитал это донесение и уже сделал пометки синим карандашом.
Секретарь господин Реми – двадцать четыре года, тонкие усики, элегантный, изысканный, при полном параде (в те времена днем редингот был обязателен), сообразительный, но робкий в присутствии директора, 2400 годового жалованья, выплачиваемого директором, просматривает газеты, отвечает на письма, распределяет ложи и контрамарки, согласовывает встречи, беседует с теми, кто долго ждет приема, бегает к заболевшим артистам, ищет дублеров, общается с руководителями различных служб, но прежде всего – это барьер перед директорским кабинетом, может в любой момент оказаться выброшенным за дверь без всякой компенсации, ибо его не признает администрация, – итак, секретарь, который уже нашел инспектора, приказал впустить его.
Инспектор вошел, несколько встревоженный.
– Расскажите нам, что произошло? – резким тоном сказал Моншармен.
Инспектор забормотал что-то и тут же сослался на донесение.
– Но почему все-таки эти люди смеялись? – спросил Моншармен.
– Господин директор, они, верно, отлично поужинали и больше расположены были шутить, нежели слушать хорошую музыку. Да вот, судите сами: едва войдя в ложу, они сразу же вышли оттуда и позвали билетершу. Та спросила, в чем дело. Они сказали ей: «Загляните в ложу, там действительно никого нет?..» – «Нет», – ответила билетерша. «Так вот, – заявили они, – когда мы пришли, то услышали чей-то голос, говоривший, что там кто-то есть».
Господин Моншармен не мог без улыбки смотреть на господина Ришара, но господин Ришар и не думал улыбаться. Раньше ему слишком часто доводилось «работать» в подобном жанре, чтобы в рассказе инспектора, излагавшего события наивнейшим образом, не распознать все признаки одной из тех злых шуток, которые поначалу забавляют людей, ставших их жертвами, но в конце концов приводят их в ярость.
Желая угодить улыбавшемуся господину Моншармену, инспектор счел своим долгом тоже изобразить улыбку. Злосчастная улыбка! Взгляд господина Ришара испепелил служащего, который тотчас поспешил придать своему лицу страшно огорченное выражение.
– И все-таки, – ворчливо спросил грозный Ришар, – когда эти люди пришли, в ложе действительно никого не было?
– Никого, господин директор! Никого! Ни в ложе справа, ни в ложе слева – никого, клянусь вам! Я готов руку дать на отсечение! Именно это и доказывает, что речь идет всего лишь о шутке.
– А билетерша, что говорит билетерша?
– О! С ней все ясно, она говорит, что это Призрак Оперы. Так что сами понимаете! – Инспектор усмехнулся. И опять сразу же понял, что напрасно усмехался, ибо едва он успел произнести слова: «она говорит, что это Призрак Оперы», как мрачная физиономия господина Ришара приобрела свирепый вид.
– Пусть найдут мне билетершу! – приказал он. – Немедленно! И пусть приведут ее сюда! И чтобы сейчас же всех выставили за дверь!
Инспектор хотел было возразить, но Ришар закрыл ему рот грозным окриком: «Молчите!» Затем, когда губы несчастного подчиненного сомкнулись, казалось, навеки, господин директор приказал, чтобы они снова раскрылись.
– Что это еще за Призрак Оперы? – решился спросить он ворчливым тоном.
Но инспектор был уже не в состоянии вымолвить ни слова. Отчаянной мимикой он дал понять, что ничего не знает, или, вернее, ничего не хочет знать.
– Вы-то сами видели этого Призрака Оперы?
Энергично замотав головой, инспектор тем самым отрицал, что когда-либо видел его.
– Тем хуже! – холодно заявил господин Ришар.
Инспектор широко раскрыл глаза, глаза его просто вылезали из орбит, вопрошая, почему господин директор произнес это зловещее: «Тем хуже!»
– Потому что я рассчитаю всех, кто его не видел! – пояснил господин директор. – Раз он всюду, совершенно недопустимо, чтобы его нигде не замечали. Я хочу, чтобы люди выполняли свою работу!
Продолжение главы «Ложа номер пять»
Сказав это, господин Ришар, не обращая больше на инспектора ни малейшего внимания, стал обсуждать разные дела с только что вошедшим администратором.
Инспектор решил, что может уйти, и тихонечко, с величайшей осторожностью – ах, боже мой, с какой осторожностью! – пятясь, приблизился к двери, но господин Ришар, заметив этот маневр, пригвоздил его к месту громовым окриком: «Останьтесь!»
Господин Реми послал за билетершей, которая работала к тому же консьержкой на улице Прованс, в двух шагах от Оперы. Она вскоре явилась.
– Как вас зовут?
– Мадам Жири. Да вы меня знаете, господин директор, я – мать крошки Жири, то есть малютки Мег! – Это было сказано суровым и торжественным тоном и на мгновение произвело впечатление на господина Ришара.
Он внимательно оглядел мадам Жири (выцветшая шаль, стоптанные туфли, старое платье из тафты, шляпа цвета сажи). Судя по поведению господина директора, стало совершенно очевидно, что он вовсе не знает или не помнит ни мадам Жири, ни крошку Жири, ни даже малютку Мег! Но гордыня мадам Жири была такова, что эта знаменитая билетерша (думается, от ее имени пошло словечко, хорошо известное на закулисном жаргоне: «жири» – кривлянье), так вот, повторяем, эта самая билетерша воображала, будто ее все знают.
– Я вас не знаю! – заявил в конце концов господин директор. – Тем не менее, мадам Жири, мне очень хотелось бы узнать, что произошло вчера вечером, если вы были вынуждены, вы и господин инспектор, обратиться за помощью к муниципальному дежурному…
– Я как раз хотела повидаться с вами, господин директор, и поговорить об этом, чтобы, не дай бог, и у вас не вышло неприятностей, как у господина Дебьенна и господина Полиньи. Они тоже поначалу не хотели меня слушать…
– Я вас об этом не спрашиваю. Я только спрашиваю, что случилось вчера вечером!
Мадам Жири покраснела от возмущения. С ней никогда не разговаривали подобным тоном. Она встала, словно собираясь уйти, и уже подобрала складки своей юбки, с достоинством покачивая перьями на шляпе цвета сажи, но, передумав, снова села и надменно заявила:
– Случилось то, что опять досаждали Призраку!
И так как господин Ришар готов был взорваться, вмешался господин Моншармен и сам повел допрос, из которого стало ясно, что мадам Жири считает вполне естественным, когда в ложе, где никого нет, раздается чей-то голос и заявляет, будто там кто-то есть. Она не могла объяснить это явление, для нее, впрочем, далеко не новое, иначе, как вмешательством Призрака. Этого Призрака в ложе никто не видел, зато все могли его слышать. Сама она часто его слышала, а уж ей-то можно верить, ибо она никогда не лжет. Можно спросить у господина Дебьенна и господина Полиньи, а также у всех, кто ее знает, и еще у господина Исидора Саака, которому Призрак сломал ногу!
– Неужели? – прервал ее Моншармен. – Призрак сломал ногу несчастному Исидору Сааку?
Мадам Жири вытаращила глаза, в которых отражалось удивление, охватившее ее при виде столь вопиющего невежества. Но она согласилась-таки просветить двух несчастных простаков. Случилось это в бытность директорами господина Дебьенна и господина Полиньи все в той же ложе номер пять и тоже во время представления «Фауста». Мадам Жири откашливается, прочищает голос, собирается начать… Можно подумать, что она готовится спеть все сочинение Гуно.
– Так вот, сударь. В тот вечер в первом ряду сидели господин Маньера со своей супругой, торговцы драгоценными камнями с улицы Могадор, а за госпожой Маньера – их близкий друг, господин Исидор Саак. Мефистофель поет (мадам Жири напевает):
Выходи, о друг мой нежный:
Бил свиданья час!
Сон свой детский, безмятежный
Отгони от глаз!
И тут господин Маньера слышит у своего правого уха (его жена сидела слева) голос: «Ха! Ха! Жюли-то не спит!» (А его супругу зовут как раз Жюли.) Господин Маньера поворачивается вправо, чтобы посмотреть, кто с ним говорит. Никого! Потирая уши, он думает про себя: «Неужели я сплю?» А Мефистофель тем временем продолжает свою серенаду… Может, я наскучила господам директорам?
– Нет-нет! Продолжайте…
– Господа директора чересчур добры! – Жеманная улыбка мадам Жири. – Итак, Мефистофель продолжает свою серенаду, – мадам Жири поет:
Сквозь аккорды струн певучих
Слышен сердца стон:
Поцелуев твоих жгучих
Страстно молит он!
И тотчас господин Маньера слышит все тем же правым ухом голос: «Ха-ха! Неужели Жюли откажет Исидору в поцелуе?» Тут он поворачивается, но на этот раз в сторону своей супруги и Исидора, и что же он видит? Исидор, взяв сзади руку его жены, целует ее в маленький вырез перчатки… Вот так, господа хорошие… – Мадам Жири покрывает поцелуями кусочек тела, просвечивающий сквозь ее вязаную перчатку. – Ну вы, конечно, понимаете, что дело не кончилось добром! Хлоп! Хлоп! Господин Маньера, который был высоким и сильным, как вы, господин Ришар, закатил пару пощечин господину Исидору Сааку, который был худеньким и слабеньким – с позволения сказать, вроде господина Моншармена. Словом, вышел скандал. В зале кричали: «Довольно! Довольно!.. Он убьет его!..» Наконец господину Исидору Сааку удалось ускользнуть…
– Стало быть, Призрак не сломал ему ногу? – спросил господин Моншармен, немного обиженный тем, что его внешность произвела столь жалкое впечатление на мадам Жири.
– Он ее сломал, су-ударь! – с достоинством возразила мадам Жири (ибо она поняла оскорбительный намек). – Он начисто сломал ему ногу на большой лестнице, по которой тот спускался слишком быстро, су-ударь! Да так, ей-богу, что бедняга не скоро на нее встанет!..
– Это Призрак рассказал вам, какие именно слова он нашептывал в правое ухо господина Маньера? – спросил судебный следователь Моншармен все с той же серьезностью, казавшейся ему на редкость комичной.
– Нет, су-ударь, господин Маньера самолично! Таким образом…
– Но вы-то, вы уже разговаривали с Призраком, милая дама?
– Вот как сейчас с вами, мил человек…
– И что же он говорит вам, этот Призрак, когда беседует с вами?
– Просто велит принести ему скамеечку! – При этих словах, произнесенных весьма торжественно, лицо мадам Жири окаменело, стало как из желтого мрамора с красными прожилками, вроде того, из которого сделаны колонны, поддерживающие большую лестницу, – его называют сарранколенским.
На этот раз Ришар расхохотался вместе с Моншарменом и секретарем Реми, однако инспектор, наученный горьким опытом, уже не смеялся. Прислонившись к стене и лихорадочно перебирая ключи в своем кармане, он задавался вопросом, чем же кончится эта история. И чем более «надменным» становился тон мадам Жири, тем сильнее он опасался новой вспышки гнева господина директора! А мадам Жири при виде директорского веселья осмелилась принять угрожающую позу, действительно угрожающую!
– Вместо того чтобы смеяться над Призраком, – с негодованием воскликнула она, – вы бы лучше последовали примеру господина Полиньи, уж он-то самолично удостоверился…
– Удостоверился в чем? – спрашивает Моншармен, никогда в жизни так не веселившийся.
– В существовании Призрака!.. Ведь говорю же я вам. Судите сами!.. – Она внезапно успокаивается, ибо полагает, что минута наступила серьезная. – Судите сами!.. Я все помню, как будто это было вчера. На этот раз давали «Жидовку». Господин Полиньи пожелал один сидеть на представлении в ложе Призрака. Госпожа Краусс имела бешеный успех. Она только что спела, ну знаете, тот самый кусок из второго акта, – мадам Жири напевает вполголоса:
Я жить хочу с тобой и умереть,
Ни небо нас, ни ад не разлучат.
– Хорошо! Хорошо! Я знаю… – с обескураживающей улыбкой прерывает ее господин Моншармен.
Но мадам Жири продолжает вполголоса, покачивая пером на шляпе цвета сажи:
Уйдем! Уйдем! На земле, на небесах ли
Одна судьба нас ожидает.
– Да-да! Ясно! – снова в нетерпении повторяет Ришар. – А дальше? Дальше?
– А дальше вот что: ведь именно в этот момент Леопольд восклицает: «Бежим!», не так ли? А Элеазар останавливает их, спрашивая: «Куда бежите вы?» Так вот, в этот самый момент господин Полиньи, за которым я наблюдала из глубины соседней ложи, где никого не было, господин Полиньи вскочил и пошел, оцепенев, словно статуя, я едва успела спросить его, вроде Элеазара: «Куда вы?» Но он мне не ответил, а сам был бледный, как мертвец! Я следила, когда он спускался по лестнице, только он не сломал ногу… Хотя шел будто во сне, в дурном сне, даже дорогу не мог найти, а ведь ему платили как раз за то, что он хорошо знает Оперу! – Мадам Жири умолкла, дабы оценить произведенный ее словами эффект.
История с Полиньи заставила Моншармена лишь покачать головой.
– Однако из всего этого не следует, при каких обстоятельствах и каким образом Призрак Оперы попросил у вас скамеечку? – настаивал он, пристально глядя на матушку Жири, как говорится, глаза в глаза.
– Ну, с того вечера все и пошло… Потому что с того вечера его оставили в покое, нашего Призрака. Никто больше не пытался отнять у него ложу. Господин Дебьенн и господин Полиньи отдали распоряжение, чтобы ее оставляли для него на все представления. Поэтому когда он приходил, то просил у меня скамеечку…
– Минуточку! Призрак просит скамеечку? Стало быть, ваш Призрак – женщина? – спросил Моншармен.
– Нет, Призрак – мужчина.
– Откуда вы знаете?
– У него мужской голос. О! Тихий такой голос. Вот как все происходит: когда он является в Оперу – обычно это бывает где-то в середине первого акта, – он три раза отрывисто стучит в дверь ложи номер пять. Первый раз, когда я услыхала эти три удара, хотя прекрасно знала, что в ложе пока никого нет, само собой, я была страшно удивлена! Открываю дверь, смотрю, слушаю – никого! И вдруг раздается чей-то голос: «Мадам Жюль (так звали моего покойного мужа), можно попросить у вас скамеечку?» С вашего позволения, господин директор, от неожиданности я стала красная, как помидор. А голос продолжал: «Не пугайтесь, мадам Жюль, это я – Призрак Оперы!!!» Я поглядела в ту сторону, откуда доносился голос, к слову сказать, такой добрый, такой приветливый, что почти не внушал мне страха. Голос, господин директор, сидел в первом кресле первого ряда справа. Только я никого не видела в кресле, хотя можно было поклясться, что там кто-то сидит, кто-то разговаривает, и этот кто-то был очень учтивым, честное слово.
– Ложа, которая находится справа от ложи номер пять, была занята? – спросил Моншармен.
– Нет, ложа номер семь, так же как и ложа номер три слева, еще не была занята. Спектакль только-только начался.
– И что же вы сделали?
– Конечно, я принесла скамеечку. Скамеечку он, разумеется, просил не для себя, а для своей супруги! Только ее я ни разу не видела и не слышала…
Как? Что? Оказывается, у Призрака есть еще и жена! Взгляды господина Моншармена и господина Ришара от мадам Жири обратились к инспектору, который за спиной билетерши размахивал руками, пытаясь привлечь внимание своего начальства. Указательным пальцем он в отчаянии стучал себя по лбу, давая понять директорам, что матушка Жюль наверняка сумасшедшая. Эта пантомима окончательно укрепила господина Ришара в намерении избавиться от инспектора, который держит у себя на службе ненормальную. А славная женщина, увлеченная своим Призраком, продолжала тем временем, нахваливая его щедрость:
– В конце спектакля он всегда дает мне монетку в сорок су, иногда сто су, а бывает, даже десять франков, если он несколько дней не приходит. Зато теперь, когда ему снова начали досаждать, он ничего мне больше не дает…
– Прошу прощения, милейшая… (Новый бунт пера на шляпе цвета сажи ввиду такой настойчивой фамильярности.) Прошу прощения!.. Но каким образом Призрак вручает вам ваши сорок су? – спросил любознательный от рождения Моншармен.
– Очень просто! Оставляет на полочке в ложе. Я нахожу их вместе с программкой, которую всегда приношу ему; бывают вечера, когда я нахожу в моей ложе цветы, например розу, которая могла упасть с корсажа его дамы, потому что иногда он наверняка приходит с дамой, ведь однажды они забыли веер.
– Вот как! Призрак забыл веер? И что же вы с ним сделали?
– Вернула ему в следующий раз.
Тут раздался голос инспектора:
– Вы нарушили правила, мадам Жири, я налагаю на вас штраф.
– Помолчите, глупец! – Бас господина Фирмена Ришара.
– Вы вернули веер! А дальше?
– Дальше они его унесли, господин директор; после спектакля я его не нашла, а в доказательство они оставили вместо него коробку английских конфет, которые я так люблю, господин директор. Это обычная любезность Призрака…
– Хорошо, мадам Жири… Вы можете идти.
После того как мадам Жири не без определенной доли никогда не покидавшего ее достоинства распростилась с двумя директорами, те заявили инспектору, что они решили отказаться от услуг этой старой безумицы. И отпустили инспектора.
Когда же господин инспектор после заверений в своей безграничной преданности этому дому тоже удалился, директора предупредили администратора, что ему следует рассчитать инспектора. Оставшись одни, господа директора поделились друг с другом одной мыслью, которая пришла им в голову обоим, причем одновременно, а именно: пойти заглянуть в ложу номер пять.
Вскоре и мы туда за ними последуем.
Волшебная скрипка
Кристине Дое, ставшей жертвой интриг, к которым мы вернемся чуть позже, не приходилось надеяться на повторение в скором времени триумфа того памятного гала-концерта. Хотя с той поры ей довелось выступить на приеме у герцогини из Цюриха, где она пела самые прекрасные отрывки из своего репертуара; вот как писал о ней известный критик X.Y.Z., приглашенный туда в числе именитых гостей:
«Когда слушаешь ее в «Гамлете», задаешься вопросом, уж не сам ли Шекспир явился с Елисейских Полей, дабы репетировать с ней партию Офелии… Хотя верно и то, что, когда она надевает звездную диадему Царицы Ночи, Моцарту приходится покидать вечные пределы, чтобы послушать ее. Но нет, ему не следует беспокоиться, ибо звучный, взволнованный голос чарующей исполнительницы его «Волшебной флейты» долетит к нему и на небо, куда она возносится с легкостью, точно так же как без труда сумела переселиться из своей деревенской хижины в Скотлофе во дворец из золота и мрамора, построенный господином Гарнье»[6].
Однако после вечера у герцогини из Цюриха Кристина не поет больше в свете. Она отказывается от любых приглашений и любых гонораров. Не дав никакого правдоподобного объяснения, она отказалась появиться на благотворительном празднике, хотя раньше обещала принять в нем участие. Она ведет себя так, будто не вольна уже распоряжаться собственной судьбой, будто боится нового триумфа.
Кристине стало известно, что граф де Шаньи, стараясь доставить удовольствие своему брату, хлопотал за нее перед господином Ришаром. Она написала ему, чтобы поблагодарить, и просила не говорить о ней больше с директорами. Каковы же могли быть мотивы столь странного поведения? Одни уверяли, что это непомерная гордыня, другие кричали о божественной скромности. Но можно ли быть настолько скромным в театре? Не знаю, вернее всего, мне просто-напросто следовало написать всего одно лишь слово: страх. Да, мне думается, что Кристина Дое испугалась того, что с ней произошло, и наверняка была поражена не меньше окружающих.
Поражена? Да полно! Передо мной письмо Кристины (из коллекции Перса), которое связано с событиями того времени. Так вот, перечитав его, я уже не написал бы, что Кристина была поражена или даже испугана своим триумфом, нет, она была просто в ужасе. Да-да… в ужасе!
«Я не узнаю себя больше, когда пою!» – говорит она.
Бедное, чистое, нежное дитя!
Она нигде не показывалась, и виконт де Шаньи понапрасну пытался искать с ней встречи. Он писал ей, испрашивая разрешения явиться к ней, и уже отчаялся получить ответ, когда однажды утром она прислала ему письмо следующего содержания:
«Сударь!
Я не забыла маленького мальчика, который отправился за моим шарфом в море. Я не могу не написать вам об этом сегодня, когда, влекомая священным долгом, собираюсь в Перро. Завтра годовщина смерти моего бедного батюшки, которого вы знали и который очень любил вас. Он похоронен там вместе со своей скрипкой, на кладбище, прилегающем к церквушке, у подножия холма, где мы так часто играли маленькими, у обочины той самой дороги, где, чуть повзрослев, мы простились в последний раз».
Получив от Кристины Дое это письмо, виконт де Шаньи бросился к железнодорожному справочнику и, наспех одевшись, написал несколько строк, которые камердинер должен был отдать его брату, потом вскочил в экипаж, слишком поздно, однако, доставивший его на перрон вокзала Монпарнас, так что он не успел на утренний поезд, на который рассчитывал.
Рауль провел тоскливый день и вновь обрел вкус к жизни лишь вечером, когда занял место в вагоне. На протяжении всего пути он снова и снова перечитывал письмо Кристины, наслаждаясь ароматом ее духов и воскрешая в памяти сладостные картины своих юных лет. Всю эту отвратительную ночь на железной дороге он провел в лихорадочных мечтаниях, началом и концом которых была Кристина Дое.
Занимался день, когда он высадился в Ланьоне. Рауль тут же бросился к дилижансу Перро-Гирек. Он был единственным пассажиром. Расспросив кучера, он узнал, что накануне вечером молодая женщина, по виду парижанка, просила отвезти ее в Перро, где она остановилась в маленькой гостинице «Закатное солнце». Это могла быть только Кристина. Она приехала одна. Рауль вздохнул с облегчением. Наконец-то он сможет без всяких помех поговорить с Кристиной в этом уединенном месте. Он любил ее до умопомрачения. Этот взрослый парень, объехавший вокруг света, был чист, как девственница, никогда не покидавшая материнский кров.
По мере своего приближения к Кристине он с благоговением вспоминал историю маленькой шведской певицы. Многие ее подробности до сих пор неведомы толпе.
В небольшом селении в окрестностях Упсалы жил да поживал один крестьянин со своей семьей, всю неделю он возделывал землю, а по воскресеньям пел у аналоя. У крестьянина была девочка, которую, прежде чем она научилась читать, он приобщил к музыкальной азбуке. Папаша Дое был, возможно сам того не подозревая, великим музыкантом. Он играл на скрипке и считался лучшим деревенским скрипачом Скандинавии. Слава о нем шла по всей округе, к нему всегда обращались, если собирались потанцевать на свадьбе или на пирушке. Матушка Дое была немощной и умерла, когда Кристине шел шестой год. Отец, любивший лишь дочь да музыку, тотчас продал свой клочок земли и отправился за славой в Упсалу. Но нашел там только нищету. Тогда он вновь вернулся к деревенской жизни, бродил по ярмаркам, пиликая скандинавские мелодии, а дочь его, никогда не расстававшаяся с ним, с восторгом слушала отца или пела, вторя ему.
Однажды на ярмарке в Лимбе их обоих услышал профессор Валериус и увез с собой в Гётеборг. Он уверял, что отец – лучший уличный скрипач в мире, а дочь обладает всем необходимым, чтобы стать великой артисткой. И девочку стали обучать и воспитывать. Везде и всюду она всех очаровывала своей красотой, грацией и стремлением правильно говорить и правильно поступать. Успехи ее были поразительны. Тем временем профессору Валериусу и его жене пришлось переехать во Францию. Они взяли с собой Дое и Кристину. Госпожа Валериус относилась к Кристине как к родной дочери.
Что же касается отца, то он стал чахнуть от тоски по родине. В Париже папаша Дое никогда не выходил из дому. Жил в каком-то полусне, в мечтаниях, давая им пищу звуками своей скрипки. Целыми часами сидел он, закрывшись с дочерью в комнате, откуда доносились тихие звуки скрипки и пение. Иногда госпожа Валериус приходила послушать их у двери. Тяжело вздыхая, она вытирала слезу и возвращалась к себе на цыпочках. Она тоже тосковала по скандинавскому небу.
Папаша Дое оживал лишь летом, когда все семейство выезжало отдыхать в Перро-Гирек, в ту пору малоизвестный парижанам уголок Бретани. Ему очень нравилось море в этом краю, по его словам, такого же точно цвета, как там, на родине, и часто на пляже он играл для него самые печальные свои мелодии, уверяя, что море смолкает, внимая им. Потом он так стал донимать своими мольбами госпожу Валериус, что та смирилась с новой причудой бывшего деревенского скрипача.
В пору «прощений» – освященного обычаем бретонского паломничества, деревенских праздников, танцев и тайных вечеринок – он уходил, как в былые времена, со своей скрипкой на целую неделю и получал право брать с собой дочь. Их готовы были слушать непрестанно. На год вперед они наполняли сладкими звуками самые глухие деревенские уголки, а ночью, отказавшись от постели на постоялом дворе, спали, прижавшись друг к другу, в сараях, на соломе, как в то время, когда были бедняками в Швеции.
Хотя одеты они были очень прилично и отказывались брать су, которые им предлагали, не требовали пожертвований, так что окружающие не могли понять этого уличного скрипача, бродившего по дорогам с такой прелестной девочкой, она пела до того хорошо, что казалось, будто слышишь райского ангела. За ними следовали по пятам из деревни в деревню.
Однажды городской мальчик, который оказался поблизости со своей воспитательницей, заставил ту проделать большой путь, ибо никак не решался покинуть маленькую девочку, чей нежный и чистый голос буквально заворожил его. Так они добрались до бухточки, которая и сейчас зовется Трестрау. Тогда в том месте не было ничего, только небо да море и золотистый берег.
А кроме того, дул еще сильный ветер, который унес шарф Кристины в море. Вскрикнув, Кристина протянула руки, но тонкая ткань колыхалась уже далеко на волнах. И вдруг Кристина услышала чей-то голос: «Не беспокойтесь, мадемуазель, я достану ваш шарф!»
И она увидела мальчика, который бежал, бежал, несмотря на крики и возмущенные возгласы славной дамы в черном. Мальчик вошел в море одетый и принес шарф. И мальчик, и шарф оказались в плачевном состоянии! Дама в черном никак не могла успокоиться, а Кристина смеялась от всего сердца и поцеловала мальчика.
Это был виконт Рауль де Шаньи. В тот момент он жил со своей теткой в Ланьоне. В течение лета Кристина и Рауль виделись почти каждый день и вместе играли. По просьбе тетки и ходатайству профессора Валериуса папаша Дое согласился давать уроки игры на скрипке юному виконту. Так Рауль научился любить те же мелодии, которые околдовали детство Кристины. У обоих была мечтательная, покойная душа. Они любили разные истории, старые бретонские сказки, ничего другого им и не требовалось, и главная их игра заключалась в том, чтобы ходить от двери к двери, выпрашивая их, словно нищие. «Сударыня или милостивый государь, нет ли у вас какой-нибудь занятной истории, пожалуйста, расскажите нам ее!» Им редко не соглашались «подавать». Найдется ли такая бретонская старушка преклонных лет, которая бы хоть раз в жизни не видела, как при свете луны танцуют в вересковых зарослях злые духи?
Однако настоящий праздник наступал для них в сумерках, когда солнце исчезало в море и нисходил великий вечерний покой, вот тогда-то папаша Дое садился рядом с ними на обочине дороги и рассказывал им тихим голосом, словно опасаясь спугнуть призраков, которых вызывал, великолепные, сладостные или страшные легенды Северной страны. Это могло быть прекрасно, как сказки Андерсена, или печально, как баллады великого поэта Рунеберга. Стоило ему умолкнуть, и дети хором просили: «Еще!»
Была одна история, которая начиналась так:
«Король сидел в маленьком челне на одном из тех спокойных и глубоких водоемов, что открываются вдруг взору, словно сверкающее око посреди норвежских гор…»
Или вот еще другая:
«Маленькая Лотта думала обо всем и ни о чем. Летняя пташка, она парила в золотых солнечных лучах с весенним венком на своих светлых локонах. Душа у нее была ясной и такой же лучезарной, как ее взгляд. Она нежила и лелеяла свою мать, хранила верность кукле, очень заботилась о своем платье, красных туфельках и скрипке, но более всего любила слушать, засыпая, Ангела музыки».
Пока папаша Дое рассказывал все это, Рауль смотрел на золотистые волосы и голубые глаза Кристины. А Кристина думала, что на долю маленькой Лотты выпало несказанное счастье: слушать, засыпая, Ангела музыки.
У папаши Дое не было, пожалуй, ни одной истории, где не возникал бы Ангел музыки, и дети постоянно требовали у него объяснений по поводу этого Ангела. Папаша Дое утверждал, что ко всем великим музыкантам, ко всем большим артистам хотя бы раз в жизни приходит Ангел музыки. Иногда этот Ангел склоняется над их колыбелью, как это случилось с маленькой Лоттой, потому-то и встречаются чудо-дети, которые в шесть лет играют на скрипке лучше, чем многие в пятьдесят, что, признайтесь, совершенно поразительно. А иногда Ангел приходит гораздо позже, потому что дети бывают непослушны и не хотят учиться, небрежно относятся к своим гаммам. Но бывает, Ангел вообще не приходит, если сердце у человека нечистое и совесть неспокойна. Ангела никто никогда не видит, но его дано слышать избранным душам. И чаще всего такое случается в те минуты, когда они меньше всего этого ожидают, пребывают в печали и унынии. Тогда вдруг ухо улавливает небесную музыку, некий божественный голос, и это остается в памяти на всю жизнь. Люди, которых посетил Ангел, словно воспламеняются. Их охватывает трепет, неведомый остальным смертным. И у них появляется одна особенность: стоит им коснуться инструмента или открыть рот, чтобы петь, как возникают звуки, затмевающие своей красотой все иные человеческие звуки. Те, кто не знает, что этих людей посетил Ангел музыки, говорят: у них талант.
Маленькая Кристина спрашивала у папы, доводилось ли ему слышать Ангела. В ответ папаша Дое грустно качал головой, но потом взгляд его оживлялся, глаза начинали блестеть, и он говорил своей дочке: «Ты, моя девочка, обязательно его услышишь. Когда я буду на небе, я пошлю его к тебе, обещаю!»
К тому времени папаша Дое начал кашлять.
Пришла осень и разлучила Рауля с Кристиной.
Через три года они снова встретились – уже молодыми людьми. Произошло это опять в Перро, и Рауль сохранил о той встрече такое воспоминание, что оно преследовало его всю жизнь.
Профессор Валериус умер, но госпожа Валериус осталась во Франции, где ее удерживали интересы, а вместе с ней остались папаша Дое с дочерью. Они по-прежнему пели и играли на скрипке, увлекая своей мелодичной мечтой дорогую их сердцу покровительницу, которая жила теперь, казалось, только музыкой.
Молодой человек приехал на всякий случай в Перро и зашел в дом, где оставил когда-то свою маленькую подружку. Сначала он увидел старика Дое; тот встал со стула и со слезами на глазах обнял его, сказав, что они, конечно же, помнят его. Действительно, не проходило дня, чтобы Кристина не вспоминала Рауля. Старик все еще говорил, когда дверь отворилась и вошла очаровательная девушка, которая заботливо несла на подносе горячий чай. Она узнала Рауля и поставила свою ношу. Прелестное личико вспыхнуло легким румянцем. Девушка в нерешительности молчала. Папаша глядел на них обоих. Рауль подошел к девушке и поцеловал ее; она не сопротивлялась. Задав ему несколько вопросов, Кристина премило выполнила обязанности хозяйки, потом взяла поднос и покинула комнату. Затем поспешила в сад и села в одиночестве на скамью. Ее охватили чувства, впервые всколыхнувшиеся в юном сердце. Вскоре к ней присоединился Рауль, и они в смущении проговорили до вечера.
Оба сильно изменились и с трудом узнавали друг друга, поражаясь тому, какое огромное значение приобрел каждый в глазах другого. Они вели себя осторожно, как дипломаты, беседовали о вещах, не имевших никакого отношения к их нарождающимся чувствам. Когда же они прощались на обочине дороги, Рауль, запечатлев вежливый поцелуй на ее дрожащей руке, сказал Кристине: «Мадемуазель, я никогда вас не забуду!» – и ушел, сожалея о своих опрометчивых словах, ибо прекрасно сознавал, что Кристина Дое не может стать женой виконта де Шаньи.
Что касается Кристины, то она, вернувшись к отцу, сказала: «Тебе не кажется, что Рауль стал не таким милым, как прежде? Я его больше не люблю!» И она попыталась не думать о нем.
Удавалось ей это с трудом, тогда она полностью отдалась своему искусству, отнимавшему у нее все время. Успехи ее были поразительны. Те, кто слышал ее, предсказывали, что она станет лучшей артисткой во всем мире. Но тем временем умер ее отец, и вместе с ним она, казалось, потеряла и свой голос, и свою душу, и свой талант. Кое-что у нее все-таки осталось, этого хватило – но едва-едва, – чтобы поступить в консерваторию. Она ничем не выделялась, прилежно занималась, но без особого энтузиазма, и получила премию, чтобы доставить удовольствие старой госпоже Валериус, вместе с которой продолжала жить.
Первый раз, когда Рауль вновь увидел Кристину в Опере, он был очарован красотой юной девушки и навеянными ею воспоминаниями о милых картинах прошлой жизни, но в то же время удивлен ее невысокими достижениями в искусстве. Потом пришел еще раз ее послушать. Он последовал за ней за кулисы. Ждал, пытаясь привлечь ее внимание. Не раз провожал ее до порога гримерной, но она его не замечала. Впрочем, казалось, будто она никого не замечает. Мимо проходило само безразличие. Рауль страдал, ибо она была красива; он был робок и не решался признаться самому себе, что любит ее. А потом, как гром среди ясного неба, случился тот праздничный гала-концерт: небеса разверзлись, и на земле зазвучал ангельский голос, призванный завораживать мужчин и погубить его собственное сердце…
А потом, потом послышался мужской голос за дверью: «Любите меня!» – и никого в гримерной…
Почему она засмеялась, когда он сказал ей, как только она открыла глаза: «Я тот самый маленький мальчик, который подобрал в море ваш шарф»? Отчего не узнала его? И зачем написала ему?
О! Какой длинный берег, очень длинный… Вот перекресток, где сходятся три дороги… Пустынная равнина, обледенелый вереск, пейзаж, застывший под бледным небом. Позвякивают стекла, а ему кажется – они разбиваются у него в ушах… Сколько шума от этого дилижанса, продвигающегося так медленно! Он узнаёт хижины, ограды, откосы, деревья вдоль дороги… А вот и последний поворот, дальше дорога пойдет под уклон, а там – море, просторная бухта Перро…
Итак, она остановилась в гостинице «Закатное солнце». А где же еще! Других попросту нет. К тому же гостиница очень хорошая. Он помнит, какие прекрасные истории рассказывались там в былые времена! Как сильно бьется сердце! Что она скажет, когда увидит его?
Первой, кого он заметил, войдя в старый закоптившийся зал гостиницы, была матушка Трикар. Она узнала его. Осыпала комплиментами. Спросила, что привело его в эти края. Он покраснел. Сказал, что приехал по делам в Ланьон и решил «заглянуть сюда, чтобы поприветствовать ее». Она хотела подать ему завтрак, но он ответил: «После». Казалось, он ждет чего-то или кого-то. Дверь открывается. Рауль тут же вскакивает. Он не ошибся: это она! Он хочет что-то сказать и снова опускается на стул.
Она стоит перед ним улыбающаяся, ничуть не удивленная. Лицо у нее свежее, розовое, похожее на клубнику, созревшую в тени. Девушка наверняка разволновалась от быстрой ходьбы. Грудь ее, где скрывается чистое сердце, тихонько приподнимается. Глаза – прозрачные, светло-лазоревые зеркала цвета неподвижных, задумчивых озер там, ближе к северу мира, эти глаза безмятежно посылают ему отражение ее чистой души. Меховое одеяние распахнулось, приоткрыв гибкую талию, стройную линию ее молодой, полной грации фигуры. Рауль и Кристина долго смотрят друг на друга. Матушка Трикар улыбается и незаметно исчезает.
Наконец Кристина заговорила:
– Вы приехали, меня это нисколько не удивляет. У меня было предчувствие, что, вернувшись с мессы, я найду вас здесь, в этой гостинице. Кто-то сказал мне там об этом. Мне сообщили о вашем прибытии.
– Кто же? – спрашивает Рауль, заключая в свои руки маленькую ручку Кристины, которой та не отнимает.
– Ну конечно, мой бедный покойный папа.
– А ваш папа не сказал вам, что я люблю вас, Кристина, что я не могу жить без вас?
Кристина покраснела до корней волос и отвернулась.
– Меня? Вы с ума сошли, мой друг, – сказала она дрожащим голосом. И рассмеялась, чтобы придать себе уверенности.
– Не смейтесь, Кристина, это очень серьезно.
А она в ответ строгим голосом:
– Я заставила вас сюда приехать вовсе не для того, чтобы вы говорили мне подобные вещи.
– Вы «заставили» меня приехать, Кристина, значит, вы догадались, что ваше письмо не оставит меня равнодушным и что я примчусь в Перро. Как вы могли такое предположить, если не думали, что я вас люблю?
– Я думала, вы вспомните наши детские игры, в которых нередко принимал участие мой отец. По правде говоря, я и сама хорошенько не знаю, о чем я думала… Возможно, я напрасно вам написала… Ваше внезапное появление в моей гримерной в тот вечер перенесло меня далеко, очень далеко в прошлое, и я написала вам, как маленькая девочка, какой была тогда, которая в минуту печали и одиночества была бы рада вновь увидеть рядом с собой своего маленького приятеля…
Какое-то время они хранят молчание. Есть в поведении Кристины что-то такое, что кажется Раулю неестественным, хотя ему и не удается понять, что именно. Между тем он не ощущает ее враждебности, напротив… грустная нежность ее взгляда говорит сама за себя. Но почему в этой нежности столько грусти? Вот что следует прояснить и что не может не раздражать молодого человека…
– Когда вы увидели меня в своей гримерной, Кристина, это был первый раз, что вы меня заметили?
Она не умеет лгать и потому отвечает:
– Нет! Я уже видела вас несколько раз в ложе вашего брата. И на сцене тоже.
– Я так и знал! – говорит Рауль, надувшись. – Но почему же в таком случае, увидев меня у своих ног в гримерной, да еще после того, как я напомнил вам, что подобрал в море ваш шарф, почему вы ответили так, будто вовсе меня не знаете, и еще смеялись?
Тон вопросов был таким жестким, что Кристина с удивлением взглянула на Рауля и ничего не ответила. Молодой человек и сам поразился внезапной ссоре, на которую он отважился именно в тот момент, когда обещал себе сказать Кристине слова, которые выразили бы всю его нежность, любовь и смиренное послушание. Именно так разговаривал бы муж или любовник, у которого есть все права, с оскорбившей его женой или любовницей. Он и сам на себя сердится, чувствуя свою вину и считая себя глупцом, но не находит выхода из этого смешного положения и принимает отчаянное решение показать себя с отвратительной стороны.
– Вы мне не отвечаете! – ощущая себя несчастным, злобно говорит он. – Хорошо, тогда я отвечу за вас! Дело в том, что в гримерной находился кто-то еще, кто вас стеснял, Кристина! Кто-то, кому вы не хотели показать, что можете интересоваться кем-то другим!..
– Если кто-то и стеснял меня, друг мой, – прервала его Кристина ледяным тоном, – если кто-то и стеснял меня в тот вечер, вероятно, это были вы, если я выставила вас за дверь!..
– Да!.. Чтобы остаться с другим!..
– Что вы такое говорите, сударь? – задыхаясь, ответила молодая женщина. – И о ком другом идет речь?
– О том, кому вы сказали: «Я пою только для вас! Сегодня я отдала вам всю душу и осталась без сил!»
Кристина схватила Рауля за руку и сжала ее с такой силой, какую трудно было заподозрить у столь хрупкого существа.
– Стало быть, вы подслушивали за дверью?
– Да! Потому что люблю вас… И я все слышал…
– Что вы слышали? – Отпустив руку Рауля, девушка вновь обрела странное спокойствие.
– Он сказал вам: «Любите меня!»
При этих словах смертельная бледность разлилась по лицу Кристины, глаза ввалились, пошатнувшись, она едва не упала. Рауль бросился к ней, протягивая руки, но Кристина уже превозмогла минутную слабость и тихим, почти умирающим голосом прошептала:
– Дальше! Говорите дальше! Расскажите обо всем, что слышали!
Рауль в нерешительности смотрит на нее, не понимая, что же все-таки происходит.
– Да говорите же! Разве вы не видите, что я чуть не умираю!..
– Еще я слышал, как он ответил вам, когда вы сказали, что отдали ему всю душу: «Твоя душа прекрасна, дитя мое, и я благодарю тебя. Вряд ли найдется император, который получил бы подобный дар! Ангелы плакали сегодня вечером!»
Кристина подносит руку к сердцу. В неописуемом волнении она пристально смотрит на Рауля. И взгляд у нее такой пронзительный, такой неподвижный, что кажется, будто это взгляд безумной. Рауль в ужасе. Но вот глаза Кристины стали влажными, и на ее щеки цвета слоновой кости скатились две жемчужины, две тяжелых слезы…
– Кристина!..
– Рауль!..
Молодой человек хочет схватить ее, но она выскальзывает у него из рук и убегает в полном смятении.
Пока Кристина сидела взаперти у себя в комнате, Рауль осыпал себя упреками за свою резкость, хотя, с другой стороны, в его горячей крови снова разбушевалась ревность. Для того чтобы девушка проявила подобное волнение, узнав, что ее секрет раскрыт, секрет должен быть немаловажным! Несмотря на все услышанное, Рауль, разумеется, нисколько не сомневался в чистоте Кристины. Он знал, что она пользовалась безупречной репутацией, и сам не был таким уж неискушенным новичком, чтобы не понять: актриса порой бывает вынуждена выслушивать любовные речи. Она в ответ заявила, что отдала всю душу, но нет сомнений, что речь тут шла всего лишь о пении и музыке. Нет сомнений? Тогда откуда же такое волнение сейчас? Боже мой, до чего же несчастен был Рауль! И если бы ему попался мужчина, тот самый мужской голос, он потребовал бы у него более четких объяснений.
Почему Кристина убежала? Почему она не выходит?
Рауль отказался от обеда. Он был страшно опечален, с великой горечью сознавая, что эти часы, рисовавшиеся ему в мечтах столь радужными, протекают вдали от юной шведки. Почему она не желает побродить вместе с ним по тем местам, с которыми их связывает столько общих воспоминаний? И почему, если ей, судя по всему, нечего больше делать в Перро, да она и в самом деле ничего здесь не делает, почему она сей же час не возвращается в Париж? Ему стало известно, что утром она заказала мессу за упокой души папаши Дое и несколько часов молилась в маленькой церквушке и на могиле деревенского скрипача.
Печальный и обескураженный, Рауль отправился на кладбище, окружавшее церковь. Открыв калитку, он бродил в одиночестве среди могил, разбирая надписи, но, дойдя до алтарного выступа, сразу все понял, увидев яркие цветы, оживлявшие могильную плиту и, не умещаясь на ней, ниспадавшие до самой земли, укрытой белым покровом. Они наполняли благоуханием этот заледенелый от зимней стужи бретонский уголок. То были чудесные красные розы, распустившиеся, казалось, утром в снегу. Они вносили немного жизни в царство мертвых, ибо смерть тут была повсюду. Она тоже не умещалась в земле, отторгавшей избыток трупов. Скелеты и черепа сотнями скапливались у церковной стены, удерживаемые всего-навсего легкой железной сеткой, оставлявшей неприкрытой эту жуткую конструкцию. Черепа, уложенные рядами, словно кирпичи, и укрепленные в промежутках чисто выбеленными костями, как бы образовывали фундамент, на который опирались стены ризницы. Дверь ризницы находилась посреди этого скопления костей, которое нередко можно увидеть у стен старых бретонских церквей.
Помолившись за папашу Дое, Рауль, на которого навеки застывшие улыбки, свойственные черепам, произвели безотрадное впечатление, покинул кладбище и, поднявшись по откосу, сел на краю равнины, возвышавшейся над морем. Ветер злобно метался по песчаному берегу, стараясь прогнать жалкий и боязливый свет дня. Обращенный в бегство, тот отступил, застыв у горизонта белесой полосой. Ветер утих. Наступил вечер. Ледяной сумрак окутал Рауля, но он не ощущал холода. Предаваясь воспоминаниям, мысленно он бродил по пустынной, унылой равнине. Именно сюда, на это место, с наступлением сумерек он часто приходил с маленькой Кристиной, чтобы в тот момент, когда появится луна, посмотреть на танец злых духов. Что касается его, то сам он никогда их не видел, хотя отличался хорошим зрением. Кристина же, которая была немного близорука, напротив, уверяла, будто видела их множество.
При этой мысли он улыбнулся, потом вдруг вздрогнул. Какая-то фигура, вполне отчетливая, но явившаяся неведомо откуда, ибо он не слышал ни малейшего шума, так вот эта фигура, стоявшая рядом с ним, произнесла:
– Вы думаете, злые духи придут сегодня вечером?
То была Кристина. Он собирался что-то сказать. Но она закрыла ему рот рукой, затянутой перчаткой.
– Послушайте, Рауль, я решилась сказать вам важную вещь, очень важную! – Голос ее дрожал.
Он ждал.
Она с трудом продолжала:
– Вы помните, Рауль, легенду об Ангеле музыки?
– Еще бы! – молвил он. – Думается, именно здесь ваш отец впервые рассказал нам ее.
– И именно здесь он мне обещал: «Когда я буду на небе, дитя мое, я пришлю его к тебе». Так вот, Рауль, мой отец на небе, и ко мне приходил Ангел музыки.
– Не сомневаюсь, – серьезным тоном произнес молодой человек, ибо решил, что в сознании его подруги, предававшейся благочестивым мыслям, смешались воспоминания об отце и ее недавний оглушительный триумф.
Кристина, казалось, слегка удивилась хладнокровию, с каким виконт де Шаньи воспринял известие о том, что к ней приходил Ангел музыки.
– Что вы под этим разумеете, Рауль? – спросила она, склонив свое бледное лицо к лицу молодого человека так близко, что тот мог подумать, будто Кристина собирается его поцеловать, но она, несмотря на темноту, хотела всего лишь увидеть выражение его глаз.
– Я полагаю, – отвечал он, – что человеческое создание не может петь так, как пели вы в тот вечер, без вмешательства какого-то чуда, без содействия небес. Не сыщется на земле такого преподавателя, который мог бы научить вас подобным интонациям. Вы слышали Ангела музыки, Кристина.
– Да, – торжественно заявила она, – в моей гримерной. Он приходит туда ежедневно давать мне уроки.
Она произнесла это таким проникновенным и странным тоном, что Рауль посмотрел на нее с беспокойством, так смотрят на человека, который говорит несусветную глупость или настаивает на существовании некоего безумного видения и верит в него всеми силами своего несчастного, больного разума. Но она отодвинулась и, застыв неподвижно, походила теперь на слабую тень в ночи.
– В вашей гримерной? – вторил ей Рауль, словно нелепое эхо.
– Да, я слышала его именно там, и не я одна…
– Кто же слышал его еще, Кристина?
– Вы, мой друг.
– Я? Я слышал Ангела музыки?
– Да, в тот вечер; это говорил он, когда вы слушали за дверью моей гримерной. Это он сказал мне: «Любите меня». Однако я думала, что только одна различаю его голос. Представьте же мое удивление, когда сегодня утром я узнала, что и вы смогли его услышать, и вы тоже.
Рауль рассмеялся. И тотчас тьма над пустынной равниной рассеялась, и первые лучи лунного света упали на молодых людей. Кристина с неприязненным видом повернулась к Раулю. Глаза ее, обычно такие ласковые, метали молнии.
– Почему вы смеетесь? Может, вы думаете, что слышали голос мужчины?
– Конечно! – отвечал молодой человек, мысли которого начали путаться из-за воинственного поведения Кристины.
– И это вы, Рауль, вы говорите мне это! Мой давний маленький товарищ! Друг моего отца! Я не узнаю вас больше. Что вы себе вообразили? Я честная девушка, господин виконт де Шаньи, и не закрываюсь у себя в гримерной с мужскими голосами. Если бы вы открыли дверь, то увидели бы, что там никого не было!
– Верно! Когда вы ушли, я открыл дверь и никого не нашел в гримерной…
– Вот видите. В чем же дело?
Виконт собрал все свое мужество.
– А вот в чем, Кристина, я думаю, над вами кто-то смеется!
Она вскрикнула и убежала. Он кинулся вслед за ней, но она бросила ему в неописуемом гневе:
– Оставьте меня! Оставьте меня! – И исчезла.
Рауль вернулся в гостиницу, испытывая страшную усталость, уныние и неизбывную печаль.
Ему сказали, что Кристина поднялась к себе в комнату, заявив, что не спустится к ужину. Молодой человек спросил, не больна ли она. Славная хозяйка гостиницы ответила двусмысленно: мол, если она и страдает, то болезнь ее не опасна, и, полагая, что влюбленные поссорились, пожав плечами, удалилась, давая понять, что испытывает жалость к молодым людям, которые тратят на пустые раздоры считаное время, отпущенное им Господом Богом на земле.
Рауль поужинал в полном одиночестве у огня, как вы сами понимаете, в весьма мрачном расположении духа. Затем попытался читать у себя в комнате, потом попробовал заснуть в своей кровати. В соседних апартаментах не было слышно ни звука. Что делала Кристина? Спала? А если не спала, о чем думала? А он, о чем он думал? В состоянии ли он был сказать это? Странная беседа с Кристиной совсем сбила его с толку!.. И думал он не столько о самой Кристине, сколько о том, что творилось вокруг Кристины, и это «вокруг» казалось таким неясным, таким туманным и неуловимым, что он испытывал странное и томительное чувство неловкости.
Часы тянулись бесконечно медленно. Было, наверное, около половины двенадцатого ночи, когда он явственно различил шаги в соседней комнате. То были легкие, осторожные шаги. Кристина, стало быть, не ложилась? Не отдавая себе отчета в своих действиях, молодой человек торопливо оделся, стараясь не шуметь. И, готовый ко всему, стал ждать. Готовый к чему? Да разве он знал?
Сердце его подскочило, когда он услыхал, как дверь Кристины медленно открывается. Куда она собиралась в столь поздний час, когда в Перро все замерло?
Тихонько приоткрыв свою дверь, Рауль увидел в лунном свете белую фигуру Кристины, с большими предосторожностями скользнувшую по коридору. Вот она дошла до лестницы, спустилась, а он наверху склонился над перилами.
Внезапно он услышал два голоса, торопливо о чем-то переговаривающихся. До него донеслась фраза: «Не потеряйте ключ». Это был голос хозяйки гостиницы.
Внизу отворилась выходившая на рейд дверь. Ее закрыли. И снова все стихло. Рауль тотчас вернулся в свою комнату и подбежал к окну, распахнув его. Белая фигура Кристины маячила на пустынной набережной.
Второй этаж гостиницы «Закатное солнце» был совсем невысок, и шпалерное дерево, протягивавшее свои ветки навстречу нетерпеливым рукам Рауля, позволило тому выбраться наружу так, что хозяйка и не заметила его отсутствия. А посему велико было удивление славной дамы, когда на следующее утро к ней принесли полузамерзшего молодого человека, который был ни жив ни мертв, и она узнала, что его нашли распростертым на ступеньках главного алтаря маленькой церквушки Перро. Она поспешила сообщить новость Кристине. Торопливо спустившись, та с помощью хозяйки гостиницы, не жалея сил, в тревоге стала приводить в чувство Рауля, который вскоре открыл глаза и окончательно вернулся к жизни, увидев склонившееся над ним очаровательное лицо своей подруги.
Что же произошло?
Несколькими неделями позже, когда драма в Опере привлекла внимание прокуратуры, комиссар Мифруа получил возможность допросить виконта де Шаньи относительно событий той ночи в Перро, и вот в каком виде они были записаны в досье проводившегося расследования. (Шифр 150.)
Вопрос. Мадемуазель Дое не видела, как вы спускались из своей комнаты по странно выбранному пути?
Ответ. Нет, сударь, нет. Между тем я следовал за ней, даже не пытаясь заглушить шум своих шагов. Я молил тогда только об одном: чтобы она обернулась, увидела и узнала меня. В самом деле, я говорил себе, что мое преследование неучтиво и шпионство, на которое я решился, недостойно меня. Но она, казалось, ничего не слышала и вела себя так, словно меня там не было. Она спокойно покинула набережную, потом вдруг торопливо пошла обратно и стала подниматься по дороге. Церковные часы только что пробили без четверти двенадцать, и мне почудилось, будто удар часов словно подстегнул ее, ибо она почти бежала. И наконец добралась до входа на кладбище.
Вопрос. Ворота кладбища были открыты?
ОТВЕТ. Да, сударь, и это меня поразило, но, пожалуй, ничуть не удивило мадемуазель Дое.
Вопрос. На кладбище никого не было?
Ответ. Я никого не заметил. Если бы кто-то был там, я бы увидел. Луна светила ослепительно ярко, и снег, покрывавший землю, отражая ее лучи, делал ночь еще светлее.
Вопрос. Нельзя ли было спрятаться за могилами?
Ответ. Нет, сударь. Жалкие надгробные камни утонули под слоем снега, и кресты оказались на уровне земли. Виднелись лишь наши две тени да тени от этих крестов. Церковь была залита светом. Никогда я не видел ночью подобного света. Это было так красиво, прозрачно и пронизано холодом. Я ни разу не ходил ночью на кладбище и не знал, что там можно увидеть подобный свет, я бы сказал «невесомый свет».
Вопрос. Вы суеверны?
Ответ. Нет, сударь, я верующий.
Вопрос. В каком состоянии духа вы находились?
Ответ. Вполне нормальном и спокойном, честное слово. Разумеется, странный уход мадемуазель Дое меня глубоко поразил, но это только сначала; когда же я увидел, что девушка идет на кладбище, то подумал: она пришла исполнить какой-то обет на отцовской могиле, такая вещь показалась мне вполне естественной, и я вновь обрел спокойствие. Я только удивился, что она все еще не слышит, как я иду за ней, ведь снег хрустел у меня под ногами. Вероятно, она полностью была поглощена благочестивыми помыслами. Впрочем, я не хотел мешать ей, и, когда она подошла к могиле отца, я остановился в нескольких шагах сзади. Став на колени в снегу, она перекрестилась и начала молиться. В этот момент пробило полночь. Двенадцатый удар еще звучал в моих ушах, когда внезапно я увидел, что девушка поднимает голову; взгляд ее устремился к небесному своду, а руки простерлись к ночному светилу; мне показалось, ее охватил исступленный восторг, и я все еще спрашивал себя, в чем причина этого внезапного восторга, когда сам поднял голову, растерянно оглядываясь по сторонам и всем своим существом устремляясь к Невидимому, тому Невидимому, кто исполнял для нас музыку. И какую музыку! Мы ее уже знали! Кристина и я не раз слышали ее в детстве. Но никогда на скрипке папаши Дое она не звучала с такой божественной силой. Самое лучшее, что я мог сделать в такую минуту, – это вспомнить все сказанное недавно Кристиной об Ангеле музыки. Я не знал, что и думать о незабываемых звуках: если они не спускались с неба, то неизвестно, откуда брались на земле. Там не было ни инструмента, ни руки, которая водила бы смычком. О, я прекрасно помнил восхитительную мелодию – «Воскрешение Лазаря». Папаша Дое исполнял это для нас в минуты печали и веры. Если бы Ангел Кристины действительно существовал, он не смог бы лучше сыграть той ночью на скрипке покойного деревенского скрипача. Мольба, обращенная к Иисусу, отрывала нас от земли, и, честное слово, я почти ожидал увидеть, как поднимается могильная плита отца Кристины. Мне пришла мысль, что Дое был похоронен вместе со своей скрипкой, и, по правде говоря, я не знаю, до чего дошло в эту зловещую и лучезарную минуту в глуши маленького провинциального кладбища, рядом с черепами, улыбавшимися нам своими неподвижно застывшими челюстями, нет, я в самом деле не знаю, до чего дошло мое воображение и на чем остановилось.
Но вот музыка смолкла, и я пришел в себя. Мне показалось, будто я услышал шум со стороны скопища черепов и костей.
Вопрос. Ах, вот как… Вы слышали шум со стороны скопища черепов и костей?
Ответ. Да, мне почудилось, что черепа усмехаются, и я невольно вздрогнул.
Вопрос. А вы не подумали, что за костями как раз и мог прятаться тот самый божественный музыкант, который так очаровал вас?
Ответ. Еще бы, конечно, подумал и уже не мог думать ни о чем другом, господин комиссар, я даже не последовал за мадемуазель Дое, которая поднялась и спокойно направилась к воротам кладбища. Она была настолько поглощена своими мыслями, что не заметила меня, в этом нет ничего удивительного. Я замер, не спуская глаз с костей, решив до конца разобраться в этой невероятной истории и найти разгадку.
Вопрос. Что же все-таки случилось, если наутро вас нашли полумертвым, распростертым на ступенях главного алтаря?
Ответ. О, все произошло очень быстро… К моим ногам скатился череп, потом второй, и еще один… Можно было подумать, что я стал мишенью этой зловещей игры в шары. Мне пришло в голову, что какое-то неосторожное движение нарушило порядок в нагромождении костей, за которыми прятался наш музыкант. Такое предположение показалось мне тем более обоснованным, что на залитой ослепительным светом стене ризницы внезапно мелькнула чья-то тень.
Я поспешил вослед. А тень, толкнув дверь, уже проникла в церковь. У меня были крылья, а у тени – широкое пальто. Я был достаточно скор и успел ухватиться за полу пальто тени. В этот момент тень и я, мы оба оказались как раз перед главным алтарем, и лунный свет, проникавший сквозь витраж алтарного выступа, падал прямо на нас. Я не отпускал полу, тень обернулась, пальто, в которое она была закутана, распахнулось, и я увидел, господин следователь, так же ясно, как вижу вас сейчас, кошмарный череп, устремивший на меня горящий взгляд, в котором отражалось пламя ада. Я решил, что имею дело с самим Сатаной, сердце мое, несмотря на все свое мужество, не устояло перед этим потусторонним видением, больше я ничего не помню вплоть до того момента, когда очнулся в маленькой комнатке в гостинице «Закатное солнце».
Визит в ложу номер пять
Мы расстались с господином Фирменом Ришаром и господином Арманом Моншарменом в тот момент, когда они собирались отправиться с кратким визитом в ложу номер пять первого яруса.
Широкая лестница, ведущая из административного вестибюля к сцене и подсобным помещениям, осталась позади; они пересекли сцену (сценическую площадку), проникли в театр через вход для абонированных зрителей, а дальше в зал – по первому коридору слева.
Пробравшись между первыми рядами партера, они взглянули на ложу номер пять первого яруса. Но из-за царившего там полумрака и наброшенных на красный бархат подлокотников огромных чехлов разглядеть ее хорошенько им не удалось.
В эту минуту они оказались почти одни в огромном сумрачном нефе, их окружала полнейшая тишина. Это был спокойный час, когда машинисты сцены уходят пить.
Вся смена на короткое время покинула площадку, бросив наполовину установленную декорацию; лишь отдельные лучи света (тусклого, зловещего, украденного, казалось, у какого-то умирающего светила) сочились сквозь неведомое отверстие, падая на старинную башню, ощетинившуюся на сцене своими картонными зубцами; предметы в неверном свете этой искусственной ночи или, вернее, обманного дня принимали странные очертания. Полотно, укрывавшее кресла партера, напоминало разбушевавшееся море, чьи сине-зеленые волны внезапно замерли по тайному повелению исполина, властителя бурь, который, как каждому известно, зовется Адамастором.
Господин Моншармен и господин Ришар выглядели жертвами кораблекрушения средь застывшего волнения полотняного моря. Они продвигались к ложам левой стороны большими рывками, наподобие моряков, оставивших свою лодку и пытающихся добраться до берега. Восемь огромных колонн вроде полированных подпорок вставали во тьме, как невероятных размеров сваи, призванные удержать угрожающе нависшую, вот-вот готовую рухнуть вздувшуюся скалу, основание которой избороздили круговые, параллельные, изогнутые линии балконов лож первого, второго и третьего ярусов. А наверху, на самом верху отвесной скалы гримасничали, усмехались, зубоскалили, насмешничали, издевались над беспокойством господина Моншармена и господина Ришара затерянные в медных небесах господина Ленепве[7] лики. Хотя обычно лики эти отличались крайней серьезностью. Вот их имена: Исида, Амфитрита, Геба, Флора, Пандора, Психея, Фетида, Помона, Дафна, Клития, Галатея, Аретуза. Да, сама Аретуза и Пандора, которую все знают из-за ее ящика, глядели на двух новых директоров Оперы, зацепившихся в конце концов за какой-то обломок и молча созерцавших оттуда ложу номер пять первого яруса. Я сказал, они были обеспокоены. По крайней мере, я так полагаю. Господин Моншармен, во всяком случае, признает, что был потрясен. Он говорит буквально следующее:
«Эти бабьи сказки (ну и стиль!) насчет Призрака Оперы, в которые нас так мило пытались заставить поверить с тех пор, как мы стали преемниками господина Полиньи и господина Дебьенна, в конце концов, безусловно, нарушили равновесие моих умственных, а вернее всего, и зрительных способностей, ибо (была ли тому виной необычайная обстановка, в которой мы очутились, и поразившая нас невероятная тишина?.. Или мы стали жертвой своего рода галлюцинации, обусловленной почти полной тьмой в зале и полумраком, царившим в ложе номер пять?), ибо в ложе номер пять я увидел, и Ришар тоже увидел, причем в тот же самый момент, некую фигуру. Ришар ничего не сказал, как, впрочем, и я. Однако мы инстинктивно взялись за руки. Затем подождали несколько минут, не шевелясь и не сводя глаз с одной точки, но фигура исчезла. Тогда мы вышли и уже в коридоре поделились своими впечатлениями, упомянув о фигуре. К несчастью, моя фигура была совсем не похожа на фигуру Ришара. Лично я видел что-то вроде черепа на бортике ложи, в то время как Ришар заметил фигуру старой женщины, походившей на матушку Жири. Тут мы сразу поняли, что действительно стали жертвой обманчивого воображения, и с громким смехом незамедлительно бегом бросились на первый ярус к ложе номер пять, вошли туда, но уже не обнаружили никакой фигуры».
И вот теперь мы в ложе номер пять.
Эта ложа ничем не отличается от остальных лож первого яруса. По правде говоря, она в точности такая же, как соседние.
Господин Моншармен и господин Ришар, демонстративно веселясь и посмеиваясь друг над другом, двигали мебель в ложе, приподнимали чехлы и кресла, с особым вниманием изучая то, в котором имел обыкновение сидеть голос.
Однако им пришлось признать, что это было самое обычное кресло, ничего волшебного они в нем не нашли. Словом, ложа была самая что ни на есть заурядная – с красной обивкой, креслами, ковриком и бортиками красного бархата.
Ощупав тщательнейшим образом коврик и не обнаружив в нем, как, впрочем, и во всем остальном, ничего особенного, они спустились в ложу бенуара, находившуюся непосредственно под ложей номер пять.
В ложе бенуара номер пять, расположенной в углу рядом с первым левым выходом из партера, они также не обнаружили ничего, что заслуживало бы внимания.
– Над нами все смеются! – воскликнул под конец Фирмен Ришар. – В субботу мы даем «Фауста» и оба будем присутствовать на представлении в ложе номер пять первого яруса!
в которой повествуется о том, как господин Фирмен Ришар и господин Арман Моншармен имели смелость дать «Фауста» в «про́клятом» зале и какое ужасное событие произошло вследствие этого
Однако, явившись в субботу утром в свои кабинеты, директора нашли в двух экземплярах письмо от П. О., составленное таким образом:
«Дорогие директора!
Стало быть – война?
Если вы еще дорожите миром, вот мой ультиматум.
Он заключает в себе четыре следующих условия.
1. Вернуть мне ложу – я хочу, чтобы она сейчас же перешла в полное мое распоряжение.
2. «Маргариту» сегодня вечером будет петь Кристина Дое. Не беспокойтесь о Карлотте: она заболеет.
3. Я высоко ценю радушные и добросовестные услуги мадам Жири, моей билетерши, которую вы немедленно восстановите на службе.
4. Дайте мне знать письмом, переданным через мадам Жири, что вы, подобно вашим предшественникам, принимаете мои договорные условия относительно причитающегося мне ежемесячного вознаграждения. Позже я сообщу вам, каким образом следует вручать его мне.
В противном случае сегодня вечером вы будете давать «Фауста» в про́клятом зале.
Имеющий уши да услышит!
– Хватит, он мне надоел!.. Надоел! – возопил Ришар, с угрозой подняв кулаки и с грохотом опустив их на письменный стол.
Тем временем вошел Мерсье, администратор.
– Лашеналь хочет видеть одного из господ, – сказал он. – Дело, судя по всему, срочное, человек этот выглядит крайне взволнованным.
– Кто такой Лашеналь? – спросил Ришар.
– Это ваш старший конюший.
– Как! Мой старший конюший?
– Ну да, сударь, – пояснил Мерсье, – в Опере несколько конюших, а господин Лашеналь – старший над ними.
– И чем же он занимается, этот конюший?
– В его ведении находится конюшня.
– Какая конюшня?
– Ваша, сударь, конюшня Оперы.
– В Опере есть конюшня? Я ничего об этом не знал, честное слово! И где она находится?
– В подвалах со стороны «Ротонды». Это очень важная служба, ведь у нас двенадцать лошадей.
– Двенадцать лошадей! Великий Боже! Зачем они?
– Для шествий в «Жидовке», в «Пророке» и так далее нужны дрессированные лошади, которые «имеют понятие о сцене». Учить их этому входит в обязанность конюших. Господин Лашеналь – весьма сведущий человек в этом деле. Он бывший директор конюшен Франкони.
– Прекрасно. Но что ему от меня надо?
– Не знаю. Я никогда не видел его в таком состоянии.
– Пусть войдет!
Входит господин Лашеналь. В руках у него хлыст, которым он нервно стегает себя по сапогам.
– Добрый день, господин Лашеналь, – говорит изумленный Ришар. – Чему мы обязаны честью видеть вас?
– Господин директор, я пришел просить вас уволить всю конюшню.
– Как! Вы хотите уволить наших лошадей?
– Речь не о лошадях, а о конюших.
– Сколько у вас конюших, господин Лашеналь?
– Шестеро!
– Шестеро конюших! Двое, по крайней мере, лишние.
– Это специально созданные места, – прервал его Мерсье. – Они навязаны нам секретариатом министерства изящных искусств. Их занимают правительственные протеже, и осмелюсь заметить…
– Плевать мне на правительство!.. – решительно заявил Ришар. – Нам не требуется больше четырех конюших для двенадцати лошадей.
– Одиннадцати! – поправил его старший конюший.
– Двенадцати! – повторил Ришар.
– Одиннадцати! – настаивает Лашеналь.
– Но господин администратор сказал мне, что у вас двенадцать лошадей!
– Было двенадцать, но осталось одиннадцать после того, как у нас украли Цезаря! – И господин Лашеналь изо всех сил стегает себя по сапогу.
– У нас украли Цезаря! – воскликнул господин администратор. – Цезаря – белую лошадь из «Пророка»!
– Второго такого Цезаря нет! – отрезал старший конюший. – Десять лет я провел у Франкони и повидал немало лошадей! Так вот, второго Цезаря не найти! И у нас его украли.
– Каким образом?
– Понятия не имею! Никто ничего не знает! Вот почему я пришел просить вас уволить всю конюшню.
– А что они говорят, ваши конюшие?
– Глупости. Одни обвиняют статистов. Другие утверждают, будто это привратник администрации.
– Привратник администрации? Я ручаюсь за него, как за самого себя! – возмутился Мерсье.
– Но в конце-то концов, господин старший конюший!.. – воскликнул Ришар. – Есть же у вас какие-то мысли на этот счет!..
– Да, есть одна! Одна есть! – неожиданно заявил господин Лашеналь. – И я ею с вами сейчас поделюсь. У меня нет сомнений. – Господин старший конюший подошел вплотную к директорам и шепнул им на ухо: – Это сделал Призрак!
Ришар так и подскочил.
– Ах, и вы тоже! Вы тоже!
– Что значит – и я тоже? Вещь вполне естественная…
– Но как же так, господин Лашеналь! Как же так, господин старший конюший…
– Я говорю то, что думаю, после того, что видел…
– И что же вы видели, господин Лашеналь?
– Я видел, вот как вижу вас сейчас, черную тень, вскочившую на белую лошадь, как две капли воды похожую на Цезаря!
– И вы не бросились вдогонку за этой белой лошадью и черной тенью?
– И бросился вдогонку, и кричал, господин директор, но они мчались с бешеной скоростью и исчезли во тьме подземной галереи.
– Прекрасно, господин Лашеналь, – сказал, поднимаясь, господин Ришар. – Можете идти. Мы подадим жалобу на Призрака…
– И уволите конюшню!
– Решено! До свидания, сударь!
Господин Лашеналь откланялся.
Ришар кипел от ярости.
– Рассчитайте этого болвана!
– Это друг правительственного представителя! – осмелился вымолвить Мерсье.
– К тому же он имеет привычку пить аперитив у Тортони в обществе Лагрене, Шолля и Пертюизе, охотника на львов, – добавил Моншармен. – На нас накинется вся пресса! Он расскажет историю с Призраком, и все станут над нами потешаться! А если мы будем выглядеть смешными, нам конец!
– Ладно, оставим это, – согласился Ришар, думая уже о чем-то другом.
В эту минуту дверь распахнулась: судя по всему, ее не охранял привычный цербер, ибо на пороге с письмом в руке неожиданно появилась мадам Жири и затараторила:
– Пардон, прошу прощения, господа, но сегодня утром я получила письмо от Призрака Оперы. Он велел мне зайти к вам: вы вроде бы собирались мне что-то… – Она не закончила фразу – увидела лицо Фирмена Ришара: оно было ужасно.
Почтенный директор Оперы готов был взорваться. Но пока охватившее его бешенство внешне выражалось лишь пунцовым цветом разъяренного лица и блеском мечущих молнии глаз.
Он не произнес ни слова. Просто не в силах был говорить. Зато тело его внезапно пришло в движение. Сначала левая рука ухватила бесцветную личность мадам Жири, заставив сделать ее столь неожиданный поворот, столь стремительный пируэт, что та отчаянно завопила; затем правая нога, правая нога все того же почтенного директора запечатлела свой след на черной тафте юбки, которой, безусловно, никогда еще не доводилось претерпевать такого надругательства, да к тому же в подобном месте.
Все произошло настолько быстро, что мадам Жири, снова очутившись в коридоре, чувствовала себя как бы оглушенной и, казалось, ничего не понимала. А когда поняла, здание Оперы огласилось ее возмущенными криками, яростными протестами, смертными угрозами. Понадобилась помощь трех парней, чтобы спустить ее в административный двор, и двух полицейских, дабы вынести ее на улицу.
Примерно в это же время Карлотта, проживавшая в маленькой гостинице на улице Фобур-Сент-Оноре, позвонила горничной и потребовала принести ее корреспонденцию. Среди всех прочих писем она обнаружила одно анонимное, в котором говорилось:
«Если сегодня вечером вы надумаете петь, опасайтесь великого несчастья, которое может произойти в тот самый момент, когда вы будете петь… вас ждет несчастье пострашнее смерти».
Угроза эта была начертана красными чернилами, неуверенным, «палочным» почерком.
Прочитав письмо, Карлотта потеряла аппетит и отказалась от завтрака. Оттолкнув поднос, на котором камеристка подала ей дымящийся шоколад, она села в кровати и глубоко задумалась. Не в первый раз получала она письма подобного рода, но никогда еще не доводилось ей читать столь угрожающего.
Она считала, что вокруг нее плетутся нити заговора завистников, и постоянно твердила, будто у нее есть тайный враг, который поклялся погубить ее. Уверяла, что против нее замышляют недоброе, кто-то строит козни и в ближайшие дни разразится скандал; однако она не из тех женщин, кто даст себя запугать, – добавляла всякий раз Карлотта.
Но истина заключалась в том, что если козни и имели место, то строила их сама Карлотта против несчастной Кристины, которая даже не подозревала об этом. Карлотта никак не могла простить Кристине успеха, которого та достигла, заменив ее без всякой подготовки.
Когда ей рассказали о поразительном приеме, оказанном ее дублерше, Карлотта сразу же вылечилась от начинавшегося бронхита и приступа недовольства администрацией и не проявляла более ни малейшего поползновения отказаться от роли. С тех пор она изо всех сил старалась «задушить» свою соперницу, заставив могущественных друзей воздействовать на директоров, с тем чтобы те не давали Кристине возможности нового триумфа. Некоторые газеты, которые начали воспевать талант Кристины, ограничивались теперь прославлением Карлотты. Наконец, в самом театре знаменитая дива не скупилась на самые оскорбительные слова в адрес Кристины, пытаясь доставить ей тысячу мелких неприятностей.
У Карлотты не было ни души, ни сердца. Это был всего-навсего инструмент! Правда, инструмент чудесный. Ее репертуар включал все, что может польстить честолюбию великой артистки как у немецких мастеров или итальянцев, так и у французов. Никогда до сего дня Карлотта не фальшивила, и всегда у нее хватало голоса при исполнении любого пассажа из ее огромного репертуара. Словом, инструмент был мощный, широкого диапазона и поразительной точности. Но никто не сказал бы Карлотте того, что Россини говорил Краусс, когда она спела для него по-немецки «Темные леса…»: «Вы поете с душой, моя девочка, и душа ваша прекрасна!»
Где была твоя душа, о Карлотта, когда ты танцевала в притонах Барселоны? Где была она, когда позже, в Париже, на жалких подмостках ты пела свои бесстыдные куплеты вакханки мюзик-холла? Куда девалась твоя душа, когда перед мастерами, собравшимися у одного из твоих любовников, ты заставила звучать этот послушный инструмент, чудесное свойство которого заключалось в том, что он с одинаковым совершенством мог изливать в звуках как возвышенную любовь, так и самую низкую оргию? О Карлотта, если когда-нибудь у тебя была душа, ты обрела бы ее вновь, став Джульеттой, Эльвирой, Офелией и Маргаритой! Ведь другие сумели подняться и не из таких низов, как ты, ибо искусство, а также любовь очистили их!
По правде говоря, когда я думаю обо всех мелких колкостях и пакостях, которые приходилось сносить в ту пору Кристине Дое от Карлотты, мне трудно сдержать свою ярость, и неудивительно, что мое возмущение выливается в несколько пространных замечаниях по поводу искусства вообще и пения в частности, вряд ли они понравятся почитателям Карлотты.
Итак, поразмыслив над угрозой, содержавшейся в только что полученном странном письме, Карлотта встала.
– Там видно будет, – сказала она. И с решительным видом произнесла по-испански несколько заклятий.
Первое, что она увидела, высунув нос в окно, был катафалк. Похоронный катафалк и письмо убедили ее, что в этот вечер она действительно подвергается серьезной опасности. Созвав всех своих друзей, она сообщила им, что на вечернем представлении ей грозят неприятности по милости Кристины Дое, и заявила, что следует хорошенько проучить эту девчонку, заполнив зал ее собственными поклонниками, то есть поклонниками Карлотты. А у нее их хватает, не так ли? Она рассчитывает на них, дабы противостоять всяким случайностям и заставить умолкнуть смутьянов, если, как она опасалась, те начнут скандалить.
Личный секретарь господина Ришара, явившийся справиться о здоровье дивы, вернулся в полной уверенности, что чувствует она себя превосходно и что, «будь она даже при смерти», вечером непременно споет Маргариту. И так как секретарь от имени своего начальства настоятельно советовал диве не совершать опрометчивых поступков, никуда не выходить и остерегаться сквозняков, после его ухода Карлотта не могла не сопоставить столь необычные и неожиданные рекомендации с угрозами, заключавшимися в письме.
Было пять часов, когда она получила по почте новое анонимное письмо, написанное тем же почерком, что и первое. Оно было кратким. В нем всего-навсего говорилось:
«Вы простужены и если будете благоразумны, то поймете, что стремиться петь сегодня вечером – чистое безумие».
Карлотта усмехнулась, пожав плечами, к слову сказать великолепными, и попробовала взять две-три ноты; это ее успокоило.
Друзья Карлотты исполнили свое обещание. В тот вечер все они явились в Оперу, но напрасно искали они вокруг свирепых заговорщиков, которых им предписано было победить. За исключением нескольких профанов да нескольких добропорядочных буржуа, чьи благодушные физиономии не выражали ничего иного, кроме намерения вновь услышать музыку, давно уже снискавшую их расположение, присутствовали лишь завсегдатаи, чьи элегантные, мирные и более чем пристойные нравы отметали всякую мысль о какой-либо демонстрации. Единственно, что выходило за рамки привычного, было присутствие господина Ришара и господина Моншармена в ложе номер пять.
Друзья Карлотты подумали, что, возможно, господа директора прослышали, со своей стороны, о назревавшем скандале и решили присутствовать в зале, дабы остановить его, как только он разразится, однако вам известно, что подобное предположение лишено было каких-либо оснований; господин Ришар и господин Моншармен не помышляли ни о чем другом, кроме своего Призрака.
Нет!
Напрасно ищу ответа в этих книгах:
Ни природа, ни сам творец
Мне не помогут разгадать все тайны
Загадочных миров!..
Едва успел знаменитый баритон Карол Фонта бросить первый зов, обращенный к силам преисподней, как господин Фирмен Ришар, сидевший на месте Призрака – правое кресло в первом ряду, – наклонился в отличнейшем расположении духа к своему компаньону со словами:
– Ну как, некий голос уже шепнул словечко тебе на ухо?..
– Подождем! Не будем торопить события, – таким же шутливым тоном отвечал ему господин Арман Моншармен. – Представление только начинается, а тебе прекрасно известно, что Призрак является обычно лишь к середине первого акта.
Первый акт прошел без происшествий, что ничуть не удивило друзей Карлотты, ибо Маргарита в этом акте не поет. Что же касается двух директоров, то, когда опустился занавес, они с улыбкой взглянули друг на друга.
– Вот тебе и раз! – молвил Моншармен.
– Да, Призрак опаздывает, – заявил Фирмен Ришар.
– А зал-то, пожалуй, не так уж плохо выглядит сегодня для про́клятого зала, – все так же шутливо продолжал Моншармен.
Ришар соизволил улыбнуться. Он показал своему коллеге на славную дородную даму, довольно вульгарного вида, одетую во все черное и сидевшую в кресле в центре зала, по обе стороны от нее восседали двое грубоватых мужчин в рединготах из фрачного сукна.
– Что это за «светское общество»? – спросил Моншармен.
– Это светское общество состоит из моей консьержки, ее брата и мужа.
– Ты дал им билеты?
– Конечно. Моя консьержка никогда не была в Опере. Это первый раз… И так как теперь ей придется приходить сюда каждый вечер, мне хотелось, чтобы ее посадили на хорошее место, прежде чем она сама будет усаживать других.
Моншармен попросил разъяснений, и Ришар сообщил ему, что уговорил свою консьержку, которой полностью доверяет, занять на какое-то время место мадам Жири.
– Кстати, о мадам Жири, – заметил Моншармен, – ты знаешь, что она собирается подать на тебя жалобу?
– Кому? Призраку?
Призрак! Моншармен почти забыл о нем.
Впрочем, таинственный персонаж ничего не предпринимал, чтобы напомнить о себе господам директорам.
Внезапно дверь их ложи резко распахнулась, и перед ними предстал растерянный управляющий.
– В чем дело? – спросили они в один голос, удивленные появлением того в подобном месте и в такой момент.
– Дело в том, – отвечал управляющий, – что друзья Кристины Дое устроили заговор против Карлотты. Та в ярости.
– Это еще что за история? – нахмурив брови, спросил Ришар.
Но занавес поднялся над сценой народного гулянья, и директор подал знак управляющему удалиться.
Когда управляющий покинул ложу, Моншармен склонился к уху Ришара.
– У Дое, стало быть, есть друзья? – спросил он.
– Да, – ответил Ришар, – есть.
– И кто же?
Ришар взглядом указал на ложу первого яруса, в которой находились лишь двое мужчин.
– Граф де Шаньи?
– Да, он рекомендовал мне ее, причем так горячо, что если бы я не знал, что он числится в друзьях у Сорелли…
– Так-так!.. – прошептал Моншармен. – А кто этот бледный молодой человек, что сидит рядом с ним?
– Его брат, виконт.
– Ему бы лучше пойти прилечь. Вид у него больной.
Сцена звенела от радостных песен. Пьянящая музыка. Торжество стаканов.
Всем нам должно пить вино:
Нам полезно оно!
Выпьем дружно, а потом
Песню звонко запоем!
Студенты, горожане, солдаты, юные девушки и почтенные матроны весело кружат перед кабачком, на вывеске которого – божественный Бахус. Появляется Зибель.
Кристина Дое была очаровательна в роли юноши. Ее молодость и задумчивая прелесть покоряли с первого взгляда.
Сторонники Карлотты тотчас вообразили, что ее встретят овацией, и тогда они узнают о намерениях друзей Кристины Дое. Впрочем, такая бестактная овация стала бы недопустимой оплошностью. Ее и не случилось.
Зато когда Маргарита прошла по сцене и спела всего несколько строк своей роли во втором акте:
Нет, о нет: будет мне
Слишком много в том чести!
Не блещу я красою
И, право же, не стою
Рыцарской руки! –
Карлотту встретили оглушительным «браво».
Это было до того неожиданно и неуместно, что те, кто ничего не знал, переглянулись, задаваясь вопросом, что происходит, и акт опять закончился без всяких происшествий. И тогда все решили: «Значит, надо готовиться к следующему акту». Некоторые из тех, кто был, верно, осведомлен лучше других, утверждали, будто «гвалт» начнется во время баллады «О фульском короле». Они поспешили ко входу абонированных зрителей, дабы успеть предупредить Карлотту.
Во время этого антракта директора покинули ложу, чтобы поподробнее разузнать об истории с заговором, о котором говорил управляющий, но вскоре вернулись на свои места: они лишь пожали плечами, посчитав все это чепухой. Однако первое, что они увидели, войдя в ложу, была коробка английских конфет. Кто принес ее сюда? Они расспросили билетерш. Никто ничего не знал. Снова повернувшись к бортику, они заметили рядом с коробкой английских конфет бинокль. Директора переглянулись. Смеяться им расхотелось. На память пришли слова мадам Жири… К тому же они ощутили рядом с собой некое странное дуновение… Пораженные, они молча заняли свои места.
Сцена представляла сад Маргариты.
Расскажите вы ей,
Цветы мои…
Пропев эти первые строки с букетом роз и сирени в руках, Кристина, подняв голову, заметила в ложе виконта де Шаньи, и с той минуты всем показалось, что голос ее звучит не так уверенно, не так кристально чисто, как обычно. Что-то, неведомо что, приглушало, отягощало ее пение… В нем ощущались волнение и страх.
– Странная девушка, – довольно громко заметил сидевший в партере друг Карлотты. – Один вечер пела божественно, а сегодня чуть ли не блеет. Ни опыта, ни метода.
Вы шепните тайком,
Шепните ей,
Что никак не решаюсь
Я во всем ей признаться…
Виконт закрыл лицо руками. Он плакал. Позади него граф в сердцах покусывал кончик уса и, пожимая плечами, хмурил брови. Граф, обычно такой корректный и сдержанный, верно, был в ярости, если так открыто выражал обуревавшие его чувства. И было от чего прийти в ярость. Он видел, в каком отчаянном состоянии вернулся брат из недолгого и таинственного путешествия. Объяснения, которые за этим последовали, ни в коей мере не успокоили графа, и, желая знать, чего следует ожидать, он попросил свидания у Кристины Дое. Та имела дерзость ответить, что не может его принять – ни его, ни брата. Он заподозрил гнусный расчет. Граф не мог простить Кристине того, что она заставляет страдать Рауля, а главное, не мог простить Раулю, что он страдает из-за Кристины. Ах! Напрасно он проявил интерес к этой малютке, чей триумф на один вечер оставался для всех необъяснимым.
Если ж к милым устам
Вас приблизит случайно,
Поцелуй мой горячий
Передайте вы ей.
– Ну и плутовка, – проворчал граф, не в силах понять, чего она хочет, на что может надеяться… Она была чиста, говорили, будто у нее нет ни друга, ни просто покровителя… Этот Северный ангел, должно быть, себе на уме!
А Рауль, закрывшись руками, как занавесом, скрывавшим его детские слезы, думал лишь о письме, которое получил сразу же по возвращении в Париж, куда Кристина вернулась раньше его, сбежав из Перро, словно воровка какая:
«Мой дорогой старинный дружок, надо набраться мужества не встречаться больше со мной и не разговаривать… Если любите меня хоть немного, сделайте это ради меня, ради той, которая никогда вас не забудет, мой дорогой Рауль. А главное, никогда больше не приходите в мою гримерную. Речь идет о моей жизни. И о вашей тоже.
Ваша маленькая Кристина».
Гром аплодисментов… Это Карлотта вышла на сцену.
Акт в саду развивался с обычными перипетиями.
Когда Маргарита закончила балладу «О фульском короле», ей устроили овацию; новая овация ожидала ее после сцены с драгоценностями:
Ах, смешно, смешно смотреть мне на себя!
Это ты ли, Маргарита?..
Отныне уверенная в себе, уверенная в друзьях, сидевших в зале, исполненная веры в свой голос и свой успех, ничего более не страшась, Карлотта отдалась роли целиком – со страстью, восторгом и упоением. Игра ее не знала ни удержу, ни стыдливости. То была уже не Маргарита, то была Кармен. Тем не менее разразилась буря аплодисментов, и дуэт с Фаустом, казалось, предвещал ей новый успех, но тут произошло вдруг что-то невероятное.
Фауст опустился на колени:
Нет!.. Умоляю я, постой!
Дай мне тобой налюбоваться!..
При свете звезд ночных
Не в силах я, поверь,
Я не в силах оторваться
От чудных глаз твоих!
Маргарита отвечала:
Ночь настала… Тишина…
Льют цветы аромат свой…
Отрадных новых чувств
Полна душа моя,
И сердца голос тайный
Мне тихо о чем-то говорит!
И в этот момент… в этот самый момент произошло что-то, как я уже сказал, что-то ужасное…
…Зал поднялся в едином порыве… В своей ложе оба директора не могут сдержать крика ужаса… Зрители и зрительницы переглядываются, словно спрашивая друг у друга разъяснения столь неожиданного явления… На лице Карлотты написано жесточайшее страдание, в глазах застыло безумное выражение. Несчастная выпрямилась с полуоткрытым ртом, едва успев пропеть о том, что «сердца голос тайный ей тихо о чем-то говорит…» Уста ее безмолвствовали, не отваживаясь более ни на единое слово или звук…
Ибо из уст этих, созданных для гармонии, этого подвижного инструмента, ни разу ее не подводившего, великолепного органа, воспроизводившего прекрасные звуки, труднейшие аккорды, самые мягкие модуляции, самые пылкие ритмы, дивного человеческого механизма, которому, чтобы стать божественным, не хватало лишь небесного огня, ибо только он порождает истинное волнение и возвышает души… так вот из этих уст выскочила…
Из этих уст выскочила…
…Жаба!
Ах, ужасная, безобразная, чешуйчатая, ядовитая, покрытая слизью, брызжущая пеной, визгливая жаба!..
Как она туда попала? Как зацепилась за язык? Подобрав задние лапки, чтобы прыгнуть повыше и подальше, она незаметно выбралась из гортани и… квак!
Квак! Квак!.. Ах, это ужасное квак! Фальшивая нота!
Ибо, надеюсь, вы поняли, что о жабе речь ведется лишь в переносном смысле. Ее не было видно, но зато – кошмар! – было слышно! Квак! Фальшивая нота!
Зал словно бы оказался забрызган грязью. Никогда даже на берегу извергающих подобные звуки прудов земноводное не прорезало ночь более ужасным кваканьем.
И разумеется, никто его здесь не ожидал. Карлотта все еще не верила ни горлу своему, ни ушам. Упавшая к ее ногам молния поразила бы ее меньше, нежели эта квакающая жаба, выскочившая из ее уст.
К тому же молния ее бы не обесчестила. В то время как притаившаяся на языке жаба приносит певице бесчестье, заставляя фальшивить. Некоторые от этого умирают.
Боже мой! Кто бы мог подумать?.. Она преспокойно пела: «И сердца голос тайный мне тихо о чем-то говорит!» Пела, как всегда, без усилий, с такою же точно легкостью, с какою вы, например, говорите «Добрый день, сударыня, как вы себя чувствуете?»
Не стоит отрицать, что существуют самонадеянные певицы, которые не умеют рассчитывать силы и в своей гордыне слабым голосом, отпущенным им небесами, желают достичь исключительного эффекта, беря ноты, недоступные им от рождения. Вот тогда-то небеса и посылают им в наказание жабу, певицы об этом не ведают, а жаба, притаившись во рту, заставляет их фальшивить – квак! Это всем известно. Но никто и мысли не мог допустить, что Карлотта, в голосе у которой было по меньшей мере две октавы, может сфальшивить.
Невозможно забыть ее звенящие фа и неслыханные стаккато в «Волшебной флейте». Все помнили «Дон Жуана», где ее Эльвира восторжествовала однажды, взяв си-бемоль, которое не могла взять ее подруга донна Анна. Тогда что же в самом деле означает это фальшивое «квак» в конце такого негромкого, спокойного, без всяких подвохов «тайного голоса, тихо о чем-то говорившего ее сердцу»?
Это было неестественно. Тут не обошлось без колдовства. Жаба наводила на мысль о том, что дело нечисто. Жалкая, несчастная, отчаявшаяся, убитая горем Карлотта!..
В зале нарастал шум. Случись такая история с кем-нибудь другим, его бы освистали! Но в отношении Карлотты, чей безупречный инструмент ни у кого не вызывал сомнений, никто не испытывал гнева, а только горестное изумление и страх. Такого рода ужас должны были бы испытать люди, доведись им присутствовать при катастрофе, оторвавшей руки Венере Милосской! Но они-то ведь смогли бы увидеть нанесенный удар и понять…
А тут? Какая-то непонятная жаба!..
Поэтому в течение нескольких секунд Карлотту мучил вопрос, действительно ли она слышала собственными ушами ноту, сорвавшуюся у нее с языка, – да и можно ли назвать нотой этот звук? Можно ли вообще назвать это звуком? Любой звук – это все-таки музыка, тогда как услышанный ею адский шум… Она хотела убедить себя, что ничего такого не было, просто произошел мимолетный обман слуха, не имеющий ничего общего с вероломным предательством голосового аппарата…
В растерянности она бросила взгляд вокруг, словно искала убежища, покровительства или, скорее, невольного подтверждения невиновности своего голоса. Судорожным движением она поднесла пальцы к горлу в знак протеста и в поисках защиты! Нет! Нет! Эта фальшь, это кваканье не имеют к ней отношения! Казалось, и Карол Фонта был того же мнения; он глядел на нее с комичным выражением огромного, прямо-таки детского изумления. Ибо, в конце-то концов, он ведь находился рядом с ней. Не покидал ее ни на минуту. Уж он-то, наверное, мог бы сказать, как такая вещь случилась! И что же, оказывается, нет, не мог! Его глаза глупейшим образом были прикованы к губам Карлотты подобно тому, как глаза малышей неотрывно следят за неистощимой шляпой иллюзиониста. Как такой маленький ротик мог вместить столь тяжеловесное кваканье?
И все это: жаба, кваканье, смятение, панический ропот в зале, замешательство на сцене и за кулисами – кое у кого из статистов появился испуг на лице – все, что я так подробно описываю вам, длилось не больше нескольких секунд.
Зато каких ужасных секунд, показавшихся бесконечными двум директорам, находившимся наверху, в ложе номер пять. Моншармен и Ришар страшно побледнели. Этот неслыханный и необъяснимый случай вселил в них неясную тревогу, тем более что в последние минуты они находились под непосредственным воздействием Призрака.
Они ощущали его дыхание. Остатки волос Моншармена встали дыбом. А Ришар отер платком выступивший на лбу пот. Да, Призрак был здесь, где-то вокруг, они не видели, но зато чувствовали его!.. Слышали его дыхание… и так близко, совсем рядом!.. Всегда знаешь, если рядом кто-то есть. Так вот, теперь они знали!.. Они не сомневались, что в ложе их трое, и содрогались от этого… Им хотелось бежать, но они не смели… Не смели сделать малейшего движения или обмолвиться словом, которое дало бы понять Призраку, что они знают, что он здесь!.. Чего же ждать? Что должно случиться?
И случилось «квак»! И сразу, перекрывая все шумы в зале, послышалось двойное директорское восклицание ужаса. На них обрушился гнев Призрака. Высунувшись из ложи, они смотрели на Карлотту, словно не узнавая ее. Своим фальшивым кваканьем эта дочь преисподней подала, видимо, сигнал, и вот сейчас произойдет катастрофа. Ах, они ожидали эту катастрофу! Призрак обещал им ее! Зал был проклят! Их сдвоенная директорская грудь уже задыхалась под тяжким бременем нависшей беды.
Послышался сдавленный голос Ришара, кричавшего Карлотте:
– Ну что же вы! Продолжайте!
Нет! Продолжать Карлотта не могла… И отважно, геройски вновь начала роковой стих, в конце которого и появилась жаба.
Пугающая тишина приходит на смену любым волнениям. И вот голос Карлотты вновь наполнил звуковой сосуд:
Тишина…
Зал замер…
…И сердца голос тайный (квак!)
(квак!) Мне тихо о чем-то… (квак!)
Жаба опять взялась за свое.
В зале поднялся невероятный шум. Упав на сиденья, директора не решаются даже оглянуться – у них нет сил. Призрак смеется им в затылок! И наконец правым ухом они явственно слышат его голос, невозможный голос, голос без губ, и голос этот произносит:
– Она поет сегодня так, что даже люстра того гляди не выдержит!
В едином порыве директора поднимают глаза вверх, и раздается их страшный крик. Люстра, огромная масса люстры скользила, словно отвечая на зов этого сатанинского голоса. Оторвавшись, люстра устремилась с высот зала вниз и рухнула посреди партера под бурю воплей. Началось нечто невообразимое, всеобщее «спасайся кто может». В мои намерения вовсе не входит запечатлеть здесь исторический момент. А любопытным остается лишь открыть газеты того времени. Было множество раненых и одна убитая.
Люстра обрушилась на голову несчастной, явившейся в тот вечер в Оперу первый раз в жизни, на ту, кого господин Ришар прочил в преемницы мадам Жири, то есть билетерши Призрака. Она умерла сразу же, и на следующий день одна газета вышла с таким крупным заголовком: Двести тысяч килограммов на голову консьержки! Это все, что ей досталось в качестве надгробного слова.
Таинственная двухместная карета
Этот трагический вечер оказался пагубным для всех. Карлотта заболела. Что же касается Кристины Дое, то она исчезла после представления. Прошло две недели, но в театре она не появлялась, не показывалась и вне стен театра.
Не следует смешивать это первое исчезновение без всякого скандала с тем знаменитым похищением спустя какое-то время, которое произошло при столь загадочных и трагических обстоятельствах.
Рауль, естественно, тоже не понял причин отсутствия дивы. Он писал ей на адрес госпожи Валериус, но не получил ответа. Поначалу он не слишком удивился, зная ее расположение духа и решимость порвать с ним всякие отношения, хотя до сих пор не мог разобраться почему.
Он страшно тосковал и в конце концов забеспокоился, не видя певицу ни в одной из программ. «Фауст» прошел без нее. Однажды около пяти часов пополудни он решил поинтересоваться в дирекции причинами исчезновения Кристины Дое. Оба директора выглядели крайне озабоченными. Даже друзья перестали их узнавать: они утратили былую жизнерадостность и задор. В театре их видели бледными, с постоянно опущенными головами и хмурыми лицами, словно им не давала покоя какая-то страшная мысль или злая судьба, ведь стоит ей невзлюбить кого-то, и человеку нет спасения.
Падение люстры предполагало ответственность многих, однако заставить объясниться на сей счет господ директоров оказалось делом чрезвычайно трудным.
Расследование пришло к выводу о несчастном случае, причина которого – износ подвесных систем, но разве не входило в обязанность прежних директоров, равно как и новых, вовремя заметить этот износ, не доводя дело до катастрофы?
Кроме того, следует сказать, что господин Ришар и господин Моншармен настолько переменились с тех пор, стали такими далекими, такими загадочными, такими непостижимыми, что многие из абонированных вообразили, будто некое, еще более ужасное, чем падение люстры, событие изменило душевный настрой директоров.
В своих повседневных отношениях они проявляли крайнюю нетерпимость, исключение составляла лишь мадам Жири, которая вновь приступила к исполнению своих обязанностей. Так что нетрудно себе представить, каким образом встретили они виконта де Шаньи, когда тот пришел к ним справиться о Кристине. Они ограничились ответом, что она в отпуске. Виконт спросил, сколько времени продлится этот отпуск; ему довольно сухо сообщили, что он неограничен, ибо Кристина Дое попросила его по причине здоровья.
– Значит, она больна! – воскликнул виконт. – Что с ней?
– Понятия не имеем.
– Стало быть, вы не посылали к ней доктора из театра?
– Нет! Да она и не просила об этом, а так как мы полностью доверяем ей, то поверили на слово.
Все это показалось Раулю неестественным, и он вышел из Оперы во власти мрачных дум, решив тем не менее отправиться за разъяснением к госпоже Валериус.
Разумеется, он помнил решительный наказ Кристины, запретившей ему в письме искать встреч с ней. Но то, что ему довелось увидеть в Перро, то, что он слышал за дверью гримерной, а также разговор, состоявшийся у него с Кристиной на краю долины, – все это наводило его на мысль о каких-то кознях, при всей своей видимой дьявольщине остававшихся вполне земными и человеческими.
Восторженное воображение девушки, ее нежная, чересчур доверчивая душа, нехитрое воспитание, легенды, окружавшие ее в юные годы, постоянные мысли об умершем отце, а главное, состояние возвышенного экстаза, в которое погружала ее музыка, как только это искусство представало перед ней в определенных, не совсем обычных условиях, – разве не была тому подтверждением сцена на кладбище? – все это представлялось молодому человеку благодатной духовной почвой для осуществления пагубных замыслов некоего таинственного и бессовестного персонажа. Чьей жертвой стала Кристина Дое? Вот вполне разумный вопрос, которым задавался Рауль, торопясь к госпоже Валериус.
Ибо виконт отличался редкостным здравомыслием. Хотя, безусловно, был поэтом, любил музыку, отдавая предпочтение самой возвышенной, и был большим любителем старинных бретонских сказок, в которых танцуют злые духи, а главное, был влюблен в маленькую северную фею – Кристину Дое; зато не верил ни во что сверхъестественное, если не считать религию, и даже самая фантастическая история в мире не могла заставить его забыть, что дважды два – четыре.
Что-то ему скажет госпожа Валериус? С дрожью позвонил он в дверь маленькой квартирки на улице Нотр-Дам-де-Виктуар.
Ему открыла горничная, которую он видел однажды вечером выходившей из гримерной Кристины. Рауль спросил, может ли его принять госпожа Валериус. Ему ответили, что она больна, лежит в постели и не в состоянии никого принять.
– Передайте ей мою визитную карточку, – сказал он.
Ждать пришлось недолго. Горничная вернулась и проводила его в маленькую, довольно темную, кое-как обставленную гостиную, где против друг друга висели два портрета – профессора Валериуса и папаши Дое.
– Мадам просит прощения у господина виконта, – сказала служанка. – Она может принять вас только у себя в спальне, бедные ноги совсем не держат ее.
Через пять минут Рауля привели в полутемную комнату, где он сразу же увидел в полумраке алькова доброе лицо благодетельницы Кристины.
Волосы госпожи Валериус стали теперь совсем седыми, а вот глаза не постарели: напротив, никогда прежде взгляд ее не был таким ясным и по-детски чистым.
– Господин де Шаньи! – обрадовалась она, протягивая гостю обе руки. – Ах, само небо вас посылает!.. Мы сможем поговорить о ней.
Последняя фраза повергла молодого человека во мрак. И он тут же спросил:
– Сударыня, где Кристина?
Но старая дама спокойно ответила:
– Она со своим добрым гением!
– Каким еще добрым гением? – воскликнул бедный молодой человек.
– Ну как же, с Ангелом музыки!
Потрясенный виконт де Шаньи рухнул на стул.
Подумать только, Кристина находится где-то с Ангелом музыки!
А госпожа Валериус в своей постели улыбается ему, приложив палец к губам, требуя молчания.
– Только не надо никому об этом говорить! – добавила она.
– Можете рассчитывать на меня! – ответил Рауль, сам не зная, что говорит, ибо его мысли о Кристине, и без того довольно сумбурные, запутались еще больше, ему казалось, что все вокруг него начинает кружиться – и комната, и эта удивительная милая дама с седыми волосами, с глазами цвета бледно-голубого неба, пустого неба. – Можете рассчитывать на меня…
– Я знаю! Знаю! – молвила та с добрым, счастливым смехом. – Но подойдите же ко мне, как делали это, когда были совсем маленьким. Дайте мне свои руки, как в былое время, когда рассказывали мне историю малютки Лотты, которую поведал вам папаша Дое. Знаете, господин Рауль, я очень люблю вас. И Кристина тоже очень вас любит!
– …Она меня очень любит… – вздохнул молодой человек, с трудом пытаясь сосредоточить свои мысли на гении госпожи Валериус, на Ангеле, о котором так странно рассказывала Кристина, на черепе, который, словно в кошмаре, промелькнул перед ним на ступенях главного алтаря в Перро, а также на Призраке Оперы, слух о котором докатился и до него в тот вечер, когда он задержался в театре в двух шагах от группы машинистов сцены, вспоминавших жуткое описание, сделанное незадолго до своей таинственной кончины повесившимся Жозефом Бюке…
– Почему вы думаете, сударыня, что Кристина любит меня? – спросил Рауль тихим голосом.
– Она каждый день говорит мне о вас!
– В самом деле? И что же она говорит вам?
– Она сказала, что вы объяснились ей в любви!.. – И славная старушка громко рассмеялась, показав все свои зубы, которые рачительно сохранила.
Покраснев, Рауль встал, жестоко страдая.
– Куда же вы?.. Присядьте, прошу вас… Вы собираетесь покинуть меня вот так?.. Вы рассердились за то, что я смеялась, простите меня. В конце концов, вы не виноваты в том, что случилось. Ведь вы не знали. Вы молоды и думали, что Кристина свободна…
– Кристина помолвлена? – сдавленным голосом спросил несчастный Рауль.
– Что вы! Конечно, нет!.. Вы прекрасно знаете, что Кристина – даже если бы захотела – не может выйти замуж!
– Как! Я ничего не знаю!.. А почему Кристина не может выйти замуж?
– Ну как же, из-за Гения музыки!..
– Опять.
– Да, он ей запрещает!..
– Он ей запрещает?! Гений музыки запрещает ей выходить замуж?!
Рауль склонился над госпожой Валериус, выдвинув челюсть, словно собираясь укусить ее. Но даже если бы он хотел съесть ее, взгляд его был бы не более свирепым, чем сейчас. Бывают минуты, когда святая простота кажется настолько чудовищной, что становится ненавистной. Раулю госпожа Валериус показалась слишком уж простодушной.
Но она и не подозревала, какой ужасный взгляд устремлен на нее. И продолжала с самым естественным видом:
– О! Он запрещает… не запрещая… Просто говорит, что если она выйдет замуж, то больше его не услышит! Вот и все!.. И что он исчезнет навсегда!.. Вы сами понимаете, она не хочет отпускать Гения музыки. Это вполне естественно.
– Да-да, – со вздохом согласился Рауль, – вполне естественно.
– Впрочем, я думала, Кристина рассказала вам об этом, когда встретила вас в Перро, куда она ездила со своим добрым гением.
– Ах, вот как! Она ездила в Перро с «добрым гением»?
– То есть он назначил ей там свидание на кладбище Перро у могилы Дое! И обещал сыграть «Воскрешение Лазаря» на скрипке ее отца!
Рауль де Шаньи встал и непререкаемым тоном решительно произнес:
– Сударыня, вы мне сейчас скажете, где находится этот «гений»!
Старая дама, казалось, ничуть не удивилась столь нескромному вопросу. И устремив глаза вверх, ответила:
– На небе!
Такое невероятное простодушие совсем сбило его с толку. Бесхитростная и безграничная вера в «гения», который по вечерам спускается с небес, дабы посетить гримерные артистов Оперы, повергла его в полное изумление.
Теперь он понимал то состояние духа, в каком пребывала девушка, воспитанная суеверным деревенским скрипачом и славной дамой, склонной к «озарениям», и содрогнулся при мысли о возможных последствиях этого.
– Кристина по-прежнему честная девушка? – не удержался он вдруг от вопроса.
– Клянусь уготованным мне местом в раю! – воскликнула старушка, на сей раз, казалось, с возмущением. – А если вы в этом сомневаетесь, сударь, то не понимаю, зачем вы пришли сюда!..
Рауль сорвал с рук перчатки.
– И давно она познакомилась с этим «гением»?
– Около трех месяцев!.. Да, ровно три месяца назад он начал давать ей уроки!
Виконт в неописуемом отчаянии вскинул руки и в изнеможении уронил их.
– «Гений» дает ей уроки!.. И где же?
– Теперь, когда она ушла с ним, не могу вам сказать, но две недели назад это происходило в гримерной Кристины. Здесь, в такой маленькой квартире это было бы невозможно. Весь дом их услышит. Зато в Опере в восемь часов утра никого нет. Никто им не мешает!.. Понимаете?
– Понимаю-понимаю! – воскликнул виконт и так поспешно распрощался со старой госпожой, что та даже подумала про себя: уж не свихнулся ли он?
Пересекая гостиную, Рауль столкнулся с горничной и собрался было расспросить ее, но тут ему почудилось, будто он заметил легкую улыбку на ее губах. Он решил, что она смеется над ним. И убежал.
Да разве мало он всего узнал?.. Хотел навести справки, и вот пожалуйста, чего же большего теперь желать?..
В дом брата Рауль вернулся пешком – на него жалко было смотреть.
Ему хотелось наказать себя, биться головой о стены! Еще бы, так верить в невинность, в чистоту! Пытаться, пусть недолго, все объяснить наивным простодушием, непорочным чистосердечием! «Гений музыки»! Теперь он его знает! Видит! Это наверняка какой-нибудь гнусный тенор, красавчик, который поет, сложив губы сердечком! Рауль казался себе смешным и бесконечно несчастным! «Ах, этот жалкий, ничтожный, никудышный и глупый молодой человек – виконт де Шаньи! – в ярости думал Рауль. – А она – какое дерзкое и дьявольски хитрое создание!»
Тем не менее быстрое движение по улицам пошло ему на пользу, остудив немного его воспаленную голову. Войдя к себе в комнату, он уже мечтал только об одном: броситься на кровать и попытаться заглушить свои рыдания. Но там ждал его брат, и Рауль, словно ребенок, упал в его объятия. Граф по-отцовски утешил его, не требуя никаких объяснений, впрочем, Рауль и не решился бы поведать ему историю о «гении музыки». Есть вещи, которыми нельзя похвалиться, но бывают и такие, сочувствие к которым слишком унизительно.
Граф повез брата ужинать в кабаре. Рауль, весь во власти навалившегося на него безысходного отчаяния, возможно, и отклонил бы в тот вечер любое приглашение, если бы граф, желая заставить его решиться, не поведал ему, что накануне вечером в аллее Булонского леса даму, владеющую всеми его помыслами, встретили в галантной компании. Сначала виконт вовсе не желал этому верить, однако ему сообщили такие точные детали, что он уже не возражал. В конце-то концов, это было банальнейшее любовное приключение, не так ли? Ее видели в двухместной карете, стекло которой было опущено. Она, казалось, глубоко вдыхала холодный ночной воздух. Луна сияла ослепительно. Ее, конечно, узнали. Что же касается ее спутника, то в полумраке можно было различить лишь смутный силуэт. Экипаж ехал шагом по пустынной аллее за трибунами Лоншанского ипподрома.
Рауль в исступлении оделся и, дабы забыть свою печаль, приготовился, как говорится, окунуться в «водоворот наслаждений». Увы! Он был унылым сотрапезником и, покинув графа довольно рано, очутился около десяти часов вечера в клубном экипаже за трибунами Лоншана.
Было страшно холодно. Пустынная дорога ярко освещалась луной. Он приказал кучеру терпеливо ждать его на углу прилегающей аллейки и, спрятавшись по возможности, стал прохаживаться взад-вперед.
С полчаса он предавался этому полезному упражнению и наконец увидел экипаж, прибывший из Парижа, который, свернув на углу, преспокойно направился в его сторону.
«Это она!» – сразу решил Рауль. И сердце его глухо застучало в груди, как в тот вечер, когда он услышал за дверью гримерной мужской голос… Боже мой! Как он ее любил!
А экипаж тем временем приближался. Рауль не шелохнулся. Ждал!.. Если это она, то он твердо решил броситься наперерез лошадям!.. Во что бы то ни стало он желал объясниться с Ангелом музыки!..
Еще несколько шагов, и двухместная карета поравняется с ним. Он нисколько не сомневался, что это она… В самом деле, женщина склонила голову в окошко дверцы.
И вдруг луна высветила ее бледным ореолом.
– Кристина!
Священное имя его любимой слетело с губ Рауля, вырвалось из глубины сердца. Он не мог удержать его!.. И тут же кинулся вдогонку, надеясь поймать, ибо имя это, брошенное в ночь, послужило сигналом к яростному рывку экипажа, который промчался мимо, так что у виконта не было времени привести в исполнение свой план. Стекло дверцы закрылось. Лицо молодой женщины исчезло. И карета, за которой бежал Рауль, превратилась вскоре в черную точку на белой дороге.
– Кристина!.. – снова позвал он.
Никакого ответа.
Рауль остановился посреди безмолвия.
Бросив отчаянный взгляд на небо в звездах, он ударил кулаком в свою пылавшую огнем грудь; он любил и не был любим.
Хмуро смотрел молодой человек на эту унылую, холодную дорогу, на бледную, мертвую ночь. Но никакой холод, никакая смерть не могли сравниться с ледяной стужей его омертвевшего сердца: он полюбил ангела и теперь презирал женщину!
Как она посмеялась над тобой, Рауль, эта маленькая северная фея! К чему, к чему эта свежесть щек и робкое выражение лица, всегда готового залиться краской стыдливости, неужели для того, чтобы в полном безмолвии прокатиться в шикарной карете в обществе таинственного любовника? Неужели можно безнаказанно преступать священные границы, преграждающие дорогу лицемерию и лжи?.. И разве можно хранить детскую чистоту глаз с душою куртизанки?
…Она умчалась, не ответив на его зов…
И верно: зачем он встал на ее пути?
По какому праву возник вдруг перед ней, когда она просит о забвении, ставит в укор само его присутствие?..
«Прочь!.. Исчезни!.. Ты не в счет!..»
В свои двадцать лет Рауль думал о смерти!.. Утром слуга застал его сидящим на кровати. Молодой человек не раздевался, и при виде безысходного отчаяния на его лице лакей испугался: не случилось ли какого несчастья? Рауль выхватил у него из рук корреспонденцию, которую тот принес. Он узнал одно письмо, узнал бумагу и почерк.
Кристина писала:
«Друг мой, приходите послезавтра на костюмированный бал в Оперу, будьте в полночь в маленькой гостиной, расположенной за камином большого фойе; станьте возле двери, ведущей к «Ротонде». Под страхом смерти не говорите об этом свидании ни одной живой душе. Наденьте белое домино и хорошую маску. Умоляю: чтобы вас никто не узнал.
Кристина».
На костюмированном балу
На перепачканном грязью конверте не было марки. «Вручить господину виконту де Шаньи» и адрес – карандашом. Наверняка это было брошено в надежде, что кто-нибудь из прохожих подберет письмо и отнесет по адресу, что и произошло. Письмо было найдено на тротуаре на площади Оперы.
Рауль лихорадочно перечитал его.
Большего и не требовалось, чтобы у него вновь появилась надежда. Возникший на мгновение мрачный образ Кристины, забывшей о своем долге по отношению к самой себе, уступил место первому сложившемуся у него впечатлению: Кристина – бедное, невинное дитя, жертва неосторожности и чрезмерной чувствительности. Вот только была ли она в настоящий момент действительно жертвой и до какой степени? Чьей пленницей она стала? В какую бездну ее увлекли? Такими вопросами он терзался в жестокой тревоге; однако сама эта боль казалась ему более терпимой по сравнению с тем исступленным безумием, какое охватывало его при мысли о лицемерной, лживой Кристине! Что произошло? Под чье влияние она попала? Что за чудовище ее похитило и с помощью какого оружия?
…Да, какого оружия, если не музыки? Ну конечно, чем больше он об этом думал, тем больше убеждался, что именно здесь надо искать истину. Разве можно забыть тон, каким в Перро она поведала ему, что ее посетил небесный посланец? А все, что происходило с Кристиной в последнее время, разве не должно это помочь ему рассеять мрак, сквозь который он пробивался? Неужели он не помнит, какое отчаяние овладело ею после смерти отца, и то отвращение, какое появилось у нее к жизненно важным вещам, даже к ее искусству? В консерватории она была похожа на жалкую поющую машину, лишенную души. И вдруг пробудилась, словно под воздействием божественного вмешательства. Ее посетил Ангел музыки! Она поет Маргариту в «Фаусте», и это настоящий триумф!.. Ангел музыки!.. Кто же, кто выдал себя за этого чудесного гения?.. Кто, проведав о любимой легенде старика Дое, воспользовался ею, сделав беззащитную девушку послушным инструментом в своих руках, который беспрекословно повинуется чужой воле?
И Рауль пришел к выводу, что подобная история отнюдь не исключение. Он вспомнил, что произошло с принцессой Бельмонте, которая, потеряв мужа, впала в отчаяние и оцепенела. В течение месяца принцесса не могла ни говорить, ни плакать. Ее физическая и моральная апатия усугублялась с каждым днем, угасание разума постепенно вело к прекращению жизни. По вечерам больную выносили в парк, но она, казалось, даже не понимала, где находится. Рафф, самый знаменитый немецкий певец, приехавший в Неаполь, пожелал посетить этот парк, славившийся своей красотой. Одна из прислужниц попросила великого артиста спеть, не показываясь, возле купы деревьев, где лежала принцесса. Рафф согласился и спел простую мелодию, которую принцесса слышала из уст своего мужа в первые дни после свадьбы. То была выразительная и трогательная мелодия. Музыка, слова, восхитительный голос артиста – все вместе глубоко всколыхнуло душу принцессы. Слезы полились из ее глаз… Она заплакала, была спасена и осталась в полной уверенности, что ее супруг спустился в тот вечер с небес, чтобы спеть для нее мелодию прежних лет!
«Да… в тот вечер!.. Один-единственный вечер… – размышлял Рауль. – Но эта прекрасная сказка не выдержала бы испытания, повторись она вновь…»
Неземная, печальная принцесса Бельмонте в конце концов обнаружила бы за деревьями Раффа, приходи она туда каждый вечер в течение трех месяцев…
Ангел музыки в течение трех месяцев давал Кристине уроки. Ах, то был на редкость пунктуальный преподаватель!.. А теперь он вывозит ее на прогулку в Булонский лес!..
Судорожно сжав пальцы, Рауль, царапая собственную плоть, вцепился в грудь, где билось его ревнивое сердце. Не имея соответствующего опыта, он с ужасом задавался вопросом, в какую игру собирается играть мадемуазель, приглашая его теперь на маскарад. И куда могут завести насмешки девицы из Оперы добропорядочного молодого человека, неискушенного в любви? Беда да и только!..
Так мысль Рауля металась от одной крайности к другой. Он уже не знал, следует ли ему жалеть Кристину или проклинать, и потому по очереди то жалел ее, то проклинал. На всякий случай он тем не менее запасся белым домино.
И вот наконец наступил час свидания. С лицом, закрытым черной полумаской с длинными плотными кружевами, весь в белом, как прославленный Пьеро, виконт чувствовал себя смешным в романтическом маскарадном костюме. Светский человек не станет рядиться, отправляясь на бал в Оперу. Иначе над ним будут смеяться. Одна лишь мысль утешала виконта: его наверняка никто не узнает! К тому же этот костюм и полумаска имели и другое преимущество: Рауль получит возможность разгуливать там, «как у себя дома», в полном одиночестве, со смятением в душе и печалью в сердце. Ему не надо притворяться, излишне даже изображать некую маску на своем лице: она у него уже есть!
Бал этот был совершенно особым празднеством, устроенным накануне скоромных дней в честь годовщины со дня рождения одного знаменитого графика, запечатлевшего ликованье былых времен, соперника Гаварни, чей карандаш обессмертил любителей «пошиковать» и представителей богемы. Поэтому бал обещал быть более веселым, более шумным и непринужденным, чем обычные костюмированные балы. Здесь назначили друг другу свидание многие художники, которых сопровождала целая толпа натурщиков и подмастерьев. К полуночи они страшно расшумелись.
Без пяти двенадцать Рауль поднялся по большой лестнице, ни разу не остановившись полюбоваться разноцветными костюмами, расположившимися вдоль мраморных ступеней – в одном из самых пышных обрамлений в мире, он не позволил втянуть себя в разговор ни одной из забавных масок, не отвечал ни на какие шутки, сумев отделаться от навязчивой близости нескольких пар, уже чересчур веселых. Он пересек большое фойе, ускользнув от закружившей его на миг фарандолы[8], и добрался-таки наконец до гостиной, указанной ему в письме Кристиной. Там, в этом маленьком пространстве, собралось безумное количество людей, ибо то был перекресток, где встречались все, кто собирался ужинать в «Ротонде» или возвращался выпить бокал шампанского. Там царила веселая и жгучая суматоха. Рауль подумал, что Кристина неспроста выбрала для их таинственного свидания эту сутолоку, а не какой-нибудь уединенный уголок: под маской здесь им будет легче укрыться.
Прислонившись к двери, он стал ждать. Ждать пришлось недолго. Мимо проскользнуло черное домино, торопливо пожав ему кончики пальцев. Он понял, что это она.
И последовал за ней.
– Это вы, Кристина? – сквозь зубы спросил он.
Домино с живостью обернулось, поднеся палец к губам, видимо, призывая его не называть больше имени.
Рауль молча пошел следом.
Он боялся ее потерять, отыскав таким необычным образом. Ненависти к ней он уже не чувствовал. И даже не сомневался больше, что ей наверняка «не в чем себя упрекнуть», несмотря на всю странность и необъяснимость ее поведения. Он готов был к любому снисхождению и всепрощению – то есть к малодушию. Он любил. И сейчас ему легко и просто объяснят причину непонятного отсутствия.
Время от времени черное домино оборачивалось, чтобы удостовериться, следует ли за ним белое домино.
Вновь пересекая вместе со своим гидом большое зрительское фойе, Рауль не мог не заметить среди всех прочих одну сутолоку… среди разных групп, предающихся самым немыслимым сумасбродствам, одну, что теснилась вокруг персонажа, чей костюм, своеобразные манеры и зловещий вид производили сенсацию…
Персонаж этот был одет во все ярко-красное, мало того, огромная шляпа с перьями красовалась на черепе. Ах, то была великолепная имитация черепа, имевшая огромный успех у собравшихся вокруг с поздравлениями подмастерьев. Они спрашивали, у какого великого художника, в какой мастерской, куда наверняка наведывался Плутон, изготовили и раскрасили такой прекрасный череп! Позировала, поди, сама «Курносая».
Человек с черепом вместо головы, в шляпе с перьями и ярко-красных одеждах волочил за собой широкий плащ красного бархата, огненный отблеск которого царственно ложился на паркет; на плаще золотыми буквами была вышита фраза, которую каждый читал, повторяя вслух: «Не прикасайтесь ко мне! Я – Красная смерть!»
Но кто-то все-таки решил дотронуться… Тогда рука скелета, высунувшаяся из пурпурного рукава, вцепилась в запястье неосторожного шутника, и тот, почувствовав мертвую хватку скелета, неистовое объятие Смерти, которая, казалось, вовсе не собиралась его отпускать, закричал от боли и ужаса. Но вот Красная смерть вернула ему наконец свободу, и он, как безумный, бросился бежать под градом сыпавшихся со всех сторон насмешек.
В этот самый момент Рауль и столкнулся с мрачным персонажем, который как раз повернулся в его сторону. Он чуть было не вскрикнул: «Череп из Перро-Гирека!» Да, он узнал его!.. И хотел броситься к нему, забыв о Кристине, но черное домино, тоже, казалось, охваченное странным волнением, взяло его за руку и повлекло за собой, подальше от фойе с беснующейся толпой, где шествовала Красная смерть…
Черное домино поминутно оборачивалось, и дважды ему, вероятно, привиделось нечто ужасное, что заставило его ускорить шаг, увлекая за собой и Рауля, словно их преследовал кто-то.
Так миновали они два этажа. На лестницах и в коридорах почти никого не было. Черное домино толкнуло дверь какой-то ложи и подало знак белому домино войти туда. Кристина (ибо это была, конечно, она, он узнал ее по голосу) тотчас закрыла за ним дверь ложи, тихонько посоветовав ему оставаться в задней ее части и ни в коем случае не показываться. Рауль снял маску. Кристина свою снимать не стала. Собравшись попросить ее последовать своему примеру, молодой человек был поражен, увидев, как она склонилась к перегородке, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит рядом. Затем она приоткрыла дверь и выглянула в коридор, проговорив тихим голосом:
– Должно быть, он поднялся выше, в «ложу слепых»!.. – И вдруг воскликнула: – Он спускается!
Она хотела снова закрыть дверь, но Рауль воспротивился этому, ибо на самой верхней ступеньке лестницы, ведущей на верхний этаж, увидел одну красную ногу, потом вторую… наконец медленно, величаво спустилось все пурпурное одеяние Красной смерти. И глазам Рауля снова предстал череп из Перро-Гирека.
– Это он! – воскликнул Рауль. – Теперь ему от меня не уйти!..
Но Кристина успела закрыть дверь в тот момент, когда к ней бросился Рауль. Молодой человек хотел убрать Кристину с дороги.
– Кто он? – спросила она изменившимся голосом. – Кому от вас не уйти?..
Рауль решительно попытался сломить сопротивление девушки, но она оттолкнула его с неожиданной силой… Он все понял или думал, что понял, и сразу же пришел в ярость.
– Кто? – злобно проговорил Рауль. – Конечно, он, человек, который прячется под этой безобразной погребальной маской!.. Злой дух с кладбища в Перро!.. Красная смерть!.. Наконец, ваш друг, мадам. Ваш Ангел музыки! Но я сорву с его лица маску, как сорвал свою, и мы посмотрим друг другу в глаза без хитрости и обмана, я узнаю, кого вы любите и кто любит вас! – Он разразился безумным смехом, в то время как Кристина под своей полумаской горестно застонала.
Трагически раскинув руки, она своим телом заслонила дверь.
– Во имя нашей любви, Рауль, я не пущу вас!
Он замер. Что она сказала?.. Во имя их любви?.. Никогда, никогда еще она не говорила, что любит его. А между тем случаев для этого представлялось немало!.. Она видела его несчастным, когда он со слезами вымаливал у нее доброе слово надежды, которого так и не дождался!.. Видела его больным, полумертвым от ужаса и холода после ночи на кладбище в Перро! Разве она осталась рядом с ним в ту минуту, когда он больше всего нуждался в ее заботе? Нет! Она сбежала!.. А теперь говорит, что любит его! Говорит «во имя их любви». Полноте! У нее одна цель – задержать его на несколько секунд. Надо дать время Красной смерти исчезнуть. Их любовь? Она лжет!..
И Рауль заявил с детской ненавистью в голосе:
– Вы лжете, мадам! Вы не любите меня и никогда не любили! Надо быть жалким, несчастным молодым человеком вроде меня, чтобы дать себя так одурачить! Зачем было во время нашей первой встречи в Перро и своим поведением, и радостным взглядом, и даже самим молчанием вселять в меня надежду? Надежду честную, мадам, ибо я честный человек и считал вас честной женщиной, тогда как вы намеревались лишь посмеяться надо мной! Увы! Вы посмеялись над всеми! Вы постыдно обманули даже чистое сердце своей благодетельницы, которая до сих пор продолжает верить в вашу искренность, в то время как вы разгуливаете на балу в Опере с Красной смертью!.. Я презираю вас! – И он заплакал.
Она не останавливала потока его оскорблений. Главное для нее было – удержать его.
– Когда-нибудь вы попросите у меня прощения за все свои обидные слова, Рауль, и я прощу вас!..
Он тряхнул головой.
– Нет! Нет! Вы довели меня до безумия!.. Подумать только, ведь у меня была одна лишь цель в жизни: дать свое имя девушке из Оперы!
– Рауль!.. Несчастный!..
– Я готов умереть от стыда!
– Живите, мой друг, – послышался строгий, неузнаваемый голос Кристины, – и… прощайте!
– Прощайте, Кристина!..
– Прощайте, Рауль!..
Молодой человек едва держался на ногах. И все-таки отважился на сарказм:
– О! Вы позволите время от времени приходить мне, чтобы аплодировать вам?
– Я больше не буду петь, Рауль!..
– В самом деле? – В его голосе было еще больше иронии. – Поздравляю: вам создают все условия для развлечений!.. Но мы еще встретимся как-нибудь вечером в Булонском лесу!
– Ни в Булонском лесу, ни в каком другом месте, Рауль, вы меня больше не увидите…
– Можно ли узнать, по крайней мере, в какие темные пределы вы возвращаетесь?.. В какой ад стремитесь, таинственная мадам?.. Или в какой рай?..
– Я пришла, чтобы поведать вам это, мой друг… Но теперь ничего не могу сказать. Вы мне не поверите! Вы потеряли веру в меня, Рауль, все кончено!..
Она сказала «Все кончено!» с таким безысходным отчаянием, что молодой человек содрогнулся, и сожаления о своей жестокости начали терзать его душу.
– Но в конце концов! – воскликнул он. – Можете вы сказать, что все это значит?.. Вы свободны, без оков. Разгуливаете по городу. Облачаетесь в домино, чтобы попасть на бал. А почему не возвращаетесь домой?.. Что вы делали в течение двух недель?.. Что это еще за история с Ангелом музыки, которую вы поведали госпоже Валериус? Кто-то мог обмануть вас, злоупотребить вашей доверчивостью. Я сам был тому свидетелем в Перро. Но теперь вы во всем разобрались!.. Мне кажется, вы полностью в здравом уме, Кристина, и знаете, что делаете!.. А между тем госпожа Валериус продолжает ждать вас, ссылаясь на вашего «доброго гения»!.. Объяснитесь, Кристина, прошу вас!.. Не одному мне трудно разобраться!.. Что это за комедия?..
Сняв маску, Кристина просто сказала:
– Это трагедия, мой друг!..
Увидев ее лицо, Рауль не мог удержаться, вскрикнув от ужаса и удивления. Былые свежие краски исчезли. Смертельная бледность разлилась по ее лицу, которое он помнил таким прелестным и нежным, отражавшим спокойную благодать и не знавшую мук совесть. Теперь черты его мучительно исказились! Горестные страдания оставили свой след, а прекрасные, ясные глаза Кристины, прежде такие прозрачные, словно озера глаз маленькой Лотты, казались в этот вечер таинственно бездонными и мрачными, их окружала тень страшной печали.
– Друг мой! Друг мой! – простонал Рауль, протягивая к ней руки. – Вы обещали простить меня…
– Может быть!.. Когда-нибудь, – молвила она, снова надевая маску, и ушла, жестом запретив ему следовать за ней, словно изгоняя его…
Рауль хотел броситься вслед, но она, обернувшись, так властно повторила прощальный жест, что он не осмелился сделать ни шага.
Рауль смотрел, как она удаляется… Потом тоже спустился и смешался с толпой, не зная толком, что делает; в висках стучало, сердце разрывалось, но, пересекая зал, он все-таки спросил, не видел ли кто Красную смерть.
– Что за Красная смерть? – спрашивали его.
– Это ряженый господин в широком красном плаще с черепом вместо головы, – отвечал он.
Ему всюду говорили, что Красная смерть только что прошествовала, волоча свой королевский плащ, но он с ней так и не встретился и к двум часам утра вернулся в коридор, через который за сценой можно было попасть в гримерную Кристины Дое.
Ноги сами привели Рауля туда, где начались его страдания. Он постучал в дверь. Ему никто не ответил. Он вошел, как вошел в тот вечер, когда всюду искал мужской голос. В гримерной никого не было. Горел приглушенно газовый рожок. На маленьком столике лежала бумага для писем. Он решил было написать Кристине, но в коридоре послышались шаги… Он едва успел спрятаться в будуаре, отделенном от гримерной простой занавеской. Чья-то рука толкнула дверь гримерной.
Кристина!
Он затаил дыхание. Он хотел видеть! Хотел знать!.. Что-то подсказывало ему, что он сможет узнать какую-то часть тайны и тогда, возможно, начнет понимать…
Войдя, Кристина устало сняла маску и бросила ее на стол. Вздохнув, она уронила свою прекрасную голову на руки… О чем она думала?.. О Рауле?.. Нет! Ибо Рауль услыхал, как она шепчет:
– Бедный Эрик!
Сначала он решил, что не расслышал. Прежде всего он был убежден, что если кого и следует жалеть, так это его, Рауля. После того, что между ними произошло, ничего удивительного, если бы она со вздохом сказала: «Бедный Рауль!»
Но она, тряхнув головой, повторила:
– Бедный Эрик!
Какое отношение имел этот Эрик ко вздохам Кристины и почему маленькая северная фея жалела Эрика, когда Рауль был так несчастен?
Кристина принялась писать – неторопливо, спокойно и до того безмятежно, что Рауль, который все еще не мог прийти в себя из-за драмы, их разлучившей, был неприятно поражен этим. «Какое самообладание!» – подумал он. Она же продолжала писать, заполнив таким образом два, три, четыре листка. Внезапно она подняла голову, спрятав листки за корсаж. Казалось, она прислушивается… Рауль тоже стал слушать… Откуда доносились эти странные звуки, отдаленный ритм?.. Приглушенное пение исходило, казалось, от стен. Да, можно было подумать, что поют стены!.. Пение слышалось все явственнее, только слов нельзя было разобрать, но голос различить можно, очень красивый, очень нежный, чарующий голос, однако нежность была мужской, и, насколько можно судить, голос принадлежал не женщине… Голос все приближался, вот он преодолел стену, он здесь, голос находился в комнате, перед Кристиной. Кристина встала и заговорила с голосом, как будто обращалась к кому-то, кто стоял рядом с ней.
– Вот и я, Эрик, – сказала она, – я готова. Это вы опоздали, друг мой.
Осторожно выглянув из-за занавески, Рауль не мог поверить собственным глазам, ибо никого, кроме Кристины, не увидел.
Меж тем лицо ее прояснилось. Добрая улыбка появилась на бескровных губах – такая улыбка бывает у выздоравливающих, когда они начинают надеяться, что поразивший их недуг не смертелен.
Бестелесный голос снова запел, и, безусловно, ничего подобного Раулю никогда еще не доводилось слышать: на одном дыхании голос соединял, казалось бы, несоединимое, трудно было вообразить что-либо еще более широкое и героическое в сочетании с удивительной мягкостью, что-то еще более победоносно вероломное, в силе чувствовалась беззащитность, а в беззащитности – сила, словом, это было олицетворение торжествующего, непревзойденного мастерства, которое, несомненно, должно заставлять возвыситься над обыденным смертных – тех, кто чувствует, любит и воплощает музыку в звуках. В этом голосе таился спокойный и чистый источник гармонии, к которому верующие с благоговением безбоязненно могли припасть, не сомневаясь, что черпают музыкальную благодать. И тогда их искусство, соприкоснувшись с божественным, внезапно преображалось.
Рауль в упоении слушал голос, начиная понимать, каким образом Кристина Дое сумела однажды явить пораженной публике звуки неведомой красоты, нечеловеческих восторгов, все еще, видимо, находясь под влиянием таинственного и незримого учителя! Понять глубину этого необычайного явления – исключительного голоса – было тем более легко, что ничего исключительного не исполнялось, напротив, грязную тину силою своего искусства этот голос превращал в небесную лазурь. Банальность стиха и легкость, едва ли даже не вульгарность популярной мелодии преображались, достигая немыслимой красоты, творческим вдохновением, приподнимавшим их и уносившим в небесную высь на крыльях страсти. Ибо этот ангельский голос пел языческий гимн.
Звучала «Ночь Гименея» из «Ромео и Джульетты».
Рауль увидел, что Кристина протягивает руки навстречу голосу, как делала это на кладбище в Перро, протягивая руки к невидимой скрипке, игравшей «Воскрешение Лазаря»…
Ничто не могло бы выразить страсть с такою силой, как этот голос.
Судьбою ты прикована ко мне навеки!..
У Рауля пронзило сердце, и, пытаясь побороть очарование, лишавшее его воли и энергии, а отчасти и трезвости ума в тот момент, когда он особо во всем этом нуждался, молодой человек сумел отдернуть скрывавшую его занавеску и шагнуть к Кристине. Та, продвигаясь в глубь гримерной, целая стена которой была занята огромным зеркалом, посылавшим ей ее отражение, не могла его видеть, ибо он находился как раз за ней и она полностью его скрывала.
Судьбою ты прикована ко мне навеки!..
Кристина продолжала идти навстречу своему отражению, и ее отражение приближалось к ней. Обе Кристины – во плоти и в бесплотном отражении – коснулись друг друга и слились воедино. Рауль протянул руку, чтобы разом схватить обеих.
Но силой какого-то ослепительного чуда, заставившего его пошатнуться, Рауль был отброшен назад, в лицо ему пахнуло ледяным ветром, и перед глазами возникли уже не две, а четыре, нет, восемь, двадцать Кристин, круживших с поразительной легкостью; словно насмехаясь, они убегали с такой быстротой, что рука его не успела коснуться ни одной из них. Наконец все снова замерло, и он увидел в зеркале себя. Но Кристина исчезла.
Он устремился к зеркалу. Ткнулся в стены. Никого! А между тем в гримерной все еще звучала далекая, страстная мелодия:
Судьбою ты прикована ко мне навеки!..
Пальцы его в отчаянии сжимали лоб в поту, он ощупал себя: не спит ли, пошарил в полумраке, прибавив яркость пламени в газовом рожке. Рауль не сомневался, что все это ему не приснилось. Он очутился в эпицентре чудовищной игры, физической и моральной, ключом к которой не владел и которая, возможно, сметет его. Он представлялся себе кем-то вроде отважного принца, переступившего запретную черту волшебной сказки, и теперь ничему не следовало удивляться: он стал жертвой магических явлений, которым бессознательно бросил вызов, дав им волю своей любовью…
Куда? Куда исчезла Кристина?..
И каким образом она вернется?..
Да и вернется ли?.. Увы! Разве не сказала она ему, что все кончено!.. И разве не твердила стена: Судьбою ты прикована ко мне навеки? Ко мне? Это к кому же?
Измученный, побежденный, с затуманенным сознанием, Рауль сел на то самое место, где только что сидела Кристина. И как она, уронил голову на руки. А когда поднял ее, слезы ручьями лились по его юному лицу, настоящие, горькие слезы, какие бывают у ревнивых детей, и оплакивали они вовсе не какое-то фантастическое несчастье, а то самое, которое выпадает на долю всех влюбленных на земле, Рауль сам его определил, громко сказав:
– Кто такой этот Эрик?
Забыть имя «мужского голоса»
На следующий день после того, как Кристина исчезла у него на глазах в непостижимом ослеплении, заставившем его усомниться в собственном рассудке, господин виконт де Шаньи отправился за новостями к госпоже Валериус. Ему открылась прелестная картина.
У изголовья старой дамы, вязавшей сидя в постели, Кристина плела кружева. Никогда еще столь очаровательный овал лица, столь чистый лоб и нежный взгляд не склонялись над работой девственницы. Свежие краски вернулись на щеки юной девушки. Синеватые круги вокруг ясных глаз исчезли. Рауль не узнавал вчерашнего трагического лица. Если бы не налет грусти, туманивший черты ее восхитительного лица и казавшийся молодому человеку последним отпечатком неслыханной драмы, которой противостояло это таинственное дитя, то он мог бы подумать, что вовсе не Кристина была ее загадочной героиней.
Без всякого видимого волнения она поднялась ему навстречу и протянула руку.
Однако изумление Рауля было так велико, что, ошеломленный, он остался стоять, не в силах ни двигаться, ни говорить.
– Ну что же, господин де Шаньи! – воскликнула госпожа Валериус. – Вы не хотите больше знать нашу Кристину? «Добрый гений» вернул ее нам!
– Матушка! – остановила ее девушка резким тоном, в то время как лицо ее залилось яркой краской. – Матушка, я думала, мы никогда больше не станем говорить об этом!.. Вы прекрасно знаете, что никакого Ангела музыки нет!
– Девочка моя, но он целых три месяца давал тебе уроки!
– Матушка, я обещала все объяснить вам в ближайшее время, я на это надеюсь… Но до того дня вы обещали мне молчать и ни о чем не расспрашивать!
– Если ты обещаешь не покидать меня больше! Но ты ведь обещала мне это, Кристина?
– Матушка, все это нисколько не интересно господину де Шаньи…
– Вы ошибаетесь, мадемуазель, – прервал ее молодой человек, стараясь придать своему дрожащему голосу твердость и мужественность, – все, что касается вас, крайне интересует меня, возможно, когда-нибудь вы это наконец поймете. Не скрою от вас, что мое удивление ничуть не уступает той радости, которую я испытал, увидев вас рядом с вашей приемной матерью, ведь то, что произошло между нами вчера, то, что вы смогли сказать мне и о чем я мог догадаться, все это не позволяло мне надеяться на столь скорое возвращение. Но я был бы рад еще больше, если бы вы не упорствовали, желая сохранить все в тайне, которая может стать для вас роковой… Я слишком давний ваш друг, чтобы вместе с госпожой Валериус не беспокоиться по поводу этой гибельной авантюры, она тем более опасна, что мы пока не в силах разобраться в злых кознях, жертвой которых вы в конечном счете можете стать, Кристина.
При этих словах госпожа Валериус заволновалась в своей кровати.
– Что это значит? – воскликнула она. – Стало быть, Кристина в опасности?
– Да, сударыня! – отважно заявил Рауль, не обращая внимания на знаки, подаваемые Кристиной.
– Боже мой! – задыхаясь, воскликнула добрая, наивная старушка. – Ты должна мне все рассказать, Кристина! Зачем ты меня успокаиваешь? И о какой опасности идет речь, господин де Шаньи?
– Обманщик злоупотребляет ее доверием!
– Ангел музыки – обманщик?
– Она сама вам сказала, что никакого Ангела музыки нет!
– А что же тогда есть, Боже праведный?! – взмолилась больная. – Вы убиваете меня!
– Существует, сударыня, вокруг нас, вокруг вас, вокруг Кристины некая земная тайна, гораздо более опасная, нежели все призраки и все гении!
Госпожа Валериус повернула к Кристине испуганное лицо, но та уже поспешила к приемной матери и сжала ее в своих объятиях.
– Не верьте ему, милая матушка, не верьте ему, – твердила она, стараясь ласками утешить старую даму, которая так горестно вздыхала, что сердце разрывалось.
– Тогда скажи, что больше не покинешь меня! – молила вдова профессора.
Кристина безмолвствовала, но заговорил Рауль:
– Вот что надо обещать, Кристина. Это единственная вещь, которая может нас успокоить, госпожу Валериус и меня! Мы обязуемся не задавать вам больше вопросов о прошлом, если вы обещаете оставаться в будущем под нашей защитой…
– Я вовсе не требую от вас такого обязательства и не дам вам такого обещания! – с гордостью отвечала девушка. – Я свободна в своих действиях, господин де Шаньи, вы не имеете никакого права контролировать их, и прошу вас отныне не обременять себя этим. Что же касается того, где я провела две недели, то лишь один человек на свете имел бы право требовать от меня отчета: мой муж! Но у меня нет мужа, и я никогда не выйду замуж! – Говорила она все это с огромной силой убеждения, протянув руку в сторону Рауля словно для того, чтобы придать больше торжественности своим словам.
Рауль побледнел, но не только из-за тех слов, которые ему довелось услышать, а потому, что заметил на пальце Кристины золотое кольцо.
– У вас нет мужа, а между тем вы носите обручальное кольцо. – И он хотел схватить Кристину за руку, но она поспешно увернулась.
– Это подарок! – сказала она, снова покраснев и напрасно пытаясь скрыть свое смущение.
– Кристина! Раз у вас нет мужа, то это кольцо могло быть подарено вам лишь тем, кто надеется стать им! Зачем же и дальше обманывать нас? Зачем мучить меня еще больше? Это кольцо – обязательство! И обязательство было принято!
– Я сказала ей то же самое! – воскликнула старая дама.
– И что она вам ответила, сударыня?
– Что мне было угодно! – вышла из терпения Кристина. – Не находите ли вы, сударь, что этот допрос затянулся?.. Что касается меня…
Рауль, разволновавшись, испугался, как бы она не произнесла слова окончательного разрыва, и прервал ее:
– Прошу прощения, что позволил себе говорить так, мадемуазель. Вы прекрасно знаете, какое искреннее чувство заставляет меня в данный момент вмешиваться в то, что меня, безусловно, не касается! Но позвольте рассказать вам, что мне довелось увидеть, а видел я больше, чем вы думаете, Кристина, или полагал, что вижу, ибо, по правде говоря, в такой истории начинаешь не доверять собственным глазам…
– И что же вы, сударь, видели или полагали, что видите?
– Я видел ваш самозабвенный восторг при звуках голоса, Кристина! Голоса, исходившего из стены, а может быть, из гримерной или какого-нибудь помещения по соседству… Да, ваш самозабвенный восторг!.. Потому-то я и боюсь за вас!.. Вы находитесь во власти опасных чар!.. А между тем, судя по всему, вы сами отдаете себе отчет в обмане, раз сказали сегодня, что никакого Ангела музыки нет. В таком случае, Кристина, почему вы и на этот раз последовали за ним? Почему вы встали с сияющим лицом, будто в самом деле услышали ангелов?.. Ах, Кристина, этот голос крайне опасен, если даже я, пока слушал его, был настолько заворожен, что вы исчезли у меня на глазах, а я не могу понять, каким образом это произошло!.. Кристина! Кристина! Во имя неба, во имя вашего отца, который пребывает теперь на небесах и который так вас любил и меня любил, Кристина, скажите мне, вашей приемной матери и мне, кому принадлежит этот голос! И вопреки вам мы вас спасем!.. Ну же, Кристина! Имя этого человека?.. Того самого человека, который имел смелость надеть на ваш палец золотое кольцо!
– Господин де Шаньи, – холодно заявила девушка, – вы никогда этого не узнаете!..
Тут послышался резкий голос госпожи Валериус, внезапно вставшей на сторону Кристины при виде того, с какой враждебностью ее воспитанница разговаривает с виконтом:
– А если она его любит, этого человека, господин виконт, вас это опять-таки не касается!
– Увы, сударыня, – смиренно продолжал Рауль, не в силах удержать слез. – Увы! Думаю, Кристина действительно его любит. Все об этом говорит, но не только в том причина моего отчаяния, главное, в чем я не уверен, сударыня, – достоин ли тот, кого любит Кристина, ее любви!
– Об этом пристало судить только мне, сударь! – молвила Кристина, глядя в глаза Раулю, причем лицо ее выражало сильнейшее раздражение.
– Когда, – продолжал Рауль, чувствуя, что силы покидают его, – чтобы обольстить девушку, прибегают к столь романтическим приемам…
– Мужчина бывает ничтожным либо девушка совсем глупой, не так ли?
– Кристина!
– Рауль, почему вы осуждаете человека, которого никогда не видели, кого никто не знает и о ком вы сами ничего не знаете?..
– Нет, Кристина. Нет… Мне известно по крайней мере имя, которое вы собираетесь скрыть от меня навсегда… Вашего Ангела музыки, мадемуазель, зовут Эрик!..
Кристина тотчас выдала себя. На этот раз она стала белой как полотно.
– Кто вам это сказал? – пролепетала она.
– Вы сами!
– Каким образом?
– Жалея его в тот вечер, вечер костюмированного бала. Разве, придя в свою гримерную, вы не сказали: «Бедный Эрик!» Так вот, Кристина, рядом находился бедный Рауль, который вас слышал.
– Стало быть, вы второй раз подслушивали за дверью, господин де Шаньи!
– Я был не за дверью!.. Я был в гримерной!.. В вашем будуаре, мадемуазель.
– Несчастный! – простонала девушка с невыразимым ужасом. – Несчастный! Вы хотите, чтобы вас убили?
– Возможно!
Рауль произнес это «возможно» с такой любовью и отчаянием, что Кристина не могла сдержать рыданий.
Взяв его за руки, она взглянула на него с несказанной нежностью, и под этим взглядом молодой человек почувствовал, что боль его стихает.
– Рауль, – сказала она, – вам следует забыть мужской голос, и не вспоминать его имя, и никогда не пытаться проникнуть в тайну мужского голоса.
– Значит, эта тайна столь ужасна?
– Ужаснее на земле не бывает!
Молодые люди умолкли. Рауль был страшно удручен.
– Поклянитесь мне, что не сделаете ничего, чтобы «узнать», – настаивала Кристина. – Поклянитесь, что не войдете больше в мою гримерную, пока я не позову вас.
– Вы обещаете звать меня хоть иногда, Кристина?
– Обещаю.
– Когда же?
– Завтра.
– Тогда я тоже клянусь вам!
Это были их последние слова в тот день.
Он поцеловал ей руки и ушел, проклиная Эрика и обещая себе быть терпеливым.
Над люками
На другой день он снова увидел ее в Опере.
Она по-прежнему носила на пальце золотое кольцо. Но была нежной и доброй. Говорила с ним о его планах на будущее, о его карьере.
Он сказал ей, что отъезд полярной экспедиции ускорен и что через три недели, самое позднее через месяц он покинет Францию.
Она чуть ли не весело уговаривала его рассматривать это путешествие как этап на пути к будущей славе. И когда он отвечал, что слава без любви не имеет в его глазах притягательной силы, назвала его ребенком, чьи горести обязательно пройдут.
– С какой легкостью, Кристина, вы говорите о таких важных вещах! – воскликнул он. – Ведь мы, возможно, никогда больше не увидимся!.. Я могу умереть во время экспедиции!..
– Я тоже, – просто сказала она. Она уже не улыбалась и не шутила. Казалось, она задумалась о чем-то, что впервые пришло ей в голову. Взгляд ее просветлел.
– О чем вы думаете, Кристина?
– О том, что мы больше не увидимся.
– И от этого вы вся светитесь?
– И что через месяц нам придется сказать друг другу: прощай навсегда!
– Если только мы не дадим друг другу слово, Кристина, и не будем ждать друг друга, чтобы соединиться навеки.
Она закрыла ему рот рукой.
– Молчите, Рауль!.. Об этом и речи быть не может, и вы прекрасно это знаете!.. Мы никогда не поженимся! Все решено! – Ей вдруг стало трудно сдерживать бьющую через край радость. С детской веселостью она захлопала в ладоши.
Рауль, не понимая, смотрел на нее с беспокойством.
– Но… но… – заговорила она снова, протягивая молодому человеку обе руки или, вернее, отдавая их, словно внезапно решила сделать ему подарок. – Но если нам нельзя пожениться, мы можем, мы можем обручиться!.. Никто не будет знать об этом, кроме нас, Рауль!.. Ведь были же тайные браки!.. Значит, могут быть и тайные обручения!.. Мы помолвлены, мой друг, на месяц!.. Через месяц вы уедете, и я всю жизнь буду счастлива, вспоминая этот месяц! – Она была в восторге от своей идеи и вдруг снова стала серьезной. – Это счастье, которое никому не причинит вреда…
Рауль понял. Он уцепился за эту счастливую мысль. И хотел немедленно сделать ее реальностью. Склонившись перед Кристиной с беспримерным смирением, он произнес:
– Мадемуазель, имею честь просить вашей руки!
– Но они уже обе ваши, мой дорогой жених!.. О, Рауль, как мы будем счастливы!.. Мы будем играть в будущих мужа и жену!..
А Рауль думал про себя: «Какая неосторожная! За месяц у меня хватит времени заставить ее забыть или разгадать и свести на нет «тайну мужского голоса», и через месяц Кристина согласится стать моей женой. А пока поиграем!»
То была прелестнейшая игра, которой они радовались, как невинные дети, каковыми и были на самом деле. Ах, какие чудесные вещи говорили они друг другу! Какие давали клятвы в вечной верности! Мысль, что по прошествии месяца некому будет держать эти клятвы, повергала их в смятение, которым они наслаждались с отчаянным упоением, мешая смех со слезами. Они играли «в сердце», как иные играют «в мяч», только посылали-то они друг другу не мяч, а свои сердца, и потому им следовало проявлять большую ловкость, чтобы поймать их, не причинив вреда. Однажды – это был восьмой день игры – сердце Рауля сжалось от нестерпимой боли, и молодой человек решил остановить партию безрассудными словами: «Я не поеду на Северный полюс».
Кристина, которая по своему простодушию не подумала о такой возможности, внезапно поняла опасность игры и горько пожалела о содеянном. Ничего не ответив Раулю, она собралась домой.
Происходило это во второй половине дня в гримерной Кристины, где она назначала ему свидания и где они играли «в гости», поставив на стол печенье, две рюмки портвейна и букетик фиалок.
Вечером она не пела. И он не получил привычного письма, хотя они договорились писать друг другу каждый день в течение всего месяца.
На следующее утро он помчался к госпоже Валериус. Та сообщила ему, что Кристины не будет два дня. Она ушла накануне в пять часов вечера, сказав, что вернется лишь на третий день. Рауль был потрясен. Он возненавидел госпожу Валериус, сообщившую ему подобную новость с поразительным спокойствием. Он попробовал вытянуть из нее что-нибудь, но милая дама, судя по всему, действительно ничего не знала. На встревоженные вопросы молодого человека она просто-напросто отвечала: «Это секрет Кристины!» Причем говорила это с трогательным елеем в голосе, подняв палец, словно призывая хранить тайну и в то же время желая вроде бы успокоить.
«Ну конечно! – со злостью думал Рауль, как безумный сбегая по лестнице. – Еще бы! С такой госпожой Валериус за девушек нечего опасаться!..»
Куда могла деться Кристина?.. Два дня… На два дня сократился срок их недолгого счастья! А все по его вине!.. Ведь договорились, что он уедет!.. И если у него было твердое намерение никуда не уезжать, зачем он заговорил об этом так рано? Он корил себя за допущенную оплошность и чувствовал себя самым несчастным человеком сорок восемь часов, по истечении которых Кристина вернулась.
И вернулась с триумфом. Наконец-то ее вновь ожидал неслыханный успех, какого она достигла на том памятном гала-концерте. После истории с «жабой» Карлотта не могла выступать на сцене. В ее сердце, лишая ее сил, поселился ужас перед новым фальшивым «квак»; место и свидетели ее непостижимого провала стали ей ненавистны. Она нашла способ разорвать контракт. Дое на короткое время просили занять вакантную роль. В «Жидовке» ее встретили с исступленным восторгом.
Присутствовавший на представлении виконт был, естественно, единственным, кто страдал, внимая тысячным отголоскам этого нового триумфа, ибо заметил, что Кристина по-прежнему носит золотое кольцо. Некий невнятный голос нашептывал молодому человеку: «И сегодня опять у нее это кольцо, и не ты ей его подарил. Сегодня она опять отдала всю душу, но только не тебе». И еще тот же голос добавил: «Если она не хочет сказать, что делала эти два дня, если скрывает от тебя место своего убежища, надо спросить об этом у Эрика!»
Рауль бросился на сцену. Встал у нее на пути. Она увидела его, ибо искала глазами.
– Скорее! Скорее! Идемте! – сказала она, увлекая его в гримерную, нисколько не заботясь о многочисленных поклонниках ее восходящей славы, шептавших перед закрытой дверью:
– Какой скандал!
Рауль тут же упал к ее ногам. Он поклялся, что уедет, и умолял не отнимать более ни часа у обещанного ею безоблачного счастья. Она не стала сдерживать своих слез. Они обнялись, словно убитые горем брат с сестрой, которых поразило общее несчастье, и вот они встретились, чтобы оплакать чью-то смерть.
Внезапно Кристина освободилась от нежных и робких объятий молодого человека, прислушиваясь, казалось, к чему-то неведомому, и жестом указала Раулю на дверь. Когда он уже был у порога, она сказала, но так тихо, что виконт скорее угадал, нежели услышал ее слова:
– До завтра, мой дорогой жених! И будьте счастливы, Рауль… Сегодня я пела для вас!..
На следующий день он вернулся.
Но увы! Два дня отсутствия разрушили очарование их милой лжи. Встретившись, как всегда, в гримерной, они смотрели друг на друга, однако их грустные глаза ничего уже не говорили. Рауль едва сдерживался, чтобы не закричать: «Я ревную! Ревную! Ревную!» Но она все-таки услыхала его и сказала:
– Давайте погуляем, мой друг, свежий воздух пойдет нам на пользу.
Рауль решил, что она хочет предложить ему прогулку за город, подальше от этого величественного монумента, который он ненавидел, словно тюрьму, в ярости чувствуя к тому же, как в ее стенах разгуливает тюремщик, тюремщик по имени Эрик…
Но она привела его на сцену и усадила на деревянный край фонтана, среди сомнительного покоя и не менее сомнительной свежести первых декораций следующего спектакля; в один из недавних дней она бродила с ним, держа его за руку, по пустынным аллеям сада, вьющиеся растения которого были вырезаны ловкими руками декоратора, как будто настоящие небеса, настоящие цветы, настоящая земля навсегда оказались для нее под запретом, и она навеки обречена дышать лишь атмосферой театра! Молодой человек не решался задавать никаких вопросов, ибо ему сразу становилось ясно, что она не может на них ответить, а ему не хотелось доставлять ей лишние страдания. Время от времени появлялся пожарный, издалека наблюдая их грустную идиллию. Иногда она храбро пыталась обмануть и себя и Рауля фальшивой красотой этой картины, придуманной ради создания иллюзии у людей. Неизменно живое воображение Кристины расцвечивало ее ослепительными красками, с какими природа, утверждала она, не может сравниться.
Она восторгалась, а Рауль тем временем тихонько сжимал ее трепетную руку.
– Взгляните, Рауль, – говорила она, – эти стены, деревья, беседки, нарисованные на полотне, были свидетелями самой возвышенной любви, ибо она придумана поэтами, намного превосходившими обычных людей. Согласитесь, мой милый Рауль, что нашей любви здесь самое место, потому что она тоже придумана и – увы – тоже всего лишь иллюзия!
Опечаленный, он не отвечал. И она продолжала:
– На земле нашей любви слишком грустно, так поднимем ее на небеса!.. Посмотрите, как здесь это легко!
И она увлекла его выше облаков, в дивное переплетение решеток, ей нравилось доводить его до головокружения, пробегая перед ним по хрупким мосткам колосников, средь множества тросов, соединявшихся между собой роликами, лебедками, барабанами, посреди самого настоящего воздушного леса рей и мачт. Если он колебался, она говорила, очаровательно надув губки:
– Вы же моряк!
Затем они снова спускались на твердую землю, то есть в какой-нибудь вполне нормальный коридор, и он приводил их к смеху и танцам в царстве юности, которую одергивал строгий голос: «Мягче, барышни!.. Следите за пуантами!..» Это класс девочек, тех, кому не больше шести лет или скоро исполнится девять-десять, хотя у них уже декольте, легкая пачка, белые панталоны и розовые чулки, и они работают, работают своими маленькими натруженными ножками в надежде стать ученицами первой и второй ступени кордебалета, корифеями, фигурантками, прима-балеринами, увешанными бриллиантами… А пока Кристина раздавала им конфеты.
В другой день она привела его в просторный зал своего дворца, забитый пестрыми лохмотьями, старыми рыцарскими вещами, и произвела смотр неподвижных, покрытых пылью призрачных воинов. Девушка обращалась к ним с добрыми словами, обещала, что они снова увидят ослепительно-яркие вечера и музыкальные шествия перед сияющей рампой.
Так водила она Рауля по своему королевству, которое было поддельным, но огромным, простиравшимся на семнадцать этажей – от первого до самой верхушки – и населенным целой армией подданных. Она шествовала мимо них, словно пользующаяся всеобщей любовью королева, поощряя работы, присаживаясь на складах, давая разумные советы мастерицам, руки которых останавливались в нерешительности, не отваживаясь кроить богатые ткани, которым надлежало украшать героев. Жители этой страны знали все ремесла. Были там сапожники и ювелиры. И все научились ее любить, ибо она проявляла интерес к тяготам и маленьким странностям каждого из них. Ей известны были забытые уголки, где тайно проживали старые семейства.
Она стучала к ним в дверь и представляла Рауля как очаровательного принца, который просил ее руки, и оба они садились на какой-нибудь источенный червями аксессуар, слушая легенды Оперы, как прежде, в детские годы, слушали старинные бретонские сказки. Эти старики ничего, кроме Оперы, не знали и не помнили. Они проживали там с незапамятных времен. Исчезнувшее руководство забыло о них; дворцовые революции их не касались; снаружи вершилась история Франции, они этого не замечали, зато и о них никто не вспоминал.
Так уходили драгоценные дни; проявляя чрезмерный интерес к вещам посторонним, Рауль с Кристиной неловко пытались таким образом скрыть друг от друга единственную мысль, тревожившую их сердца. К тому же Кристина, до тех пор казавшаяся более сильной, стала вдруг проявлять невероятную нервозность. Во время их экспедиций она то принималась бежать без всякой причины, то вдруг останавливалась, и ее рука, мгновенно становившаяся ледяной, удерживала молодого человека. Порой ее взгляд преследовал воображаемые тени. Она кричала: «сюда», потом «туда» и опять «сюда», задыхаясь от смеха, который нередко заканчивался слезами. Рауль пытался в таких случаях заговорить, ему хотелось, несмотря на все свои обещания и обязательства, расспросить ее. Но прежде чем он успевал задать вопрос, она с лихорадочным возбуждением отвечала:
– Ничего!.. Клянусь вам, все в порядке.
Однажды, когда на сцене они проходили мимо открытого люка, Рауль, склонившись над темной бездной, сказал:
– Вы показали мне верхнюю часть вашего королевства, Кристина. Но столько странных историй рассказывают о подземной. Давайте спустимся?
Услыхав это, она обняла его, словно опасаясь, что он исчезнет в черной дыре, и тихо сказала с дрожью в голосе:
– Никогда!.. Я запрещаю вам спускаться туда!.. И потом, это не мое!.. Все, что под землей, принадлежит ему!
Рауль заглянул ей в глаза и жестко спросил:
– Значит, он обитает внизу?
– Я не говорила этого!.. Кто вам сказал подобную вещь? Пойдемте! Бывают минуты, Рауль, когда я спрашиваю себя, в своем ли вы уме?.. Вам все время слышатся невозможные вещи!.. Пошли! Пошли! – Она буквально тащила его, ибо он упрямо хотел остаться возле люка, эта дыра притягивала его.
Внезапно люк захлопнулся, причем до того неожиданно, что они даже не заметили руки, которая привела его в движение, и остались стоять, ошеломленные.
– Может, это он? – произнес наконец Рауль.
Она пожала плечами, но вид у нее был неуверенный.
– Нет-нет! Это закрывальщики люков. Надо же им что-то делать. Они открывают и закрывают люки без всякой причины. Это как закрывальщики дверей – надо же им как-то проводить время.
– А если это он, Кристина?
– Да нет же! Нет! Он заперся! Он работает.
– Вот как, он работает?
– Да, не может же он открывать и закрывать люки и одновременно работать. Не стоит беспокоиться. – Но говорила она это с дрожью.
– Над чем же он работает?
– О! Над ужасной вещью!.. Так что мы можем быть спокойны!.. Когда он занят этим, то ничего не видит; он не ест, не пьет, не дышит много ночей и дней… Это живой мертвец, у него нет времени забавляться с люками! – Она снова вздрогнула и, прислушиваясь, склонилась над люком…
Рауль не останавливал ее. Он умолк, опасаясь теперь, что звук его голоса заставит ее вдруг задуматься, оборвав столь непрочную нить откровений.
Она все еще обнимала его не отпуская… И тоже вздохнула:
– А если это был он?..
– Вы боитесь его? – робко спросил Рауль.
– Да нет же! Нет! – отвечала она.
Молодой человек, не скрывая, невольно пожалел ее, как жалеют существо впечатлительное, которое все еще находится во власти недавнего сна. Всем своим видом он будто говорил: «Я же здесь, с вами!» И почти бессознательно принял угрожающую позу. С удивлением взглянув на него – этакое олицетворение мужества и доблести, – Кристина мысленно, казалось, дала реальную оценку его рыцарской отваге. Она поцеловала бедного Рауля, как сестра, которая в порыве нежности поблагодарила бы его за то, что он по-братски сжал свой маленький кулак, дабы защитить ее от возможных опасностей, неизбежно подстерегающих нас на жизненном пути.
Рауль понял и покраснел от стыда. Он счел себя таким же слабым, как она, и думал про себя: «Она уверяет, что не боится, но с дрожью уводит нас от люка». И это была сущая правда. На другой день и во все последующие дни они уносили свою игрушечную целомудренную любовь подальше от люков, пряча ее чуть ли не под самой крышей. Волнение Кристины возрастало по мере того, как бежало время. Однажды она пришла во второй половине дня с большим опозданием – лицо бледное, глаза покраснели от отчаяния, – и Рауль решился на крайнее средство, без обиняков заявив ей, что отправится на Северный полюс лишь в том случае, если она доверит ему секрет мужского голоса.
– Молчите! Ради бога, молчите. Что будет, если он услышит вас, несчастный Рауль! – И с растерянным видом Кристина стала оглядываться по сторонам.
– Я вырву вас из-под его власти, Кристина, клянусь вам! И вы перестанете думать о нем.
– Но разве это возможно?
Она позволила себе выразить такое сомнение, что само по себе выглядело поощрением, и увлекла молодого человека на последний этаж театра, «на самую верхотуру», там-то уж они были далеко, очень далеко от люков.
– Я спрячу вас где-нибудь на краю земли, куда ему не добраться. Вы будете спасены, и тогда я уеду, раз вы поклялись, что никогда не выйдете замуж.
Схватив Рауля за руки, Кристина сжала их в неудержимом порыве. Но снова забеспокоившись, повернула голову.
– Выше! – только и сказала она. – Еще выше! – И потащила его на самый верх.
Он с трудом поспевал за ней. Вскоре они очутились под самой крышей, в лабиринте строительных конструкций. Они пробирались меж арок, стропил, подпорок, каких-то стен, скатов и наклонов; перебегали от балки к балке, как в лесу от дерева к дереву, но только с чудовищными стволами…
И несмотря на все свои предосторожности, девушка не увидела – хотя поминутно оглядывалась назад – некую тень, которая следовала за ней, словно ее собственная тень, останавливаясь вместе с ней и снова трогаясь в путь, когда трогалась в путь она, не делая при этом ни малейшего шума, как и положено тени. Рауль тоже ничего не заметил, ибо, когда впереди шла Кристина, его ничуть не интересовало, что происходит сзади.
Лира Аполлона
Так они выбрались на крышу. Кристина порхала там легко и непринужденно, точно ласточка. Взгляду их, скользившему между тремя куполами и треугольным фронтоном, открывалось обширное пространство. Кристина дышала полной грудью, очутившись над Парижем, раскинувшимся далеко внизу. Доверчиво взглянув на Рауля, она позвала его поближе к себе, и так, бок о бок, они шагали по цинковым улицам и чугунным авеню; их сдвоенные фигуры отражались в больших резервуарах с неподвижно застывшей водой, куда в теплое время года ныряют ребятишки балета – около двадцати маленьких мальчиков учатся здесь плавать.
Неотступно следовавшая за ними тень распласталась на крыше, повторяя их движения, удлиняясь от взмаха черных крыльев на перекрестках железных улочек, поворачивая вокруг водоемов, молча обходя купола; а несчастные дети даже не подозревали о ее присутствии, когда присели, наконец доверившись высокому покровительству Аполлона, вздымавшего бронзовой дланью свою чудодейственную лиру в самом сердце пламенеющего неба.
Багряный весенний вечер окутывал их. Над молодыми людьми медленно проплывали облака, расправляя только что полученный от закатного солнца легкий наряд из золота и пурпура.
И Кристина сказала Раулю:
– Скоро мы умчимся быстрее и дальше облаков, на край света, а потом вы оставите меня, Рауль. Но если, когда наступит момент увезти меня, я откажусь следовать за вами, тогда, Рауль, вы просто унесете меня!
С какой силой, направленной, казалось, против нее самой, произнесла она эти слова, в тревоге прижимаясь к нему! Молодой человек был поражен.
– Значит, вы боитесь, что передумаете, Кристина?
– Не знаю, – молвила она, странно покачав головой. – Это сущий дьявол! – Она вздрогнула, со стоном спрятавшись в его объятиях. – Теперь мне страшно возвращаться к нему и жить под землей!
– Что же заставляет вас возвращаться туда, Кристина?
– Если я не вернусь к нему, могут произойти непоправимые несчастья!.. Но я больше не могу!.. Я знаю, что следует пожалеть людей, живущих «под землей…». Но он до того ужасен! А между тем время не ждет; у меня остался всего один день, и если я не приду, он сам явится за мной со своим голосом. Он повлечет меня за собой, под землю, и встанет передо мной на колени со своей головой мертвеца! И будет говорить, что любит меня! Будет плакать! Ах, эти слезы, Рауль! Слезы в двух черных отверстиях черепа. Я не могу больше видеть эти слезы! – Она заломила руки от отчаяния, а тем временем Рауль, охваченный этим заразительным отчаянием, говорил, прижимая ее к сердцу:
– Нет! Нет! Вы больше не услышите его слов о том, что он любит вас! Вы больше не увидите его слез! Бежим!.. Бежим сейчас же, Кристина! – И он уже хотел увлечь ее за собой.
Но она остановила его.
– Нет, – сказала она, горестно качая головой, – не теперь!.. Это было бы слишком жестоко!.. Пускай послушает, как я пою, завтра вечером в последний раз, а потом мы уедем. В полночь приходите за мной в гримерную, ровно в полночь. В это время он будет ждать меня в столовой у озера, мы будем свободны, и вы увезете меня, даже если я откажусь!.. Поклянитесь мне в этом, Рауль, я чувствую, если на этот раз я пойду туда, то, возможно, никогда уже не вернусь… – И добавила: – Вы не можете понять!.. – Она тяжело вздохнула, и ей почудилось, что сзади ей вторил другой вздох. – Вы не слышали? – У нее стучали зубы.
– Нет, – заверил ее Рауль, – я ничего не слышал…
– Как это ужасно, – призналась она, – все время дрожать!.. Хотя здесь нам ничто не угрожает; мы у себя, у меня, в небесах, на открытом воздухе, средь бела дня. Солнце посылает свои лучи, а ночные птицы не любят глядеть на солнце! Я никогда не видела его при свете дня. Должно быть, это ужасно!.. – прошептала она, обращая на Рауля растерянный взгляд. – Ах, когда я увидела его в первый раз!.. Я думала, он умрет!
– Почему? – спросил Рауль, действительно испугавшись того оборота, какой принимало это необычайно странное откровение. – Почему вы подумали, что он умрет?
– ПОТОМУ ЧТО Я УВИДЕЛА ЕГО!!!
На этот раз Рауль с Кристиной обернулись одновременно.
– Здесь кто-то есть, кому больно! – сказал Рауль. – Может быть, раненый… Вы слышали?
– Ничего не могу вам сказать, – призналась Кристина, – даже когда его нет, в ушах у меня звучат его вздохи… Но если вы слышали…
Они встали, оглянулись по сторонам…
Нет, кроме них, на огромной свинцовой крыше действительно никого не было.
Они снова сели.
– Как вы его увидели в первый раз? – спросил Рауль.
– Три месяца я его слышала, но не видела. В первый раз, когда я его услышала, я, как и вы, подумала, что этот чудесный голос, который запел вдруг рядом со мной, доносится из ближайшей гримерной. Я вышла и стала всюду искать; но, как вам известно, Рауль, моя гримерная расположена в стороне, найти голос за ее пределами мне так и не удалось, он неизменно звучал лишь в моей гримерной. И не только пел, а говорил со мной, отвечал на мои вопросы, словом, это был настоящий мужской голос с той только разницей, что он был прекрасен, подобно голосу ангела. Как объяснить столь невероятное явление? Я никогда не переставала думать об Ангеле музыки, которого мой бедный папа обещал прислать ко мне после своей смерти. Я осмеливаюсь говорить вам о своем ребячестве, Рауль, потому что вы знали моего отца, и он вас любил, и вы, когда были совсем маленьким, верили вместе со мной в Ангела музыки, и я уверена, что вы не улыбнетесь, не станете смеяться надо мной. Я сохранила, мой друг, доверчивую и нежную душу маленькой Лотты и, уж конечно, не могла утратить ее в обществе матушки Валериус. Я взяла эту маленькую чистую душу своими наивными руками и доверчиво протянула ее, подарила мужскому голосу, веруя в то, что отдаю ее ангелу. Виновата в этом, конечно, отчасти и моя приемная мать, от которой я не утаила непонятное явление. Она первая мне сказала: «Должно быть, это ангел; во всяком случае, ты можешь спросить его об этом». Что я и сделала, и мужской голос ответил мне, что, действительно, он и есть голос ангела, которого я так ждала и которого отец, умирая, обещал прислать мне. С этого момента между голосом и мной установились близкие отношения, я ему полностью доверяла. Он сказал, что спустился на землю, чтобы дать мне испробовать высшую радость вечного искусства, и просил разрешения ежедневно давать мне уроки музыки. Я с жаром согласилась и не пропустила ни одного свидания, которые он с самого начала назначал мне в гримерной, когда в этой части здания Оперы никого не было. Нет слов, чтобы описать, какие это были уроки! Вы сами слышали голос и все равно не можете себе представить, что это такое.
– Конечно, нет! Я не могу себе этого представить, – подтвердил молодой человек. – А кто же вам аккомпанировал?
– Неведомая мне музыка звучала за стеной и была поразительной точности. Знаете, мой друг, можно было подумать, что Голос доподлинно знал, на каком месте со смертью отца остановилась моя работа и каким простым методом он пользовался; вспомнив таким образом – а вернее, это вспомнил мой голос – все прошлые уроки и воспользовавшись нынешними, я сделала поразительные успехи, на которые при других обстоятельствах потребовались бы годы! Подумайте, мой друг, и о том, что я достаточно хрупкого сложения и поначалу мой голос был не слишком развит, в особенности, естественно, низы; высокие тона были довольно жесткими, а средний регистр – приглушенный. С этими-то недостатками и боролся мой отец, преодолев их на какое-то время, а Голос окончательно их победил. И постепенно громкость звука увеличивалась в таких объемах, на которые прежняя моя слабость не позволяла даже надеяться: я научилась управлять своим дыханием и брать широкий диапазон нот. А главное, Голос открыл мне секрет – как развивать грудные звуки у сопрано. Наконец он осветил все это священным огнем вдохновения, пробудил во мне дивный, всепоглощающий пламень жизни. Голос обладал способностью своим звучанием поднимать меня до себя. Настраивать в унисон своему чудному, вдохновенному порыву. Душа Голоса коснулась моих уст, дав мне возможность познать гармонию!
Через несколько недель я не узнавала себя, когда пела!.. И даже испугалась, опасаясь, нет ли тут какого колдовства, но госпожа Валериус успокоила меня. Она знала, что я слишком простодушна, такие дьяволу не нужны.
Мои успехи, по приказанию самого Голоса, оставались тайной, которую знали лишь Голос, госпожа Валериус и я. Странная вещь, но за пределами гримерной я пела своим обычным голосом, и никто ничего не замечал. Я делала все, что желал Голос. «Надо подождать, – говорил он мне. – Вот увидите! Мы еще удивим Париж!» И я ждала. Я жила как в восторженном сне, где командовал Голос. Тем временем, Рауль, как-то вечером я заметила в зале вас. Моя радость была так велика, что я и не подумала скрывать ее, вернувшись к себе в гримерную. На наше несчастье, Голос был уже там и по моему виду прекрасно понял, что есть какие-то новшества. Он спросил, «что со мной», и я, не увидев в том ничего предосудительного, поведала ему нашу милую историю, не скрыв, какое место вы занимаете в моем сердце. И тут Голос умолк: я звала его, но он не отвечал; я умоляла, и все напрасно. Я до смерти испугалась, что он исчезнет навсегда! На все воля Божья, мой друг!.. В тот вечер я вернулась домой в полном отчаянии. Я бросилась на шею матушке Валериус со словами: «Знаешь, Голос пропал! И может быть, никогда больше не вернется!» Она испугалась не меньше меня и потребовала объяснений. Я все ей рассказала. «Ну и ну! – заметила она. – Голос-то, видно, ревнив!» И это, мой друг, заставило меня задуматься над моими чувствами к вам: я поняла, что люблю вас.
Тут Кристина умолкла на мгновение. Она склонила голову на грудь Раулю, и они какое-то время безмолвствовали в объятиях друг друга. Их охватило такое волнение, что они не увидели, вернее, не почувствовали, как в двух шагах от них по крыше поползла тень двух огромных черных крыльев, она оказалась так близко от них, так близко, что могла бы, сомкнув крылья, задушить их…
– На другой день, – продолжала Кристина с глубоким вздохом, – я вернулась к себе в гримерную в полной задумчивости. Голос ждал меня. О, друг мой! Он говорил с великой печалью. И решительно заявил, что, если мне суждено отдать свое сердце кому-то на земле, ему, Голосу, не остается ничего другого, как вернуться назад на небо. И все это он говорил с выражением такой человеческой боли, что уже с того дня мне следовало поостеречься и начать понимать, что я стала жертвой обмана. Но я все еще безраздельно верила в появление Голоса, с которым так тесно переплетались помыслы моего отца. Больше всего я боялась не услышать его больше; с другой стороны, я подумала над чувством, которое влекло меня к вам, и решила, что тут нечего опасаться; я даже не знала, помните ли вы меня. Да и как бы там ни было, ваше положение в свете не позволяло и мысли допустить о честном союзе; я поклялась Голосу, что вы для меня всего лишь брат и никогда ничем другим не станете, что сердце мое свободно от всякой земной любви. Вот почему, мой друг, я отводила взгляд, когда вы пытались привлечь мое внимание на сцене или в коридорах, вот почему не узнавала вас, вот почему не замечала!.. В это время мои уроки с Голосом были наполнены чудесным, божественным восторгом. Никогда еще красота звуков не владела мною с такой силой, и однажды Голос сказал мне: «Пришла пора, Кристина Дое, теперь ты можешь подарить людям немного небесной музыки!»
Почему в тот вечер, когда состоялся праздничный гала-концерт, Карлотта не пришла в театр? Почему меня просили заменить ее? Понятия не имею, но я пела, пела с неведомым мне прежде упоением, испытывая небывалую легкость, словно у меня выросли крылья; мне даже почудилось на мгновение, что моя воспламенившаяся душа покинула тело!
– О, Кристина! – молвил Рауль, глаза которого наполнились слезами при воспоминании о тех минутах. – Сердце мое содрогалось при звуках вашего голоса. Я видел, как по вашим бледным щекам текли слезы, и плакал вместе с вами. Как вы могли петь, плакать и петь?
– Силы оставили меня, – сказала Кристина, – я закрыла глаза… Когда же я их открыла, вы были рядом со мной. Но и Голос тоже был там, Рауль!.. Я испугалась за вас и опять не захотела вас узнать, стала смеяться, когда вы напомнили мне, как подобрали в море мой шарф!
Увы, Голос нельзя обмануть!.. Он-то вас узнал! И возревновал!.. Два дня Голос устраивал мне чудовищные сцены… «Вы любите его! – говорил он мне. – Если бы вы не любили его, то не избегали бы! Если бы это был старый друг, вы пожимали бы ему руку, как всем остальным. Если бы вы не любили его, то не боялись бы остаться в своей гримерной со мной и с ним!.. Если бы вы не любили его, то не прогнали бы!..»
«Хватит! – сказала я рассерженному Голосу. – Завтра я должна ехать в Перро на могилу отца и попрошу господина Рауля де Шаньи сопровождать меня». – «Как вам будет угодно, – отвечал он, – но знайте, что я тоже буду в Перро, ибо я всюду, где вы, Кристина, и если вы по-прежнему достойны меня, если вы мне не солгали, ровно в полночь я сыграю для вас на могиле вашего отца «Воскрешение Лазаря», сыграю на скрипке покойного».
Так, мой друг, я была вынуждена написать вам письмо, которое и привело вас в Перро. Как я могла ошибаться до такой степени? Как при виде столь личной заинтересованности Голоса я не заподозрила никакого обмана? Увы! Я уже не принадлежала себе, я стала его вещью!.. А с теми возможностями, какими располагал Голос, нетрудно было обмануть такого простодушного ребенка, как я!
– Но в конце-то концов, – воскликнул Рауль в этом месте рассказа Кристины, когда она со слезами на глазах стала сетовать на поразительную доверчивость «безрассудного» сердца, – но в конце-то концов вы же вскоре узнали истину!.. Почему же вы тотчас не избавились от этого гнусного кошмара?
– «Узнать истину»!.. Рауль!.. «Избавиться от этого кошмара»!.. Несчастный, да я окунулась в этот кошмар лишь в тот день, когда узнала истину!.. Молчите! Молчите! Я ничего вам не сказала. Но теперь, когда нам предстоит спуститься с небес на землю, пожалейте меня, Рауль!.. Пожалейте меня! Тем вечером… Это был роковой вечер… Тот самый, когда произошло столько несчастий… Когда Карлотта решила, что превратилась на сцене в безобразную жабу, и стала издавать странные звуки, словно всю жизнь провела на берегу прудов… Когда люстра со страшным грохотом рухнула на пол и зал погрузился во тьму… В тот вечер были погибшие и раненые, и весь театр содрогался от горестных криков.
В разгар катастрофы все мои помыслы, Рауль, были обращены к вам и Голосу, ибо в то время мое сердце принадлежало поровну вам обоим. Относительно вас я тут же успокоилась, потому что увидела вас в ложе вашего брата и поняла, что вы вне опасности. Что же касается Голоса, то он сообщил мне, что собирается присутствовать на спектакле, и я испугалась за него, действительно испугалась, как будто он был обычным живым человеком, способным умереть. «Боже мой, – думала я, – быть может, люстра раздавила Голос». В ту минуту я была на сцене и, совсем обезумев, собралась бежать в зал искать Голос среди убитых и раненых, как вдруг меня осенила мысль, что если с ним не случилось ничего плохого, он, должно быть, уже в моей гримерной, куда поспешил, чтобы успокоить меня. Я мигом прибежала в гримерную. Голоса там не оказалось. Закрывшись в гримерной, я со слезами умоляла его, если он еще жив, дать мне знать о себе. Голос не отвечал, зато внезапно я услыхала чудесное нескончаемое стенание, которое хорошо знала. То была жалоба Лазаря, когда в ответ на призыв Иисуса он начинает поднимать веки и вновь видит дневной свет. Это был плач скрипки моего отца. Я узнала удар смычка Дое, тот самый, Рауль, от которого в былые времена мы замирали на тропинках Перро, тот самый, что «заворожил» ночь на кладбище. А потом на невидимом инструменте торжествующе прозвучал ликующий зов Жизни, и вот наконец я услышала Голос, он пел величавую фразу: «Я есмь воскресение и жизнь: верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Иди!» Не могу вам передать того впечатления, какое произвела на меня эта музыка, воспевавшая вечную жизнь в тот момент, когда рядом с нами умирали несчастные, раздавленные люстрой… Мне почудилось, что и мне Голос повелевал идти, встать и идти к нему. Он удалялся, я следовала за ним. «Иди и веруй в меня!» Я верила в него и шла, шла, и странная вещь, гримерная передо мной, казалось, вытягивалась, вытягивалась… Разумеется, тут, очевидно, сыграл роль эффект зеркал… передо мной было зеркало. И вдруг, сама не зная как, я очутилась за пределами гримерной.
Рауль внезапно прервал рассказ девушки:
– Не зная как? Этого не может быть! Кристина, Кристина! Надо попытаться очнуться от сна!
– Ах, мой бедный друг, я вовсе не спала! Только очутилась за пределами гримерной, сама не зная как! Однажды вы видели, как я исчезла из гримерной, быть может, вы могли бы объяснить мне это, мой друг, но я, я не в силах!.. Одно могу сказать: находясь перед зеркалом, я вдруг перестала видеть его перед собой и стала искать сзади… Но не было больше ни зеркала, ни гримерной. Я очутилась в темном коридоре, испугалась и стала кричать!..
Вокруг меня все было черно, только вдалеке слабый красный отблеск освещал угол стены, какой-то перекресток. Я закричала. Но все вокруг безмолвствовало, и пение и скрипки смолкли. И вот внезапно в темноте чья-то рука опустилась на мою или, вернее, что-то костлявое и холодное ухватило меня за руку и не отпускало. Я опять закричала. Меня схватили за талию и приподняли… Я в ужасе отбивалась; пальцы мои скользили вдоль влажных камней, где не за что было зацепиться. Потом я уже не шевелилась, думала, что умру от страха. Меня понесли в сторону слабого красного света, и когда мы дошли туда, я увидела, что нахожусь в руках человека в широком черном плаще, на нем была маска, скрывавшая все лицо целиком… Я сделала последнее усилие: тело мое напряглось, рот снова открылся, чтобы в крике выразить охвативший меня ужас, но чужая рука закрыла его, эту руку я почувствовала на своих губах, на своей плоти – от нее веяло смертью! Я лишилась чувств.
Сколько времени я оставалась без сознания? Трудно сказать. Когда я снова открыла глаза, мы – черный человек и я – по-прежнему находились во мраке. Поставленный на землю потайной фонарь освещал струи источника. Вода, бьющая из стены, почти сразу же уходила под землю, на которой я лежала; голова моя покоилась на колене мужчины в плаще и черной маске, мой молчаливый спутник заботливо смачивал мне виски с предупредительностью и вниманием, показавшимися мне еще более невыносимыми, чем недавнее внезапное похищение. Руки его, необычайно легкие, тем не менее пахли смертью. Я отталкивала их, но у меня не было сил. «Кто вы? Где Голос?» – спросила я, едва дыша. Только вздох был мне ответом. Вдруг на лице я почувствовала чье-то горячее дыхание и в темноте рядом с черной фигурой человека смутно различила нечто белое. Черная фигура приподняла меня и посадила на это белое. И тотчас слух мой поразило радостное ржание, я прошептала: «Цезарь!» Животное вздрогнуло. Друг мой, я полулежала в седле и узнала белую лошадь из «Пророка», которой так часто давала лакомства. Как-то вечером по театру разнесся слух, что это животное исчезло, что его украл Призрак Оперы. Лично я верила в Голос и никогда не верила в Призрака и теперь спрашивала себя с дрожью, уж не стала ли я пленницей Призрака! Всем сердцем я призывала на помощь Голос и представить себе не могла, что Голос и Призрак – одно и то же! Вы слышали о Призраке Оперы, Рауль?
– Да, – отвечал молодой человек. – Но скажите, Кристина, что произошло, когда вы очутились на белой лошади из «Пророка»?
– Я не шелохнулась и позволила увезти себя. Мало-помалу странное оцепенение пришло на смену тревоге и ужасу, в который повергла меня эта кошмарная история. Черная фигура поддерживала меня, и я даже не пыталась вырваться. Необычайное спокойствие овладело мною, и я подумала, что нахожусь, очевидно, под благотворным воздействием какого-то снадобья. Я была в полном сознании. Глаза мои привыкли к темноте, которую к тому же кое-где прорезали мимолетные блики… Я полагала, что мы находимся в узкой галерее, опоясывающей здание Оперы, подземная часть которого достигает огромных размеров. Только один раз, мой друг, один-единственный раз я спускалась в эти удивительные подвалы и остановилась на третьем подвальном этаже, не решившись углубляться дальше в землю, хотя под ногами у меня находились еще два этажа, где можно было бы разместить целый город. Но лица, которые я там увидела, обратили меня в бегство. Черные-пречерные дьяволы орудовали у котлов лопатами и вилами, раздувая угли, разжигая огонь, они угрожали, стоило лишь подойти к ним поближе, внезапно распахивая навстречу красную пасть печей!.. Так вот, пока Цезарь преспокойно нес меня на спине средь этой кошмарной ночи, где-то далеко, очень далеко я вдруг заметила совсем маленьких, просто крохотных, как в перевернутом бинокле, черных дьяволов перед раскаленными углями отопительных печей. Они то появлялись, то исчезали… И снова появлялись по мере нашего странного продвижения, потом наконец вовсе исчезли. Человек в плаще по-прежнему поддерживал меня, а Цезарь уверенно шагал без всякого провожатого… Не могу вам сказать даже приблизительно, сколько времени длилось это путешествие во тьме; мне только представлялось, что мы кружили, кружили, спускаясь по какой-то неумолимой спирали в самое сердце подземелья, но, может быть, у меня просто кружилась голова? Хотя я этого не думаю. Нет! Голова у меня была необычайно ясная. В какой-то момент Цезарь насторожился, принюхиваясь, и слегка ускорил шаг. Я ощутила влагу в воздухе, и Цезарь замер на месте. Мрак разрядился. Нас окружал голубоватый свет. Я взглянула, проверяя, где мы находимся. Мы оказались на берегу озера, свинцовые воды которого терялись вдали, в черноте… Но вокруг нас сиял голубой свет, и я увидела маленькую лодку, привязанную к железному кольцу на причале.
Разумеется, я знала, что все это существует, и в озере с этой лодкой под землей не было ничего сверхъестественного. Но вспомните о необычайных обстоятельствах, при которых я очутилась на том берегу. Думаю, души умерших и те, добравшись до Стикса, не испытывали большего беспокойства. Да и безмолвная фигура человека, который перенес меня в лодку, была не менее мрачной, чем Харон. Возможно, кончилось действие снадобья или же окружающая свежесть полностью привела меня в чувство, только я очнулась от оцепенения и зашевелилась, снова проявляя признаки тревоги. Мой зловещий спутник, должно быть, заметил это и торопливо отпустил Цезаря, тот растворился во тьме галереи, и я слышала, как четыре подковы звонко застучали по ступеням какой-то лестницы, затем человек устремился в лодку и, освободив ее от железных оков, схватил весла, он греб с проворством и силой. Глаза его неотрывно глядели на меня из-под маски, я чувствовала на себе их тяжелый, неподвижный взгляд.
Мы бесшумно скользили по воде в голубоватом свете, о котором я уже говорила, потом снова очутились в полной темноте и причалили. Лодка ударилась обо что-то твердое. И меня снова понесли на руках. Я вновь обрела силы кричать. И громко закричала. Потом вдруг смолкла, оглушенная светом. Да, меня опустили посреди ослепительно-яркого света. Я резко вскочила. Силы вернулись ко мне.
В центре гостиной, которая, казалось, была украшена и меблирована только цветами, великолепными и в то же время нелепыми цветами, нелепыми из-за шелковых лент, прикреплявших их к корзинам, такие продают в лавках на бульварах – слишком уж цивилизованные цветы, похожие на те, что я обычно нахожу у себя в гримерной после премьеры, так вот в центре этого чересчур парижского благоухания я увидела черную фигуру человека в маске. Скрестив руки, он заговорил: «Успокойтесь, Кристина, вам ничто не угрожает». Это был Голос!
Охватившая меня ярость не уступала моему изумлению. Я бросилась к маске и хотела сорвать ее, чтобы увидеть лицо Голоса. Но человек произнес: «Вам ничто не угрожает до тех пор, пока вы не тронете маску!» И осторожно сжав мне запястья, человек заставил меня сесть. Затем, не вымолив больше ни слова, опустился передо мной на колени.
Такое смирение придало мне немного храбрости; свет, четко обрисовав все вокруг, вернул меня к действительности. При всей своей необычности история эта обретала теперь конкретные черты, окружавшие меня предметы можно было не только видеть, но и потрогать. Обивка на стенах, мебель, светильники, вазы – все, вплоть до цветов, о которых по их корзинкам я почти с полной уверенностью могла определить, откуда они взялись и сколько стоят, неизбежно ограничивали мое воображение рамками гостиной, такой же банальной, как многие другие, хотя у тех, по крайней мере, было одно оправдание: они не располагались в подвалах Оперы. Я, несомненно, имела дело с неким страшным оригиналом, который загадочным образом поселился, подобно всем остальным, в подземелье, по необходимости и при молчаливом содействии администрации нашел окончательное убежище под кровлей этой современной Вавилонской башни, где плелись интриги, где пели на всех языках и любили на разных наречиях.
И значит, не кто иной, как Голос, да-да, Голос, который я узнала под маской, – его-то она не могла скрыть от меня, стоял передо мной на коленях, то есть другими словами – обыкновенный мужчина.
Я уже даже не думала об ужасной ситуации, в которую попала, и не спрашивала, что станется со мной и благодаря какому темному и, несомненно, тираническому замыслу очутилась я в этой гостиной, где меня заперли, словно пленницу в темнице или рабыню в гареме. «Боже! – говорила я себе. – Так вот, значит, что такое Голос: это всего-навсего мужчина!» И я заплакала.
Человек, все еще стоявший на коленях, наверняка понял смысл моих слез, ибо произнес: «Это правда, Кристина!.. Я не ангел, не гений, не призрак… Я – Эрик!»
И опять рассказ Кристины был прерван в этом месте. Молодым людям почудилось, будто эхо отозвалось где-то позади них: Эрик!.. Что за эхо?.. Обернувшись, они обнаружили, что уже стемнело. Рауль сделал движение, собираясь подняться, но Кристина удержала его подле себя:
– Останьтесь! Вам следует обо всем узнать здесь!
– Почему здесь, Кристина? Я боюсь за вас, ночь прохладная.
– Бояться надо только люков, мой друг, а здесь мы, можно сказать, на другом краю света от люков. Видеться с вами за пределами театра я не имею права. Сейчас не время раздражать его. Не стоит пробуждать у него подозрений…
– Кристина! Кристина! Что-то подсказывает мне: не следует ждать до завтрашнего вечера, бежать надо немедленно!
– Я уже говорила вам: если он не услышит завтра, как я пою, ему это причинит бесконечную боль.
– Трудно не причинять боли Эрику и в то же время бежать от него навсегда…
– В этом вы правы, Рауль, из-за моего бегства он наверняка умрет… – И девушка добавила глухим голосом: – Но мы в равном положении… Мы тоже рискуем: он может убить нас.
– Значит, он так сильно вас любит?
– Он готов пойти на преступление!
– Однако его жилище можно отыскать. Можно сходить за ним туда. И раз Эрик не призрак, можно поговорить с ним и даже заставить его отвечать!
Кристина покачала головой.
– Нет-нет! Против Эрика ничего нельзя!.. От него можно только бежать!
– Тогда почему же, имея возможность бежать, вы вернулись к нему?
– Так надо было… И вы это поймете, когда узнаете, каким образом я выбралась оттуда…
– Ах, как я его ненавижу! – воскликнул Рауль. – А вы, Кристина, скажите… Мне необходимо услышать это от вас, чтобы более спокойно слушать продолжение этой необычайной любовной истории. Вы ненавидите его?
– Нет! – просто ответила Кристина.
– К чему же тогда столько слов!.. Вы наверняка любите его! Ваши страхи, ваш ужас – это тоже проявление любви, и притом упоительной. Такой, в какой себе не признаются, – с горечью пояснил Рауль. – Такой, от которой при одной мысли дрожь пробирает… Подумать только, человек живет во дворце под землей! – Он усмехнулся.
– Стало быть, вы хотите, чтобы я туда возвратилась! – резко оборвала его девушка. – Берегитесь, Рауль, я ведь вам сказала: оттуда мне уже не вернуться!
Тягостное молчание наступило между ними троими: теми двумя, что разговаривали, и тенью, которая слушала их разговор.
– Прежде чем ответить, – с трудом заговорил наконец Рауль, – я желал бы знать, какое чувство он вам внушает, если не ненависть.
– Ужас! – сказала она, причем с такой силой, что слова ее заглушили ночные вздохи. – И это самое страшное, – продолжала она с нарастающим возбуждением. – Он внушает мне ужас, но ненависти к нему я не испытываю. Да и как его ненавидеть, Рауль? Представьте себе Эрика у моих ног в жилище у озера, под землей. Он обвиняет себя, проклинает, молит меня о прощении!.. Признает свой обман. Он любит меня! И приносит к моим ногам огромную трагическую любовь!.. Он похитил меня из любви ко мне!.. Запер меня под землей из-за этой любви… Притом он питает ко мне уважение, падает ниц, сетует, плачет!.. И когда я встаю, Рауль, когда говорю ему, что могу лишь презирать его, если он немедленно не вернет мне свободу, которую отнял у меня, вещь невероятная – он предлагает эту свободу… Мне остается только уйти… Он готов показать таинственную дорогу, но… Но он тоже встает, и мне невольно приходится вспомнить, что если это не призрак, не ангел, не гений, то все-таки по-прежнему Голос, ибо он начинает петь!..
Я слушаю его… и я остаюсь!
В тот вечер мы не сказали больше друг другу ни слова… Он схватил арфу и начал петь мне – он, мужской голос! голос ангела! – романс Дездемоны. Воспоминание о том, что я тоже пела его когда-то, заставило меня устыдиться. Друг мой, есть в музыке одно достоинство: все вокруг перестает существовать, кроме тех звуков, что ложатся вам на сердце. Мое странное приключение было забыто. Снова ожил голос, и я в упоении следовала за ним по пути гармонии; я ощущала себя в стаде Орфея! Он приобщал меня к страданию и радости, к муке и отчаянию, к веселью, смерти и торжеству Гименея. Я слушала. Он пел. Пел что-то неведомое мне… Звуки новой для меня музыки производили странное впечатление безмятежности, отрешенности, отдохновения, перевернув мою душу, они постепенно успокоили ее, довели до состояния мечтательного сна. И я заснула.
Когда я проснулась, то оказалась одна на шезлонге в маленькой простенькой комнате с обычной кроватью красного дерева, стены ее были затянуты жуйским полотном, и освещалась она лампой, стоявшей на мраморе старинного комода в стиле Луи-Филиппа. Что сулила мне эта новая декорация?.. Я провела рукой по лицу, словно пытаясь прогнать скверный сон… Увы! Я тут же поняла, что все это мне не приснилось! Я была пленницей и могла выйти отсюда лишь в ванную комнату, правда весьма комфортабельную; горячей и холодной воды было сколько угодно. Вернувшись в комнату, я заметила на комоде записку, написанную красными чернилами и полностью просветившую меня относительно печального положения, в котором я очутилась; она отметала все мои сомнения, если в том была еще необходимость, относительно реальности происшедшего. «Дорогая Кристина, – говорилось в записке, – у вас нет оснований беспокоиться о своей судьбе. В целом мире у вас нет более надежного друга, чем я. В настоящий момент вы одна в жилище, которое принадлежит вам. Я отправился по магазинам, чтобы принести белье, которое может вам понадобиться».
«Боже мой! – воскликнула я. – Значит, я действительно попала в руки безумца! Что со мной станет? И сколько еще времени этот несчастный собирается держать меня взаперти в своей подземной тюрьме?» Я в отчаянии заметалась по крохотной комнатке, безуспешно пытаясь найти выход. И горько корила себя за свое глупое суеверие, с жестоким удовольствием высмеивая то наивное простодушие, с каким приняла услышанный через стены Голос за Ангела музыки… Если человек настолько глуп, следует ожидать неслыханных катастроф, и все они будут заслуженными! Мне хотелось ударить себя, и я принялась то смеяться, то плакать над собой.
В таком состоянии и застал меня Эрик.
Тихонько стукнув три раза в стену, он преспокойно вошел через дверь, которую мне не удалось отыскать, оставив ее открытой. Он был нагружен картонками и пакетами и, не торопясь, стал раскладывать их на моей кровати, в то время как я осыпала его оскорблениями и требовала, чтобы он снял маску, если имеет наглость считать, что скрывает под ней лицо честного человека.
Он отвечал мне с величайшим спокойствием: «Вы никогда не увидите лица Эрика». И стал упрекать меня, что в такое позднее время дня я еще не кончила приводить себя в порядок, соизволив сообщить, что уже два часа пополудни. Он дал мне еще полчаса, чтобы покончить с этим, взяв на себя заботу поставить мои часы на нужное время. Затем он пригласил меня в столовую, где, по его словам, нас ожидал превосходный завтрак. Я была страшно голодна и, захлопнув у него перед носом дверь, вошла в туалетную комнату. Я приняла ванну, положив предварительно рядом великолепные ножницы, с помощью которых собиралась убить себя, если Эрик, который вел себя как безумец, перестанет вести себя как порядочный человек. Прохлада воды, безусловно, пошла мне на пользу, и, вновь представ перед Эриком, я уже была полна решимости ничем не оскорблять и не обижать его, при необходимости даже польстить, чтобы поскорее обрести свободу. Он первый заговорил о своих планах на мой счет, уточнив их, дабы успокоить меня, – сказал он. Ему слишком приятно мое общество, чтобы решиться сразу же отказаться от него, как он собирался сделать накануне при виде моего возмущения и ужаса. Теперь я должна была понять, что нет оснований пугаться его присутствия рядом со мной. Он любит меня, но говорить об этом станет лишь в том случае, если я позволю, а все оставшееся время мы будем заниматься музыкой.
«Что вы имеете в виду под оставшимся временем?» – спросила я. «Пять дней». – «А после я буду свободна?» – «Вы будете свободны, Кристина, ибо по прошествии пяти дней научитесь не бояться меня и время от времени согласитесь навещать бедного Эрика!..»
Тон, которым он произнес эти последние слова, перевернул мне всю душу. Мне показалось, в них прозвучало такое неподдельное и горестное отчаяние, что я подняла к маске растроганное лицо. Увидеть за маской глаз я не могла, и от этого еще более усиливалось странное чувство неловкости, ведь приходилось общаться с таинственным квадратом черного шелка, но из-под ткани на подбородок маски скатилось несколько слезинок.
Он молча указал мне место напротив себя за маленьким круглым столиком, стоявшим в центре комнаты, где накануне играл мне на арфе, и я села, страшно взволнованная. Однако я с аппетитом съела несколько раков, крыло курицы и выпила немного токайского вина, которое, по его словам, он сам привез из кенигсбергских погребов, куда некогда захаживал Фальстаф. Что же касается его, то он не ел и не пил. Я спросила, какой он национальности и не указывает ли имя Эрик на скандинавское происхождение. Он ответил, что у него нет ни имени, ни родины и что имя Эрик он взял случайно. Я спросила его, почему, если он любит меня, ему не удалось придумать иного способа дать мне об этом знать, зачем было похищать меня и запирать под землей! «Очень трудно, – заметила я, – заставить полюбить себя в могиле». – «Все зависит от того, кто какие свидания может себе позволить», – ответил он странным тоном.
Затем встал и протянул мне руку, ибо ему хотелось, как он сказал, показать мне свое жилище, но я с криком торопливо отдернула свою руку, прикоснувшись к чему-то влажному и костлявому и вспомнив, что его руки пахнут смертью. «О, простите!» – простонал он и открыл передо мной дверь. «Вот моя спальня, – молвил он. – Тут много любопытного, не хотите ли взглянуть?»
Я ни минуты не колебалась! Его манеры, речи, весь его облик внушали мне доверие… К тому же я чувствовала, что бояться не следует.
Я вошла. Мне показалось, будто я очутилась в погребальной комнате. Стены сплошь были затянуты черным, но вместо белых слез, непременного атрибута похоронного орнамента, на огромных нотных линейках повторялись ноты «Dies irae»[9]. Посреди этой комнаты стоял балдахин с красными шелковыми занавесями, а под ним – открытый гроб.
Увидев его, я в ужасе отшатнулась.
«Я сплю в нем, – сказал Эрик. – В жизни ко всему надо привыкать, даже к вечности».
Я отвернулась – такое жуткое впечатление произвело на меня это зрелище. И тут взгляд мой остановился на клавиатуре органа, занимавшего кусок стены. На пюпитре лежала тетрадь, исписанная красными нотами. Я попросила разрешения посмотреть ее и прочитала на первой странице: «Торжествующий Дон Жуан».
«Да, – сказал он мне, – иногда я сочиняю. Эту работу я начал двадцать лет назад. Когда она будет закончена, я возьму ее с собой в этот гроб и больше не проснусь». – «В таком случае надо работать как можно реже». – «Иногда я работаю пятнадцать дней и пятнадцать ночей кряду и тогда живу только музыкой, а потом отдыхаю годы». – «Не могли бы вы что-нибудь сыграть мне из вашего «Торжествующего Дон Жуана»?» – спросила я, думая доставить ему удовольствие и пытаясь преодолеть отвращение, овладевшее мною в комнате смерти. «Никогда не просите меня об этом, – отвечал он мрачно. – Этот «Дон Жуан» написан не на слова Лоренцо да Понте, и вдохновляло его не вино, не любовные интрижки и не порок, который в конце концов понес заслуженную Божью кару. Если хотите, я сыграю вам Моцарта, он заставит вас пролить прекрасные слезы и вызовет добропорядочные раздумья. А мой «Дон Жуан», Кристина, обжигает, хотя его и не испепелил небесный огонь!..»
Затем мы вернулись в гостиную, которую только что покинули.
Я заметила, что нигде в этом жилище не было зеркал. И собиралась сказать об этом, но Эрик сел за пианино, заметив: «Видите ли, Кристина, существует музыка до того ужасная, что она пожирает тех, кто с ней соприкасается. К счастью, вы еще не приобщились к такой музыке, иначе утратили бы свои свежие краски, и вас не узнали бы по возвращении в Париж. Будем петь оперу, Кристина Дое». Он сказал: «Будем петь оперу, Кристина Дое», словно бросал мне оскорбление.
Но у меня не было времени раздумывать над смыслом, который он вкладывал в свои слова. Мы сразу же начали дуэт из «Отелло», и над нами уже нависла катастрофа. На этот раз он предоставил мне партию Дездемоны, я пела с чувством такого неподдельного отчаяния и ужаса, какого не знала до сего дня. Вместо того чтобы сломить меня, соседство подобного партнера внушало мне величественный страх. События, жертвой которых я стала, странным образом сближали меня с замыслом поэта, и я находила интонации, которые восхитили бы музыканта. Его же голос гремел, мстительная душа выражалась в каждом звуке, придавая ему страшную силу. Любовь, ревность, ненависть наполняли все вокруг душераздирающими криками. Черная маска Эрика наводила на мысль о естественной маске венецианского мавра. Он казался живым воплощением Отелло. Я думала, он ударит меня, и я упаду под его ударами; а между тем я не делала ни малейшего движения, чтобы отстраниться от него, отвести его ярость, уклониться от нее, подобно робкой Дездемоне. Напротив, я, словно зачарованная, все приближалась к нему, меня как будто притягивала прелесть смерти в разгар небывалой страсти; но, прежде чем умереть, я хотела узнать, чтобы затем унести дивный образ в своем последнем взгляде, узнать неведомые черты, преображенные огнем вечного искусства. Я хотела увидеть лицо Голоса, и безотчетным движением, которое не подчинялось моей воле, ибо я уже не владела собой, мои проворные пальцы сорвали маску…
О ужас!.. Ужас!.. Ужас!..
Кристина умолкла при воспоминании об этом видении, которое она, казалось, все еще пыталась отстранить дрожащими руками, в то время как ночное эхо, повторявшее имя Эрика, трижды повторило теперь возглас: «Ужас! Ужас! Ужас!» Рауль с Кристиной, еще теснее прижавшись друг к другу под влиянием страшного рассказа, подняли глаза к звездам, сиявшим в тихом и ясном небе.
– Как странно, Кристина, – сказал Рауль, – эта ночь, такая спокойная и нежная, полна тяжких стонов. Можно подумать, что она горюет вместе с нами!
– Теперь, – ответила она, – когда вы узнаете секрет, ваш слух так же, как и мой, будет полниться стенаниями. – Содрогнувшись, она сжала заботливые руки Рауля в своих руках и продолжала: – Проживи я даже сто лет, в ушах у меня всегда будет звучать его нечеловеческий вопль, крик адской боли и ярости, когда это видение предстало моим расширившимся от ужаса глазам, я открыла рот, но кричать уже была не в силах.
О, Рауль! Как можно забыть об этом! Если в ушах у меня вечно теперь звучат его крики, то перед глазами неотступно стоит его лицо. Что за вид! Как суметь забыть о нем и как описать вам, чтобы вы могли себе его представить?.. Рауль, вы видели источенные веками черепа, и вполне возможно, что ночью в Перро вам довелось увидеть его голову мертвеца, если только вы не стали жертвой ужасного кошмара. К тому же на последнем костюмированном балу вы видели, как шествовала Красная смерть! Но все эти черепа оставались неподвижны, их немой ужас был неживой! Но представьте себе, если можете, ожившую вдруг маску Смерти, которая с помощью четырех черных отверстий – глаз, носа и рта – выражает неукротимый гнев, безудержную ярость дьявола, причем в пустых глазницах отсутствует взгляд, ибо, как я позже узнала, его горящие глаза можно увидеть лишь глубокой ночью… Плотно прижавшись к стене, я, должно быть, являла собой олицетворение Страха, как он олицетворял собой Безобразие.
И когда я упала на колени, он, приблизившись ко мне, со страшным скрежетом просвистел с ненавистью что-то безумное, какие-то бессмысленные слова, проклятья, бред… Да разве я могу все вспомнить!.. Разве могу?..
«Гляди! – кричал он, склонившись ко мне. – Ты хотела видеть! Смотри! Радуй свой взор, услаждай свою душу моим проклятым уродством! Созерцай лицо Эрика! Теперь ты знаешь Голос в лицо! Тебе недостаточно было слышать меня? Тебе хотелось знать, каков я на вид. Вы, женщины, чересчур любопытны!» И он стал повторять с пеной у рта, с каким-то странным, громким и хриплым смехом: «Вы, женщины, чересчур любопытны!..» Говорил что-то вроде этого: «Ты довольна? Я хорош, а?.. Если женщина видит меня, как ты, значит, она моя. Ей суждено любить меня вечно! Я что-то вроде Дон Жуана». И, выпрямившись во весь рост, подперев руками бока и перекатывая на плечах эту безобразную вещь – свою голову, – громогласно вопил: «Посмотри на меня! Вот он – торжествующий Дон Жуан!»
Я отвернулась, моля о пощаде, но он повернул мое лицо к себе, грубо схватив меня за волосы своими пальцами мертвеца.
– Довольно! Хватит! – прервал ее Рауль. – Я убью его! Убью! Во имя неба, Кристина, скажи мне, где находится озерная столовая! Я должен убить его!
– Молчи, Рауль, если хочешь все знать!
– Да, я хочу знать, как и почему ты туда вернулась! Вот в чем секрет, Кристина! Другого нет! Но в любом случае я убью его!
– О, мой Рауль! Слушай же, если хочешь знать, слушай! Он тащил меня за волосы, и тут, и тут… О, это невыносимо!
– Ну говори же, пора уж!.. – с ожесточением воскликнул Рауль. – Говори скорее!
– Тут он просвистел: «Что? Я внушаю тебе страх? Возможно!.. Но ты, верно, думаешь, что и это у меня маска, а? Что это… это… Что моя голова – тоже маска? Так сорви же ее! – завопил он. – Сорви ее, как ту, другую! Ну давай же! Давай! Еще! Еще! Я так хочу! Твои руки! Твои руки!.. Дай твои руки, а если их тебе мало, я дам тебе в придачу свои, и мы возьмемся за дело вдвоем, чтобы сорвать маску». Я упала к его ногам, но он схватил меня за руки, Рауль, и поднес их к этому ужасу, своему лицу… Моими ногтями он царапал свою плоть, свою страшную мертвую плоть!
«Знай! Знай! – кричал он, и горло его раздувалось, как кузнечные мехи. – Знай, что я целиком сделан из смерти!.. С головы до ног!.. И что это труп любит, обожает тебя и уже никогда тебя не оставит, никогда!.. Я велю расширить гроб, Кристина, но только попозже, когда любовь наша будет на исходе!.. Вот смотри, я уже не смеюсь, видишь, я плачу, плачу над тобой, Кристина, ты сорвала мою маску и потому никогда уже не сможешь покинуть меня!.. Пока ты могла думать, что я красив, Кристина, ты еще вернулась бы!.. Я знаю, ты вернулась бы… Но теперь, когда ты знаешь о моем уродстве, ты сбежишь навсегда. Нет, я оставлю тебя здесь!!! Зачем ты хотела меня увидеть? Безрассудная! Безумная Кристина, она хотела меня увидеть!.. Мой отец и тот никогда меня не видел, и даже мать, чтобы никогда меня больше не видеть, со слезами подарила мне мою первую маску!»
Наконец он отпустил меня и со страшными всхлипами потащился по полу. А потом пополз, как пресмыкающееся, прочь из комнаты и исчез в своей спальне, дверь которой закрылась; я осталась одна, наедине со своим страхом и раздумьями, но зато избавившись от зловещего видения.
Небывалая тишина, могильная тишина пришла на смену буре, и я смогла поразмыслить над ужасными последствиями моего поступка. Последние слова чудовища достаточно просветили меня. Сорвав маску, я сама обрекла себя на вечное заточение, и мое любопытство станет причиной всех моих несчастий. Он недвусмысленно меня предупреждал, не раз повторяя, что мне не грозит никакая опасность, если я не прикоснусь к маске, а я прикоснулась. Я проклинала свою неосторожность, но с содроганием признавала, что рассуждения чудовища вполне логичны.
Да, я вернулась бы, если бы не увидела его лица… Он достаточно меня растрогал, заинтересовал, даже разжалобил своими скрытыми маской слезами, чтобы я не осталась бесчувственной к его просьбе. Наконец, меня нельзя назвать неблагодарной, и я, конечно, не смогла бы забыть, что он был Голосом, который вдохновил меня своим гениальным даром. Я вернулась бы! Но теперь, если бы мне удалось выбраться из этих катакомб, я туда ни за что не вернулась бы! Разве можно зарыться в могиле с трупом, который вас любит?!
По его неистовому поведению во время разыгравшейся сцены, по тому, как он смотрел на меня или, вернее, приближал ко мне два черных отверстия своего невидимого взгляда, я могла судить о силе его необузданной страсти. Чтобы не заключить меня в свои объятия, в то время как я не могла оказать ему никакого сопротивления, надо было, чтобы это чудовище уживалось с ангелом, хотя, в конечном счете, он ведь и был отчасти Ангелом музыки и, возможно, даже стал бы настоящим ангелом, если бы Господь наградил его красотой, а не гнусным уродством!
Растерявшись от мыслей об уготованной мне участи, страшась увидеть, как вновь открывается дверь спальни с гробом и появляется лицо чудовища без маски, я проскользнула к себе в комнату и схватила ножницы, которые могли положить конец моему кошмарному существованию. И тут послышались звуки органа…
Тогда-то, мой друг, я и начала понимать смысл слов Эрика о том, что он с презрением, так поразившим меня, именовал оперой.
То, что я слышала, не имело ничего общего с тем, что пленяло меня до того дня. Его «Торжествующий Дон Жуан» (ибо я нисколько не сомневалась: он ринулся к своему шедевру, дабы забыть ужас настоящей минуты), его «Торжествующий Дон Жуан» сначала показался мне долгим, страшным и упоительным рыданием, в котором бедный Эрик выражал всю свою горькую обездоленность.
Перед глазами у меня стояла тетрадь с красными нотами, и мне нетрудно было представить, что эта музыка написана кровью. Она поведала мне о нестерпимой муке, провела по всем закоулкам бездны, той бездны, где обитает безобразный человек; она показала мне Эрика, отчаянно бьющегося своей несчастной уродливой головой о мрачные стены ада и избегающего, дабы не ужасать их, взглядов людей. Ошеломленная, едва переводя дух, жалкая и побежденная, я присутствовала при рождении величавых аккордов, обожествлявших Страдание, но потом звуки, поднявшись из бездны, взмыли грозно на недосягаемую высоту, их взметнувшаяся стая бросала вызов небесам – так орел устремляется навстречу солнцу; торжественная симфония, казалось, озарила мир, и я поняла: творение наконец завершено. Уродство, воспарив на крыльях Любви, осмелилось взглянуть в лицо Красоте! Я словно опьянела; дверь, отделявшая меня от Эрика, уступила моим усилиям. Он встал, услышав меня, но не осмеливался обернуться.
«Эрик, – воскликнула я, – покажите без страха свое лицо! Клянусь вам, вы самый горестный и самый благородный из людей, и если Кристина Дое содрогнется отныне при виде вас, то потому лишь, что вспомнит о величии вашего гения!»
Тогда Эрик обернулся, он мне поверил, и я, увы!.. я тоже верила в себя… В безудержном порыве он поднял навстречу Судьбе свои неистовые руки и упал со словами любви к моим ногам…
…Со словами любви на устах мертвеца… и музыка смолкла…
Он целовал край моего платья и не видел, что я закрыла глаза.
Что еще вам сказать, мой друг? Теперь вы знаете драму… Она длилась две недели, и две недели я ему лгала.
Моя ложь была не менее ужасна, чем вдохновившее меня на нее чудовище, но такой ценой я сумела обрести свободу.
Я сожгла его маску. И видно, так преуспела, что даже когда он не пел, то осмеливался вымаливать у меня взгляд, вроде несмелой собаки, что униженно бродит вокруг хозяина. Так и он, словно верный раб, бродил вокруг меня, окружая бесконечной заботой.
Мало-помалу я внушила ему такое доверие, что он отважился показать мне берег «Озера Аверн»[10] и покатать на лодке по его свинцовым водам; в последние дни моего пленения по ночам он выводил меня за железные решетки, закрывающие подземелье со стороны улицы Скриба. Там нас ожидал экипаж, и мы отправлялись в безлюдный Булонский лес.
Ночь, когда мы встретили вас, едва не стала для меня роковой, он страшно ревновал к вам, и мне удалось усмирить его, лишь заверив в вашем скором отъезде. И только после двух недель отвратительного плена, когда меня поочередно обуревали то жалость, то восторг, отчаяние и ужас, он поверил, когда я сказала, что вернусь!
– И вы вернулись, Кристина, – простонал Рауль.
– Это верно, мой друг, но должна сказать, что сдержать слово меня заставили отнюдь не те страшные угрозы, которыми сопровождалось мое освобождение, а душераздирающее рыдание на пороге его могилы! Да, это рыдание, – повторила Кристина, печально качая головой, – привязало меня к несчастному гораздо прочнее, чем я сама предполагала в минуту расставания. Бедный Эрик! Бедный Эрик!
– Кристина, – молвил, вставая, Рауль, – вы говорите, что любите меня, но прошло всего несколько часов с тех пор, как вы обрели свободу, и вы снова вернулись к Эрику!.. Вспомните костюмированный бал!
– Так было условлено. Но вспомните и вы, что эти несколько часов я провела с вами, Рауль, подвергая нас обоих смертельной опасности…
– За эти несколько часов я не раз сомневался в том, что вы меня любите.
– Вы и сейчас еще сомневаетесь, Рауль?.. Так знайте же, что с каждым посещением Эрика ужас мой все возрастал, ибо каждое такое посещение, вместо того чтобы успокоить его, как я надеялась, напротив, доводило его до безумия, он сгорал от любви!.. И мне было страшно! Я боялась!.. Я так боялась!..
– Вам было страшно, но любите ли вы меня?.. Если бы Эрик был красив, любили бы вы меня, Кристина?
– Несчастный! Зачем искушать судьбу?.. Зачем спрашивать меня о том, что я прячу на дне своей души, как прячут прегрешение? – Она поднялась и, обхватив голову молодого человека своими прекрасными, дрожащими руками, сказала: – О мой жених на краткий миг, если бы я не любила вас, разве я подарила бы вам свои губы! Вот они, в первый и последний раз.
Он приник к ее губам, но окружавшую их ночь прорезала вдруг такая вспышка, что они бросились бежать в ожидании грозы, но, прежде чем они исчезли в чердачных дебрях, взорам их, населенным страхом перед Эриком, на самом верху, в вышине, предстала огромная ночная птица, зацепившаяся, казалось, за струны лиры Аполлона и глядевшая на них своими горящими глазами!
Мастерский трюк любителя люков
Рауль с Кристиной бежали со всех ног. Теперь они спасались бегством с крыши, где их настигли горящие глаза, которые можно видеть лишь глубокой ночью; спускаясь вниз, они остановились на восьмом этаже. В тот вечер не давали спектакля, и в коридорах Оперы никого не было.
Но вдруг перед молодыми людьми возник странный силуэт, преградив им дорогу:
– Нет! Не сюда!
И силуэт указал им другой коридор, по которому они могли пройти за кулисы.
Рауль хотел остановиться и потребовать объяснений.
– Скорее! Скорее же!.. – скомандовала эта смутная, скрытая под накидкой фигура с островерхой шапочкой на голове.
И Кристина потащила Рауля дальше, снова заставляя его бежать.
– Но кто это? Кто это такой? – спрашивал молодой человек.
– Это Перс!.. – отвечала Кристина.
– Что он здесь делает…
– Никто не знает!.. Но он всегда в Опере!
– Вы толкаете меня на недостойный поступок, – с волнением сказал Рауль. – Впервые в жизни вы заставляете меня бежать.
– Полно! – отвечала Кристина, немного успокоившись. – Наверняка мы бежали от тени, созданной нашим воображением!
– Если мы и вправду видели Эрика, мне следовало пригвоздить его к лире Аполлона – так прибивают сов к стенам бретонских ферм, и дело с концом.
– Мой милый Рауль, сначала вам понадобилось бы добраться до лиры Аполлона, а это восхождение не из легких.
– Но ведь горящие глаза тем не менее оказались там.
– Ну вот! Теперь и вы, вроде меня, готовы видеть его повсюду, а если подумать хорошенько, то наверняка скажете себе потом: то, что я принял за горящие глаза, на деле было всего лишь золотыми глазками двух звезд, глядевшими на город сквозь струны лиры.
И Кристина спустилась еще на один этаж. Рауль последовал за ней.
– Кристина, – сказал он, – раз вы окончательно решили уехать, уверяю вас, лучше бежать немедля. Зачем ждать до завтра? А если он слышал наш разговор сегодня вечером?..
– Да нет же! Нет! Повторяю вам, он работает над своим «Торжествующим Дон Жуаном», и ему нет до нас дела.
– Вы сами в это не верите и все время оборачиваетесь назад.
– Пойдемте в мою гримерную.
– Давайте лучше назначим свидание вне Оперы.
– Ни за что, только в последнюю минуту перед нашим бегством! Если я не сдержу слова, это принесет нам несчастье. Я обещала ему видеться с вами только здесь.
– Хорошо, что он позволил вам хоть это. А знаете, Кристина, – с горечью сказал Рауль, – пожалуй, вы проявили большую смелость, предложив игру в помолвку.
– Но, дорогой, ему все известно. «Я доверяю вам, Кристина, – сказал он мне. – Господин Рауль де Шаньи влюблен в вас и должен уехать. Но до отъезда пускай почувствует себя таким же несчастным, как я!..»
– И что же это означает, скажите на милость?
– Это мне следовало бы задать вам такой вопрос, мой друг. Значит, когда любишь, чувствуешь себя несчастным?
– Да, Кристина, когда любишь и далеко не уверен, что любят тебя.
– Вы имеете в виду Эрика?
– Не только Эрика, но и себя тоже, – с задумчивым видом сказал молодой человек, печально качая головой.
Они добрались до гримерной Кристины.
– Почему вы считаете себя в большей безопасности в этой гримерной, чем в театре? – спросил Рауль. – Если вы слышали его сквозь стены, то и он может нас услышать.
– Нет! Он дал мне слово не подходить больше к стенам моей гримерной, а я верю слову Эрика. Гримерная и моя спальня в озерном жилище принадлежат мне, только мне, и священны для него.
– Каким образом вы смогли покинуть гримерную и перенестись в темный коридор, Кристина? А что, если нам попробовать повторить ваши движения, хотите?
– Это опасно, мой друг, зеркало опять может поглотить меня, и вместо того, чтобы бежать, я вынуждена буду идти до самого конца тайного прохода, который ведет к берегам озера, и там звать Эрика.
– И он вас услышит?
– Откуда бы я ни позвала Эрика, Эрик всюду меня услышит… Он сам мне так сказал, это очень занятный гений. Не следует думать, Рауль, будто он обыкновенный человек, который ради забавы решил пожить под землей. Он способен на такие вещи, какие никому другому не под силу, и знает такое, что миру живых неведомо.
– Берегитесь, Кристина, вы снова сделаете из него призрака.
– Нет, он не призрак; просто он человек и земли и неба, вот и все.
– Человек и земли и неба, вот и все!.. С каким чувством вы это сказали!.. И вы по-прежнему полны решимости бежать от него?
– Да, завтра.
– Хотите, я скажу вам, почему мне хотелось бы, чтобы вы бежали сегодня вечером?
– Скажите, друг мой.
– Потому что завтра вы уже ни на что не решитесь!
– В таком случае, Рауль, вы увезете меня вопреки моей воле!.. Мы ведь договорились?
– Значит, здесь, завтра вечером! В полночь я буду в вашей гримерной, – сказал молодой человек с мрачным видом. – Что бы ни случилось, я сдержу свое обещание. Вы говорите, что после спектакля он будет ждать вас в озерной столовой?
– Да, именно там он назначил мне свидание.
– А как же вы собираетесь отправиться к нему, Кристина, если не знаете, как выйти из гримерной «через зеркало»?
– Просто пойду на берег озера.
– Через все подвалы? По лестницам и коридорам, где ходят машинисты сцены и прочие служащие? Как вам удастся сохранить в тайне подобный поступок? Ведь все ринутся за Кристиной Дое, и она явится на берег озера в окружении целой толпы.
Кристина достала из шкатулки огромный ключ и показала его Раулю.
– Что это? – спросил тот.
– Это ключ от решетки подземного хода со стороны улицы Скриба.
– Понимаю, Кристина. И он ведет прямо на озеро. Дайте мне этот ключ, пожалуйста.
– Ни за что! – решительно отвечала она. – Это было бы предательством!
Внезапно Рауль увидел, что Кристина переменилась в лице. Смертельная бледность разлилась по ее щекам.
– Ах, боже мой! – воскликнула она. – Эрик! Эрик! Сжальтесь надо мной!
– Молчите! – приказал молодой человек. – Разве вы не говорили, что он может услышать вас?
Однако поведение Кристины становилось все более необъяснимым. Она перебирала пальцы один за другим, повторяя в растерянности:
– Ах, боже мой! Боже мой!
– Но в чем дело? В чем дело? – молил ответить ее Рауль.
– Кольцо…
– Что кольцо? Прошу вас, Кристина, придите в себя!
– Золотое кольцо, которое он мне дал.
– Ах, вот как? Значит, это Эрик дал вам золотое кольцо!
– Вам это прекрасно известно, Рауль! Только вы не знаете, что он мне сказал, вручая его. «Я возвращаю вам свободу, Кристина, но при условии, что это кольцо всегда будет у вас на пальце. До тех пор, пока оно будет с вами, вам не грозит никакая беда, и Эрик останется вашим другом. Но если вы когда-нибудь снимете его, горе вам, Кристина, Эрик отомстит за себя…» Друг мой, друг мой! Кольца у меня на пальце больше нет!.. Горе нам!
Напрасно искали они кольцо всюду вокруг. Найти его так и не удалось. Кристина никак не могла успокоиться.
– Это случилось, когда я подарила вам поцелуй там, наверху, под лирой Аполлона, – с дрожью попыталась она найти объяснение. – Кольцо, верно, соскользнуло у меня с пальца и покатилось вниз, на город! Как его теперь отыскать? Какое несчастье грозит нам, Рауль! Ах, надо бежать, бежать!
– И бежать немедленно, – еще раз попробовал настоять на своем Рауль.
Она заколебалась. Он решил было, что она скажет «да»…
Но в ее светлых глазах отразилось смятение, и она ответила:
– Нет! Завтра!
Затем поспешно в полной растерянности ушла, продолжая один за другим перебирать пальцы в надежде, что кольцо появится просто так, само по себе.
Рауль же вернулся домой, крайне озабоченный всем, что услышал.
– Если я не спасу ее от этого шарлатана, она пропала, – сказал он вслух, ложась в постель у себя в комнате, – но я спасу ее! – Он погасил лампу, и в потемках ему вдруг страшно захотелось обругать Эрика. И он трижды громко прокричал: – Шарлатан!.. Шарлатан!.. Шарлатан!..
И тут внезапно приподнялся на локте; на висках у него выступил холодный пот. Два глаза, горящих, словно раскаленные уголья, зажглись в ногах его кровати. В ночной темноте они пристально и страшно смотрели на него.
Несмотря на всю свою отвагу, Рауль задрожал. На ощупь, неуверенно он протянул к ночному столику дрожащую руку. Отыскав коробку со спичками, зажег свет. Глаза исчезли.
Это его нисколько не обнадежило.
«Она сказала, что его глаза можно видеть лишь в темноте. При свете глаза его исчезли, но сам он, возможно, все еще здесь».
Поднявшись, Рауль стал искать, осторожно исследуя все вокруг. Даже заглянул под кровать, как ребенок. Тут он показался себе смешным.
– Чему верить? И чему не верить в такого рода волшебной сказке? Где кончается реальность и начинается фантастика? Что она видела? Или что полагает, будто видела? – громко сказал он и с дрожью добавил: – А сам я, что я видел? Неужели я в самом деле только что видел горящие глаза? А может, они сверкали лишь в моем воображении? Ну вот, теперь я и сам уже ни в чем не уверен. Я бы не решился принести присягу по поводу этих глаз. – И он снова лег. И снова погасил свет.
Глаза опять появились.
– О! – вздохнул Рауль.
Сев в кровати, он, в свою очередь, устремил на них взгляд со всей отвагой, на какую только был способен. После непродолжительного молчания Рауль, собрав все свое мужество, крикнул:
– Это ты, Эрик? Человек, гений или призрак! Это ты?
Подумав, он пришел к выводу: «Если это он, то он на балконе!»
И в ночной рубашке Рауль бросился к маленькому комодику, ощупью достав оттуда револьвер. Вооружившись, он открыл застекленную дверь. Ночь была на редкость холодная. Рауль лишь выглянул на пустой балкон и вернулся назад, закрыв дверь. Весь дрожа, он снова лег, положив револьвер рядом с собой на ночной столик.
И опять задул свечу.
Глаза по-прежнему горели там, в ногах кровати. Но находились ли они между кроватью и оконным стеклом или же за стеклом, то есть на балконе?
Вот что хотел знать Рауль. А кроме того, он хотел знать, принадлежат ли эти глаза человеческому существу. Он все хотел знать…
И осторожно, хладнокровно, не нарушая ночной тишины, молодой человек взял револьвер и прицелился.
Он целился в две золотых звезды, по-прежнему глядевшие на него со странно неподвижным блеском.
Целился чуть выше двух звезд. Еще бы! Если эти звезды были глазами, и если над этими глазами есть лоб, и если Рауль не будет слишком неловок…
Прогремел выстрел, страшным грохотом ворвавшись в тишину мирно спавшего дома…
И пока в коридорах звучали торопливые шаги, Рауль, сидя с вытянутой рукой и готовый выстрелить снова, смотрел во все глаза…
На этот раз две звезды исчезли.
Свет, люди, ужасно обеспокоенный граф Филипп.
– В чем дело, Рауль?
– Думаю, мне приснился сон, – отвечал молодой человек. – Я выстрелил в две звезды, которые мешали мне спать.
– Ты бредишь?.. Ты заболел!.. Прошу тебя, Рауль, что случилось?.. – И граф схватил револьвер.
– Нет-нет, я не брежу!.. Впрочем, мы сейчас узнаем.
Рауль встал, надел халат, сунул ноги в домашние туфли, взял из рук слуги свечу и, открыв дверь, вышел на балкон.
Граф отметил, что стекло балконной двери было пробито пулей на уровне человеческого роста.
Рауль склонился на балконе со своей свечой…
– О-о! – молвил он. – Кровь… Кровь!.. Здесь и там… еще кровь! Тем лучше!.. Призрак, который оставляет следы крови, – это уже не так страшно! – усмехнулся он.
– Рауль! Рауль! Рауль! – Граф тряс его, словно лунатика, пытаясь заставить очнуться от опасного сна.
– Но, брат, я вовсе не сплю! – в нетерпении возразил Рауль. – Вы сами можете увидеть кровь, как, впрочем, и все остальные. Я думал, мне это приснилось, и выстрелил в две звезды. А это были глаза Эрика, и вот его кровь!.. – Потом добавил, внезапно забеспокоившись: – Наверное, я напрасно стрелял, Кристина может не простить мне этого!.. Ничего не случилось бы, если бы я, ложась спать, предусмотрительно опустил шторы на окне.
– Рауль! Ты что, сошел вдруг с ума? Очнись!
– Опять! Брат, вы бы лучше помогли мне найти Эрика… Ведь, в конце-то концов, призрака, оставляющего следы крови, можно, мне кажется, отыскать…
– Это правда, сударь, на балконе кровь, – сказал камердинер графа.
Слуга принес лампу, при свете которой можно было все тщательно осмотреть. Следы крови шли по перилам балкона вплоть до водосточного желоба и дальше поднимались вверх по нему.
– Друг мой, – сказал граф Филипп, – ты стрелял в кошку.
– Вот несчастье! – молвил Рауль опять с усмешкой, болью отозвавшейся в сердце графа. – Очень может быть. С Эриком никогда не знаешь. Эрик это? Или кошка? А может, Призрак? Плоть это или тень? Нет-нет! С Эриком никогда не знаешь, чего ожидать!
Рауль повел весьма странные речи, которые, однако, полностью соответствовали тем мыслям, что занимали его ум и были логическим продолжением поразительных откровений – вполне реальных и в то же время кажущихся сверхъестественными – Кристины Дое; и речи эти немало способствовали всеобщей убежденности в том, что рассудок молодого человека помутился. Сам граф поверил в это, а позже, основываясь на донесении полицейского комиссара, к такому же точно выводу пришел и судебный следователь.
– Кто такой Эрик? – спросил граф, сжимая руку брата.
– Мой соперник! И если он не умер, то тем хуже!
Движением руки Рауль отослал слуг.
Дверь комнаты закрылась за двумя Шаньи. Но слуги не спешили расходиться, и камердинер графа успел услышать, как Рауль ясно и настойчиво произнес:
– Сегодня вечером я собираюсь похитить Кристину Дое.
Эту фразу впоследствии повторили судебному следователю Фору. Но в точности никто никогда так и не узнал, о чем говорили два брата во время этой встречи. Слуги рассказывали, что ссора той ночью была далеко не первой и всякий раз братья закрывались. Через стены слышались крики, и речь все время шла об актрисе по имени Кристина Дое.
На другой день во время завтрака – по утрам граф завтракал в своем рабочем кабинете – Филипп велел сообщить брату, что просит его зайти к нему. Рауль явился мрачный и молчаливый.
Разговор был очень коротким.
Филипп: Прочти это! (Протягивает Раулю газету «Эпок», пальцем показывает ему напечатанный отклик.)
Рауль (читает сквозь зубы): «Большая новость в предместье: господин виконт Рауль де Шаньи обещал жениться на лирической актрисе Кристине Дое. Если верить закулисным сплетням, граф Филипп будто бы поклялся, что Шаньи в первый раз нарушат данное обещание. Но так как любовь – а в Опере еще больше, чем где бы то ни было, – всемогуща, невольно задаешься вопросом: какими средствами предполагает граф Филипп помешать виконту, своему брату, отвести к алтарю Новую Маргариту? Говорят, два брата обожают друг друга, однако граф странным образом заблуждается, если надеется, что братская любовь способна пересилить просто любовь!»
Филипп (печально): Видишь, Рауль, ты делаешь нас посмешищем!.. Эта малютка совсем вскружила тебе голову своими историями с привидением. (Значит, Рауль передал брату рассказ Кристины.)
Рауль: Прощай, брат!
Филипп: Так это окончательно решено? Ты едешь сегодня вечером? (Рауль не отвечает.) С ней?.. Неужели ты способен на такую глупость? (Рауль молчит.) Я сумею помешать тебе!
Рауль: Прощай, брат! (Уходит.)
Об этой сцене судебному следователю рассказал сам граф, который вновь встретился со своим братом Раулем лишь вечером того же дня в Опере за несколько минут до исчезновения Кристины.
В самом деле, весь день Рауль посвятил приготовлениям к отъезду.
Лошади, экипажи, кучер, запасы продовольствия, багаж, необходимые деньги, маршрут – не следовало ехать поездом, дабы сбить с толку Призрака, – всем этим он занимался до девяти часов вечера.
В девять часов дорожная карета – берлина – с задернутыми шторами на плотно закрытых дверцах заняла место в цепочке со стороны «Ротонды». Она была запряжена парой крепких лошадей, лицо кучера трудно было разглядеть за складками скрывавшего его длинного шарфа. Перед берлиной стояли еще три экипажа. Позже следствие установило, что это были двухместные кареты Карлотты, внезапно вернувшейся в Париж, Сорелли и впереди всех – графа Филиппа де Шаньи. Из берлины никто не выходил. Кучер остался сидеть на месте. Три других кучера тоже не трогались со своих мест.
По тротуару, между «Ротондой» и экипажами проскользнула тень, закутанная в просторный черный плащ, с мягкой черной фетровой шляпой на голове. Казалось, она с пристальным вниманием разглядывала берлину. Подошла к лошадям, затем к кучеру и, не проронив ни слова, удалилась. Позднее следствие решило, что этой тенью был виконт Рауль де Шаньи; однако я так не считаю ввиду того, что в тот вечер, как и во все прочие вечера, виконт де Шаньи носил цилиндр, который потом к тому же был найден. Думается, скорее всего то была тень Призрака, который, как станет ясно впоследствии, был в курсе всего.
По воле случая в тот вечер давали «Фауста». Зал блистал. Вельможное предместье представлено было во всей красе. В ту пору те, кто абонировал ложи, не уступали их, не сдавали и не делили с финансистами, коммерсантами и иностранцами. Сегодня же в ложе маркиза такого-то, которую по-прежнему именуют: ложа маркиза такого-то, ибо по контракту маркиз является ее обладателем, так вот в этой ложе блаженствует какой-нибудь торговец соленой свининой со своим семейством, и это его право, так как торговец соленой свининой оплачивает ложу маркиза. В прежние времена таких нравов еще никто не ведал. Ложи в Опере были своего рода гостиными, где почти с полной уверенностью можно было встретить или увидеть людей светских, которые, случалось, любили музыку.
И все в этой прекрасной компании друг друга знали, хотя не обязательно посещали друг друга. Но имя каждого было известно, и графа де Шаньи все знали в лицо.
Отклик, появившийся в утреннем выпуске «Эпок», уже произвел должное впечатление, ибо все глаза были обращены к ложе, где граф Филипп, по виду беспечный и равнодушный, сидел в полном одиночестве. Особенно казалась заинтригованной женская часть блистательного собрания, и отсутствие виконта давало повод для бесконечных перешептываний за веерами. Кристину Дое встретили довольно холодно. Эта особая публика не могла простить ей, что она метит так высоко.
Дива уловила недоброе расположение части зала и разволновалась.
Завсегдатаи, считавшие себя сведущими в любовных делах виконта, не преминули улыбнуться при некоторых пассажах роли Маргариты. Так, например, они демонстративно повернулись в сторону ложи Филиппа де Шаньи, когда Кристина спела: «О, как бы я узнать хотела, кто юноша был тот? Так говорить учтиво одни вельможи лишь умеют!»
Подперев подбородок рукой, граф, казалось, не обращал ни малейшего внимания на все эти демонстрации. Взгляд его был устремлен на сцену, но только видел ли он ее? Похоже, он был где-то далеко…
Кристина с каждой минутой теряла уверенность. Она с дрожью ожидала катастрофы. Карол Фонта задавался вопросом, уж не больна ли она и сможет ли продержаться на подмостках до конца акта, который заканчивается сценой в саду. В зале помнили о несчастье, постигшем в конце этого акта Карлотту, и о вошедшем в историю фальшивом «квак», приостановившем на какое-то время ее карьеру в Париже.
И тут как раз в центральную ложу вошла Карлотта. Ее появление произвело сенсацию. Бедная Кристина подняла глаза. Она узнала соперницу. Ей показалось, что та усмехается. И это ее спасло. Кристина забыла обо всем на свете, чтобы одержать новую победу.
С этого момента она пела, вкладывая всю душу, пытаясь превзойти все, что сделала до сих пор, и ей это удалось. Когда в последнем акте она стала взывать к ангелам и вознеслась над землей, ее порыв увлек за собой трепещущий зал весь целиком, и каждому тогда почудилось, что у него выросли крылья.
В ответ на этот нечеловеческий зов в центре амфитеатра поднялся мужчина и остался стоять лицом к актрисе, словно вместе с ней покидал землю…
То был Рауль.
Душу я, ангелы, мою, святые, вам, вам я отдаю,
Меня вы вашей силою спасете!
Раскинув руки, объятая пламенем вдохновения, с разметавшимися по обнаженным плечам великолепными волосами, Кристина бросала божественный клич:
И душу мою примите в свои небесные селенья!
И тут вдруг в театре сделалось темно. Все произошло мгновенно, зрители едва успели вскрикнуть от изумления, ибо свет снова залил сцену.
…Но Кристины Дое там не было!.. Что с ней сталось? Какое чудо свершилось?.. Все смотрели друг на друга, не понимая, волнение сразу же достигло своего предела. Оно охватило и сцену и зал. Из-за кулис бросились к тому месту, где минуту назад пела Кристина. Спектакль был прерван посреди величайшего беспорядка.
Куда? Куда подевалась Кристина? С помощью какого колдовства ее похитили у тысяч восторженных зрителей, вырвав, можно сказать, из объятий Карола Фонты? По правде говоря, нелишне было бы задаться вопросом: вняв ее пламенной мольбе, не унесли ли ангелы «в свои небесные селенья» не только душу, но и тело Кристины?..
Рауль, все еще стоявший в амфитеатре, вскрикнул. Граф Филипп встал в своей ложе. Все смотрели поочередно на сцену, на графа, на Рауля, спрашивая себя, нет ли какой-либо связи между этим странным событием и газетным откликом, появившимся в то утро. Но Рауль поспешно покинул свое место, граф исчез из ложи, и, пока опускали занавес, абонированные зрители устремились ко входу за кулисы.
Среди неописуемого шума публика ожидала какого-либо сообщения. Говорили все разом. Каждый считал себя вправе объяснить, как все произошло. «Она упала в люк», – говорили одни; «Ее похитили у задника, – уверяли другие. – Несчастная, возможно, стала жертвой какого-нибудь трюка, придуманного новой дирекцией»; третьи не сомневались: «Это ловушка. И неоспоримое тому доказательство – совпадение во времени похищения и наступления темноты в зале».
Наконец занавес медленно поднялся, и Карол Фонта, подойдя к дирижерскому пульту, сообщил серьезным печальным голосом:
– Дамы и господа, произошло неслыханное событие, все мы охвачены глубокой тревогой. Кристина Дое исчезла у нас на глазах, и мы не знаем как!
Странное поведение английской булавки
На подмостках – невообразимая сутолока. Артисты, машинисты сцены, танцовщицы, статистки, фигуранты, хористки, абонированные зрители – все спрашивают, кричат, толкают друг друга. «Что с ней сталось?» – «Ее похитили!» – «Это виконт де Шаньи увез ее?» – «Нет, граф!» – «А вот и Карлотта! Это она сделала?» – «Нет, Призрак!»
А кое-кто смеялся, в особенности после того, как в результате тщательнейшей проверки люков и пола была отвергнута возможность несчастного случая.
Средь всей этой шумной толпы выделялась группа из трех лиц, они беседовали тихонько, лишь жестами выражая отчаяние. Хормейстер Габриель, администратор Мерсье и секретарь Реми уединились в углу тамбура, соединяющего сцену с широким коридором танцевального фойе. Там, за огромными аксессуарами, они и выясняют отношения.
– Я стучал! Они не ответили! Возможно, их уже нет в кабинете. Во всяком случае, узнать этого нельзя, они унесли ключи.
Так говорит секретарь Реми, и нет сомнений, что слова его относятся к господам директорам. Во время последнего антракта те отдали распоряжение не беспокоить их ни под каким предлогом. «Нас ни для кого нет».
– Тем не менее, – восклицает Габриель, – не каждый же день похищают певицу прямо со сцены!..
– Вы крикнули им это? – спрашивает Мерсье.
– Пойду туда опять, – говорит Реми и бегом бросается прочь.
Тут подоспел управляющий.
– Ну что, господин Мерсье, вы идете? Что вы здесь оба делаете? Вы нужны там, господин администратор.
– Я не хочу ничего делать и ничего знать до прибытия комиссара, – заявляет Мерсье. – Я послал за Мифруа. Когда он приедет, вот тогда и посмотрим.
– А я вам говорю, что надо немедленно спуститься в органный регистр.
– Только после того, как придет комиссар…
– Лично я уже спускался в органный регистр.
– Вот как! И что же вы там увидели?
– Ничего, а главное – никого! Понимаете, никого!
– Я ничего не могу поделать!
– Разумеется, – продолжает управляющий, в ярости запуская руки в копну непокорных волос. – Разумеется! Но если бы кто-то находился в органном регистре, этот кто-то, возможно, объяснил бы нам, почему на сцене стало вдруг темно. А Моклера нигде нет, понимаете?
Моклер был старшим осветителем, и от него зависело, день или ночь царит на сцене Оперы.
– Моклера нигде нет, – повторяет потрясенный Мерсье. – А его помощники?
– Ни Моклера, ни его помощников! Никого в осветительской, говорю я вам! Надеюсь, вы понимаете, – вопит управляющий, – что эта малютка исчезла не сама собой! Все было подстроено, и в этом надо разобраться… А директора, которых нет на месте?.. Я запретил спускаться в осветительскую и поставил пожарного у ниши с органным регистром! Я поступил неправильно?
– Нет-нет, вы все хорошо сделали… А теперь дождемся комиссара.
Пожав плечами, взбешенный управляющий уходит, бормоча ругательства в адрес «мокрых куриц», спокойно отсиживающихся в укромном углу, когда в театре все «вверх дном».
На самом же деле Габриель и Мерсье вовсе не были спокойны. Однако они получили указание, которое буквально парализовало их. Ни под каким видом, ни за что на свете нельзя было нарушать уединение директоров. Реми преступил запрет, но это ни к чему не привело.
Да вот он как раз возвращается из новой своей экспедиции. Вид у него совсем потерянный.
– Ну что, вы с ними говорили? – спрашивает Мерсье.
– Моншармен открыл мне наконец дверь, – отвечает Реми. – У него глаза на лоб лезли. Я думал, он меня ударит. Я слова не успел сказать, а он, представьте себе, прокричал мне: «У вас есть английская булавка?» – «Нет», – отвечал я. «Тогда оставьте меня в покое!..» Я хочу ему объяснить, что в театре происходят неслыханные события, а он знай кричит: «Английская булавка? Дайте мне немедленно английскую булавку!» Услыхав его – он кричал как оглашенный, – прибегает человек из администрации с английской булавкой; схватив ее, Моншармен тотчас закрывает дверь у меня под носом! Вот и все!
– И вы не смогли сказать ему: «Кристина Дое…»
– Хотел бы я на вас при этом посмотреть!.. Он весь кипел от бешенства… И думал только о своей английской булавке. Если бы ее тут же не принесли, его наверняка хватил бы удар! Безусловно, все это ненормально, наши директора, видимо, сходят с ума!..
Секретарь Реми недоволен. И не скрывает этого.
– Так продолжаться не может! Я не привык, чтобы со мной обращались подобным образом!
Внезапно Габриель шепчет:
– Тут, верно, опять не обошлось без П. О.
Реми усмехается. Мерсье вздыхает, собираясь, видимо, сделать какое-то признание… Но, взглянув на Габриеля, знаками призывающего его молчать, остается нем.
Меж тем директора не показываются, а время уходит, и Мерсье, чувствуя свою все возрастающую ответственность, наконец не выдерживает.
– Придется самому бежать, чтобы поторопить их! – решает он.
Габриель, помрачнев внезапно, останавливает его с очень серьезным видом.
– Подумайте, что вы делаете, Мерсье! Если они не выходят из своего кабинета, стало быть, так надо! У П. О. немало разных трюков в запасе!
Но Мерсье качает головой.
– Тем хуже! Пойду! Если бы послушали меня, то давно уже все рассказали бы полиции! – И он уходит.
– Что все? – тотчас спрашивает Реми. – О чем следовало сказать полиции? Ах, так вы молчите, Габриель!.. Значит, вас тоже посвятили в тайну! Ну что ж, неплохо было бы посвятить и меня, если не хотите, чтобы я во всеуслышание заявил, что все вы сошли с ума!.. Да, действительно сошли с ума!
Габриель глупо таращит глаза, делая вид, будто не понимает столь неуместного выпада господина личного секретаря.
– Какая тайна? – шепчет он. – Не понимаю, что вы имеете в виду.
Реми выходит из себя.
– Сегодня вечером во время антрактов здесь, на этом самом месте, Ришар и Моншармен вели себя как сумасшедшие.
– Я ничего не заметил, – с досадой ворчит Габриель.
– Значит, вы единственный!.. Неужели вы думаете, что я их не видел!.. И что господин Парабиз, директор банка «Креди сантраль», ничего не заметил?.. И что у господина посла Бордери нет глаз?.. Но, господин хормейстер, все абонированные показывали друг другу пальцами на наших директоров!
– И что же они такого делали, наши директора? – спрашивает Габриель с глупейшим видом.
– Что они делали? Да вы лучше, чем кто-либо, знаете, что они делали!.. Вы сами здесь были!.. И наблюдали за ними вместе с Мерсье! И вы были единственным, кто не смеялся…
– Я не понимаю!
Очень холодно и «отстраненно» Габриель воздевает руки вверх и опускает, выражая, видимо, своим жестом, что его этот вопрос совершенно не интересует.
Но Реми не унимается.
– Что это еще за новая мания?.. Теперь они, видите ли, не желают, чтобы к ним кто-либо приближался!
– Как? Они не желают, чтобы к ним кто-либо приближался?
– Они не желают, чтобы к ним прикасались!
– Вы действительно заметили, что они не желают, чтобы к ним прикасались? Это, безусловно, странно!
– Значит, вы согласны! Ну наконец-то! И они ходят, пятясь задом!
– Пятясь задом! Вы видели, как наши директора ходят, пятясь задом! А я думал, только раки имеют обыкновение пятиться задом.
– Не смейтесь, Габриель! Не смейтесь!
– Я и не смеюсь, – возражает Габриель, стараясь выглядеть как можно серьезнее.
– Прошу вас, Габриель, не могли бы вы мне объяснить, ведь вы ближайший друг дирекции, почему в антракте после сцены в саду, когда возле фойе я шел с рукой, протянутой навстречу господину Ришару, я вдруг услышал, как господин Моншармен торопливо сказал мне тихим голосом: «Отойдите! Отойдите! Главное, не прикасайтесь к господину директору»? Разве я чумной?
– Невероятно!
– А несколько минут спустя, когда господин посол Бордери направился, в свою очередь, к господину Ришару, разве вы не видели, как господин Моншармен встал между ними, и не слышали, как он закричал: «Господин посол, заклинаю вас, не прикасайтесь к господину директору!»
– Потрясающе!.. И что же делал Ришар в это время?
– Что он делал? Да вы прекрасно видели! Повернувшись, он поклонился, в то время как перед ним никого не было! И удалился, пятясь задом.
– Пятясь задом?
– И Моншармен за спиной Ришара тоже повернулся, то есть торопливо описал позади Ришара полукруг и в свою очередь удалился, пятясь задом!.. И так, пятясь задом, они дошли до административной лестницы. Нет, вы только подумайте: пятясь задом!.. Если они не сумасшедшие, объясните же мне наконец, что все это значит?
– Возможно, они репетировали какую-то фигуру балета! – неуверенно высказал предположение Габриель.
Секретарь Реми чувствует себя оскорбленным столь вульгарной шуткой да еще в такой драматический момент. Нахмурив брови и поджав губы, он наклоняется к уху Габриеля:
– Не стройте из себя умника, Габриель. Здесь происходят такие вещи, за которые вы с Мерсье можете понести свою долю ответственности.
– А в чем дело? – спрашивает Габриель.
– Кристина Дое не единственная, кто исчез вдруг сегодняшним вечером.
– Неужели!
– Вот вам и «неужели»! Не могли бы вы сказать мне, почему, когда матушка Жири спустилась недавно в фойе, Мерсье взял ее под руку и поспешно увел с собой?
– Подумать только! – молвил Габриель. – А я и не заметил.
– Отлично заметили, Габриель, и пошли следом за Мерсье и матушкой Жири до самого кабинета Мерсье. И вас, и Мерсье потом видели, а вот матушку Жири с того момента никто больше не видел…
– Вы полагаете, что мы ее съели?
– Нет! Но вы заперли ее в кабинете на два оборота ключа, и когда проходишь мимо двери, знаете, что слышишь? Слышишь вот такие слова: «Ах, бандиты! Ах, бандиты!»
Беседа, согласитесь, странная, но тут как раз появляется запыхавшийся Мерсье.
– Ну и дела! – произносит он мрачным голосом. – Дальше просто некуда. Я крикнул им: «Это очень важно! Откройте! Это я, Мерсье». Послышались шаги. Дверь отворилась, и появился Моншармен. Он был очень бледен. «Что вам нужно?» – спросил он. Я ответил: «Кристину Дое похитили». И знаете, что он мне сказал? «Тем лучше для нее!» Затем снова закрыл дверь, сунув мне в руку вот это.
Мерсье раскрывает ладонь, Реми с Габриелем уставились на нее.
– Английская булавка! – восклицает Реми.
– Странно! Странно! – тихо произносит Габриель, невольно содрогаясь.
Внезапно чей-то голос заставляет обернуться всех троих.
– Прошу прощения, господа, не могли бы вы сказать, где находится Кристина Дое?
Несмотря на всю серьезность обстоятельств, подобный вопрос наверняка заставил бы их рассмеяться, если бы они не увидели страдальческого лица, сразу же вызвавшего у них жалость.
То был виконт Рауль де Шаньи.
«Кристина! Кристина!»
После фантастического исчезновения Кристины первой мыслью Рауля было винить в этом Эрика. Он уже почти не сомневался в сверхъестественной власти Ангела музыки в стенах Оперы, где тот основал свою дьявольскую империю. Обезумев от отчаяния и любви, Рауль ринулся на сцену. «Кристина! Кристина!» – потеряв голову, со стоном взывал он к ней, как она, должно быть, взывала к нему из глубины той темной пропасти, куда ее, еще охваченную трепетом божественного вдохновения, одетую в белый саван, в котором она собиралась уже отдать себя в руки небесных ангелов, словно добычу, утащило чудовище!
«Кристина! Кристина!» – неустанно повторял Рауль, и ему казалось, будто он слышит крики девушки сквозь шаткие подмостки, отделявшие его от нее! Он наклонялся, прислушивался! Бродил, как безумный, по сцене. Ах, спуститься, спуститься, спуститься бы в этот кладезь мрака, все ходы которого закрыты для него!
Ах, это зыбкое дощатое препятствие, которое скользит обычно с такою легкостью, открывая бездну и давая заглянуть туда, куда устремлены сейчас все помыслы Рауля… Эти доски, что поскрипывают у него под ногами, вызывая глухой отзвук в умопомрачительной пустоте «подземелья»… Сегодня эти доски не просто неподвижны, а кажутся незыблемыми, застывшими навеки. И вид у них такой прочный, словно они никогда не сдвигались с места, и лестницы под ними, по которым можно спуститься вниз и оказаться под сценой, недоступны окружающим!..
«Кристина! Кристина!..»
Его со смехом толкают. Над ним потешаются. Все думают, что он свихнулся, несчастный жених!..
В какую неистовую гонку по темным, таинственным коридорам, известным лишь ему одному, увлек Эрик чистое дитя, чтобы добраться до страшного логова – спальни в стиле Луи-Филиппа, дверь которой выходит на адское озеро?.. «Кристина! Кристина! Ты не отвечаешь! Жива ли ты еще, Кристина? А может быть, испустила дух в минуту нечеловеческого ужаса, в объятиях огнедышащего чудовища?»
Ужасные мысли, подобно испепеляющим молниям, прорезают воспаленный мозг Рауля.
Наверняка Эрик подслушал их секрет и узнал, что предан Кристиной! Какой же будет его месть!
На что только не решится Ангел музыки, уязвленный в своей гордыне! Кристина погибнет в руках всемогущего чудовища!
И Рауль снова вспоминает о золотых звездах, бродивших минувшей ночью у него на балконе, зачем он не сразил их своим беспомощным оружием!
Ну конечно! Бывают поразительные человеческие глаза, которые расширяются в потемках и сверкают, словно звезды или глаза кошки. (У некоторых людей-альбиносов днем глаза похожи на кроличьи, а ночью – на кошачьи, это каждому известно!)
Да-да, Рауль наверняка стрелял в Эрика! Зачем он не убил его? Чудовище убежало по водосточному желобу, подобно кошке или каторжнику, которые – и это тоже каждому известно – с помощью водосточного желоба заберутся даже на небо.
Эрик, несомненно, замышлял тогда предпринять что-то решительное против молодого человека, но был ранен и бежал, чтобы обратить свой гнев против Кристины.
Таким тяжелым раздумьям предавался бедный Рауль, бегом направляясь в гримерную Кристины…
«Кристина!.. Кристина!..» Горькие слезы обжигают веки молодого человека при виде разбросанной всюду одежды, предназначавшейся его прекрасной невесте в час их побега!.. Ах, почему она не захотела уехать раньше! Почему так медлила?.. Зачем было играть с неминуемой бедой?.. С сердцем чудовища?.. Зачем проявлять такое сострадание, в последний раз давая насладиться душе демона своим небесным пением…
Душу я, ангелы, мою, святые, вам, вам я отдаю,
Меня вы вашей силою спасете!
И душу мою примите в свои небесные селенья!
Рауль, в горле которого клокочут рыдания, клятвы и проклятия, ощупывает своими неловкими ладонями большое зеркало, которое однажды вечером открылось на его глазах, чтобы дать возможность Кристине спуститься в сумрачное жилище. Он давит, нажимает, ощупывает, но зеркало, похоже, повинуется только Эрику, быть может, жесты не в силах справиться с подобным зеркалом?.. Быть может, нужно произнести определенные слова?.. Когда он был совсем маленьким, ему рассказывали, будто есть такие предметы, которые повинуются слову!
И вдруг Раулю вспомнилось: «решетка, которая выходит на улицу Скриба… Подземный ход, ведущий от озера прямо на улицу Скриба…» Ну конечно, Кристина говорила ему об этом!.. И удостоверившись, увы, что тяжелого ключа нет больше в шкатулке, он тем не менее бежит на улицу Скриба.
И вот он снаружи, водит дрожащими руками по гигантским камням, ищет выход, натыкается на решетки… те ли?.. Или эти?.. А может, вот эта отдушина?.. Он устремляет беспомощный взор сквозь решетку… какая непроницаемая ночь внутри!.. Он вслушивается!.. Какое безмолвие!.. Он кружит вокруг монументального здания!.. Ах, вот они, широкие прутья! Удивительные решетки!.. Это ворота административного двора!
Рауль бежит к консьержке:
– Прошу прощения, сударыня, вы не могли бы указать мне зарешеченную дверь или дверь, сделанную из прутьев, железных прутьев, которая выходит на улицу Скриба и ведет к озеру! Вы, конечно, знаете озеро? Ну да, озеро! То самое озеро под землей… в подземелье Оперы.
– Сударь, я действительно знаю, что под Оперой есть озеро, но только не знаю, какая дверь туда ведет, сама я там никогда не бывала!..
– А на улице Скриба, сударыня? На улице Скриба? Вы бывали когда-нибудь на улице Скриба?
Она смеется! Просто хохочет! Рауль с воем убегает, он скачет, карабкается вверх по лестницам, затем по другим спускается, пересекает все административное помещение и вновь оказывается на освещенных подмостках.
Он останавливается, сердце его готово выпрыгнуть из груди: может быть, уже отыскали Кристину Дое?
Вот какая-то группа, он спрашивает:
– Прошу прощения, господа, вы не видели Кристину Дое?
Над ним смеются.
В ту же минуту на сцене снова поднимается шум, и в окружении черных фраков, красноречиво размахивающих руками, появляется человек, который выглядит необычайно спокойно, любезно демонстрируя присутствующим толстощекое, розовое лицо, обрамленное вьющимися волосами и освещенное чудесным безмятежным взглядом голубых глаз. Администратор Мерсье указывает виконту де Шаньи на вновь прибывшего со словами:
– Вот человек, сударь, которому отныне следует задавать ваш вопрос. Позвольте представить вам полицейского комиссара, господина Мифруа.
– Ах, господин виконт де Шаньи! Рад видеть вас, сударь, – говорит комиссар. – Соблаговолите следовать за мной… А теперь позвольте спросить, где директора?.. Где директора?..
Администратор молчит, и секретарь Реми берет на себя смелость сообщить господину комиссару, что господа директора заперлись в своем кабинете и ничего еще не знают о случившемся.
– Возможно ли это!.. Пройдемте в их кабинет! – И господин Мифруа в сопровождении все разрастающегося кортежа направляется в административное помещение.
Воспользовавшись суматохой, Мерсье сует ключ Габриелю.
– Дело плохо, – шепчет он. – Выпусти на свободу матушку Жири…
И Габриель удаляется.
Тем временем остальные добрались до директорской двери. Но, несмотря на все заклинания Мерсье, дверь не открывается.
– Откройте именем закона! – ясным и немного обеспокоенным голосом приказывает господин Мифруа.
Наконец дверь открывается. Все устремляются в кабинет следом за комиссаром.
Рауль идет последним. Когда он уже собирался войти внутрь помещения, на его плечо легла чья-то рука, и он услышал над ухом такие слова:
– Секреты Эрика никого не касаются!
Рауль оборачивается, едва сдержав крик. Рука, лежавшая на его плече, теперь приложена к губам человека с лицом цвета черного дерева, с нефритовыми глазами и каракулевой шапочкой на голове… Перс!
Неизвестный по-прежнему прижимает пальцы к губам, призывая к молчанию, и в тот момент, когда изумленный виконт собирается спросить о причине его таинственного вмешательства, он, поклонившись, исчезает.
Поразительные откровения мадам Жири относительно ее персональных отношений с Призраком Оперы
Прежде чем последовать за полицейским комиссаром господином Мифруа к господам директорам, читатель позволит мне поведать о некоторых необычайных событиях, которые только что происходили в том самом кабинете, куда секретарь Реми и администратор Мерсье безуспешно пытались проникнуть и где господин Ришар и господин Моншармен наглухо закрылись с намерением, о котором читатель еще ничего не знает и которое мой исторический долг – я хочу сказать, мой долг историка – повелевает не скрывать от него более.
Я уже имел случай заметить, что за последнее время настроение господ директоров изменилось к худшему, и дал понять, что падение люстры при известных обстоятельствах было не единственной тому причиной.
Итак, пришло время сообщить читателю – вопреки горячему желанию господ директоров навсегда сохранить в тайне подобное событие, – что Призрак сумел-таки преспокойно получить первые двадцать тысяч франков! Ах, ну конечно же, дело не обошлось без сетований и зубовного скрежета! Однако свершилось это наипростейшим способом.
Как-то утром господа директора обнаружили у себя на столе готовый конверт. Конверт, на котором значилось: «Господину П. О. (лично)», сопровождался маленьким посланием самого П. О.:
«Настал момент выполнить договорные обязательства. Положите двадцать банкнот по тысяче франков в этот конверт, запечатайте его собственной печатью и вручите мадам Жири, которая сделает все необходимое».
Господа директора не заставили просить себя дважды; не теряя попусту времени и не задаваясь бессмысленными вопросами о том, каким образом эти дьявольские поручения могли попадать в кабинет, который они старательно запирали на ключ, директора сочли случай удобным, чтобы разоблачить таинственного вымогателя. И, все рассказав под большим секретом Габриелю и Мерсье, они положили в конверт двадцать тысяч франков и вручили его, не требуя никаких объяснений, восстановленной в своей должности мадам Жири. Билетерша не выразила ни малейшего удивления. Стоит ли говорить, что за ней следили! Впрочем, она тут же отправилась в ложу Призрака и положила драгоценный конверт на полочку у бортика. Оба директора, а вместе с ними Габриель и Мерсье, спрятались таким образом, что этот конверт они ни на секунду не теряли из вида не только во время всего представления, но даже после, ибо конверт так и остался лежать на месте, а следовательно, и те, кто следил за ним, тоже не двигались, но театр опустел, мадам Жири ушла, в то время как господа директора, Габриель и Мерсье по-прежнему оставались на своих местах. Наконец они устали ждать и вскрыли конверт, удостоверившись сначала, что печати не сорваны.
Сначала Ришар и Моншармен решили, что банкноты целы, однако вскоре заметили, что это совсем не те. Двадцать настоящих банкнот исчезли, а вместо них в конверте оказались двадцать лотерейных билетов «Сент-Фарса»! Они пришли в ярость, потом в ужас!
– Это трюк посильнее, чем у Робера-Удена![11] – воскликнул Габриель.
– Да, – согласился Ришар, – и стоит гораздо дороже!
Моншармен хотел тут же послать за комиссаром. Ришар воспротивился – у него наверняка был свой план.
– Не стоит выставлять себя на посмешище! – сказал он. – Весь Париж будет смеяться. П. О. выиграл первый тур, а мы выиграем второй.
Вероятно, он думал о следующей месячной плате.
Тем не менее их так ловко провели, что в течение последующих недель они не смогли преодолеть некоторого уныния. И это вполне понятно. Им следовало бы тогда же обратиться к комиссару, но не надо забывать, что господа директора не оставляли мысли о том, что вся эта странная история могла быть всего лишь отвратительной шуткой, подстроенной их предшественниками, а потому не стоило ничего разглашать, не узнав, в чем тут загвоздка.
С другой стороны, мысль эта временами вытеснялась у Моншармена иным подозрением, зародившимся у него относительно самого Ришара, который тоже горазд был на шутовские выдумки. Так вот и получилось, что, будучи готовыми ко всякого рода случайностям, они дожидались поворота событий, глаз не спуская с матушки Жири, которую Ришар не хотел ни во что посвящать.
– Если она сообщница, – говорил он, – то банкноты теперь уже далеко. Но, на мой взгляд, она просто дура!
– Дураков в этом деле хватает! – задумчиво возражал Моншармен.
– Да разве можно было предположить такое?.. – простонал Ришар. – Но не бойся, в следующий раз я приму все необходимые меры…
И вот следующий раз наступил и пришелся на тот самый день, когда суждено было исчезнуть Кристине Дое.
С утра – послание Призрака, напоминавшего им о сроке платежа.
«Сделайте как в прошлый раз. Все прошло очень хорошо. Отдайте конверт, в который вы положите двадцать тысяч франков, превосходнейшей мадам Жири».
Записка сопровождалась, по обыкновению, конвертом, который оставалось только наполнить.
Операция должна была осуществиться в тот же вечер за полчаса до спектакля. Итак, мы проникаем в директорское логово примерно за полчаса до того, как поднимется занавес этого памятного представления «Фауста».
Ришар показывает конверт Моншармену, затем пересчитывает при нем двадцать тысяч франков и кладет их в конверт, но не запечатывает его.
– А теперь, – говорит он, – зови матушку Жири.
Послали за старухой. Она вошла, изобразив великолепный реверанс. На даме было все то же платье из черной тафты, только теперь оно приобрело лиловато-ржавый оттенок, и шляпа с перьями цвета сажи. Судя по всему, настроение у нее было прекрасное.
– Добрый вечер, господа! – заговорила она сразу. – Это, верно, опять по поводу конверта?
– Да, мадам Жири, – любезнейшим тоном сказал Ришар. – По поводу конверта. И по поводу еще одной вещи.
– К вашим услугам, господин директор, к вашим услугам!.. А что это еще за вещь, позвольте спросить?
– Прежде всего, мадам Жири, мне хотелось бы задать вам один вопрос.
– Задавайте, господин директор, мадам Жири готова ответить.
– Вы по-прежнему в хороших отношениях с Призраком?
– В наилучших, господин директор, в самых наилучших.
– Мы очень, очень этому рады. Послушайте, мадам Жири, – произнес Ришар тоном, предвещающим важное откровение, – между нами говоря, вам-то мы можем это сказать… Вы женщина далеко не глупая.
– Но господин директор!.. – воскликнула билетерша, перестав мило покачивать двумя черными перьями на шляпе цвета сажи. – Уж поверьте мне, в этом ни у кого и никогда не было сомнений!
– Мы с этим согласны и, думаю, сумеем понять друг друга. История с Призраком – это ведь добрая шутка, не так ли?.. Позвольте заметить, но это опять-таки между нами, что она несколько затянулась.
Мадам Жири посмотрела на директоров, как будто они заговорили с ней по-китайски. Подойдя к столу Ришара, она с беспокойством произнесла:
– Что вы хотите этим сказать?.. Я вас не понимаю!
– Да все вы прекрасно понимаете. Во всяком случае, надо постараться понять нас… и прежде всего вам следует сказать, как его зовут.
– Это кого же?
– Того, чьей сообщницей вы являетесь, мадам Жири!
– Выходит, я сообщница Призрака? Это я-то?.. А в чем сообщница-то?
– Вы делаете все, что он пожелает.
– О!.. Да он, знаете ли, не слишком надоедливый.
– И дает хорошие чаевые!
– Да уж не жалуюсь!
– Сколько же он дает вам, чтобы вы принесли ему этот конверт?
– Десять франков.
– Черт возьми! Немного!
– Это почему?
– Я скажу вам, мадам Жири, но позже. А сейчас нам хотелось бы знать, по какой такой причине, чрезвычайной причине вы готовы служить верой и правдой именно Призраку, а не кому-то другому… Ведь не за сто же су или десять франков можно заручиться дружбой и преданностью мадам Жири.
– Что верно, то верно!.. И честное слово, причину эту я могу вам сказать, господин директор! Никакого бесчестья тут, конечно, нет!.. Напротив.
– Мы в этом не сомневаемся, мадам Жири.
– Так вот, Призраку не понравится, если я стану рассказывать о его делах.
– Ах так! – усмехнулся Ришар.
– Но это дело касается только меня!.. – продолжала старуха. – А началось все в ложе номер пять… Как-то вечером я нахожу там письмо для меня, что-то вроде записки, написанной красными чернилами… Мне нет нужды читать вам эту записку, господин директор, я знаю ее наизусть и никогда не забуду, проживи я хоть сто лет!.. – И мадам Жири, выпрямившись, с трогательной выразительностью повторяет наизусть письмо: – «Мадам! 1825 год, мадемуазель Менетрие, корифей, стала маркизой де Кюсси. 1832 год, мадемуазель Мария Тальони, балерина, стала графиней Жильбер де Вуазен. 1846 год, Сота, балерина, выходит замуж за брата короля Испании. 1847 год, Лола Монтес, балерина, вступает в морганатический брак с королем Людовиком Баварским, ей пожалован титул графини Ландсфельд. 1848 год, мадемуазель Мария, балерина, становится баронессой д’Эрмевилль. 1870 год, Тереза Гесслер, балерина, ее супругом стал Дон Фернандо, брат короля Португалии…»
Ришар и Моншармен слушают старуху, которая по мере того, как продвигается забавный перечень столь славных бракосочетаний, воодушевляется, распрямляется, набирается смелости и наконец вдохновенно, словно сивилла на своем треножнике, торжественно провозглашает последнюю фразу пророческого письма:
– «1885 год, Мег Жири – императрица!» – Сделав это последнее усилие, билетерша в изнеможении снова падает на стул со словами: – Господа, под этим стояла подпись: «Призрак Оперы»! Я уже слышала разговоры о Призраке, но не очень-то им верила. А с того дня, когда он объявил мне, что моя маленькая Мег, плоть от плоти моей, плод моего чрева, станет императрицей, я уверовала в него полностью.
По правде говоря, не надо было вглядываться в восторженную физиономию мадам Жири, чтобы понять, чего можно добиться у столь высокого интеллекта при помощи двух слов: «Призрак» и «императрица».
Но кто дергал за ниточки, кто руководил этим несуразным чучелом?..
– Вы никогда его не видели, но он разговаривает с вами, и вы верите всему, что он говорит? – спросил Моншармен.
– Да. Прежде всего именно ему я обязана тем, что моя маленькая Мег назначена корифеем. Я сказала Призраку: «Чтобы в 1885 году она стала императрицей, придется вам поторопиться, нельзя терять времени, ей надо прямо сейчас перейти в корифеи». И он мне ответил: «Хорошо». И верно, стоило ему только слово сказать господину Полиньи, как все уладилось.
– Стало быть, господин Полиньи его все-таки видел!
– Не видел, как и я, но зато слышал! Вы же сами знаете, Призрак шепнул ему на ухо словечко в тот вечер, когда он вышел такой бледный из ложи номер пять.
– Вот так история! – со стоном вздыхает Моншармен.
– Ах! – говорит в ответ мадам Жири. – Я всегда знала, что у Призрака с господином Полиньи есть какие-то секреты. Все, что Призрак ни попросит у господина Полиньи, господин Полиньи для него делает… Господин Полиньи ни в чем не мог отказать Призраку.
– Слышишь, Ришар, Полиньи ни в чем не мог отказать Призраку.
– Да-да, прекрасно слышу! – заявил Ришар. – Господин Полиньи – друг Призрака! И так как мадам Жири – друг господина Полиньи, все вроде бы складывается отлично, – добавляет он весьма резким тоном. – Но господин Полиньи меня лично не интересует. Единственный персонаж, чья судьба мне поистине интересна, это, не скрою, мадам Жири!.. Мадам Жири, вам известно, что в этом конверте?
– Господи, конечно, нет! – отвечает та.
– Ну что ж, посмотрите!
Мадам Жири заглядывает в конверт мутным взглядом, который тут же обретает блеск.
– Банкноты по тысяче франков! – восклицает она.
– Да, мадам Жири!.. Да, тысячные банкноты!.. И вы это прекрасно знали!
– Я, господин директор… Я! Клянусь вам…
– Не клянитесь, мадам Жири!.. А теперь я скажу вам ту самую другую вещь, ради которой вызвал вас. Мадам Жири, я велю арестовать вас.
Два черных пера на шляпе цвета сажи, обычно принимавшие форму вопросительных знаков, тут же превратились в восклицательные; что же касается собственно шляпы, то она угрожающе качнулась на вздыбившемся шиньоне. Удивление, возмущение, протест и ужас выразились, кроме того, у матери маленькой Мег в весьма своеобразном пируэте – «жете глиссад» – оскорбленной добродетели, в мгновение ока бросившем ее прямо-таки под нос господину директору, который не мог удержаться и невольно отодвинул кресло.
– Арестовать меня?! – Рот, произносивший эти слова, казалось, готов был выплюнуть в лицо господину Ришару последние остававшиеся в нем три зуба.
Господин Ришар вел себя геройски. Больше он не отступил. Его угрожающе поднятый палец уже указывал отсутствующим представителям судебной власти на билетершу ложи номер пять.
– Я велю арестовать вас, мадам Жири, как воровку!
– А ну повтори! – И мадам Жири с размаху влепила директору, господину Ришару, увесистую пощечину, прежде чем другой директор, господин Моншармен, успел встать между ними.
А как же, карающий ответный удар! К тому же на директорскую щеку обрушилась отнюдь не костлявая рука вспыльчивой старой дамы, а сам конверт, причина всего скандала, от удара волшебный конверт приоткрылся, и из него посыпались банкноты, закружившиеся, наподобие огромных бабочек, в фантастическом вихре.
Оба директора вскрикнули, одна и та же мысль толкнула и того, и другого на колени, и они лихорадочно стали подбирать драгоценные бумажки, наспех проверяя их.
– Они все еще настоящие? – воскликнул Моншармен.
– Они все еще настоящие? – вторил ему Ришар.
– Они настоящие!!!
Над ними тем временем три зуба мадам Жири вступили в отчаянную схватку с брызжущими ненавистью междометиями. Но разобрать ничего было нельзя, кроме одного-единственного лейтмотива:
– Я – воровка!.. Это я-то воровка? – Она задыхается. – Я уничтожена! – кричит она. И внезапно снова подскакивает вплотную к Ришару. – Во всяком случае, вам, господин Ришар, – визжит она, – вам-то лучше знать, куда девались двадцать тысяч франков!
– Мне? – с изумлением вопрошает Ришар. – Откуда же мне знать?
И тотчас суровый и обеспокоенный Моншармен желает получить разъяснения у славной женщины.
– Что это значит? – спрашивает он. – И почему, мадам Жири, вы считаете, что господин Ришар должен лучше вас знать, куда делись двадцать тысяч франков?
Ришар же, почувствовав, что краснеет под пристальным взглядом Моншармена, взял за руку мадам Жири и хорошенько тряхнул ее. Голос его подобен грому. Рокочет, грохочет, испепеляет…
– Почему я должен лучше вас знать, куда делись двадцать тысяч франков? Почему?
– Потому что они перекочевали в ваш карман!.. – доверительно сообщает старуха, глядя на него так, словно перед ней предстал сам дьявол.
Теперь под огнем оказался господин Ришар: сначала эта неожиданная реплика, а вслед за тем – подозрительный взгляд Моншармена. И силы, в которых Ришар так нуждался, дабы опровергнуть столь гнусное обвинение, оставили вдруг его.
Так и самые невинные, застигнутые врасплох в состоянии безмятежного покоя своих сердец, предстают внезапно из-за обрушившегося на них удара, заставившего их побледнеть или покраснеть, пошатнуться или распрямиться, глубоко задуматься или возразить, безмолвствовать, когда следовало что-то сказать, или говорить, когда надо было промолчать, никак не реагировать, когда следовало бы вытирать мокрый лоб, или же обливаться потом, когда надо было не реагировать, предстают внезапно, говорю я, виновными.
Моншармен остановил яростный порыв, с каким Ришар, будучи невинным, собирался наброситься на мадам Жири, и, поспешив подбодрить ту, стал расспрашивать ее… ласково.
– Как вы могли заподозрить моего коллегу Ришара в том, что он положил двадцать тысяч франков себе в карман?
– Я этого и не говорила! – заявляет мадам Жири. – Потому что самолично положила двадцать тысяч франков в карман господина Ришара. – И добавила вполголоса: – Тем хуже! Так уж получилось!.. Да простит меня Призрак!
И так как Ришар снова начинает вопить, Моншармен властно приказывает ему замолчать:
– Пардон! Пардон! Пардон! Дай этой женщине объясниться! И дай мне ее расспросить. – И не удержавшись, добавляет: – Странно все-таки, что ты так это воспринял!.. Приближается момент, когда тайна должна проясниться! А ты сердишься! И напрасно. Лично я веселюсь от всей души.
Мадам Жири с мученическим видом поднимает голову, на ее лице написана святая убежденность в собственной невиновности.
– Вы говорите, что в конверте, который я положила в карман господина Ришара, было двадцать тысяч франков, но я, повторяю, ничего об этом не знала. Господин Ришар, впрочем, тоже!
– Ах! Ах! – молвил Ришар, принимая вдруг вызывающий вид, что страшно не понравилось Моншармену. – Я тоже, оказывается, ничего об этом не знал! Вы положили мне в карман двадцать тысяч франков, а я ничего об этом не знал! Наконец-то, мадам Жири. Я очень рад.
– Да, – согласилась не ведающая жалости дама, – это верно!.. Мы ничего не знали, ни тот, ни другой!.. Но вы-то, вы-то должны были в конце концов это обнаружить.
Ришар наверняка сожрал бы мадам Жири, если бы не Моншармен! Но Моншармен служит ей защитой. Он продолжает допрос:
– Что за конверт вы положили в карман господина Ришара? Это был не тот, который мы вам дали и который вы при нас отнесли в ложу номер пять, а ведь только в нем находились двадцать тысяч франков.
– Прошу прощения! Как раз тот, который давал мне господин директор, я и положила в карман господина директора, – объясняет матушка Жири. – А конверт, который я положила в ложу Призрака, был совсем другой, но в точности похожий, я держала его наготове в рукаве, а дал мне его Призрак!
С этими словами мадам Жири вытаскивает из рукава готовый конверт, в точности такой же и с тою же надписью, как тот, в котором находились двадцать тысяч франков. Схватив его, господа директора изучают его и обнаруживают, что он запечатан их собственной директорской печатью. Они открывают его… В нем находятся двадцать лотерейных билетов «Сент-Фарса», такие же точно, как те, что поразили их месяц назад.
– Как все просто! – произносит Ришар.
– Как все просто! – торжественно, как никогда, повторяет Моншармен.
– Самые знаменитые трюки всегда оказывались наипростейшими, – отвечает Ришар. – Достаточно иметь помощника…
– Или помощницу! – бесцветным голосом добавляет Моншармен. И продолжает, пристально глядя на мадам Жири, словно желая загипнотизировать ее: – Именно Призрак доставил вам этот конверт и именно он велел вам положить его вместо того, который вручили вам мы? И именно он велел вам положить наш конверт в карман господина Ришара?
– О! Конечно, он!
– В таком случае, мадам, не могли бы вы продемонстрировать нам частичку своих замечательных талантов?.. Вот конверт. Делайте все так, как будто мы ничего не знаем.
– К вашим услугам, господа! – Матушка Жири снова взяла конверт с двадцатью тысячами франков и направилась к двери, собираясь выйти.
К ней тут же подскакивают оба директора.
– Ну нет! Ну нет! Нас больше не проведешь! С нас хватит! Не будем начинать все сначала!
– Простите, господа, – извиняется старуха, – простите. Вы велели мне сделать все так, как если бы вы ничего не знали!.. Ну если бы вы ничего не знали, я бы ушла с вашим конвертом!
– Но как же в таком случае вы сунули бы его мне в карман? – недоумевает Ришар, с которого Моншармен не спускает левого глаза, в то время как его правый глаз неотрывно следит за мадам Жири – позиция для взгляда весьма затруднительная; однако Моншармен готов на все, лишь бы докопаться до истины.
– Я должна положить его в ваш карман в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете, господин директор. Вы же знаете, в течение вечера я всегда заглядываю за кулисы и часто, по праву матери, сопровождаю мою дочь в танцевальное фойе; во время дивертисмента я приношу ей балетные туфли и даже ее леечку. Словом, передвигаюсь свободно. Господа абонированные тоже приходят. Да и вы, господин директор. Короче, народ есть… Я прохожу сзади вас и незаметно сую конверт в задний карман вашего фрака… Дело нехитрое! Никакого колдовства.
– Никакого колдовства, – ворчит Ришар, сверкая глазами, словно Юпитер-громовержец. – Зато я уличаю вас во лжи, старая колдунья!
Оскорбление не так больно бьет почтенную даму, как тот удар, который хотят нанести ее честному имени. Она выпрямляется, всклокоченная, все три зуба наружу.
– Это почему же?
– А потому что тот вечер я провел в зале, наблюдая за ложей номер пять и фальшивым конвертом, который вы туда положили. Я ни на секунду не спускался в танцевальное фойе.
– Поэтому, господин директор, я и не отдала вам в тот вечер конверт!.. А только на следующем представлении. Тогда еще заместитель министра изящных искусств…
При этих словах господин Ришар внезапно прерывает мадам Жири…
– Ах, верно, – задумчиво говорит он, – я припоминаю. Теперь припоминаю! Господин заместитель министра пришел за кулисы. И спросил меня. Я спустился на минутку в танцевальное фойе и остановился на ступеньках. А господин заместитель министра и глава его кабинета находились в самом фойе. И тут вдруг я обернулся. Сзади проходили вы, мадам Жири… Мне показалось, что вы меня слегка задели. Кроме вас, за моей спиной никого не было. О! Я как сейчас вас вижу. Как сейчас вижу!
– Так оно и было, господин директор! Так оно и было! Я как раз закончила свое маленькое дельце в вашем кармане! Этот карман, господин директор, очень удобен! – И мадам Жири снова подкрепляет слово делом. Она проходит сзади господина Ришара и так проворно, что даже сам Моншармен, который глядит во все глаза, на этот раз просто поражен, кладет конверт в карман одной из фалд фрака господина директора.
– Ну разумеется! – восклицает Ришар, слегка побледнев. – Ничего не скажешь, сильный номер со стороны П. О. Проблема для него сводилась к следующему: убрать любого опасного посредника между тем, кто дает двадцать тысяч франков, и тем, кто их берет! Лучшего и придумать было нельзя: взять их у меня из кармана так, чтобы я не заметил, ведь я даже не знал, что они там находятся. Ну не прелесть ли?
– О, еще бы! Конечно, прелесть, – подхватывает Моншармен, – только ты забываешь, Ришар, что из этих двадцати тысяч десять – мои, но мне-то никто ничего в карман не положил!
Продолжение странного поведения английской булавки
Последняя фраза Моншармена недвусмысленно выражала подозрение, которое он питал отныне в отношении своего коллеги, что тут же послужило причиной бурного объяснения, в результате которого порешили: Ришар подчинится любым требованиям Моншармена с целью помочь ему обнаружить негодяя, потешавшегося над ними.
Ну вот наконец-то мы добрались до антракта после сцены в саду, когда секретарь, господин Реми, от которого ничто не ускользает, с таким любопытством наблюдал за странным поведением директоров, и теперь для нас нет ничего проще, чем найти причину столь необычного, а главное, несоответствующего представлениям о директорском достоинстве поведения.
А поведение Ришара и Моншармена было предопределено только что сделанным признанием мадам Жири, и посему:
1) Ришару надлежало незамедлительно в точности повторить движения, которые он делал во время исчезновения первых двадцати тысяч франков;
2) Моншармену ни на секунду не следовало терять из вида задний карман Ришара, в который мадам Жири должна была положить вторые двадцать тысяч.
Господин Ришар встал на том самом месте, где он находился, когда приветствовал господина заместителя министра изящных искусств, а в нескольких шагах, за его спиной, встал господин Моншармен.
Мадам Жири проходит мимо и, задев господина Ришара, кладет двадцать тысяч в карман фалды своего директора и исчезает.
Вернее, ей помогают исчезнуть. Выполняя приказ, полученный от Моншармена несколькими минутами раньше, до начала воспроизведения всей сцены, Мерсье запирает славную даму в административном кабинете.
Таким образом, старуха лишалась возможности вступить в контакт с Призраком. И она безропотно подчиняется, ибо мадам Жири представляет теперь собой жалкое зрелище: как перепуганная насмерть курица, она оторопело таращит глаза под растрепавшимся хохолком, вздыхая так тяжко, что того и гляди не выдержат и рухнут колонны главной лестницы, в гулком коридоре ей уже слышится шум шагов комиссара, которым пригрозил директор.
А господин Ришар тем временем отвешивал приветственный поклон, пятясь задом, словно перед ним стоял всемогущий высокопоставленный чиновник, коим является заместитель министра изящных искусств.
Однако если бы подобные знаки учтивости, находись перед господином директором заместитель министра, не вызвали бы ни малейшего удивления у наблюдавших за этой сценой, столь же естественной, сколь и необъяснимой, то теперь они повергли их в изумление, впрочем вполне понятное, ибо перед господином директором никого не было.
Господин Ришар отвешивал поклоны в пустоту, сгибался перед вакуумом и отступал – пятясь задом – неизвестно перед кем…
Наконец в нескольких шагах от него господин Моншармен проделал то же самое, что и он.
…И, оттолкнув господина Реми, умолял господина посла Бордери и господина директора банка «Креди сантраль» не «прикасаться к господину директору».
Преследуя свою идею, Моншармен вовсе не ожидал, что Ришар скажет ему сейчас в связи с исчезновением двадцати тысяч франков: «Может, это господин посол, или господин директор банка «Креди сантраль», или даже секретарь, господин Реми…»
Тем более что во время первой сцены, по признанию самого Ришара, Ришар после того, как его задела мадам Жири, не встретил никого в этой части театра… Почему же, спрашивается, если требовалось в точности повторить те же самые движения, он должен встретить кого-то сегодня?
Пройдя сначала пятясь задом в знак приветствия, Ришар из предосторожности продолжал двигаться таким же образом вплоть до административного коридора… Сзади за ним по-прежнему следил Моншармен, а сам он следил за «подходами к себе» спереди.
Еще раз повторяю, столь необычный способ передвижения за кулисами, принятый вдруг директорами Национальной академии музыки, не мог, разумеется, остаться незамеченным. И был замечен.
К счастью для господина Ришара и господина Моншармена, в момент этой курьезной сцены почти все «мышки» находились наверху.
Иначе господа директора имели бы огромный успех у девушек.
Но они думали лишь о своих двадцати тысячах франков.
Добравшись до полутемного административного коридора, Ришар тихим голосом сказал Моншармену:
– Я уверен, что ко мне никто не прикасался… А теперь держись от меня подальше и следи за мной из темноты до самой двери моего кабинета… Лучше, чтобы никто ничего не заметил, и тогда мы увидим, что произойдет.
– Нет! Ришар! Нет!.. – возражает Моншармен. – Иди впереди, я пойду сразу же следом за тобой! И не отстану от тебя ни на шаг!
– Но, – воскликнул Ришар, – так у нас никогда не украдут наши двадцать тысяч франков!
– Надеюсь! – заявляет Моншармен.
– В таком случае то, что мы делаем, глупо!
– Мы повторяем в точности все, что делали в прошлый раз… В прошлый раз я подошел к тебе, когда ты уходил со сцены, в углу этого коридора и следовал за тобой сзади.
– Верно! – вздыхает Ришар, качая головой и покорно подчиняясь Моншармену.
Через десять минут оба директора заперлись в своем кабинете.
Моншармен самолично положил ключ себе в карман.
– В прошлый раз, – молвил он, – мы сидели взаперти вдвоем до тех пор, пока ты не покинул Оперу, отправившись к себе домой.
– Верно! И никто не приходил, никто нас не беспокоил?
– Никто.
– В таком случае, – высказал предположение Ришар, пытавшийся вспомнить все до мельчайших подробностей, – меня наверняка обокрали по дороге из Оперы домой.
– Нет! – как никогда резко отрезал Моншармен. – Нет! Это исключено… Я сам отвез тебя домой в моем экипаже. Двадцать тысяч франков исчезли у тебя дома, теперь у меня нет ни тени сомнений. – Эта мысль завладела отныне Моншарменом.
– Невероятно! – запротестовал Ришар. – Я уверен в своей прислуге!.. Но если бы кто-то и совершил такое, то он уже давно сбежал бы.
Моншармен пожал плечами, давая понять, что детали его не интересуют.
После чего Ришар приходит к выводу, что Моншармен позволяет себе разговаривать с ним недопустимым тоном.
– Довольно, Моншармен!
– Хватит, Ришар!
– Ты смеешь подозревать меня?
– Да, в скверной шутке!
– Двадцать тысяч франков – это не шутка!
– Я совершенно с тобой согласен! – заявляет Моншармен, развертывая газету и демонстративно погружаясь в чтение.
– Что ты собираешься делать? – спрашивает Ришар. – Будешь читать газету?
– Да, Ришар, до тех пор, пока не повезу тебя домой.
– Как в прошлый раз?
– Как в прошлый раз.
Ришар вырывает газету из рук Моншармена. Моншармен, разгневанный, встает. Он видит перед собой взбешенного Ришара, и тот, скрестив на груди руки – испокон веков жест этот означает дерзкий вызов, – говорит ему:
– Я вот о чем думаю. Я думаю о том, что бы я мог подумать, если бы, как в прошлый раз, проведя весь вечер с тобой наедине, я поехал бы с тобой домой и в момент нашего расставания выяснилось бы, что двадцать тысяч франков исчезли из кармана моего фрака, как в прошлый раз.
– И что бы ты мог подумать? – воскликнул Моншармен, побагровев.
– Я мог бы подумать, что, раз ты не отставал от меня ни на шаг и раз, согласно твоему желанию, ты, как и в прошлый раз, был единственным, кто приближался ко мне, я мог бы подумать, что если этих двадцати тысяч франков нет больше в моем кармане, значит, у них есть все шансы оказаться в твоем!
Моншармен ухватился за такое предположение.
– О! – воскликнул он. – Английская булавка!
– Зачем тебе английская булавка?
– Пристегнуть тебя!.. Английская булавка!.. Английская булавка!
– Ты хочешь пристегнуть меня английской булавкой?
– Да, пристегнуть с двадцатью тысячами франков!.. Тогда, случись это здесь или во время поездки к тебе домой, ты наверняка почувствуешь руку, которая полезет к тебе в карман, и увидишь, моя ли это рука, Ришар!.. Ах, теперь ты меня подозреваешь. Надо раздобыть английскую булавку!
Именно в этот момент Моншармен открыл дверь в коридор с криком:
– Английскую булавку! Кто мне даст английскую булавку?
И мы уже знаем, как был встречен в эту минуту директором Моншарменом секретарь Реми, у которого не было английской булавки, меж тем как сотрудник администрации раздобыл для него желанную булавку.
И вот что произошло.
Моншармен, снова закрыв дверь, встал на колени за спиной Ришара.
– Надеюсь, – сказал он, – что двадцать тысяч франков по-прежнему на месте?
– Я тоже, – молвил Ришар.
– Настоящие? – спросил Моншармен, решивший на этот раз ни в коем случае не дать себя провести.
– Посмотри сам! Я не хочу к ним прикасаться! – заявил Ришар.
Моншармен вытащил из кармана Ришара конверт и с дрожью достал из него банкноты, ибо на сей раз, дабы иметь возможность чаще проверять наличие денег, они не только не запечатали конверт, но даже не заклеили его. Моншармен успокоился, удостоверившись, что все они целы и невредимы. Затем положил конверт обратно в карман фалды и тщательно приколол его. После чего сел позади Ришара, не спуская глаз с его фалды, в то время как тот замер за своим столом.
– Чуточку терпения, Ришар, – скомандовал Моншармен, – осталось всего несколько минут… Часы скоро пробьют полночь. В прошлый раз мы ушли ровно в полночь.
– О! Терпения у меня сколько угодно!
Время тянулось медленно, томительное, таинственное, гнетущее.
Ришар пытался шутить:
– Дело кончится тем, что я поверю во всемогущество Призрака. В данный момент, например, ты не ощущаешь в атмосфере этой комнаты нечто тревожное, вызывающее тягостное, пугающее чувство?
– Верно, – согласился Моншармен, который действительно был напуган.
– Призрак! – продолжал Ришар тихим голосом, словно опасаясь быть услышанным невидимыми ушами. – Призрак! А что, если это все-таки Призрак три раза резко стучал тогда по этому столу, мы ведь прекрасно слышали удары… Призрак, который оставляет у нас на столе волшебные конверты, разговаривает в ложе номер пять, убивает Жозефа Бюке, роняет люстру и грабит нас! Потому что в конце-то концов! В конце-то концов! Здесь только ты и я!.. И если банкноты исчезнут, хотя ни ты, ни я здесь ни при чем, ничего не поделаешь, придется поверить в Призрака, в Призрака…
В этот момент часы на камине начали бить полночь, прозвучал первый удар.
Оба директора вздрогнули. Их охватил страх, причину которого они не смогли бы назвать, хотя безуспешно пытались его побороть. По лбу у них струился пот. Двенадцатый удар как-то особенно странно прозвучал в их ушах.
Когда часы смолкли, они вздохнули с облегчением и поднялись.
– Думаю, мы можем идти, – сказал Моншармен.
– Я тоже так думаю, – согласился Ришар.
– Но прежде чем уйти, ты позволишь заглянуть в твой карман?
– А как же иначе, Моншармен! Это просто необходимо!
И Моншармен стал ощупывать карман.
– Ну что? – спросил Ришар.
– Ничего, я чувствую булавку.
– Разумеется, не ты ли справедливо говорил: обокрасть нас так, чтобы я не заметил, уже не смогут.
Но Моншармен, руки которого шарили вокруг кармана, завопил вдруг:
– Булавку-то я чувствую, но не чувствую больше банкнот!
– Оставь свои шутки, Моншармен!.. Момент неподходящий.
– Да ты сам потрогай.
Ришар мгновенно скидывает фрак. Оба директора рвут друг у друга карман!.. Но карман пуст.
А самое любопытное то, что булавка была приколота на том же самом месте.
Ришар с Моншарменом побледнели. Никаких сомнений относительно колдовства не оставалось.
– Призрак… – шепчет Моншармен.
Но тут Ришар набрасывается внезапно на своего коллегу:
– Только ты прикасался к моему карману!.. Верни мне мои двадцать тысяч франков!.. Верни мне мои двадцать тысяч франков!..
– Клянусь жизнью! – вздыхает Моншармен, едва не лишившийся чувств. – Клянусь тебе, что я их не…
И так как в дверь снова стучали, он, шагая, словно автомат, машинально пошел открывать и с трудом узнал администратора Мерсье, обменявшегося с ним какими-то словами; ничего не поняв из того, что тот ему говорил, Моншармен бессознательным движением вложил в руку оторопевшего служащего английскую булавку, ставшую теперь бесполезной…
Полицейский комиссар, виконт и Перс
Войдя в директорский кабинет, полицейский комиссар прежде всего справился о певице:
– Кристины Дое нет здесь?
За ним, как я уже говорил, следовала плотная толпа.
– Кристины Дое? Нет, – отвечал Ришар, – а в чем дело?
Что же касается Моншармена, то он не в силах был произнести ни слова… Его состояние духа было гораздо более серьезным, нежели у Ришара, ибо Ришар мог еще подозревать Моншармена, в то время как Моншармен очутился перед лицом великого таинства, того самого, что заставляет содрогаться человечество от рождения: Неведомое.
Ришар между тем продолжал говорить, ибо толпа, окружавшая директоров и полицейского комиссара, хранила впечатляющее молчание:
– Почему вы спрашиваете, господин комиссар, здесь ли Кристина Дое?
– Потому что ее нужно найти, господа директора Национальной академии музыки, – торжественно заявляет полицейский комиссар.
– Как это найти! Значит, она исчезла?
– В самый разгар представления!
– В разгар представления! Невероятно!
– Не так ли? Но еще невероятнее то обстоятельство, что именно я сообщаю вам об этом!
– В самом деле… – соглашается Ришар и, обхватив голову руками, шепчет: – Это еще что за история? О! Тут есть отчего подать в отставку!.. – И безотчетным движением он вырывает несколько волосков из своих усов. – Итак, – говорит он, как во сне, – она исчезла в разгар представления…
– Да, ее похитили во время сцены тюрьмы, в ту минуту, когда она взывала о помощи к небесам, однако я сомневаюсь, что ее унесли ангелы.
– А я в этом совершенно уверен!
Все оборачиваются.
– Я в этом уверен! – повторяет бледный, охваченный волнением молодой человек.
– В чем именно вы уверены? – спрашивает Мифруа.
– В том, что Кристину Дое похитил ангел, господин комиссар. Я даже могу назвать вам его имя…
– Ах, вот как, господин виконт де Шаньи! Вы утверждаете, что Кристину Дое похитил ангел и, безусловно, ангел Оперы?
Рауль оглядывается по сторонам. Он явно ищет кого-то. В тот момент, когда ему кажется столь необходимым обратиться за помощью для своей невесты в полицию, он был бы совсем не прочь вновь увидеть таинственного незнакомца, который только что советовал ему молчать. Но того нигде нет. Что ж! Придется, видно, рассказать все!.. Однако не может же он объясняться в присутствии этой толпы, разглядывающей его с назойливым любопытством.
– Да, сударь, ангел Оперы, – отвечает молодой человек господину Мифруа. – И я скажу вам, где он живет, после того как мы останемся одни…
– Вы правы, сударь! – И усадив Рауля, полицейский комиссар выставляет всех за дверь, за исключением, естественно, директоров, которые между тем и не подумали бы возражать в противном случае, настолько они были далеки от действительности.
И тут Рауль наконец решается:
– Господин комиссар, ангела этого зовут Эрик, он живет в Опере, он-то и есть Ангел музыки!
– Ангел музыки! В самом деле?! Весьма любопытно!.. Ангел музыки! – И, повернувшись к директорам, полицейский комиссар спрашивает: – Господа, у вас есть этот самый ангел?
Господин Ришар и господин Моншармен без намека на улыбку отрицательно качают головами.
– О! – молвил виконт. – Эти господа наверняка слышали разговоры о Призраке Оперы. Так вот, я могу сказать им, что Призрак Оперы и Ангел музыки – одно и то же лицо. Настоящее его имя – Эрик.
Господин Мифруа встал и внимательно посмотрел на Рауля.
– Простите, сударь, вы намерены насмехаться над правосудием?
– Я! – возмутился Рауль, с болью подумав: «Еще один, кто не захочет меня выслушать».
– Что же в таком случае вы мне тут плетете, какой еще Призрак Оперы?
– Я говорю, что эти господа наверняка слышали о нем.
– Господа, похоже, вы знаете Призрака Оперы?
Ришар встал с последними волосками своих усов в руке.
– Нет, господин комиссар, нет, мы его не знаем! Но очень хотели бы с ним познакомиться! Ибо не далее как сегодня вечером он украл у нас двадцать тысяч франков!.. – И Ришар обратил к Моншармену страшный взгляд, говоривший, казалось: «Верни мне двадцать тысяч франков, или я все расскажу».
Моншармен прекрасно понял его, ибо в полной растерянности махнул рукой: «А, мол, говори все! Выкладывай!..»
Что же касается Мифруа, он по очереди глядел то на директоров, то на Рауля, спрашивая себя, уж не в дом ли умалишенных он попал.
– Призрак, – начал комиссар, проводя рукой по волосам, – который в один и тот же вечер похищает певицу и крадет двадцать тысяч франков, должно быть, обременен заботами! Если позволите, мы разделим вопросы. Прежде всего певица, а потом уже двадцать тысяч франков! Послушайте, господин де Шаньи, попытаемся говорить серьезно. Вы полагаете, что мадемуазель Кристина Дое была похищена человеком по имени Эрик. Вы знаете этого человека? Видели его?
– Да, господин комиссар.
– Где же?
– На кладбище.
Господин Мифруа прямо-таки подскочил и снова стал внимательно присматриваться к Раулю.
– Ну разумеется!.. – сказал он. – Где же еще можно встретиться с Призраком. А что вы делали на этом кладбище?
– Сударь, – сказал Рауль, – я прекрасно отдаю себе отчет в странности моих ответов и том впечатлении, какое они на вас производят. Но умоляю вас верить, что я в здравом уме. Речь идет о спасении особы, не менее дорогой для меня, чем мой горячо любимый брат Филипп. Мне хотелось бы убедить вас несколькими словами, ибо время не ждет, дорога каждая минута. К несчастью, если я не расскажу вам эту более чем странную историю с самого начала, вы мне не поверите. Господин комиссар, я расскажу вам все, что знаю о Призраке Оперы. Но, увы, господин комиссар, знаю-то я немногое.
– И все-таки говорите! Говорите! – внезапно заинтересовавшись, в один голос воскликнули Ришар с Моншарменом.
К несчастью, зародившаяся у них на мгновение надежда узнать какие-либо детали, способные вывести их на след таинственного мистификатора, не оправдалась, и вскоре им пришлось смириться с печальной, но очевидной истиной: господин Рауль де Шаньи окончательно потерял голову. Вся эта история с Перро-Гиреком, с черепами и волшебной скрипкой могла родиться лишь в воспаленном мозгу тронувшегося умом влюбленного.
Впрочем, ясно было, что и комиссар, господин Мифруа, все более склоняется к этой точке зрения; представитель власти, безусловно, положил бы конец бессвязным речам молодого человека, которые мы приводили в первой части нашего повествования, если бы сами обстоятельства не заставили прервать их.
Дверь отворилась, и появился весьма странный субъект в просторном черном рединготе и надвинутом по самые уши цилиндре – потертом и в то же время блестящем. Подбежав к комиссару, он заговорил с ним тихим голосом. То был, конечно, агент службы безопасности, который пришел отчитаться в каком-то срочном задании.
Во время этой беседы господин Мифруа не сводил глаз с Рауля. И наконец сказал, обращаясь к нему:
– Сударь, довольно разговоров о Призраке. Поговорим лучше немного о вас, если вы не против; сегодня вечером вы собирались увезти мадемуазель Кристину Дое?
– Да, господин комиссар.
– После выхода из театра?
– Да, господин комиссар.
– Все необходимые меры были для этого приняты?
– Да, господин комиссар.
– Экипаж, на котором вы приехали, должен был увезти вас обоих. Кучер предупрежден, путь следования определен заранее. Мало того! На каждом перегоне вас ждали сменные лошади.
– Все верно, господин комиссар.
– А между тем ваш экипаж по-прежнему на месте, у «Ротонды», в ожидании ваших распоряжений, не так ли?
– Да, господин комиссар.
– Вы знали, что рядом с вашим экипажем стояли три других?
– Я не обратил внимания…
– Это были экипаж мадемуазель Сорелли, которому не нашлось места в административном дворе, экипажи Карлотты и вашего брата, господина графа де Шаньи…
– Возможно…
– А вот вам совершенно точные сведения: ваш собственный экипаж, экипажи Сорелли и Карлотты по-прежнему стоят вдоль тротуара у «Ротонды»… Зато экипажа графа де Шаньи там больше нет…
– Не вижу никакой связи, господин комиссар…
– Простите! Разве господин граф не был против вашего брака с мадемуазель Дое?
– Это касается только моей семьи.
– Вот вы и ответили на мой вопрос. Он был против. И посему вы собирались увезти Кристину Дое подальше от возможных посягательств вашего брата. Так вот, господин де Шаньи, позвольте сообщить вам, что брат оказался проворнее вас!.. Это он увез Кристину Дое!
– О! – простонал Рауль, хватаясь рукой за сердце. – Не может быть… Вы в этом уверены?
– Сразу же после исчезновения артистки, организованного при пособничестве лиц, которых нам предстоит установить, он бросился в экипаж, который пустился вскачь через весь Париж.
– Через весь Париж? – прохрипел бедный Рауль. – Что вы подразумеваете, когда говорите – через весь Париж?
– И выехал за пределы Парижа…
– За пределы Парижа, по какой же дороге?
– По дороге на Брюссель.
Сиплый крик срывается с уст несчастного молодого человека.
– О! – вопит он. – Клянусь, я их догоню!.. – И Рауль опрометью выскакивает из кабинета.
– Обязательно доставьте их к нам! – радостно кричит ему вдогонку комиссар. – Пожалуй, это будет получше, чем Ангел музыки!
После чего господин Мифруа поворачивается к своим оторопевшим слушателям и преподносит им маленький, но далеко не детский урок по поводу нравов добросовестной полиции:
– Я понятия не имею, действительно ли господин граф де Шаньи похитил Кристину Дое, но мне необходимо это знать, и, думаю, никто лучше его брата виконта не сможет просветить меня на сей счет… В настоящий момент он мчится, летит! Он – главный мой помощник! Таково, господа, искусство полиции, которое почитают столь сложным и которое на деле оказывается весьма простым, стоит только сообразить, как лучше взяться за дело, особенно если задачи полиции поручается выполнять людям не из ее рядов!
Однако полицейский комиссар господин Мифруа, пожалуй, был бы менее доволен собой, если бы узнал, что стремительный бег его посланника был остановлен сразу же, как только тот вошел в первый коридор, свободный между тем от толпы разогнанных любопытствующих. Коридор казался безлюдным.
И все-таки дорогу Раулю преградила огромная тень.
– Куда вы так торопитесь, господин де Шаньи? – спросила тень.
Рауль в нетерпении поднял голову и узнал недавнюю каракулевую шапочку. Он остановился.
– Опять вы! – воскликнул он взволнованно. – Вы знаете секреты Эрика и не хотите, чтобы я разглашал их. Так кто же вы все-таки?
– Вам это прекрасно известно!.. Я – Перс! – произнесла тень.
Виконт и Перс
Тут Рауль вспомнил, что как-то во время спектакля брат показал ему эту непонятную личность, о которой никто ничего не знал; в другой раз ему сказали, что это Перс и что живет он в маленькой обветшалой квартирке на улице Риволи.
Человек в каракулевой шапочке с лицом цвета черного дерева и нефритовыми глазами наклонился к Раулю.
– Надеюсь, господин де Шаньи, вы не выдали секрета Эрика?
– А почему я должен оберегать это чудовище, сударь? – высокомерно возразил Рауль, пытаясь отделаться от назойливого человека. – Он что, ваш друг?
– Надеюсь, вы ничего не сказали об Эрике, сударь, потому что секрет Эрика – это секрет Кристины Дое! И говорить об одном – значит говорить и о другой тоже!
– О, сударь! – возразил Рауль, теряя терпение. – Судя по всему, вы в курсе многих интересующих меня вещей, однако у меня нет времени слушать вас!
– Еще раз, господин де Шаньи, куда вы так торопитесь?
– А вы не догадываетесь? На помощь Кристине Дое…
– Тогда, сударь, оставайтесь здесь, ибо Кристина Дое здесь!..
– С Эриком?
– С Эриком!
– Откуда вы знаете?
– Я был на спектакле, никто в мире, кроме Эрика, не в силах осуществить подобное похищение!.. О! – молвил он с глубоким вздохом. – Узнаю руку чудовища!..
– Стало быть, вы его знаете?
Перс ничего не ответил, но Рауль услыхал новый вздох.
– Сударь! – сказал Рауль. – Мне неизвестны ваши намерения, но можете ли вы что-нибудь сделать для меня?.. Я хочу сказать, для Кристины Дое?
– Думаю, да, господин де Шаньи, потому-то я и остановил вас.
– Что вы можете?
– Попробовать проводить вас к ней… и к нему!
– Сударь! К этому-то я безуспешно и стремился весь вечер. Но если вы окажете мне подобную услугу, жизнь моя принадлежит вам!.. Сударь, еще одно слово: полицейскому комиссару только что стало известно: Кристину Дое похитил мой брат, граф Филипп…
– О, господин де Шаньи, я в это не верю.
– Это невозможно, не так ли?
– Не знаю, возможно ли это, но бывают разные способы похищения, а граф Филипп, насколько мне известно, никогда не занимался феерией.
– Ваши доводы более чем убедительны, сударь, а я просто безумец!.. О, сударь, бежим! Бежим! Я полностью полагаюсь на вас!.. Как я могу не верить вам, если никто, кроме вас, не верит мне? Когда вы единственный, кто не улыбается, услышав имя Эрик! – С этими словами молодой человек, руки которого горели от возбуждения, невольно взял Перса за руки. Они были ледяные.
– Тише! – сказал Перс, останавливаясь и прислушиваясь к отдаленным шумам театра и малейшим поскрипываниям в стенах и соседних коридорах. – Не станем больше произносить этого слова здесь. Будем говорить: Он; так меньше шансов привлечь его внимание…
– Значит, вы думаете, он где-то поблизости?
– Все может статься, сударь… Если только в настоящий момент он со своей жертвой не в Озерном жилище.
– Ах, вы тоже, тоже знаете это жилище?
– А если он не там, то может оказаться в этой стене, в полу, на потолке! Да мало ли где?.. Глаз – в этой замочной скважине!.. Ухо – вот в этой балке!.. – И Перс, попросив Рауля шагать неслышно, потащил его в коридоры, которых молодой человек ни разу не видел, даже когда Кристина водила его по здешним лабиринтам. – Только, – проговорил Перс, – только бы Дарий пришел!
– Кто такой Дарий? – спросил на бегу молодой человек.
– Дарий – мой слуга…
В эту минуту они находились в центре настоящей пустынной площади, огромной комнаты, едва освещавшейся слабым огоньком. Остановив Рауля, Перс тихо, так тихо, что Рауль с трудом расслышал его, спросил:
– Что вы сказали комиссару?
– Я сказал ему, что похититель Кристины Дое – Ангел музыки, он же Призрак Оперы и что его настоящее имя…
– Тсс!.. И комиссар поверил вам?
– Нет.
– Он придал вашим словам хоть какое-то значение?
– Никакого!
– Он вас принял отчасти за сумасшедшего?
– Да.
– Тем лучше! – вздохнул Перс.
И бег продолжался.
Поднявшись вверх и спустившись вниз по нескольким неведомым Раулю лестницам, мужчины оказались напротив двери, которую Перс открыл маленькой отмычкой, вытащив ее из кармана жилета.
Перс, как и Рауль, был во фраке. Но если на Рауле был цилиндр, то, как я уже отмечал, Перс носил каракулевую шапочку. Это было нарушением правил этикета, принятых за кулисами, где цилиндр обязателен, однако иностранцам, как известно, во Франции позволено все: англичанам – дорожная фуражка, персам – каракулевая шапочка.
– Сударь, – сказал Перс, – цилиндр будет вам помехой во время экспедиции, которую мы намерены предпринять. Лучше оставить его в гримерной.
– В какой гримерной? – спросил Рауль.
– Ну конечно, в гримерной Кристины Дое! – И Перс, пропустив Рауля в дверь, которую только что открыл, показал ему напротив гримерную актрисы.
Рауль и не знал, что к Кристине можно пройти иным путем, чем тот, которым он привык следовать. Обычно он оказывался в конце коридора, который ему приходилось преодолевать целиком, прежде чем постучать в дверь гримерной.
– О, сударь! Вы хорошо знаете Оперу!
– Не так хорошо, как он! – скромно заметил Перс. И подтолкнул молодого человека в гримерную Кристины.
Там все было в таком же точно виде, в каком оставил Рауль некоторое время назад.
Закрыв за собой дверь, Перс направился к очень тонкой перегородке, отделявшей гримерную от просторного чулана, служившего ее продолжением. Прислушавшись, он громко кашлянул.
И тотчас в чулане что-то зашевелилось, а через несколько секунд в дверь гримерной постучали.
– Входи! – сказал Перс.
Вошел мужчина в длинной накидке и тоже в каракулевой шапочке.
Поклонившись, он достал из-под накидки богато украшенную чеканкой шкатулку. Поставив ее на туалетный столик, он снова поклонился и направился к двери.
– Никто не видел, как ты входил, Дарий?
– Нет, хозяин.
– Чтобы никто не видел, как ты выходишь.
Слуга выглянул в коридор и молниеносно исчез.
– Сударь, – сказал Рауль, – я не могу отделаться от одной мысли, дело в том, что нас могут застать здесь, и это нам, конечно, помешает. Комиссар не замедлит явиться сюда с обыском.
– Бояться следует не комиссара.
Перс открыл шкатулку. Там лежала пара длинных пистолетов с великолепным узором и орнаментом.
– Сразу же после похищения Кристины Дое я дал знать моему слуге, чтобы он принес это оружие, сударь. Оно мне известно с давних пор, более надежного не существует.
– Вы собираетесь драться на дуэли? – спросил молодой человек, удивленный появлением подобного снаряжения.
– Нам в самом деле предстоит дуэль, сударь, – отвечал тот, проверяя запас своих пистолетов. – И какая дуэль! – С этими словами он протянул Раулю пистолет и добавил: – На этой дуэли нас будет двое против одного, но будьте готовы ко всему, сударь, ибо не скрою от вас: нам придется иметь дело с самым опасным противником, какого только можно себе представить. Но вы ведь любите Кристину Дое, не так ли?
– Люблю ли я ее, сударь! Но вы, вы-то ее не любите, так объясните же, почему я вижу вас готовым рисковать ради нее жизнью!.. Вы наверняка ненавидите Эрика!
– Нет, сударь, – печально сказал Перс, – такого чувства я к нему не питаю. Если бы я ненавидел его, он давно уже перестал бы творить зло.
– Он причинил зло вам?..
– Я простил ему зло, которое он причинил мне.
– Нельзя не подивиться, – продолжал молодой человек, – слушая, как вы говорите об этом человеке! Вы считаете его чудовищем, упоминаете о его преступлениях, он причинил вам зло, и в то же время вы испытываете по отношению к нему неслыханную жалость – вроде Кристины, признаюсь, это приводило меня просто в отчаяние!..
Перс не ответил. Взяв табурет, он поставил его у стены напротив большого зеркала, занимавшего всю противоположную часть стены. Затем влез на табурет и, уткнувшись носом в обои, которыми была оклеена стена, стал, казалось, искать что-то.
– Ну что же, сударь! – сказал Рауль, сгорая от нетерпения. – Я жду вас! Пошли!
– Куда? – спросил тот, не поворачивая головы.
– Навстречу чудовищу! Пора спускаться! Разве вы не говорили, что знаете способ?
– Я ищу его. – И Перс снова стал водить носом вдоль стены. – Ну вот! – воскликнул вдруг человек в шапочке. – Нашел! – И он нажал пальцем на угол рисунка обоев у себя над головой. Затем повернулся и спрыгнул с табурета. – Через полминуты, – молвил он – мы будем на пути к нему! – И, подойдя к большому зеркалу, стал трогать его. – Нет! Пока еще не поддается… – прошептал он.
– О! Мы выйдем через зеркало! – обрадовался Рауль. – Как Кристина!..
– Стало быть, вы знаете, что Кристина Дое вышла через это зеркало?
– На моих глазах, сударь!.. Я спрятался вон там, за занавеской туалетной комнаты, и видел, как она исчезла, но не через зеркало, а в зеркале!
– И что же вы сделали?
– Я решил, сударь, что это обман зрения, безумный сон!
– Или какая-нибудь новая фантазия Призрака, – усмехнулся Перс. – Ах, господин де Шаньи, – продолжал он, не отнимая руки от зеркала, – если бы мы имели дело с Призраком! Мы могли бы преспокойно оставить в шкатулке наши пистолеты!.. Положите ваш цилиндр, прошу вас, вот так, а теперь прижмите поплотнее отвороты фрака к манишке, как я, закройте лацканы, поднимите воротник… Мы должны стать по возможности невидимыми… – И добавил после недолгого молчания, продолжая давить на зеркало: – Когда нажимаешь на пружину внутри гримерной, противовес действует не сразу. Другое дело, если находишься за стеной и можешь непосредственно приводить в движение противовес. Тогда зеркало поворачивается мгновенно и уносится с безумной скоростью.
– Что за противовес? – спросил Рауль.
– Тот самый, благодаря которому вся эта часть стены приподнимается на своей оси! Надеюсь, вы понимаете, что оно перемещается не само по себе и не по мановению волшебной палочки! – И Перс, прижимая к себе одной рукой Рауля, другой (в которой держал пистолет) продолжал нажимать на зеркало. – Сейчас вы увидите, если будете внимательны, как зеркало приподнимется на несколько миллиметров, а потом передвинется на несколько миллиметров слева направо. Тогда оно окажется на оси и повернется. Трудно себе даже представить, чего можно добиться с помощью противовеса! Ребенок своим пальчиком может заставить повернуться дом, если часть стены, какой бы тяжелой она ни была, встанет при помощи противовеса на ось, при соблюдении равновесия она окажется не тяжелее юлы на своем острие.
– Оно не поворачивается! – в нетерпении говорит Рауль.
– Подождите же! Потерпите, сударь! Механизм, видимо, заржавел, или пружина больше не работает. – Перс нахмурился в тревоге. – К тому же, – добавил он, – тут может оказаться и другое.
– Что же, сударь?
– Возможно, он просто-напросто перерезал веревку противовеса и вырубил всю систему…
– Почему? Ведь он не знает, что мы собираемся спуститься здесь?
– Но, видимо, догадывается, ибо ему известно, что я знаю систему.
– Это он вам ее показал?
– Нет! Я сам искал, следуя за ним по пятам после его таинственных исчезновений, и нашел. О, это простейшая система потайных дверей! Старинный механизм, такой же древний, как священные храмы в Фивах с сотней дверей, как тронный зал Экбатаны, как зал оракула в Дельфах.
– Зеркало не поворачивается!.. Сударь, а как же Кристина!.. Кристина!..
– Мы сделаем все, что в человеческих силах!.. – холодно заметил Перс. – Но может статься, что он остановит нас с первых же шагов!
– Значит, он – хозяин этих стен?
– Он приказывает стенам, дверям, люкам. У нас его называли именем, которое означает: любитель люков.
– Кристина мне говорила то же самое, с такой же таинственностью, наделяя его такой же страшной силой!.. Все это мне кажется невероятным!.. Почему эти стены повинуются только ему, ему одному? Разве он их возводил?
– Да, сударь!
И так как Рауль смотрел на него в замешательстве, Перс подал ему знак молчать, потом показал на зеркало… Отражение дрогнуло. По их двойному отражению пробежало что-то вроде ряби, и снова все застыло.
– Вы же видите, сударь, оно не поворачивается! Поищем другую дорогу!
– Других дорог сегодня нет! – заявил Перс удивительно мрачным голосом. – А теперь внимание! И будьте готовы стрелять!
Сам он направил свой пистолет на зеркало. Рауль повторил его движение. Свободной рукой Перс прижал молодого человека к своей груди, и зеркало внезапно повернулось, вспыхнув пересечением слепящих огней; оно повернулось, наподобие тех крутящихся дверей, разделенных на отсеки, которые ведут теперь в общественные залы… Оно повернулось, увлекая Рауля с Персом своим неодолимым движением, бросив их внезапно из яркого света в глубочайший мрак.
В подвалах Оперы
– Рука поднята, готова стрелять, – торопливо повторил спутник Рауля.
За их спиной стена продолжала поворачиваться и, сделав полный круг, снова закрылась.
Стараясь не дышать, мужчины замерли на несколько минут.
Во мраке царила ничем не нарушаемая тишина.
Наконец Перс решил шевельнуться, и Рауль услышал, как он опускается на колени и на ощупь что-то ищет во тьме руками.
Внезапно потемки перед молодым человеком прорезал слабый луч потайного фонаря, и Рауль невольно отпрянул, чтобы укрыться от взгляда неведомого врага. Но тотчас понял, что свет исходит от Перса, за каждым движением которого он следил. Красный кружок скользил по переборкам вверх, вниз, кропотливо исследуя все вокруг. Переборки были поставлены справа от стены, слева от дощатой перегородки, над полом и под ним. И Рауль говорил себе, что Кристина прошла здесь в тот день, когда последовала за голосом Ангела музыки. Видимо, это был привычный путь для Эрика, когда он проходил сквозь стены, дабы поразить воображение доверчивой Кристины и заинтриговать простодушную девушку. Вспомнив слова Перса, Рауль подумал, что путь этот был загадочным образом проложен стараниями самого Призрака. Однако позже ему довелось узнать, что Эрик нашел здесь для себя готовый потайной коридор, о существовании которого долгое время знал только он один. Коридор был создан во время Парижской Коммуны, чтобы позволить тюремщикам препровождать своих узников прямо в темницы, помещавшиеся в подвалах, ибо коммунары захватили здание сразу же после 18 марта и устроили на самом верху отправную площадку для воздушных шаров, которые разносили по департаментам их пламенные воззвания, а в самом низу – государственную тюрьму.
Опустившись на колени, Перс поставил фонарь на землю. Похоже, он торопливо что-то искал в полу и вдруг заслонил собой свет.
Тут Рауль услышал легкий щелчок и увидел в полу коридора слабо светившийся квадрат. Казалось, внезапно открылось окно в еще освещенные подвалы Оперы. Рауль уже не видел Перса, зато почувствовал его рядом с собой и уловил его дыхание.
– Следуйте за мной и делайте то, что буду делать я.
Рауль направился вслед за ним к светящемуся «окну». Он увидел, что Перс опять опустился на колени и, повиснув на руках в «окне», соскользнул вниз. Пистолет в это время Перс держал в зубах.
Любопытная вещь: виконт полностью доверял Персу. Несмотря на то что он решительно ничего не знал о нем и по большей части его слова лишь добавляли мрака этой истории, молодой человек без колебаний поверил, что в столь решающую минуту Перс на его стороне против Эрика. Похоже, он с искренним волнением говорил о чудовище; проявленный им интерес не вызвал у Рауля подозрений. И наконец, если бы Перс замышлял что-то недоброе против Рауля, то не вооружил бы его собственными руками. Да и потом, говоря откровенно, главное – во что бы то ни стало добраться до Кристины! У Рауля не было выбора. Если бы он заколебался, пускай даже засомневавшись в благих намерениях Перса, то счел бы себя последним трусом.
Опустившись на колени, Рауль повис на руках.
– Прыгайте! – услышал он и упал на руки Перса, который сразу же приказал ему броситься плашмя на пол, закрыл над их головами люк, причем Рауль не заметил, каким образом, и лег рядом с виконтом.
Рауль хотел задать ему вопрос, но рука Перса закрыла ему рот, и до него тотчас донесся знакомый голос: это был полицейский комиссар, который допрашивал его недавно.
Рауль с Персом находились за перегородкой, полностью скрывавшей их. Рядом маленькая лестница вела в комнату, где комиссар, видимо, прохаживался, задавая вопросы, так как вместе с шумом его шагов слышался и его голос.
Вокруг разливался слабый свет, но, выбравшись из густой темноты, царившей в потайном коридоре наверху, Рауль без труда различал форму предметов.
И не мог удержать глухого возгласа, ибо заметил три трупа.
Первый был распростерт на узенькой площадке маленькой лестницы, поднимавшейся к двери, за которой раздавался голос комиссара; два других, раскинув руки, скатились к подножию лестницы. Просунув пальцы через скрывавшую его перегородку, Рауль мог бы коснуться руки одного из этих несчастных.
– Тихо! – снова едва слышно выдохнул Перс. Он тоже заметил распростертые тела и все объяснил одним словом: – Он!
Голос комиссара стал громче. Он требовал от управляющего подробных объяснений по поводу системы освещения. Следовательно, комиссар находился в «органном регистре» или в прилегающих помещениях. В противоположность тому, что могут подумать, в особенности когда речь идет об оперном театре, «органный регистр» предназначался отнюдь не для воспроизведения музыки.
В то время электричество использовалось лишь для отдельных, крайне редких сценических эффектов и звонков. Огромное здание и сама сцена освещались еще газом, при помощи водородного газа регулировалось и менялось освещение декораций, для чего существовало специальное приспособление, которое из-за множества трубочек получило название «органного регистра».
Рядом с суфлерской ямой была устроена ниша для старшего осветителя, дававшего оттуда указания своим подчиненным и следившего за их исполнением. В этой-то нише и находился во время всех спектаклей Моклер.
Итак, Моклера в нише не оказалось, так же как не оказалось на местах и его подчиненных.
– Моклер! Моклер!
Голос управляющего гремел теперь и в подвалах, и в тамбуре. Но Моклер не отзывался.
Мы уже говорили, что одна дверь выходила на маленькую лестницу, которая шла из второго подвального этажа. Комиссар толкнул ее, но она не открылась.
– Так-так! – проворчал он. – Послушайте, господин управляющий, я не могу открыть эту дверь… с ней всегда бывают затруднения?
Управляющий мощным ударом плеча толкнул дверь. И заметил, что вместе с ней толкает человеческое тело; он не мог удержаться от крика, сразу узнав это тело:
– Моклер!
Все, кто сопровождал комиссара во время визита в «органный регистр», в тревоге подались вперед.
– Несчастный! Он мертв! – простонал управляющий.
Но комиссар Мифруа, который привык ничему не удивляться, уже склонился над этим большим телом.
– Нет, – сказал он, – просто мертвецки пьян! А это не одно и то же.
– Такое с ним первый раз, – заявил управляющий.
– Значит, ему дали наркотик. Это вполне вероятно. – Распрямившись, Мифруа спустился еще на несколько ступенек. – Взгляните! – воскликнул он.
При свете красного сигнального огонька внизу лестницы виднелись еще два распростертых тела. Управляющий узнал помощников Моклера. Спустившись, Мифруа осмотрел их.
– Они спят глубоким сном, – сказал он. – Очень любопытное дело! У нас нет больше оснований сомневаться: налицо вмешательство неизвестного в дела осветителей. И этот неизвестный работал, безусловно, на похитителя!.. Но что за странная идея похищать артистку со сцены!.. Это значит обрекать себя на дополнительные трудности, или я ничего в этом не смыслю! Пускай приведут ко мне доктора театра. – И господин Мифруа еще раз повторил: – Любопытное, очень любопытное дело! – Затем, повернувшись, он обратился к людям, которых Рауль с Персом видеть не могли. – Что вы об этом скажете, господа? – спросил комиссар. – Только вы отмалчиваетесь. А между тем должно же у вас быть какое-то мнение…
Тут над лестницей Рауль с Персом заметили растерянные лица двух директоров – на лестничной площадке только лица и были видны – и услышали взволнованный голос Моншармена:
– Господин комиссар, здесь творятся вещи, которых мы сами не можем объяснить.
И оба лица исчезли.
– Спасибо за сведения, господа, – с насмешкой отозвался Мифруа.
Зато управляющий, подперев подбородок ладонью правой руки, что было признаком глубокого раздумья, заметил:
– Моклер не в первый раз засыпает в театре. Помнится, я застал его как-то вечером в маленькой нише, он храпел рядом со своей табакеркой.
– Давно это было? – спросил господин Мифруа, тщательно протирая стекла своего пенсне, ибо господин комиссар был близорук, такое случается и с самыми прекрасными в мире глазами.
– Боже мой!.. – воскликнул управляющий. – Нет, совсем недавно… Постойте!.. Это было в тот вечер… Ну конечно… Это было в тот вечер, когда Карлотта, как вам прекрасно известно, господин комиссар, всех поразила своим кваканьем!..
– Стало быть, в тот вечер, когда Карлотта сфальшивила? – И, снова водрузив на нос пенсне с прозрачными стеклами, господин Мифруа пристально посмотрел на управляющего, словно хотел разгадать его мысли. – Так Моклер нюхает табак?.. – спросил он небрежно.
– Да, господин комиссар… Посмотрите, как раз на этой дощечке его табакерка. Он большой любитель нюхательного табака!
– Я тоже! – сказал господин Мифруа и положил табакерку себе в карман.
Рауль с Персом – их присутствия никто не заподозрил – стали свидетелями того, как машинисты сцены уносили три тела. Комиссар последовал за ними, все остальные тоже поднялись вместе с ним. Еще несколько минут слышны были их шаги на сцене.
Когда они остались одни, Перс подал Раулю знак подняться. Тот повиновался; но так как он не вскинул сразу пистолет, как это не преминул сделать его спутник, то Перс еще раз посоветовал молодому человеку ни в коем случае не опускать руку.
– Но от этого только рука устает без надобности! – прошептал Рауль. – И если придется стрелять, я уже за себя не отвечаю!
– Тогда возьмите оружие в другую руку! – пошел на уступку Перс.
– Я не умею стрелять левой рукой!
На что Перс ответил весьма странным заявлением, которое, безусловно, ни в коей мере не могло прояснить ситуацию, и без того туманную для молодого человека:
– Речь не о том, чтобы стрелять левой или правой рукой; просто надо одну какую-нибудь руку держать полусогнутой, словно она готова нажать на спусковой крючок пистолета; сам же пистолет можете, в конце концов, положить себе в карман. – И еще он добавил: – Это надо понять раз и навсегда, иначе я ни за что не отвечаю! Тут вопрос жизни и смерти. А теперь молча следуйте за мной!
В тот момент они находились во втором подвальном этаже; при свете нескольких разбросанных там и сям неподвижных огоньков в их стеклянном заточении Рауль лишь смутно различал ничтожную часть этой необычайной бездны – сказочно прекрасной и детски простой, забавной, вроде кукольного театра, и устрашающей, словно бездонная пропасть, – каковой являются подвалы под сценой Оперы.
Подвальных этажей пять, и они огромны. Они воспроизводят сцену во всех плоскостях с ее люками и их креплениями. Только вместо пазов там рельсы. Поперечные конструкции поддерживают люки с креплениями. Столбы на чугунных или каменных цоколях в виде песочниц или «цилиндров» образуют ряд ферм, дающих возможность для разных постановочных комбинаций и трюков. Механизмам этим придают определенную устойчивость, соединяя их посредством железных крюков в зависимости от требований момента. Лебедки, барабаны, противовесы в изобилии разбросаны по всем подвальным этажам. С их помощью передвигаются большие декорации, производится смена видов, осуществляется внезапное исчезновение сказочных персонажей. Именно с подвалами связано интереснейшее исследование творения Гарнье господами X., Y., Z., ведь это в подвалах хилых и немощных превращают в прекрасных всадников, а безобразных ведьм – в лучезарных юных фей. Сатана появляется из подвалов и проваливается туда же. Оттуда вырывается адский огонь, там размещается бесовский хор.
…И призраки разгуливают там, как у себя дома.
Рауль следовал за Персом, в точности выполняя его указания и не вникая в смысл рекомендованных им жестов, убеждая себя, что вся надежда теперь только на него.
…Что бы он делал без своего спутника в этом страшном лабиринте?
На каждом шагу ему приходилось бы останавливаться из-за невообразимого переплетения балок и тросов. Не в силах выбраться оттуда, он наверняка запутался бы в этой гигантской паутине.
А если бы даже ему удалось пройти сквозь сеть проволоки и противовесов, непрестанно возникавших перед ним, не грозила ли ему опасность свалиться в одну из тех ям, что разверзались иногда у него под ногами, разглядеть которые из-за темного дна не было никакой возможности!
…Они спускались…
Спускались все глубже и глубже.
Теперь они находились в третьем подвальном этаже.
И путь их по-прежнему освещался каким-нибудь далеким огоньком…
Чем дальше они спускались, тем больше предосторожностей, казалось, принимал Перс… Он непрестанно оборачивался к Раулю, советуя ему не отступать от правила и показывая, как сам держит руку, теперь безоружную, но готовую нажать на спусковой крючок воображаемого пистолета.
Внезапно звучный голос пригвоздил их к месту. Кто-то над ними кричал что есть мочи:
– Всех закрывальщиков дверей на сцену! Их спрашивает комиссар полиции.
…Послышались шаги, и тени слились с темнотой. Перс увлек Рауля за стропильную ферму. Они видели идущих мимо согбенных годами и прежним бременем оперных декораций стариков. Некоторые едва передвигали ноги, другие же, нагнув голову и вытянув вперед руки, искали по привычке двери, которые следовало закрыть.
Ибо это были закрывальщики дверей. Милосердная дирекция сжалилась над изнуренными работой бывшими машинистами сцены и сделала их закрывальщиками дверей внизу и вверху. Они без конца сновали то вверх, то вниз со сцены, закрывая двери, в те времена – ибо с тех пор, думается, все они вымерли – их называли еще «охотниками за сквозняками».
Сквозняки, как известно, очень опасны для голоса.
Перс с Раулем втайне поздравили друг друга с таким поворотом дел, ибо это избавляло их от неудобных свидетелей, ведь кое-кто из закрывальщиков дверей, не имея ни занятий, ни определенного места жительства, оставался на ночь по лености или по необходимости в Опере. Можно было наткнуться на них, разбудить, навлечь на себя неприятности. Расследование господина Мифруа на какое-то время предохраняло Перса с Раулем от нежелательных встреч.
Однако недолго они наслаждались своим одиночеством. Другие тени спускались теперь тем же путем, каким поднимались закрывальщики дверей. Каждая такая тень несла перед собой фонарик, размахивая им во все стороны и то поднимая, то опуская его, тщательно исследуя все вокруг, вероятно, они искали что-то или кого-то.
– Черт! – прошептал Перс. – Не знаю, что они ищут, но вполне может статься, что найдут они нас. Бежим скорее!.. Рука в положении боевой готовности, сударь!.. Согнем ее побольше, вот так!.. Она должна быть на уровне глаз, как будто вы стреляетесь на дуэли и ждете команды «огонь!»… А пистолет оставьте в кармане! Скорее вниз! – Он тащил Рауля в четвертый подвальный этаж. – На уровне глаз, помните, это вопрос жизни и смерти!.. Вот сюда, на лестницу! – Они добрались до пятого подвального этажа… – Ах, какая дуэль, сударь, какая дуэль!..
Очутившись в пятом подвальном этаже, Перс перевел дух… Казалось, он чувствовал себя несколько в большей безопасности, чем только что, когда оба они останавливались в третьем подвальном этаже, но тем не менее не изменил положения руки!..
Рауль не переставал удивляться – не позволяя себе, впрочем, больше ни одного замечания, ни единого! Да и момент для этого, по правде говоря, был неподходящий – так вот повторяю, он не переставал удивляться, но молча, необычайной концепции самозащиты, состоявшей в том, чтобы не вынимать пистолета из кармана, в то время как рука оставалась в положении боевой готовности, как будто, следуя правилам дуэли тех времен, все еще держала пистолет на уровне глаз в ожидании команды «огонь!».
И поэтому Рауль полагал себя вправе думать следующее: «Я прекрасно помню, как он сказал мне: «Это пистолеты, в которых я абсолютно уверен». Из чего, как ему казалось, следовало сделать логический вывод в виде вопроса: «Зачем надо быть уверенным в пистолете, которым не считаешь нужным воспользоваться?»
Но Перс прервал его бесполезные размышления. Сделав ему знак оставаться на месте, он поднялся на несколько ступенек лестницы, с которой они только что спустились. Но вскоре поспешно вернулся к Раулю.
– Какие же мы глупцы, – шепнул он ему, – еще немного, и мы избавимся от теней с фонариками. Зато явятся с обходом пожарные[12].
Мужчины оставались настороже по крайней мере долгих пять минут, затем Перс снова потащил Рауля к лестнице и вдруг жестом опять приказал ему замереть.
…Перед ними что-то шевелилось в темноте.
– Ничком на землю! – прошептал Перс.
Оба приникли к земле.
И слава богу, что успели.
…Мимо прошествовала тень: на этот раз без всякого фонарика, просто тень во тьме.
Она прошла совсем рядом, едва не задев их.
Они почувствовали на лицах горячее веяние ее плаща.
Ибо сумели-таки разглядеть, что тень в мягкой фетровой шляпе на голове целиком была закутана в плащ.
…Она удалилась, стараясь держаться поближе к стене, а иногда по углам ударяла ногой в стены.
– Уф! – вздохнул Перс. – Счастливо отделались. Эта тень меня знает и дважды уже отводила в директорский кабинет.
– Это кто-то из полиции театра? – спросил Рауль.
– Гораздо хуже! – без всяких объяснений отвечал Перс[13].
– Это не… он?
– Он?.. Если только он не подойдет сзади, мы обязательно увидим его горящие золотые глаза!.. Это в какой-то мере наша сила в темноте. Но он может подойти сзади, крадучись… И тогда нам конец, если мы не будем все время держать руки впереди на уровне глаз, в боевой готовности, словно собираемся стрелять!
Не успел Перс закончить своего объяснения их «линии поведения», как перед ними возник фантастический лик.
…Лик – целиком лицо, а не только два золотых глаза.
…Да, светящееся лицо, лик в огне!
И этот огненный лик приближался на высоте человеческого роста, но без туловища!
Лик этот излучал огонь.
Он являлся в ночи, словно пламя в виде человеческого лица.
– О! – сквозь зубы проговорил Перс. – Я в первый раз его вижу!.. Лейтенант-пожарный вовсе не был безумным! Он действительно его видел!.. Что это за пламя? Это явно не он! Но, возможно, именно он посылает нам его!.. Осторожно!.. Осторожно!.. Ради всего святого, рука на уровне глаз!.. На уровне глаз!
Огненный лик, казавшийся исчадием ада, – охваченный пламенем демон, – двигался навстречу оторопевшим мужчинам на высоте человеческого роста, но без туловища.
– Может, он посылает к нам этот лик спереди, чтобы застать нас врасплох сзади или с боков, с ним никогда не знаешь, чего ждать!.. Мне известны многие его трюки!.. Но этот!.. Этот… Такого я еще не видел!.. Бежим!.. Из предосторожности!.. Ясно?.. Из предосторожности!.. Рука на уровне глаз.
И оба бросились бежать по длинному подземному коридору, открывавшемуся перед ними.
Через несколько секунд такого бега, показавшихся им долгими, долгими минутами, они остановились.
– Правда, – заметил Перс, – он редко сюда приходит! Эта сторона его не касается!.. Здесь нет дороги к озеру и Озерному жилищу!.. Но быть может, ему известно, что мы гонимся за ним!.. Хотя я обещал оставить его в покое и не вмешиваться больше в его дела. – С этими словами Перс обернулся, Рауль тоже последовал его примеру.
И тут они снова заметили у себя за спиной огненную голову. Она не отставала от них… И видимо, тоже бежала, и даже быстрее, чем они, ибо им показалось, что она стала ближе.
В то же время они начали различать какой-то шум, угадать происхождение которого были не в силах; зато они поняли, что шум этот вроде бы перемещался, приближаясь вместе с огнеликим человеком. На них надвигался скрежет или, вернее, поскрипывание, словно тысячи ногтей терлись о классную доску, чудовищно-невыносимый скрип, похожий на тот, что производит иногда маленький камешек, попавший внутрь палочки мела и скребущий по классной доске.
Они отступили еще, однако лик-пламя надвигался, надвигался, догоняя их.
Теперь явственно проступали его черты. Глаза были круглые и неподвижные, нос немного кривой, рот большой, с отвислой нижней губой, образующей полукруг; все это напоминало, пожалуй, глаза, нос и губу луны, когда она бывает кроваво-красного цвета.
Каким образом эта красная луна скользила в потемках на уровне человеческого роста без всякой опоры, по крайней мере без туловища, которое несло бы ее? И как ей удавалось двигаться так быстро по прямой линии с ее неподвижными, такими неподвижными глазами? И все эти звуки – скрежет, хруст, поскрипывание, – сопровождавшие ее, откуда они брались?
В какой-то момент Персу с Раулем некуда стало отступать, и они распластались у стены, не зная, что с ними станет из-за этого непонятного огненного лика, но главное, из-за надвигавшегося и все усиливающегося шума, живого и кишащего, «множественного», ибо он, несомненно, состоял из сотен мелких звуков, чего-то копошащегося во тьме под головой-пламенем.
Голова-пламя приближается… вот она уже рядом вместе с сопровождающим ее шумом!.. Поравнялась с ними!..
И оба путника, прижавшись к стене, чувствуют, как от ужаса волосы дыбом встают у них на голове, ибо теперь они знают, откуда берутся тысячи звуков. Они катятся плотной массой, гонимые во тьме бесчисленными торопливыми мелкими волнами, более быстрыми, чем те, что набегают на песок во время прилива, – мелкие ночные волны пенятся под луной-головой-пламенем.
Волны ударяют путникам в ноги, захлестывая их, неудержимо поднимаясь вверх по ногам. Тут уж Рауль с Персом не могут не закричать от ужаса, страха и боли.
А кроме того, они уже не в силах по-прежнему держать руки на уровне глаз – позиция дуэли на пистолетах той эпохи перед тем, как прозвучит команда «огонь!». Их руки опускаются вниз, пытаясь отогнать набегающие блестящие островки, состоящие из мелких острых штучек, и сами волны, кишащие лапками, когтями, коготками и зубами.
Да-да, Рауль с Персом почти теряют сознание вроде лейтенанта-пожарного Папена. Но в ответ на их вопль голова-огонь поворачивается в их сторону.
– Не двигайтесь! – говорит она. – Не двигайтесь!.. А главное, не идите следом за мной!.. Я – крысолов!.. Дайте мне пройти с моими крысами-мышками!..
И вдруг голова-огонь исчезла, растворилась во мраке, зато коридор впереди нее осветился – результат простейшего маневра с потайным фонарем, совершенного крысоловом. Сначала, чтобы не распугать бегущих крыс, он направил фонарь на себя, осветив собственную голову; теперь же, чтобы ускорить их бег, он освещает черное пространство перед ними. И вот уже он сам устремляется вперед, увлекая за собой потоки с писком бегущих крыс, все это бесчисленное множество звуков.
Освободившись от них, Перс с Раулем вздыхают с облегчением, хотя дрожь все еще пробирает их.
– Мне следовало вспомнить, что Эрик говорил мне о крысолове, только не сказал, что тот является в подобном обличье. Странно, что я никогда его не встречал[14]. А я-то было подумал, что это еще один трюк чудовища!.. – вздохнул Перс – Но нет, он никогда не бывает в этих местах!
– Значит, мы далеко от озера? – спросил Рауль. – Когда же мы доберемся туда, сударь?.. Надо идти к озеру! Надо идти к озеру!.. Мы придем на озеро и станем звать, сотрясать стены, кричать!.. Кристина услышит нас!.. Он тоже нас услышит!.. И раз вы его знаете, мы сможем поговорить с ним!
– Дитя! – сказал Перс. – Мы никогда не проникнем в Озерное жилище по озеру!
– Почему же?
– Потому что там сосредоточена вся его защита. Мне самому ни разу не довелось пристать к другому берегу!.. К тому берегу, где находится его дом!.. Сначала надо пересечь озеро, а оно хорошо охраняется!.. Боюсь, многие из тех, кого больше никто никогда не видел, – бывшие машинисты сцены, старые закрывальщики дверей – просто пытались переплыть озеро. Это ужасно. Я сам чуть было не пропал там… Если бы чудовище вовремя не узнало меня!.. Один совет, сударь, – никогда не подходите к озеру… А главное, заткните уши, если услышите поющий Голос под водой, голос Сирены.
– Но в таком случае, – в приливе ярости с горячностью возразил Рауль, – что мы здесь делаем?.. Если вы не в силах помочь Кристине, дайте мне, по крайней мере, умереть ради нее.
Перс попытался успокоить молодого человека.
– Поверьте мне, есть только один способ спасти Кристину Дое – это незаметно проникнуть в жилище чудовища.
– Мы можем на это надеяться, сударь?
– Ах, если бы у меня не было такой надежды, я не пришел бы за вами!
– А как еще можно проникнуть в Озерное жилище, если не по озеру?
– Через третий подвальный этаж, откуда нас так некстати выдворили, сударь, и куда мы сейчас же вернемся… Я скажу вам, сударь, – произнес Перс внезапно изменившимся голосом, – я скажу вам точное место. Оно находится между стропильной фермой и заброшенной декорацией «Короля Лагорского», как раз там, где умер Жозеф Бюке…
– Ах, тот самый машинист сцены, которого нашли повешенным?
– Да, сударь, – добавил странным тоном Перс, – только вот не смогли найти веревку!.. Ладно! Наберемся мужества, и в путь!.. Не забудьте поднять руку, сударь. Но где же мы все-таки?
Персу снова пришлось зажечь потайной фонарь. Он направил его яркий луч на скрещение двух обширных коридоров в правом углу, своды которых терялись в бесконечности.
– Должно быть, мы находимся в той части, которая отводится в основном для водной службы. Я не вижу ни одного огня топки.
Отыскивая дорогу, Перс пошел впереди Рауля, останавливаясь внезапно, опасаясь появления какого-нибудь водника, но вскоре им пришлось укрыться от света своего рода подземного горна, который в конце концов загасили, там Рауль узнал демонов, замеченных Кристиной во время первого путешествия в день первого своего пленения.
Итак, они постепенно спускались в сказочные подвалы сцены.
Судя по всему, они находились на очень большой глубине чана, вспомните, ведь землю копали на пятнадцать метров ниже уровня водных слоев, существовавших тогда повсюду в этой части столицы; пришлось вычерпывать воду. Воды извлекли столько, что, дабы иметь представление о выброшенной насосами водной массе, надо вообразить пространство двора Лувра и высоту, в полтора раза превышающую башни собора Парижской Богоматери. И все-таки озеро вынуждены были сохранить.
В эту минуту, дотронувшись до какой-то перегородки, Перс заметил:
– Если не ошибаюсь, это, возможно, и есть стена Озерного жилища!
Тут он постучал по стенке чана. Вероятно, читателю небесполезно будет знать, каким образом сооружались стены и дно чана.
Дабы не допустить, чтобы воды, окружающие здание, непосредственно соприкасались со стенами, поддерживающими сооружение с театральным оборудованием, совокупность конструкций которого – стропила, столярные и слесарные изделия, холст, выкрашенный темперой, – требовалось специально предохранять от сырости, архитектор счел необходимым всюду установить двойную оболочку.
На работы по ее созданию понадобился целый год. Вот о стенку этой-то первой внутренней оболочки и постучал Перс, говоря Раулю об Озерном жилище. Для любого, кто знаком с архитектурой монументального здания, жест Перса должен был означать, что таинственный дом Эрика построен внутри двойной оболочки, образованной толстой стеной, своего рода плотиной, а затем кирпичной стеной с огромным слоем цемента и еще одной стеной толщиной в несколько метров.
После слов, сказанных Персом, Рауль бросился к стенке и жадно стал вслушиваться. Но ничего не услышал… Ничего, кроме отдаленных шагов в верхней части театра.
Перс снова погасил свой фонарь.
– Осторожно! – молвил он. – Не забудьте о руке! А теперь – тихо! Сделаем еще одну попытку проникнуть к нему в дом. – И он потащил Рауля к маленькой лестнице, по которой они только что спустились.
Они опять поднялись, останавливаясь на каждой ступеньке, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к безмолвию…
Итак, Перс с Раулем вновь очутились в третьем подвальном этаже.
У стены стояло огромное полотно брошенной декорации «Короля Лагорского». А рядом с декорацией находилась стропильная ферма.
Между декорацией и стропильной фермой едва могло хватить места для одного человека. Того самого человека, которого однажды нашли повешенным, – Жозефа Бюке.
Опустившись на колени, Перс замер, прислушиваясь.
На мгновение он, казалось, заколебался, нерешительно посмотрел на Рауля, потом устремил взгляд вверх, ко второму подвальному этажу, посылавшему слабый свет фонаря сквозь щель между двумя досками. Свет этот, видимо, смущал Перса.
Наконец, покачав головой, он все-таки решился. И скользнул в узкое пространство между стропильной фермой и декорацией «Короля Лагорского».
Рауль не отставал от него ни на шаг.
Свободной рукой Перс ощупывал стенку. В какой-то момент Рауль увидел, что он изо всех сил давит на нее, как давил на стену в гримерной Кристины.
И вот один камень сдвинулся…
Теперь в стене образовалось отверстие.
На этот раз Перс достал из кармана пистолет и подал знак Раулю следовать его примеру. Он зарядил пистолет. И, не вставая с колен, отважно ринулся в отверстие, образовавшееся в стене на месте сдвинутого камня.
Раулю, стремившемуся пройти первым, пришлось смириться и следовать за ним.
Отверстие было очень узким.
Перс почти сразу же остановился.
Рауль услыхал, как он ощупывает камни вокруг себя. Затем он опять вытащил потайной фонарик и наклонился, изучая что-то внизу, но почти сразу же погасил фонарь. Рауль уловил его едва слышный шепот:
– Придется прыгать с высоты в несколько метров, но бесшумно, снимайте ботинки.
Сам Перс уже проделал эту операцию и передал свою обувь Раулю.
– Поставьте ботинки по ту сторону стены. Мы возьмем их, когда будем выходить[15].
После чего Перс продвинулся немного вперед. Затем повернулся, все еще стоя на коленях, и, оказавшись таким образом лицом к лицу с Раулем, сказал:
– Я повисну на руках, держась за край камня, и упаду в его жилище. Потом вы проделаете то же самое, что я. Не бойтесь: я поймаю вас внизу.
Перс сделал, как говорил; и вскоре Рауль услышал внизу глухой звук: это упал Перс. Молодой человек вздрогнул, испугавшись, что звук этот может выдать их присутствие.
Однако еще более страшным поводом для тревоги послужило для Рауля отсутствие вообще каких-либо звуков. Как! По словам Перса, они проникли внутрь Озерного жилища и не слышали Кристины!.. Ни крика!.. Ни зова!.. Ни стона!.. Великий Боже! Неужели они явились слишком поздно?..
Рауль подполз на коленях к стене и, уцепившись дрожащими пальцами за камень, в свою очередь упал вниз.
И тотчас почувствовал чьи-то крепкие руки.
– Это я! – шепнул Перс. – Тише!
И они замерли, прислушиваясь…
Никогда еще их не окружал столь непроницаемый мрак…
И никогда еще безмолвие не казалось таким тягостным и страшным…
Рауль вцепился ногтями в губы, чтобы не закричать: «Кристина! Это я!.. Ответь мне, если ты жива, Кристина!»
Наконец в ход снова пошел потайной фонарь. Перс направил его луч вверх, на стену над их головами, пытаясь отыскать отверстие, через которое они сюда проникли, и не находил его.
– О! – молвил он. – Камень закрылся сам собой.
И светлый луч фонарика спустился вдоль стены до самого пола.
Нагнувшись, Перс подобрал что-то, похожее на веревку, которую он разглядывал с минуту, потом в ужасе отбросил.
– Шнурок Пенджаба! – прошептал он.
– Что это? – спросил Рауль.
– Это, – с дрожью отвечал Перс, – это вполне может оказаться той самой веревкой повешенного, которую так долго искали!..
И, внезапно охваченный тревогой, он стал водить по стенам красным кружком своего фонаря. Так он высветил – вещь странная – ствол покрытого листвой дерева, казавшегося живым. Ветви дерева поднимались вдоль стены, теряясь где-то на потолке.
Из-за малой величины светового кружка поначалу трудно было разглядеть все целиком. Можно было увидеть часть ветки, листик, потом другой. А рядом – ничего, ничего, кроме светового луча, посылавшего, казалось, собственное свое отражение…
Рауль провел рукой по этому отражению…
– Боже! – молвил он. – Да это же зеркало!
– Да, зеркало! – сказал Перс с глубоким волнением в голосе. И добавил, проведя рукой, державшей пистолет, по вспотевшему лбу: – Мы попали в комнату пыток!
Интересные и поучительные злоключения Перса в подвалах Оперы
Рассказ Перса
Перс сам рассказывал, как до этой ночи он безуспешно пытался проникнуть в Озерное жилище по озеру; как обнаружил вход из третьего подвального этажа и как в конечном счете они с виконтом де Шаньи столкнулись с дьявольским изобретением Призрака в комнате пыток. Вот написанный им лично и оставленный нам рассказ (при обстоятельствах, которые будут уточнены позже), я не изменил в нем ни слова. И привожу его в подлинном виде, потому что не счел нужным умалчивать о персональных приключениях дароги[16] у Озерного дома до того, как он очутился там вместе с Раулем. И если поначалу вам покажется, что это крайне интересное повествование несколько удаляет нас от комнаты пыток, то знайте: мы скоро вернемся туда и к тому же успеем понять чрезвычайно важные вещи и найти объяснение весьма и весьма странному на первый взгляд поведению Перса.
«Это был первый раз, когда мне удалось попасть в Озерный дом, – пишет Перс. – Напрасно просил я любителя люков – именно так называли Эрика у нас в Персии – открыть мне таинственные двери. Он наотрез отказывался. В свое время мне платили, чтобы я выведал у него побольше секретов и трюков, но теперь я безуспешно пытался нарушить его запрет и проникнуть к нему. С тех пор как я отыскал Эрика в Опере, где он, похоже, поселился, я часто выслеживал его то в верхних коридорах, то в нижних, а то и на берегу озера, когда он, полагая, что вокруг никого нет, садился в маленькую лодку и причаливал прямо у противоположной стены. Но окружавшая его тьма всегда была чересчур плотной, и я не мог разглядеть, в каком точно месте он открывал дверь в стене.
Любопытство, а вместе с тем и страшная мысль, которая пришла мне в голову при воспоминании о некоторых словах, сказанных чудовищем, заставили меня однажды, когда я, в свою очередь, решил, что вокруг никого нет, броситься в маленькую лодку и направить ее к той части стены, где, я видел, исчез Эрик. Тут-то мне и пришлось иметь дело с сиреной, охранявшей подступы к его дому; ее чары чуть не стали для меня роковыми, и вот при каких обстоятельствах. Едва я успел отплыть от берега, как окружавшую меня тишину всколыхнуло что-то вроде мелодичного веяния, которое, как наваждение, незаметно обволакивало меня. Чье-то дыхание смешивалось с музыкой, и все вместе тихонько поднималось над водами озера, окутывая меня, но понять истоки подобного ухищрения я не мог. Мелодичные звуки следовали за мной, перемещались вместе со мной и были такими приятными и ласковыми, что не внушали страха. Напротив, желая приблизиться к источнику этой нежной, пленительной гармонии, я наклонился к воде, ибо нисколько не сомневался, что пение исходило от самих вод. Я находился на середине озера, и в лодке, кроме меня, никого не было; голос – ибо теперь явственно звучал некий голос – был рядом со мной, на воде.
Я наклонялся. Все больше и больше… Озеро было абсолютно спокойно, и при свете лунного луча, проскользнувшего в отдушину с улицы Скриба, я решительно ничего не увидел на его гладкой и черной, как чернила, поверхности. Я слегка потряс головой, чтобы избавиться от возможного шума в ушах, но вынужден был смириться с очевидностью: не бывает шума в ушах столь гармоничного, как это мелодичное веяние, следовавшее за мной и влекущее меня к себе.
Если бы я был суеверен и легко поддавался разным внушениям, то наверняка решил бы, что имею дело с какой-нибудь сиреной, которой вменяется в обязанность смущать путника, осмелившегося путешествовать по водам Озерного дома, но я, слава богу, родом из страны, где слишком любят все фантастическое, чтобы не знать разных его тонкостей досконально, я и сам в былые времена приложил немало стараний для их изучения: при помощи простейших трюков тот, кто знает свое ремесло, может заставить работать жалкое человеческое воображение.
И потому я нисколько не сомневался, что столкнулся с новым изобретением Эрика, но и на сей раз его изобретение оказалось столь совершенным, что, перегнувшись через борт маленькой лодочки, я не столько подчинялся желанию открыть обман, сколько стремился насладиться его очарованием.
И все склонялся, склонялся, едва не опрокинувшись.
Внезапно две чудовищных руки взметнулись из глубины вод и, схватив меня за шею, с неодолимой силой потащили в бездну. Я наверняка пропал бы, если бы не успел крикнуть, по голосу Эрик и узнал меня.
Ибо это был он, и вместо того, чтобы утопить меня, как, видимо, собирался сделать, он поплыл и осторожно вынес меня на берег.
– До чего же ты неосмотрителен, – сказал он, вставая передо мной, весь мокрый из-за этой дьявольской воды. – Зачем пытаться войти в мое жилище! Я тебя не приглашал. Я не хочу там видеть ни тебя, ни кого другого! Неужели ты спас мне жизнь для того лишь, чтобы сделать ее невыносимой? Как ни велика оказанная тобой услуга, Эрик в конце концов может и забыть о ней, а ты ведь знаешь, ничто не в силах удержать Эрика, даже сам Эрик.
Он говорил, а у меня уже не было иных желаний, кроме как узнать то, что я назвал трюком сирены. Он с удовольствием согласился удовлетворить мое любопытство: Эрик, хоть и настоящее чудовище – по крайней мере я считаю его именно таковым, ибо в Персии, увы, имел возможность видеть его в деле, – некоторыми чертами до сих пор все еще напоминает самоуверенного, тщеславного мальчишку и, удивив зрителей, более всего на свете любит доказать поистине чудесную изобретательность своего ума.
Он рассмеялся, протянув мне длинный стебель жесткого тростника.
– Никакой особой хитрости тут нет, – сказал он, – но это позволяет дышать и петь в воде! Этому трюку я научился у тонкинских пиратов, которые, скрываясь таким образом, часами могут оставаться на дне реки[17].
– Этот трюк чуть не погубил меня! – сурово сказал я ему. – А кое для кого, возможно, оказался роковым!
Он не отвечал, но стоял передо мной с хорошо знакомым мне по-детски угрожающим видом: не позволю, мол, «навязывать мне свою волю».
– Ты помнишь, что обещал мне, Эрик? Никаких преступлений больше! – прямо сказал я ему.
– Неужели я и в самом деле совершал преступления? – любезно спросил он.
– Несчастный!.. – воскликнул я. – Ты что, забыл о розовых часах Мазандерана?
– Да, – отвечал он, вдруг опечалившись, – мне хотелось бы забыть о них, но зато вспомни, как я веселил маленькую султаншу.
– Все это в прошлом, – заявил я, – но есть настоящее… И ты обязан дать мне отчет в настоящем, потому что, если бы я захотел, его у тебя не было бы!.. Помни, Эрик: я спас тебе жизнь!
И воспользовавшись тем оборотом, какой приняла наша беседа, я заговорил с ним об одной вещи, с недавних пор не дававшей мне покоя.
– Эрик, – обратился я к нему, – Эрик, поклянись мне…
– В чем? – отозвался он. – Ты прекрасно знаешь, что я не держу своих клятв. Клятвы созданы для обмана глупцов.
– Скажи мне. Мне-то ведь ты можешь сказать?
– Что же?
– А вот что!.. Люстра… люстра, Эрик?..
– Что люстра?
– Ты прекрасно заешь, что я имею в виду.
– Ах, вон оно что, – усмехнулся он, – люстра. Да, я могу тебе сказать!.. Люстра – это не я!.. Просто она была старая, вот и все.
Когда Эрик смеялся, то становился еще ужаснее. Он прыгнул в лодку с такой зловещей усмешкой, что я невольно содрогнулся.
– Совсем старая, любезный дарога. Старая-престарая люстра… Она упала сама по себе, сделав бум! А теперь позволь дать тебе один совет, дарога, ступай обсохни, если не хочешь подхватить насморк!.. И никогда не садись в мою лодку… А главное, не пытайся войти в мой дом. Я не всегда там бываю, дарога! Мне будет горько посвящать тебе мою заупокойную мессу!
Все это он говорил с усмешкой и, стоя в лодке, греб кормовым веслом, лавируя ловко, как обезьяна. Со своими золотыми глазами он походил на роковой утес, несущий гибель. И вскоре я уже не видел ничего, кроме его глаз, а потом он и вовсе растворился во тьме озера.
С этого дня я отказался от мысли проникнуть в его жилище по озеру! Разумеется, этот вход чересчур хорошо охранялся, особенно с тех пор, как он понял, что я его знаю. Но я не сомневался, что должен существовать и другой, ибо не раз видел, когда следил за ним, как Эрик исчезал в третьем подвальном этаже, однако мне не удалось понять, каким образом. Я не устану повторять, что с той поры, как вновь отыскал Эрика, обосновавшегося в Опере, я жил в постоянном страхе, опасаясь его ужасных фантазий не из-за себя, конечно; ожидая от него чего угодно, я боялся за других[18]. И когда случалось что-нибудь или происходило какое-то роковое событие, я не мог не думать: «Возможно, это Эрик!..», как другие вокруг меня говорили: «Это Призрак!..» Сколько раз я слышал эту фразу от людей, произносивших ее с улыбкой! Несчастные! Если бы они знали, что Призрак существует во плоти и гораздо более страшен, нежели та бесплотная тень, к которой они взывали, клянусь, им расхотелось бы смеяться!.. Если бы они только знали, на что способен Эрик, особенно при таком обширном поле деятельности, какое представляет собой Опера!.. Да, если бы они знали самую суть моей страшной мысли!..
Я уже не в силах был жить спокойно!.. И хотя Эрик торжественно заявил мне, что он сильно переменился, став добродетельнейшим из людей с тех пор, как его полюбили ради него самого – эта фраза заставила меня глубоко призадуматься, – я не мог без дрожи вспоминать о чудовище. Кошмарное, неповторимое, отталкивающее безобразие ставило его вне общества, и мне часто казалось, что в силу этого он не считал себя связанным с родом людским никакими обязательствами. То, как он рассказывал мне о своей любви, лишь усиливало мои опасения, ибо в событии, на которое он намекал с таким хорошо известным мне бахвальством, я усматривал причину новых драм, еще более ужасных, чем все остальное. Я знал, до какой наивысшей степени губительного отчаяния могло дойти страдание Эрика, и речи, которые он вел, – смутно предвещавшие ужаснейшую катастрофу, – неотступно преследовали меня в моих страшных раздумьях.
С другой стороны, я сделал открытие: между чудовищем и Кристиной Дое установилось странное духовное общение. Спрятавшись в чулане, который является продолжением гримерной юной дивы, я присутствовал на восхитительных уроках музыки, приводивших, конечно, Кристину в неописуемый восторг, и все-таки никак не думал, что голос Эрика, громоподобный или нежный, просто ангельский – по его усмотрению – мог заставить забыть о его безобразии. Я все понял, когда обнаружил, что Кристина его еще не видела! Мне выпал случай проникнуть в ее гримерную, и, вспомнив преподанные мне некогда им уроки, я без труда нашел приспособление, которое приводило в движение стену с зеркалом, и установил, каким образом с помощью полых кирпичей, кирпичей-рупоров, он добился того, что Кристина слышала его, как будто он находился рядом с ней. Точно так же я отыскал путь, ведущий к источнику и в темницу – темницу коммунаров, – и еще люк, позволявший Эрику проникать непосредственно под сцену.
Каково же было мое удивление, когда через несколько дней я своими глазами увидел и своими ушами услышал, что Эрик и Кристина Дое встречаются, мало того, я застал чудовище у маленького источника, что струится на дороге коммунаров (в самом конце, под землей): склонившись, Эрик пытался привести в чувство потерявшую сознание Кристину Дое. И рядом с ними преспокойно стояла белая лошадь, лошадь из «Пророка», пропавшая из конюшни в подвалах Оперы. Я вышел не таясь. Это было ужасно. Я видел, как искры посыпались из двух золотых глаз, и, не успев вымолвить ни слова, получил прямо в лоб оглушивший меня удар. Когда я пришел в себя, Эрик, Кристина и белая лошадь исчезли. Я нисколько не сомневался, что несчастная стала пленницей в Озерном жилище. Не колеблясь, я решил вернуться на берег, несмотря на всю опасность подобного предприятия. Спрятавшись у черного берега, я целые сутки подстерегал чудовище, так как был уверен, что Эрик непременно выйдет за покупками. Должен сказать в связи с этим, что, когда он отправлялся в Париж или осмеливался появляться на публике, на место ужасной дыры, заменявшей ему нос, он ставил нос из папье-маше, украшенный еще и усами, что вовсе не меняло коренным образом его зловещего облика, и потому, когда он проходил мимо, вслед ему обычно говорили: «Гляди-ка, вон Кощей идет», но зато делало его в какой-то мере – я повторяю, в какой-то мере – сносным на вид.
Итак, я подстерегал его на берегу озера – озера Аверн, как он несколько раз с усмешкой называл при мне свое озеро – и, утомленный долгими часами ожидания, уже говорил себе: наверняка он вышел через другую дверь, дверь третьего подвального этажа, как вдруг услышал тихий плеск в темноте и увидел два золотых глаза, сверкавших, подобно сигнальным огням, и вскоре лодка пристала. Спрыгнув на берег, Эрик подошел ко мне.
– Ты тут уже двадцать четыре часа, – сказал он мне, – ты мне мешаешь! Заявляю тебе, все это очень плохо кончится! И ты сам будешь во всем виноват, ибо по отношению к тебе я проявляю неслыханное долготерпение!.. Ты думаешь, что следишь за мной, глупый простофиля (дословно), а на самом деле это я за тобой слежу и знаю все, что тебе известно о моей здешней жизни. Вчера я пощадил тебя на моей дороге коммунаров, но чтобы я тебя там больше не видел! Честное слово, ты ведешь себя крайне опрометчиво, и я спрашиваю себя, понимаешь ли ты еще, что могут означать слова!
Он был так сильно разгневан, что в тот момент я поостерегся прерывать его. Засопев, как тюлень, он пояснил свою ужасную мысль, полностью совпадавшую с моей страшной мыслью.
– Да, следует уразуметь раз и навсегда – раз и навсегда – сказано, значит, надо понимать! Вот я и говорю тебе: из-за твоей опрометчивости – ведь ты добился того, что тебя дважды останавливала тень в фетровой шляпе, которая не знала, чем ты занимаешься в подвалах, и потому отвела тебя к директорам, те приняли тебя за взбалмошного перса, любителя феерических трюков и театральных кулис (я был там, да, я был там, в кабинете; ты прекрасно знаешь, что я – всюду), – так вот я говорю тебе: из-за твоей опрометчивости дело кончится тем, что все станут задаваться вопросом, что ты здесь ищешь, и в конце концов дознаются, что ищешь ты Эрика… и, вроде тебя, тоже начнут искать Эрика и обнаружат Озерный дом… И тогда уж ничего не поделаешь, старина! Тем хуже!.. Тогда я ни за что не отвечаю!
Он снова засопел, как тюлень.
– Ни за что!.. Если секреты Эрика перестанут быть секретами Эрика, тем хуже для многих из тех, кто принадлежит к роду людскому! Это все, что я хотел тебе сказать, и если только ты не глупый простофиля (дословно), тебе этого должно быть достаточно, конечно, при условии, что ты понимаешь значение слов!..
Он сидел на корме своей лодки и стучал каблуками по дереву маленького суденышка в ожидании моего ответа; и я сказал ему без утайки:
– Я не Эрика пришел сюда искать!..
– А кого же?
– Ты сам прекрасно знаешь: Кристину Дое!
– Имею же я право назначить ей свидание у себя дома, – возразил он. – Меня любят ради меня самого.
– Неправда, – сказал я, – ты ее похитил и держишь в плену!
– Послушай, – сказал он, – обещаешь не вмешиваться больше в мои дела, если я докажу тебе, что меня любят ради меня самого?
– Да, обещаю, – без колебаний отвечал я, ибо не сомневался, что такое чудовище не может представить подобного доказательства.
– Так вот! Это проще простого!.. Кристина Дое выйдет отсюда, когда пожелает, и вернется опять!.. Да, вернется, потому что сама этого захочет, вернется, потому что любит меня ради меня самого!..
– О, сомневаюсь, что она вернется!.. Но твой долг – отпустить ее.
– Мой долг, глупый простофиля (дословно)! Никакой это не долг, а моя воля, мое желание – отпустить ее, но она вернется, потому что любит меня!.. Говорю тебе, все это кончится браком, бракосочетанием в церкви Мадлен, простофиля (дословно). Веришь ли ты мне, наконец? Говорю тебе, моя свадебная месса уже написана, ты увидишь…
Он снова застучал каблуками по дереву лодки, отбивая такт и напевая вполголоса: «Kyrie!.. Kyrie!.. Kyrie eleison!..»[19] Ты увидишь, увидишь эту мессу!
– Послушай, – сказал я наконец, – я поверю тебе, если увижу, как Кристина Дое выходит из Озерного дома и сама по доброй воле туда возвращается!
– И не станешь больше вмешиваться в мои дела? Ладно, ты увидишь это сегодня же вечером. Приходи на костюмированный бал. Мы с Кристиной тоже там будем. А затем спрячься в чулане, и тогда увидишь, как Кристина, вернувшись в свою гримерную, пожелает вновь ступить на дорогу коммунаров.
– Решено!
Если бы я увидел это, мне в самом деле не оставалось бы ничего другого, как смириться, ибо даже прекрасная особа имеет право любить самое страшное чудовище, обладающее к тому же, вроде этого, музыкальным даром, тем более если особа эта – очень известная певица.
– А теперь уходи! Мне пора идти за покупками!..
И я ушел, по-прежнему опасаясь за Кристину Дое, но главное, подспудно меня не оставляла страшная мысль, в особенности после того, как он пробудил ее своими гневными речами по поводу моей опрометчивости.
«Чем все это кончится?» – спрашивал я себя. И хотя в душе я в общем-то фаталист, мне не удавалось избавиться от смутной тревоги, связанной с той невероятной ответственностью, которую я взял на себя однажды, сохранив жизнь чудовищу, угрожавшему сегодня многим из тех, кто принадлежит к роду людскому.
К моему величайшему изумлению, все произошло именно так, как он обещал. Кристина Дое вышла из Озерного дома и несколько раз возвращалась туда без видимого принуждения. Мне хотелось выбросить из головы эту любовную тайну, но трудно было – в особенности из-за страшной мысли – совсем не думать об Эрике. Тем не менее, соблюдая крайнюю осторожность, я не совершил ошибки и ни разу не появился больше ни на берегу озера, ни на дороге коммунаров. Однако меня неотступно преследовало видение потайной двери в третьем подвальном этаже, и я приходил туда, зная, что днем там чаще всего никого не бывает. Я подолгу оставался на месте, ничего не предпринимая, спрятавшись за декорацией «Короля Лагорского», брошенной там неизвестно почему. Мое долготерпение было вознаграждено. Однажды я увидел, как в мою сторону на коленях направляется чудовище. Я был уверен, что Эрик меня не видит. Пробравшись между декорацией и стропильной фермой, он оказался у стены и нажал в одном месте, которое я приметил издалека, на пружину, в результате чего камень сдвинулся, освободив ему проход. Он исчез в этом проходе, и камень закрылся за ним. Я владел секретом чудовища, который, придет время, откроет мне доступ в Озерное жилище.
Чтобы удостовериться в этом, я подождал по меньшей мере полчаса и в свою очередь нажал на пружину. Все произошло так, как у Эрика. Однако я поостерегся сам проникнуть в отверстие, зная, что Эрик дома. С другой стороны, мысль, что Эрик может застать меня здесь, напомнила мне вдруг об участи Жозефа Бюке, и, не желая подвергать опасности подобное открытие, которое могло оказаться полезным для многих людей, для многих из тех, кто принадлежит к роду людскому, я покинул подвалы театра, вернув предварительно камень на место, следуя системе, которая со времен Персии ничуть не изменилась.
Само собой разумеется, меня по-прежнему интересовали отношения Эрика и Кристины Дое, но не потому, что в данном случае мною руководило болезненное любопытство, а, как я уже говорил, по причине не покидавшей меня страшной мысли. «Если, – думал я, – Эрик поймет, что любим не ради него самого, можно ожидать чего угодно». И, непрестанно блуждая в Опере – соблюдая, конечно, осторожность, – я вскоре узнал печальную правду о любовных делах чудовища. Эрик овладел помыслами Кристины с помощью страха, но сердце милой девочки целиком принадлежало виконту Раулю де Шаньи. Спасаясь от чудовища на крыше Оперы, эти двое предавались невинным играм в жениха и невесту, не подозревая, что кто-то оберегает их. Я был готов на все, готов был, если потребуется, даже убить чудовище и предстать затем перед правосудием. Но Эрик так и не показался, что, однако, ничуть не успокоило меня.
Я должен поведать, на что я рассчитывал. Полагая, что чудовище, подталкиваемое ревностью, выйдет из своего жилища, я думал, что без особого риска смогу проникнуть в Озерный дом через ход в третьем подвальном этаже. Ради общих интересов мне необходимо было точно знать, чем он там располагает! Однажды, устав дожидаться удобного случая, я отодвинул камень и сразу услышал потрясающую музыку; открыв все двери дома, чудовище работало над своим «Торжествующим Дон Жуаном». Я знал, что это творение всей его жизни. Боясь пошевелиться, я предусмотрительно оставался в своей темной дыре. На мгновение Эрик перестал играть и, как безумный, принялся расхаживать по дому. Потом громко произнес вслух: «Надо со всем этим покончить раньше! И бесповоротно!» Опять-таки слова эти вряд ли могли меня успокоить, и как только вновь зазвучала музыка, я осторожно закрыл камень. Но, несмотря на камень, я все еще смутно слышал далекое, далекое пение, поднимавшееся из глубин земли, как слышал поднимавшееся из водных глубин пение сирены. И мне вспомнились слова некоторых машинистов сцены, над которыми смеялись после гибели Жозефа Бюке: «Возле тела повешенного слышались какие-то звуки, похожие на заупокойное пение».
В день похищения Кристины Дое я пришел в театр довольно поздно вечером, опасаясь плохих новостей. Я провел жуткий день, ибо, прочитав в утренней газете известие о предстоящем браке Кристины с виконтом де Шаньи, не переставал спрашивать себя, не лучше ли мне, в конце-то концов, разоблачить чудовище. Однако, одумавшись, пришел к убеждению, что такой шаг с моей стороны, возможно, лишь ускорит вероятную катастрофу.
Когда мой экипаж остановился возле Оперы, я с удивлением взглянул на этот монумент, словно поражаясь, что он еще не рухнул.
Но, будучи, как всякий истинно восточный человек, немного фаталистом, входя в театр, я был готов ко всему!
Похищение Кристины Дое во время сцены в тюрьме, удивившее, естественно, многих, не застало меня врасплох. Украл ее, безусловно, Эрик, ведь он действительно был королем иллюзионистов. И я подумал, что на этот раз Кристине конец, а может, и всем остальным тоже.
Так что в какой-то момент я хотел даже посоветовать не спешившим покидать театр людям поторопиться. И снова это разоблачительное намерение было остановлено уверенностью в том, что меня примут за сумасшедшего. Наконец, я прекрасно понимал, что, закричи я, например: «Пожар! Горим!», чтобы поскорее выдворить всех этих людей, я мог бы стать причиной бедствия – давки во время всеобщего бегства, дикой толкотни, что было бы еще хуже самой катастрофы.
Тем не менее я принял решение действовать самостоятельно и незамедлительно. Да и момент мне в общем-то казался подходящим. Много шансов было за то, что Эрик не думает теперь ни о чем другом, кроме своей пленницы. Необходимо было воспользоваться этим, попытавшись проникнуть в его жилище через третий подвальный этаж, и я решил привлечь к этому делу бедного, отчаявшегося виконта, который сразу же согласился, проявив ко мне глубоко тронувшее меня доверие; я послал своего слугу за пистолетами. Дарий пришел со шкатулкой в гримерную Кристины. Один пистолет я дал виконту, посоветовав ему, подобно мне, быть готовым выстрелить, ибо Эрик вполне мог поджидать нас за стеной. Мы должны были пройти дорогой коммунаров, а дальше – через люк.
Увидев пистолеты, милый виконт спросил, не на дуэли ли нам предстоит драться? Конечно! И на какой дуэли! – сказал я. Но у меня не было, разумеется, времени ничего ему объяснять. Виконт отважен, но все-таки мало что знает о своем противнике. Оно и к лучшему! Что такое поединок с самым страшным дуэлянтом по сравнению с битвой, где противник – гениальнейший иллюзионист? Я сам с трудом привыкал к мысли, что мне придется вступить в схватку с человеком, которого, по сути, можно видеть, лишь когда он этого захочет, зато он видит все, что от вас скрывает мрак!.. С человеком, странная наука которого, всевозможные ухищрения, изобретательность и ловкость помогают ему пользоваться всеми естественными средствами, собранными воедино, чтобы создать для ваших ушей и глаз иллюзию, способную погубить вас!.. И это в подвалах Оперы, то есть в стране фантасмагорий! Можно ли представить себе такое без дрожи? Можно ли вообразить, что ожидает глаза и уши какого-нибудь обитателя Оперы, если в Опере поместят – во всех ее пяти подвальных этажах и двадцати пяти верхних этажах – своего рода Робера-Удена, свирепого «шутника», который то насмехается, то ненавидит, то опустошает карманы, а то и убивает!.. Подумайте только: «Сражаться с любителем люков!» Боже мой! Сколько он их понаделал у нас во всех наших дворцах, этих удивительных вращающихся люков, самых лучших из люков! Сражаться с любителем люков в стране люков!..
Если у меня теплилась надежда, что он не покинул в своем Озерном жилище снова потерявшую сознание Кристину Дое, то не оставлял и ужас перед тем, что где-то тут, рядом с нами, он уже готовит шнурок Пенджаба.
Никто лучше его не может набросить шнурок Пенджаба, он – король иллюзионистов и принц душителей. Когда Эрик кончил смешить маленькую султаншу в пору розовых часов Мазандерана, та попросила его самого развлечься, заставив содрогаться ее. И он не нашел ничего лучше, чем игру со шнурком Пенджаба. Во время своего пребывания в Индии Эрик приобрел там навык невероятно ловкого удушения. Он закрывался во дворе, куда приводили воина – чаще всего осужденного на смерть, – вооруженного длинным копьем и широким мечом. У Эрика же не было ничего, кроме шнурка, и всегда в тот момент, когда воин собирался нанести Эрику сокрушительный удар, слышался свист шнурка. Ловким движением Эрик затягивал тонкое лассо на шее своего противника и тащил его пред очи маленькой султанши и ее служанок, глядевших из окна и аплодировавших ему. Маленькая султанша и сама научилась набрасывать шнурок Пенджаба и убила таким образом нескольких служанок и даже кое-кого из подруг, явившихся с визитом. Однако я предпочитаю оставить ужасную тему розовых часов Мазандерана. Если я заговорил об этом, то потому лишь, что, спустившись с виконтом де Шаньи в подвалы Оперы, должен был предостеречь моего спутника от подстерегавшей нас угрозы удушения. Разумеется, как только мы оказались в подвалах, мои пистолеты ничем уже не могли нам помочь, ибо я нисколько не сомневался, что, если Эрик не воспротивился сразу нашему появлению на дороге коммунаров, он и не покажется больше. Зато в любую минуту он мог задушить нас. У меня не было времени объяснить все это виконту, но если бы даже и было, не знаю, стоило ли употреблять его на то, чтобы рассказывать, что где-то здесь, во тьме, в любой момент может просвистеть шнурок Пенджаба. Вряд ли надо было еще более усложнять положение, и я ограничился тем, что посоветовал господину де Шаньи все время держать руку на высоте глаз, в позиции стрелка из пистолета, ожидающего команды «огонь». В таком положении даже у самого ловкого душителя нет возможности применить с пользой шнурок Пенджаба. Вместе с шеей он захватывает руку, и тогда этот шнурок, от которого легко можно освободиться, становится безобидным.
Избежав встречи с полицейским комиссаром и закрывальщиками дверей, а потом с пожарными, впервые встретив крысолова и пройдя незамеченными мимо человека в фетровой шляпе, мы с виконтом беспрепятственно добрались до третьего подвального этажа, очутившись между стропильной фермой и декорацией «Короля Лагорского». Я отодвинул камень, и мы спрыгнули в жилище, которое построил себе Эрик в двойной оболочке стен фундамента Оперы (причем преспокойно, так как Эрик был одним из первых подрядчиков по строительным работам у Шарля Гарнье, архитектора Оперы, и втайне продолжал работать один после того, как официально работы были приостановлены во время войны, осады Парижа и Коммуны).
Я достаточно хорошо знал моего Эрика и потому не лелеял безумной надежды обнаружить все трюки, которые он успел придумать за это время, и, конечно, не чувствовал себя уверенным, когда прыгал в его дом. Мне было известно, что он сделал с одним из дворцов Мазандерана. Самое добропорядочное сооружение в мире он в скором времени превратил в дьявольский дом, где нельзя стало произнести ни слова, чтобы оно не было подслушано или подхвачено эхом. Сколько семейных драм, сколько кровавых трагедий оставляло за собой чудовище со своими люками! Не говоря уже о том, что во дворцах, напичканных его трюками, никогда нельзя было знать, где находишься. Он делал поразительные изобретения. И самым любопытным, самым ужасным и опасным из них была комната пыток. За исключением совершенно особых случаев, когда маленькая султанша ради забавы заставляла страдать солидного человека, туда пускали только осужденных на смерть. На мой взгляд, это была самая жестокая фантазия розовых часов Мазандерана. Поэтому когда посетитель, попавший в комнату пыток, «изнемогал», ему всегда предоставлялась возможность покончить с этим при помощи шнурка Пенджаба, который предусмотрительно оставляли в его распоряжении у подножия железного дерева!
Каково же было мое смятение, когда, едва проникнув в жилище чудовища, я обнаружил, что комната, куда мы спрыгнули – господин виконт де Шаньи и я, – была точным воссозданием комнаты пыток розовых часов Мазандерана.
У наших ног я нашел шнурок Пенджаба, которого так опасался весь вечер. Я был убежден, что эта нить уже сослужила службу для Жозефа Бюке. Должно быть, как и я, старший машинист сцены застал однажды вечером Эрика в тот момент, когда тот отодвигал камень в третьем подвальном этаже. Заинтересовавшись, он в свою очередь решил воспользоваться проходом до того, как камень закрылся, и попал в комнату пыток, а выбрался уже повешенным.
Я прекрасно представлял себе, как Эрик тащил тело, от которого хотел избавиться, к декорации «Короля Лагорского», подвесив его там в назидание или же для того, чтобы усилить суеверный ужас, который должен был помочь ему охранять подступы к логову.
Но, поразмыслив, Эрик, видно, вернулся, чтобы забрать шнурок Пенджаба; сделанный довольно необычно из кошачьих кишок, он мог бы возбудить любопытство судебного следователя. Тем и объяснялось исчезновение веревки повешенного.
И вот теперь я обнаружил этот шнурок у наших ног, в комнате пыток!.. Я человек не малодушный, и все-таки холодный пот залил мне лицо.
Фонарик, красным кружком которого я водил по стенам слишком хорошо известной мне комнаты, дрожал в моей руке.
Заметив это, господин де Шаньи спросил:
– В чем дело, сударь?
Я подал ему отчаянный знак молчать, ибо тешил себя последней надеждой, что мы находимся в комнате пыток, а чудовище об этом еще не знает!
Но даже такая надежда, оправдайся она, не могла быть спасительной, ибо я прекрасно понимал, что на комнату пыток возложена задача охранять Озерное жилище со стороны третьего подвального этажа и, возможно, даже автоматически.
Да, пытки, видимо, должны начаться автоматически.
Кто знает, какие наши движения могут их вызвать?
Я посоветовал моему спутнику хранить полную неподвижность.
Убийственная тишина нависла над нами.
А мой красный фонарик продолжал исследовать комнату пыток, и я узнавал ее, я узнавал ее…
В комнате пыток
Продолжение рассказа Перса
Мы находились в центре маленького зала в виде безупречного шестиугольника, все шесть стен которого внутри были отделаны зеркалами сверху донизу… По углам явственно можно было различить зеркальные «добавки» – полосы, которые должны были вращаться вместе со своими тамбурами… Да-да, я узнал их, узнал в углу и железное дерево, железное дерево с железной веткой… для висельников.
Я схватил за руку моего спутника. Виконт де Шаньи весь дрожал и готов был взывать к своей нареченной с вестью о близкой помощи… Я боялся, что он не выдержит.
Вдруг с левой стороны раздался шум.
Сначала вроде бы в соседней комнате открылась и снова закрылась какая-то дверь, потом послышался глухой стон. Я еще сильнее сжал руку господина де Шаньи, затем мы явственно различили слова:
– Выбирай! Свадебная месса или заупокойная.
Я узнал голос чудовища.
Снова послышался стон.
И вслед за тем наступило долгое молчание.
Теперь я был уверен, что чудовище не знает о нашем присутствии в его жилище, ибо, если бы дело обстояло иначе, Эрик устроил бы так, чтобы мы ничего не слышали. Для этого достаточно было наглухо закрыть невидимое окошечко, через которое любители пыток смотрят в комнату пыток.
И потом я не сомневался, что, если бы он узнал о нашем присутствии, пытки начались бы сразу.
Значит, у нас было огромное преимущество перед Эриком, мы находились рядом с ним, а он ничего об этом не знал.
Но главное, чтобы он об этом и не узнал, и я больше всего опасался неудержимого порыва виконта де Шаньи, который хотел ринуться сквозь стены к Кристине Дое, чьи стоны, как нам казалось, мы временами слышали.
– Заупокойная месса – это не слишком весело, – снова донесся голос Эрика, – зато свадебная месса – это ни с чем не сравнимо, это великолепно! Надо принять решение и знать, чего хочешь! Я не могу больше жить вот так, под землей, в норе, словно крот! «Торжествующий Дон Жуан» закончен, и теперь я хочу жить как все. Хочу иметь жену, как все, по воскресеньям мы будем прогуливаться. Я придумал маску, которая сделает мое лицо не выделяющимся. Никто даже не обернется. Ты будешь счастливейшей из женщин. Мы будем петь для себя до изнеможения, до полного восторга. Ты плачешь! Ты боишься меня! Но по сути я вовсе не злой! Полюби меня, и ты увидишь! Чтобы стать добрым, мне недоставало только быть любимым! Если ты полюбишь меня, я стану послушным, как ягненок, и ты сделаешь со мной все, что захочешь.
Стон, сопровождавший эту любовную мольбу, все разрастался. Никогда мне не доводилось слышать ничего более безысходного, и вскоре мы с господином де Шаньи поняли, что это душераздирающее стенание исходит от самого Эрика. Что же касается Кристины, то она, верно, находилась где-нибудь по другую сторону стены, которая была перед нами, и, онемев от ужаса, с чудовищем у своих ног, не имела больше сил кричать.
Стенание Эрика, громкое, рокочущее, хриплое, походило на стон океана. Из его горла, словно из расщелины утеса, трижды вырывалось жалобное сетование:
– Ты не любишь меня! Ты не любишь меня! Ты не любишь меня!
Потом он смягчился:
– Почему ты плачешь? Ты прекрасно знаешь, что делаешь мне больно.
Молчание.
Каждый раз, как наступало молчание, нас окрыляла надежда. Мы говорили себе: «Может, он оставил Кристину одну за стеной».
Мы думали лишь о том, как дать знать Кристине Дое о нашем присутствии, но чтобы чудовище ничего не заподозрило.
Теперь мы могли выйти из комнаты пыток лишь в том случае, если Кристина откроет нам дверь; только при таком наиважнейшем условии мы могли оказать ей помощь, ибо понятия не имели, где тут выход.
Внезапно тишину нарушил звук электрического звонка.
За стеной послышался шум, и громовой голос Эрика произнес:
– Звонят! Так окажите же любезность, войдите!
Зловещая усмешка.
– Кто это решил побеспокоить нас? Подожди меня здесь, пойду скажу сирене, чтоб открыла.
Послышались удалявшиеся шаги, хлопнула дверь. Я не успел даже подумать о новом готовящемся ужасе, забыл, что чудовище отправилось, видимо, вершить новое преступление, и понял лишь одно: Кристина за стеной осталась одна!
Виконт де Шаньи уже звал ее:
– Кристина! Кристина!
Раз мы слышали то, что говорилось в соседней комнате, не было никаких причин, чтобы моего спутника не услышали в свою очередь. А между тем виконту несколько раз пришлось повторять свой зов.
Наконец до нас донесся слабый голос.
– Мне снится сон, – вымолвила девушка.
– Кристина! Кристина! Это я, Рауль.
Молчание.
– Да отвечайте же, Кристина!.. Если вы одна, ответьте, ради бога.
Тут Кристина прошептала имя Рауля.
– Да! Да! Это я! Никакой это не сон!.. Кристина, не теряйте надежды!.. Мы здесь, чтобы спасти вас, но только осторожно!.. Если услышите чудовище, предупредите нас.
– Рауль!.. Рауль!
Она несколько раз заставила повторить его, что ей это не снится и что Рауль де Шаньи сумел добраться до нее с помощью преданного человека, которому известна тайна жилища Эрика.
Однако тут же чересчур поспешную радость, которую мы ей доставили, сменил еще больший ужас. Она хотела, чтобы Рауль немедленно ушел. Боялась, что Эрик обнаружит его и тогда без малейших колебаний убьет молодого человека. В нескольких торопливых словах она поведала нам, что Эрик совсем обезумел от любви и был полон решимости погубить всех и себя вместе со всеми, если она не согласится стать его женой, представ перед мэром и кюре, кюре церкви Мадлен. Он дал ей время подумать до одиннадцати часов завтрашнего вечера. Это был последний срок.
По его словам, ей придется выбирать между свадебной мессой и заупокойной!
И еще Эрик произнес одну фразу, которую Кристина не совсем поняла: «Да или нет, если нет, то всех ждет смерть, и все будут погребены!»
Но я-то сразу понял эту фразу, ибо она ужасающим образом соответствовала моей страшной мысли.
– Не можете ли вы сказать нам, где сейчас Эрик? – спросил я.
Она ответила, что он, видимо, вышел из дому.
– Не могли бы вы это проверить?
– Нет!.. Я привязана и не могу пошевелиться.
Узнав это, мы с господином де Шаньи не удержались от крика ярости. Спасение нас троих зависело от свободы передвижений девушки.
О! Освободить ее! Добраться до нее!
– Но где вы? – снова спросила Кристина. – У меня в комнате, в спальне Луи-Филиппа, о которой я говорила вам, Рауль, только две двери. Одна – через которую входит и выходит Эрик, и другая, никогда не открывавшаяся в моем присутствии, он запретил мне переступать ее порог, потому что, по его словам, это самая опасная из всех дверей – дверь пыток!..
– Кристина, мы за этой дверью!..
– Вы в комнате пыток?
– Да, но мы не видим двери.
– Ах, если бы я только могла добраться до нее!.. Я постучала бы в дверь, и вы нашли бы ее.
– На двери есть замочная скважина? – спросил я.
– Да, есть.
Я подумал: она открывается с другой стороны ключом, как все двери, а с нашей – с помощью пружины и противовеса, но отыскать их будет нелегко.
– Мадемуазель, – сказал я, – вы обязательно должны открыть эту дверь!
– Но как? – жалобным голосом отвечала несчастная.
Послышался шорох, судя по всему, она пыталась освободиться от сковавших ее пут.
– Мы сможем спастись лишь хитростью, – сказал я. – Надо заполучить ключ от этой двери.
– Я знаю, где он, – отвечала Кристина, казавшаяся обессиленной после предпринятой попытки освободиться. – Но я крепко привязана!.. Несчастный!..
Она разрыдалась.
– Где ключ? – спросил я, приказав господину де Шаньи молчать и предоставить мне вести это дело, ибо нельзя было терять ни минуты.
– В комнате рядом с органом, вместе с другим бронзовым ключиком, к которому он также запретил мне прикасаться. Оба они в кожаном мешочке, который он называет мешочек жизни и смерти… Рауль! Рауль!.. Бегите!.. Здесь все так таинственно и ужасно. Эрик совсем сходит с ума… А вы в комнате пыток!.. Бегите тем путем, которым пришли! Должна же быть причина, по которой эта комната так называется!
– Кристина! – сказал молодой человек. – Мы выйдем отсюда вместе или вместе умрем!
– От нас зависит выйти отсюда живыми и невредимыми, – прошептал я, – только надо сохранять присутствие духа. Почему он вас привязал, мадемуазель? Ведь вы все равно не можете убежать отсюда! И он это прекрасно знает!
– Я хотела убить себя! Вечером, доставив меня сюда без сознания, наполовину усыпленную хлороформом, чудовище исчезло. Эрик ходил будто бы к своему банкиру – так он мне сказал!.. Вернувшись, он увидел, что все лицо у меня в крови. Я хотела убить себя! И билась головой о стены.
– Кристина! – простонал Рауль, заливаясь слезами.
– Тогда он привязал меня… Я имею право умереть лишь завтра, в одиннадцать часов вечера!..
Этот разговор через стену был гораздо более «отрывистым» и более осторожным, чем я смог передать его на бумаге. Зачастую мы умолкали посреди фразы, потому что нам казалось, будто мы слышим скрип, шаги, какое-то странное движение. Она говорила нам: «Нет! Нет! Это не он!.. Он ушел! Действительно ушел! Я узнала шум закрывшейся двери, которая выходит на озеро».
– Мадемуазель! – заявил я. – Чудовище вас привязало, чудовище вас и развяжет… Надо только разыграть маленькую комедию ради этого!.. Не забывайте, ведь он вас любит!
– Несчастная! – услыхали мы. – Смогу ли я когда-нибудь забыть об этом!
– Вспомните об этом и улыбнитесь ему, – умолял я. – Скажите, что эти путы причиняют вам боль.
Но Кристина успела лишь вымолвить:
– Тише!.. Я слышу какой-то шум в стене со стороны озера!.. Это он!.. Уходите!.. Уходите!.. Уходите!..
– Мы не можем уйти отсюда, даже если бы захотели! – твердо сказал я, желая напугать девушку. – Мы не можем выйти! И мы – в комнате пыток!
– Тише! – снова шепнула Кристина.
Мы смолкли все трое.
За стеной раздались тяжелые, неторопливые шаги, потом они замерли и снова зашаркали по полу.
Затем послышался тяжелейший вздох и вслед за тем – испуганный крик Кристины, мы услыхали голос Эрика.
– Прошу прощения за свой вид! Хорош я, да? А виноват во всем тот! Зачем он звонил? Разве я спрашиваю у тех, кто проходит мимо, который час? Теперь он уже ни у кого не спросит, который час. Тому виной сирена…
И снова вздох, еще более глубокий и тяжелый, исторгнутый из бездонной глубины души.
– Почему ты закричала, Кристина?
– Потому что мне больно, Эрик.
– А я подумал, что напугал тебя…
– Эрик, развяжите меня, разве я не ваша пленница?
– Ты опять захочешь умереть.
– Вы дали мне срок, Эрик, до одиннадцати часов завтрашнего вечера…
Снова шаркающие шаги по полу.
– В конце концов, раз нам суждено умереть вместе и я тороплюсь не меньше, чем ты… Да, мне тоже надоела такая жизнь, понимаешь?.. Подожди, не двигайся, я освобожу тебя. Стоит тебе сказать лишь одно словно: нет! и все сразу будет кончено для всех… Ты права, права!.. Зачем ждать до завтра? Ах, ну конечно, так будет гораздо красивее!.. У меня всегда было пристрастие к картинности, к величественным зрелищам, какое ребячество!.. В жизни нужно думать только о себе!.. И о собственной смерти, остальное не имеет значения… Ты смотришь, как я промок?.. Ах, дорогая, напрасно я выходил. Погода прескверная!.. Ну а кроме того, Кристина, у меня, кажется, начинаются галлюцинации… Знаешь, тот, кто звонил сейчас сирене – ступай посмотри на дне озера, звонит ли он, – так вот, он был похож на… Повернись, вот так, ты довольна? Теперь ты свободна. Боже мой, твои запястья, Кристина! Я сделал тебе больно, скажи?.. Это заслуживает смерти… Кстати, о смерти, придется спеть ему мессу!
Услыхав эти страшные слова, я не мог избавиться от ужасного предчувствия. Я тоже звонил однажды в дверь чудовища. Конечно, сам того не зная!.. Должно быть, я пустил в ход какой-то предупредительный электрический сигнал… И помню, как две руки взметнулись из черноты чернильных вод. Кто же этот несчастный, заблудившийся на здешних берегах?
Мысль об этом несчастном едва не помешала мне порадоваться уловке Кристины, а между тем виконт де Шаньи шепнул мне на ухо магическое слово: свободна!.. Кто же это? Кто был тем, кому посвящалась заупокойная месса, которую мы сейчас слышали? Ах, эта исступленная и прекрасная музыка! Весь Озерный дом полнился ею, содрогались все недра земли… Мы приникли к зеркальным стенам, чтобы уловить звуки другой игры, игры, которую вела Кристина Дое ради нашего спасения, но не услыхали ничего, кроме звуков заупокойной мессы. Хотя, пожалуй, то была скорее месса проклятых сил. Словно злые духи взывали из недр земли.
Я помню, что звуки Dies irae обрушились на нас, как ураган. Да, вокруг бушевала буря и сверкали молнии… Конечно, я слышал когда-то, как он пел… Он пел так, что ему вторили даже каменные глотки моих быков с человеческой головой на стенах мазандеранского дворца. Но петь, как сейчас, никогда! Никогда! Он пел, как бог-громовержец…
Но вот и голос, и орган смолкли, да так внезапно, что мы с господином де Шаньи в испуге отпрянули… И вдруг преобразившийся голос явственно проскрежетал с металлом в каждом слоге:
– Что ты сделала с моим мешком?
Пытки начинаются
Продолжение рассказа Перса
Голос в ярости повторил:
– Что ты сделала с моим мешком?
Мы дрожали от страха не меньше Кристины Дое.
– Значит, тебе нужен был мой мешок и поэтому ты хотела, чтобы я тебя развязал, а?..
Послышались торопливые шаги, Кристина бегом возвращалась в спальню Луи-Филиппа, словно ища защиты у нашей стены.
– Почему ты убегаешь? – гремел разъяренный голос, следовавший за ней. – Отдай мне мой мешок! Разве ты не знаешь, что это мешочек жизни и смерти?
– Послушайте, Эрик, – вздохнула молодая женщина, – раз отныне мы должны жить вместе, какое это имеет значение?.. Все, что принадлежит вам, принадлежит мне!..
Говорилось это таким дрожащим голосом, что вызывало жалость. Превозмогая ужас, несчастная собрала, верно, остатки своих сил… Но разве можно было пронять чудовище такой детской хитростью, да еще стуча при этом зубами.
– Вам прекрасно известно, что там только два ключа, и ничего больше… Что вы собираетесь делать? – спросил он.
– Я хотела, – сказала она, – посетить ту комнату, которой не видела и которую вы все время скрывали от меня. Женское любопытство! – добавила она, пытаясь говорить веселым голосом, еще больше возбудившим недоверие Эрика, настолько фальшиво он звучал.
– Не люблю любопытных женщин! – ответил Эрик. – И вам следовало бы проявлять большую осмотрительность: вспомните историю Синей Бороды… Ну хватит! Верните мой мешок!.. Верните мой мешок!.. Отдай ключ!.. Ишь какая любопытная!
И он усмехнулся, а Кристина застонала от боли. Эрик отобрал у нее мешочек.
В этот момент, не в силах больше сдерживать себя, виконт вскрикнул от бессильной ярости, и мне с трудом удалось заглушить этот крик…
– А это еще что такое?.. – вскинулось чудовище. – Ты не слыхала, Кристина?
– Нет! Нет! – отвечала несчастная. – Я ничего не слышала.
– Мне показалось, кто-то вскрикнул!
– Вскрикнул!.. Вы с ума сошли, Эрик?.. Кто может тут кричать, в глубине этого дома?.. Это я застонала, потому что вы сделали мне больно!.. Ничего другого я не слышала!..
– Как ты это говоришь!.. Да ты вся дрожишь!.. Так разволновалась!.. Ты лжешь!.. Я слышал крик! Слышал крик!.. В комнате пыток кто-то есть!.. Ах, теперь все ясно!..
– Никого нет, Эрик!..
– Все ясно!..
– Никого!..
– Возможно, твой жених!..
– Но у меня нет жениха!.. Вам это прекрасно известно!..
Опять злая усмешка.
– Впрочем, это так легко проверить. Дорогая Кристина, любовь моя, совсем необязательно открывать дверь, чтобы видеть, что происходит в комнате пыток… Хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть?.. Послушай!.. Если там кто-то есть, если действительно там кто-то есть, ты увидишь, как засветится невидимое окно наверху, у самого потолка. Достаточно отдернуть черную занавеску и погасить свет здесь. И все… Гасим свет! Ты не боишься темноты в обществе своего муженька?..
И тут послышался умирающий голос Кристины:
– Нет!.. Я боюсь!.. Говорю вам, я боюсь темноты!.. Эта комната меня больше не интересует!.. Вы все время пугаете меня, как ребенка, комнатой пыток!.. Я проявила любопытство, верно!.. Но она меня больше нисколько не интересует, нисколько!..
И то, чего я больше всего опасался, началось автоматически… Нас вдруг залило ярким светом!.. Да, за нашей стеной словно вспыхнул пожар. Не ожидавший этого виконт де Шаньи пошатнулся. А рядом разразился гневный голос:
– Я говорил тебе, что там кто-то есть!.. Теперь видишь окно?.. Светящееся окно!.. На самом верху!.. Тот, кто находится за этой стеной, его не видит!.. Но ты, ты поднимешься на стремянку. Она там как раз для этого!.. Ты не раз меня спрашивала, зачем она нужна. Так вот, теперь узнаешь!.. Она нужна для того, чтобы смотреть в окно комнаты пыток, любопытная девочка!..
– Какие пытки?.. Какие еще пытки?.. Эрик! Эрик! Скажите, что вы хотите напугать меня!.. Скажите мне это, если действительно любите меня, Эрик!.. Ведь нет никаких пыток? Это сказки для детей!..
– Ступайте посмотрите, дорогая, в маленькое окошечко!..
Не знаю, слышал ли теперь находившийся рядом со мной виконт слабеющий голос молодой женщины, настолько его захватило неслыханное зрелище, представшее его растерянному взору… Что касается меня, то я подобный спектакль слишком часто видел через окошечко в пору розовых часов Мазандерана и потому занят был тем, что происходило по соседству, пытаясь найти какое-то решение и способ действия.
– Ступайте посмотрите, ступайте посмотрите в окошечко!.. И скажете мне потом. Скажете мне, какой у него нос!
Мы услыхали, как лестницу подставляют к стене.
– Поднимайтесь же!.. Нет!.. Нет, я сам поднимусь, сам, моя дорогая!..
– Ну хорошо, да, я посмотрю, пустите меня!
– Ах, моя дорогая!.. Моя дорогая!.. До чего же вы милы. Как мило с вашей стороны избавить меня от такого труда в моем-то возрасте!.. Вы скажете мне, какой у него нос?.. Если бы люди понимали, какое это счастье – иметь нос, свой собственный нос, никогда бы они не ходили гулять в комнату пыток!..
В этот момент мы явственно услыхали над нашими головами такие слова:
– Друг мой, никого нет!..
– Никого?.. Вы уверены, что там никого нет?..
– Честное слово, нет, никого нет…
– Ну что же, тем лучше!.. Что с вами, Кристина?.. В чем дело? Вам плохо? Но почему, раз там никого нет!.. Ну-ка!.. Спускайтесь!.. Вот так!.. Придите в себя, раз там никого нет… Но как вы находите пейзаж?..
– О! Прекрасно!..
– Ну вот! Вам уже лучше!.. Не так ли, вам лучше!.. Тем лучше, что вам лучше!.. Никаких волнений. Что за странный дом, не правда ли, где можно видеть подобные пейзажи?..
– Да, кажется, что попал в музей Гревена!.. Но скажите, Эрик, там ведь нет пыток!.. Знаете, вы меня напугали!..
– Почему, раз никого нет?..
– Это вы придумали такую комнату, Эрик?.. Знаете, это очень красиво! В самом деле, вы – настоящий артист, Эрик…
– Да, большой артист «в своем жанре».
– Но скажите, Эрик, почему вы назвали эту комнату комнатой пыток?..
– О, все очень просто. Но прежде всего, что ты там видела?
– Я видела лес!..
– А что в лесу?
– Деревья!..
– А что на дереве?
– Птицы…
– Ты видела птиц.
– Нет, я не видела птиц.
– Тогда что же ты видела? Подумай хорошенько!.. Ты видела ветки! А что на ветке? – гремел страшный голос. – Виселица! Вот почему я называю мой лес комнатой пыток!.. Видишь, это все пустые разговоры! Для смеха!.. Я всегда выражаюсь не как остальные!.. И очень устал от этого!.. Очень устал!.. Видишь ли, мне надоело иметь в моем доме лес и комнату пыток!.. И жить, как шарлатан, в коробке с двойным дном!.. Надоело! Надоело!.. Я хочу жить в нормальной квартире с обычными дверями и окнами, хочу иметь порядочную жену, как все!.. Ты должна понять это, Кристина, и мне не следует непрестанно повторять тебе одно и то же!.. Мне нужна жена как у всех!.. Жена, которую я любил бы, с которой гулял бы по воскресеньям и смешил бы ее всю неделю! Ах, ты со мной не соскучишься! У меня в запасе столько разных фокусов, не считая карточных!.. Хочешь, я покажу тебе карточные фокусы? Это поможет нам скоротать время, дожидаясь одиннадцати часов завтрашнего вечера!.. Милая моя Кристина!.. Милая моя Кристина!.. Ты слушаешь меня?.. Ты меня больше не отталкиваешь!.. Ты любишь меня!.. Нет, ты меня не любишь!.. Но это ничего! Ты полюбишь меня! Раньше ты не могла смотреть на мою маску, потому что знала, что под ней… А теперь ты смотришь и забываешь, что под ней, и ты меня больше не отталкиваешь!.. Ко всему привыкают, если захотят, надо только захотеть!.. Сколько молодых людей, которые не любили друг друга до свадьбы, обожали друг друга после! Ах, я сам не знаю, что говорю… Но тебе не будет скучно со мной!.. Например, другого такого чревовещателя, как я, не сыщешь, в этом я клянусь перед Господом Богом, который благословит наш брак, если ты проявишь благоразумие! Я – лучший чревовещатель в мире!.. Ты смеешься!.. Ты мне, кажется, не веришь!.. Так послушай!
Негодяй (который действительно был лучшим чревовещателем в мире) одурманивал девушку (я прекрасно понимал это), чтобы отвлечь ее внимание от комнаты пыток!.. Глупый расчет!.. Кристина думала только о нас!.. Сколько раз она повторяла самым ласковым тоном, на какой только была способна, и с пламенной мольбой в голосе:
– Погасите окошечко!.. Эрик, погасите окошечко!..
Ибо она понимала: существовала некая страшная причина появления этого внезапно вспыхнувшего в окошечке света, о котором чудовище говорило с такой угрозой… Единственно, что ее на короткое время успокоило, это то, что она видела нас обоих за стеной живыми и невредимыми, стоящими посреди полыхающего великолепия!.. Но ей было бы, конечно, несравненно спокойнее, если бы свет погас. А тот уже принялся чревовещать.
– Я слегка приподнимаю маску! – говорил он. – О, совсем немного… Ты видишь мои губы? То, что есть у меня от них? Они не шевелятся!.. Мой рот закрыт… подобие рта… А между тем ты слышишь мой голос!.. Я говорю чревом, и это вполне естественно, это и называется чревовещанием!.. Вещь хорошо известная. Слушай мой голос. Куда мне его направить? Чтобы ты слышала его левым ухом? Или правым? А может, направить его к столу?.. Или в шкатулочки черного дерева на камине?.. Ах, это тебя удивляет, мой голос звучит в шкатулочках на камине! Хочешь услышать его вдалеке?.. Или совсем близко?.. Хочешь, чтобы он был громким?.. Пронзительным?.. Гнусавым?.. Мой голос разгуливает повсюду!.. Повсюду!.. Слушай, моя дорогая, слушай его в правой шкатулочке на камине, слушай, что он говорит: Повернуть скорпиона?.. А теперь, раз! Опять слушай, что он говорит в шкатулочке слева: Или повернуть кузнечика?.. А теперь – раз! Вот он, в кожаном мешочке… Что он говорит? «Я – мешочек жизни и смерти!» А теперь – раз!.. И вот он в горле у Карлотты, в глубине золотого горлышка, хрустального горлышка Карлотты, честное слово!.. И что он там говорит? А вот что: «Это я, госпожа жаба! Это я пою: И сердца голос тайный… квак!.. мне тихо о чем-то квак!..» А теперь – раз, и он оказался в кресле ложи Призрака, и вот что он говорит: «Мадам Карлотта поет сегодня так, что люстра того и гляди не выдержит!..» А теперь, раз!.. Ой-ой-ой-ой!.. Где же голос Эрика?.. Слушай, Кристина, дорогая!.. Слушай… Он за дверью комнаты пыток!.. Слушай меня!.. Это я нахожусь в комнате пыток!.. И что же я говорю? Я говорю: «Горе тем, кому посчастливилось иметь нос, настоящий, свой собственный нос, и кто решил погулять в комнате пыток!.. Ха-ха-ха!»
Проклятый голос феноменального чревовещателя! Он действительно был всюду, всюду!.. Проникал сквозь невидимое окошечко, сквозь стены, кружил вокруг нас, вставал между нами. Эрик был здесь… и говорил с нами!.. Мы рванулись, словно собираясь наброситься на него, однако более быстрый и неуловимый, чем звонкое эхо, голос Эрика вновь оказался за стеной!..
Но вскоре мы уже ничего не могли слышать, и вот что произошло.
Голос Кристины:
– Эрик! Эрик!.. Вы утомили меня своим голосом… Замолчите, Эрик!.. Вам не кажется, что здесь слишком жарко?..
– О да! – отвечает голос Эрика. – Жара становится невыносимой!..
И снова хриплый от страха голос Кристины:
– Что это значит?.. Стена такая горячая!.. Она обжигает!..
– Я скажу вам, в чем дело, Кристина, дорогая, это из-за «леса по соседству»…
– И что, что вы хотите этим сказать!.. При чем тут лес?..
– Разве вы не заметили, что это лес Конго?
Ужасающий смех чудовища заглушил все, и мы уже не различали молящих стонов Кристины!.. Виконт де Шаньи кричал и стучал в стены, как безумный… Я уже не мог удержать его… Но в ответ слышался лишь хохот чудовища, да и сам Эрик ничего уже, верно, не слышал, кроме своего смеха… Потом мы уловили шум недолгой борьбы, звук упавшего на пол тела, которое затем потащили, и грохот захлопнувшейся с размаху двери… И больше, больше ничего, ничего, только знойная полуденная тишина… в сердце африканского леса!..
«Бочки! Бочки! Продаете бочки?»
Продолжение рассказа Перса
Я уже говорил, что комната, в которой мы находились, господин виконт де Шаньи и я, была шестиугольной и полностью отделана зеркалами. С тех пор многие видели, в частности на некоторых выставках, точно такие же комнаты, называвшиеся «домом миражей» или «дворцом иллюзий». Но само изобретение полностью принадлежит Эрику, построившему на моих глазах первый зал такого рода во времена розовых часов Мазандерана. Достаточно было расположить по углам какой-нибудь декоративный мотив, например колонну, чтобы мгновенно получить дворец с тысячью колонн, ибо под воздействием зеркал реально существующий зал дополнялся шестью шестиугольными залами, каждый из которых множился до бесконечности.
Сначала, чтобы позабавить маленькую султаншу, он так расположил декорацию, что получился «неисчислимый храм», но маленькой султанше быстро надоела эта детская иллюзия, и тогда Эрик преобразил свое изобретение в комнату пыток. Вместо архитектурного мотива, расположенного по углам, на первый план он вынес железное дерево. Почему это дерево, безупречно имитирующее своими раскрашенными листьями живую жизнь, было из железа? Да потому, что ему требовалась прочность, дабы противостоять наскокам «пациента», которого запирали в комнате пыток.
Мы увидим, как полученная таким образом декорация мгновенно преображалась в сменяющие друг друга две другие благодаря автоматическому вращению тамбуров, которые находились в углах и были разделены на трети, прилегающие к зеркальным углам и имеющие каждая свой декоративный мотив, появляющийся по очереди.
Стены этого странного зала не давали никакой зацепки «пациенту», так как, если не считать самого декоративного мотива, отличавшегося надежной прочностью, они целиком были отделаны зеркалом, причем достаточно толстым, чтобы оно могло выдержать отчаянную ярость несчастного, которого, впрочем, бросали туда с голыми руками и ногами.
Никакой мебели. Светящийся потолок.
Скопированная впоследствии хитроумная система электрического отопления позволяла по своему усмотрению увеличивать температуру стен и создавать таким образом в зале желаемую атмосферу…
Я с такими подробностями описываю все детали вполне естественного изобретения, создающего при помощи нескольких раскрашенных веток сверхъестественную иллюзию раскаленного полуденным солнцем экваториального леса, чтобы никто не мог поставить под сомнение нормальное состояние моего рассудка и никто не имел бы права сказать: «Этот человек сошел с ума», или «Этот человек лжет», или «Этот человек принимает нас за дураков».
Если бы я просто рассказал о случившемся следующим образом: «Спустившись в подвал, мы попали в раскаленный полуденным солнцем экваториальный лес», я добился бы прекрасного эффекта, вызвав глупейшее удивление, но я не стремлюсь ни к каким эффектам, цель моя – поведать в этих строках, что в точности произошло с господином виконтом де Шаньи и со мной во время ужасной истории, занимавшей какое-то время правосудие этой страны.
Итак, возвращаюсь к описанию фактов с того момента, на котором прервал его.
Когда на потолке вспыхнул свет, озарив окружавший нас лес, изумлению виконта не было предела. Видение непроходимого леса, бесчисленные стволы и ветки которого, опутывая нас, терялись в бесконечности, повергло его в неописуемый ужас. Он проводил руками по лицу, как будто пытался прогнать сон, и непрерывно моргал глазами, словно после пробуждения никак не мог вернуться к действительности. На мгновение он даже перестал прислушиваться!
Я уже говорил, что меня появление леса ничуть не удивило. Поэтому я вслушивался в то, что происходило в соседней комнате, за нас двоих. А кроме того, внимание мое было сосредоточено не столько на самой декорации, которую мой разум отметал, сколько на воспроизводившем ее зеркале. А зеркало это местами было разбито.
Да, на нем виднелись трещины; несмотря на прочность, кому-то удалось его «расцветить», и это, безусловно, доказывало, что комнатой пыток, в которой мы находились, уже пользовались!
Несчастный, чьи ноги и руки не были обнажены, как у осужденных розовых часов Мазандерана, упав в этот «Смертельный иллюзион», в безумной ярости стал бросаться на зеркала, которые, несмотря на свои ранения, продолжали отражать его агонию! Мало того, ветка дерева, на которой он положил конец своей пытке, была расположена таким образом, что перед смертью он смог увидеть, как вместе с ним – последнее утешение – барахтаются тысячи повешенных!
Да-да! Жозеф Бюке прошел через это!..
Неужели и нам суждено умереть так же, как ему?
Я этого не думал, ибо знал, что у нас впереди несколько часов, которые я смогу употребить с большей пользой, нежели Жозеф Бюке, ему, конечно, это было не по силам.
Разве мне не известно досконально большинство «трюков» Эрика? Вот и пришло время применить на деле мои познания – сейчас или никогда.
Прежде всего я уже не надеялся выйти через тот проход, который привел нас в эту проклятую комнату, и не искал способа открыть изнутри закрывавший его камень. Причина тому простая: у меня не было возможности!.. В комнату пыток мы спрыгнули с большой высоты, и не было вокруг ничего, что позволило бы нам теперь добраться до этого прохода, не помогла бы даже и ветка железного дерева, не говоря уже о плечах одного из нас, которые могли бы послужить ступенькой.
Существовал лишь один возможный выход, тот, что вел в спальню Луи-Филиппа, в которой находились Эрик с Кристиной Дое. Однако если со стороны Кристины то была самая обычная дверь, для нас она оставалась абсолютно невидимой… Следовательно, надо было попытаться открыть ее, не зная даже, где она находится, а это была нелегкая задача.
Когда я понял, что у нас не осталось больше надежды на помощь со стороны Кристины Дое, и услышал, как чудовище увлекло, а вернее, утащило несчастную девушку вон из спальни Луи-Филиппа, чтобы она не препятствовала нашей пытке, я решил немедленно приняться за дело, то есть искать трюк, с помощью которого открывается дверь.
Но прежде всего необходимо было успокоить господина де Шаньи, который, как одержимый, разгуливал по прогалине, издавая нечленораздельные крики. Обрывки разговора между чудовищем и Кристиной, которые, несмотря на свое волнение, он все-таки уловил, немало способствовали ухудшению его состояния; если же добавить к этому удар, полученный им при виде колдовского леса, и жгучую жару, от которой пот заструился по его лицу, нетрудно понять, что господин де Шаньи не мог справиться с охватившим его возбуждением. Несмотря на все мои советы, мой спутник утратил всякую осторожность.
Он метался взад-вперед без видимой причины, устремлялся к несуществующим пространствам, полагая, что входит в аллею, ведущую к далеким горизонтам, и через несколько шагов натыкался лбом на отражение иллюзорного леса!
При этом он кричал: «Кристина! Кристина!» – размахивая пистолетом и снова взывая изо всех сил к чудовищу, требуя дуэли с Ангелом музыки не на жизнь, а на смерть и к тому же кляня иллюзорный лес. Видимо, пытка оказывала свое действие на неподготовленный ум. По мере возможности я пытался одолеть ее, спокойнейшим тоном урезонивая бедного виконта, заставляя его прикасаться пальцами к зеркалам и железному дереву, а также к веткам на тамбурах и стараясь объяснить согласно оптическим законам суть окружавших нас сияющих картин, убеждая, что не можем же мы, подобно вульгарным невеждам, стать их жертвами.
– Мы находимся в комнате, маленькой комнате, вот что вы должны повторять себе непрестанно… И мы выйдем из этой комнаты, как только отыщем дверь. Давайте же искать ее!
Я обещал ему меньше чем через минуту найти трюк, с помощью которого открывается дверь, если он перестанет оглушать меня своими криками и отвлекать безумными блужданиями.
Тогда он улегся на полу, словно в лесу, и заявил, что будет ждать, когда я найду выход из леса, раз ничего лучшего сделать не может! И все-таки счел нужным добавить, что с того места, где он находится, «открывается чудесный вид». (Несмотря на все мои разговоры, пытка продолжала действовать.)
Что же касается меня, то, забыв о лесе, я подошел к зеркальной стене и принялся ощупывать ее во всех направлениях, отыскивая слабую точку, на которую следовало нажать, чтобы заставить вращаться двери в соответствии с придуманной Эриком системой вращающихся дверей и люков. Порой такой слабой точкой могло быть простое пятно на зеркале величиной с горошину, под которым и скрывалась пружина.
И я искал! Искал! Тянул, насколько мог, руки вверх. Эрик был примерно одного роста со мной, и я полагал, что не мог он поставить пружину выше, чем того требовал его рост, – впрочем, это было всего лишь предположение и в то же время – моя единственная надежда. Я решил таким образом неукоснительно обойти все шесть зеркальных стен, а затем так же тщательно исследовать пол.
Ощупывая с величайшим вниманием стены, я тем не менее старался не терять ни минуты, ибо жара валила меня с ног, мы буквально поджаривались в этом пламенеющем лесу.
Так я работал с полчаса и уже покончил с тремя стенами, когда, на наше несчастье, обернулся, услыхав глухой возглас виконта.
– Я задыхаюсь! – вымолвил он. – Все эти зеркала излучают дьявольский жар!.. Скоро вы найдете свою пружину?.. Еще немного, и мы здесь изжаримся!
Я обрадовался, услышав его. Он ни слова не сказал насчет леса, и я надеялся, что разум моего спутника сможет долго еще противостоять пытке. Но тут он добавил:
– Меня утешает, что чудовище отвело Кристине время до одиннадцати часов завтрашнего вечера: если мы не сможем выйти отсюда и оказать ей помощь, то умрем, по крайней мере, раньше ее! Месса Эрика прозвучит для всех!
И он глотнул горячий воздух, едва не лишивший его последних сил…
Не имея, подобно господину виконту де Шаньи, безысходных причин соглашаться с кончиной, я, сказав несколько утешительных слов, опять повернулся к своей стене, но, разговаривая с ним, я сделал несколько шагов, и напрасно: при неслыханной путанице иллюзорного леса мне уже трудно было с полной уверенностью отыскать нужную стену! Пришлось начинать все заново наугад… Я не мог не выразить своего разочарования, и виконт понял, что предстояло переделывать всю работу. Это нанесло ему еще один удар.
– Никогда нам не выбраться из этого леса! – простонал он.
Отчаяние виконта все возрастало. И, возрастая, заставляло его забывать, что он имеет дело всего лишь с зеркалами, и верить в то, что его окружает настоящий лес.
Я же принялся вновь искать, щупать… Хотя меня тоже постепенно охватывало лихорадочное возбуждение, ибо я не находил ничего, решительно ничего. В соседней комнате по-прежнему было тихо. А мы безнадежно заблудились в лесу, без компаса, без проводника, без ничего. О! Я знал, что нас ждет, если никто не придет нам на помощь… или если я не найду пружину… Но напрасно искал я пружину, мне попадались лишь ветки, великолепные ветки, встававшие прямо передо мной или изящно закруглявшиеся над моей головой… Только тени они не давали! Впрочем, это было вполне естественно, ведь мы находились в экваториальном лесу, и солнце стояло прямо у нас над головой, в лесу Конго…
Несколько раз мы с господином де Шаньи снимали и вновь надевали свои фраки: то нам казалось, что в них слишком жарко, а то – что они, напротив, спасают нас от нестерпимой жары.
Я-то еще морально сопротивлялся, а вот господин де Шаньи совсем, казалось, был «не в себе». Он уверял, будто три дня и три ночи без устали шагает по этому лесу в поисках Кристины Дое. Время от времени ему мнилось, что он видит ее за стволом дерева или что она ускользает, пробираясь меж ветками, и он звал ее с такой мольбой, что у меня слезы наворачивались на глаза.
– Кристина! Кристина! – стонал он. – Почему ты бежишь от меня? Ты меня не любишь?.. Разве мы не помолвлены?.. Кристина, остановись!.. Ты же видишь, я совсем без сил!.. Сжалься, Кристина!.. Я умру в лесу вдали от тебя!..
И вдруг в исступлении произнес:
– О! Я хочу пить!
Меня тоже мучила жажда, горло горело, как в огне…
И все-таки, сидя теперь уже на полу, я продолжал искать, искать, искать пружину невидимой двери… Тем более что с наступлением вечера пребывание в лесу становилось опасным. Нас уже обволакивала ночная мгла. Тьма спустилась быстро, так обычно приходит ночь в экваториальных странах – внезапно, почти без сумерек…
А ночь в экваториальных лесах всегда опасна, особенно когда, как у нас, нечем развести костер, чтобы отогнать диких зверей. Отказавшись на минутку от поиска пружины, я пытался сломать несколько веток, чтобы разжечь их с помощью моего потайного фонаря, но тоже наткнулся на пресловутое зеркало, и это вовремя напомнило мне, что мы имеем дело всего лишь с изображением ветвей…
С концом дня жара не спала, напротив… Теперь, при голубом свете луны, стало еще жарче. Я посоветовал виконту держать оружие в боевой готовности и не удаляться от места нашей стоянки, а сам продолжал искать пружину.
И вдруг в нескольких шагах от нас послышалось оглушительное рычание льва. Мы обомлели.
– О! – тихонько сказал виконт. – Он неподалеку!.. Вы его не видите?.. Вон там, за деревьями! В зарослях. Если он опять зарычит, я буду стрелять!..
Рычание повторилось, еще более мощное. И виконт выстрелил, но не думаю, что он попал в зверя, только разбил зеркало; я обнаружил это на другой день, когда рассвело. За ночь мы, верно, проделали немалый путь, ибо оказались вдруг на краю пустыни, огромной песчаной пустыни с камнями и скалами. Не стоило, право, выбираться из леса, чтобы очутиться в пустыне. Выбившись из сил, я прилег рядом с виконтом, устав искать пружины, которых не находил.
Я был крайне удивлен (и сказал об этом виконту), что ночью у нас не было больше неприятных встреч. Обычно после льва приходит леопард, а иногда слышится жужжание мухи цеце… Таких эффектов нетрудно добиться, и, пока мы отдыхали, прежде чем пуститься в путь по пустыне, я объяснил господину де Шаньи, что рычание льва Эрик получал при помощи длинного тамбурина, заканчивающегося ослиной кожей лишь на одном конце. На этой коже натянута кишечная струна, прикрепленная в середине к другой такой же струне, пересекающей цилиндр по всей длине, Эрику остается только водить по этой струне перчаткой, пропитанной канифолью, и в зависимости от его движений получается на удивление похожий рык льва или леопарда и даже жужжание мухи цеце.
Мысль о том, что Эрик, возможно, находится в соседней комнате со своими трюками, наполнила меня вдруг решимостью вступить с ним в переговоры, ибо от идеи застать его врасплох, безусловно, пришлось отказаться. К тому же теперь он уже должен знать, кто пожаловал в комнату пыток. Я позвал его: «Эрик! Эрик!..» Я кричал изо всех сил, как только мог, через всю пустыню, но никто не отозвался на мой голос. Вокруг нас – безмолвие и голая бескрайность каменистой пустыни… Что с нами будет посреди этого страшного безлюдья?..
Мы буквально умирали от жары, голода и жажды – в особенности от жажды… И тут я увидел, как господин де Шаньи приподнялся на локте и показал мне некую точку на горизонте. Он заметил оазис!..
Да, там, вдалеке, пустыня приютила оазис, оазис с водой, прозрачной, как зеркальное стекло, водой… С водой, в которой отражалось железное дерево!.. Ах, то была картина миража, я сразу ее узнал, ужаснее ничего не может быть… Никто не мог перед этим устоять, никто… Я пытался сохранить остатки разума и не уповать на воду, потому что знал: если надеешься испить воды, воды, в которой отражается железное дерево, а вместо этого натыкаешься на зеркало, остается только одно: повеситься на железном дереве!..
Поэтому я кричал господину де Шаньи:
– Это мираж!.. Мираж!.. Не верьте в воду!.. Это опять обман зеркала!..
Тогда он попросту послал меня вместе с моим обманным зеркалом, пружинами, вертящимися дверями и дворцом миражей!.. И в бешенстве заявил, что я безумец или слепец, если воображаю, что вся эта вода, которая течет там, между бесчисленными красивыми деревьями, – не настоящая!.. И пустыня настоящая! И лес тоже!.. И не надо «втирать ему очки», только не ему, он достаточно много путешествовал и бывал в разных странах…
И он тащился, повторяя:
– Вода! Вода!..
И открывал рот, как будто пил.
И я тоже, тоже открывал рот, как будто пил.
Ибо мы не только видели ее, эту воду, но еще и слышали ее!.. Мы слышали, как она бежит, плещется!.. Понимаете ли вы, что значит слово плещется?.. Это слово, которое слышишь языком!.. Язык высовывается изо рта, чтобы лучше слышать ее!..
И вот наконец самая невыносимая пытка из всех: мы услыхали шум дождя, но дождя не было! Это поистине дьявольское изобретение. О! Я опять-таки прекрасно знал, как Эрик этого добивался! Он наполнял мелкими камешками очень узкую и очень длинную коробку, разделенную на отсеки деревянными и металлическими перегородками. Падая, мелкие камешки встречали эти перегородки и отскакивали друг от друга, издавая прерывистые звуки, до жути напоминавшие шум грозового ливня.
Поэтому надо было видеть, как мы высовывали язык, господин де Шаньи и я, пытаясь дотащиться до берега… Наши глаза и уши полнились водой, но язык оставался сухим, словно ороговелый!..
Добравшись до зеркала, господин де Шаньи лизнул его, и я тоже, я лизал зеркало…
Оно было раскаленным!..
И тогда мы покатились по полу с отчаянным хрипом. Господин де Шаньи поднес к виску последний заряженный пистолет, а я не отрывал глаз от шнурка Пенджаба у своих ног.
Я знал, почему в этой третьей смене декораций опять появилось железное дерево!..
Железное дерево дожидалось меня!..
Но пока я глядел на шнурок Пенджаба, на глаза мне попалась одна вещь, заставившая меня так сильно вздрогнуть, что господин де Шаньи замер, не успев привести в исполнение свое намерение убить себя. А он уже шептал: «Прощай, Кристина!..»
Я взял его за руку. Потом отобрал у него пистолет и на коленях пополз к тому, что увидел.
Возле шнурка Пенджаба в пазу паркета я обнаружил гвоздь с черной головкой, назначение которого было мне известно…
Наконец-то я нашел пружину!.. Пружину, которая откроет дверь!.. И принесет нам свободу!.. И выдаст нам Эрика.
Ощупав гвоздь, я обратил к господину де Шаньи сияющее лицо!.. Гвоздь с черной головкой вдавливался под моим нажимом.
И тут…
…Тут открылась вовсе не дверь, а пришел в движение люк в полу.
И сразу же из черной дыры на нас пахнуло прохладой. Мы склонились над темным квадратом как над прозрачным источником. Уткнувшись подбородком в прохладную темень, мы упивались ею.
Мы склонялись все ниже над люком. Что может скрываться в этой яме, в этой дыре, таинственно открывшей в полу доступ к себе?..
Быть может, там, внутри, – вода?..
Вода для питья.
Протянув руку во тьму, я наткнулся на камень, потом на другой: лестница, черная лестница спускалась в погреб.
Виконт уже готов был броситься в яму!..
Если даже мы не найдем воды, там можно обрести спасение, вырвавшись из сияющих объятий этих омерзительных зеркал.
Однако я остановил виконта, ибо опасался нового трюка чудовища, и с зажженным потайным фонарем стал спускаться первым…
Лестница уходила в глубокую темень и была винтовой. Ах, восхитительная прохлада лестницы и темноты!..
Прохлада, видимо, исходила не столько от вентиляционной системы, наверняка установленной Эриком, сколько от самой земли, которая на том уровне, где мы находились, была, видимо, насыщена водой… И потом, ведь где-то неподалеку – озеро!..
Вскоре мы добрались до конца лестницы… Глаза наши начали привыкать к темноте и уже различали вокруг нас некие формы, круглые формы, на которые я направил светлый луч моего фонаря…
Бочки!..
Мы попали в погреб Эрика!
Именно здесь он должен держать свое вино и, возможно, питьевую воду…
Я знал, что Эрик – большой любитель хороших марочных вин… Ах, тут было чем утолить жажду!..
Господин де Шаньи гладил круглые формы и неустанно повторял:
– Бочки! Бочки!.. Сколько бочек!..
Действительно, определенное количество бочек располагалось строго симметрично двумя рядами, между которыми мы и находились.
Бочки были маленькие, и я вообразил, что Эрик выбрал именно такой размер для облегчения доставки их в Озерный дом!..
Мы исследовали их одну за другой, проверяя, нет ли где початой бочки с краном, это свидетельствовало бы, что из нее время от времени брали вино.
Однако все бочки были наглухо запечатаны.
Тогда, приподняв одну, дабы удостовериться в том, что она полная, мы встали на колени, и лезвием маленького ножичка, который был при мне, я уже собрался вынуть затычку.
И в этот момент мне почудилось что-то вроде монотонного пения, доносившегося откуда-то издалека, оно было мне знакомо, я нередко слышал, как на парижских улицах произносили нараспев: «Бочки!.. Бочки!.. Продаете бочки?..» Рука моя застыла на затычке… Господин де Шаньи тоже это услышал.
– Странно! – сказал он. – Можно подумать, будто поет бочка!..
Пение возобновилось, но еще более отдаленное… «Бочки!.. Бочки!.. Продаете бочки?..»
– О-о! Клянусь вам, – сказал виконт, – песня удаляется в самой бочке!..
Поднявшись с колен, мы заглянули за бочку.
– Это внутри! – настаивал господин де Шаньи. – Это внутри!..
Но больше мы ничего не слышали и вынуждены были во всем винить плохое состояние наших органов чувств, нарушение их деятельности…
Мы вернулись к затычке. Господин де Шаньи подставил обе руки, а я, собрав все силы, откупорил затычку.
– Что это такое? – сразу же воскликнул виконт. – Это не вода!
Виконт поднес полные руки к фонарю. Я склонился над его руками и тотчас резким движением отбросил фонарь как можно дальше, он разбился и погас… и был для нас потерян…
В руках господина де Шаньи я увидел… порох!
Повернуть скорпиона или повернуть кузнечика?
Конец рассказа Перса
Так, спустившись на дно погреба, я постиг сокровенную суть моей страшной мысли! Несчастный не обманывал меня, когда произносил неясные угрозы в адрес многих из тех, кто принадлежит к роду людскому! Не причисляя себя к людскому роду, он построил вдали от людей берлогу подземного зверя, полный решимости взорвать все и самому погибнуть в оглушительной катастрофе, если те, кто находится наверху, станут преследовать его в собственном логове, где он сокрыл от посторонних глаз свое чудовищное безобразие.
Сделанное нами открытие повергло нас в такое смятение, что мы забыли все свои прошлые беды и муки настоящего. И хотя еще совсем недавно мы стояли на грани самоубийства, исключительность ситуации, в которой мы оказались, только сейчас предстала перед нами во всем своем ужасе. Теперь мы понимали все, что хотел сказать и говорил Кристине Дое Эрик, это чудовище, все, что означала его гнусная фраза: «Да или нет!.. Если нет, со всеми будет покончено, и все будут погребены!..» Да, погребены под обломками того, что было парижской «Гранд-Опера»!.. Можно ли придумать более страшное преступление, чтобы покинуть мир в апофеозе ужаса? Катастрофа, задуманная в целях сохранения неприкосновенности убежища, должна была стать местью за любовь самого кошмарного чудовища, когда-либо разгуливавшего под небесами!.. «Одиннадцать часов завтрашнего вечера – последний срок!..» Ах, недаром он выбрал это время!.. На праздник соберется много народа!.. Много тех, кто принадлежит к роду людскому. Там, наверху, на сияющих этажах дома музыки!.. Можно ли было мечтать о более прекрасном кортеже в день своей смерти?.. Он сойдет в могилу в сопровождении самых прекрасных плеч мира, украшенных всевозможными драгоценностями… Завтра вечером, в одиннадцать часов!.. Мы должны взорваться в разгар представления, если Кристина Дое скажет: «Нет!» Завтра вечером, в одиннадцать часов!.. А как может Кристина Дое не сказать «нет»? Да она предпочтет скорее обручиться со смертью, нежели с этим живым трупом! Разве она знает, что от ее отказа зависит судьба, жестокая судьба многих из тех, кто принадлежит к роду людскому?.. Завтра вечером, в одиннадцать часов!..
Спасаясь от пороховых бочек, мы блуждали в потемках, пытаясь отыскать каменные ступени, ибо наверху, над нашими головами, ведущий в зеркальную комнату люк уже погас… Мы непрестанно повторяли: «Завтра вечером, в одиннадцать часов!..»
Наконец я нашел лестницу и вдруг замер на первой ступеньке, ибо меня озаряет страшная мысль: «Который час?»
Ах, который теперь час? Который час!.. Ибо, в конце-то концов, одиннадцать часов завтра вечером – это ведь, быть может, уже сегодня, сейчас!.. Кто нам скажет, который теперь час!.. У меня такое ощущение, будто мы заперты в этом аду на протяжении многих дней… долгих лет… с начала всех времен… Возможно, мы взлетим сей момент!.. Ах, какой-то шум!.. Что-то скрипнуло!.. Вы слышали, сударь?.. Там!.. В том углу… Великий Боже!.. Похоже на звук какого-то механизма!.. Опять!.. Ах, где же свет!.. Может, с помощью механизма все и взлетит!.. Говорю же вам: какой-то скрип, вы что, оглохли?
Мы с господином де Шаньи кричим, как безумные. Страх гонится за нами по пятам, мы взбираемся вверх по лестнице, соскальзывая со ступеней… Люк наверху, видимо, закрыт! Может, это из-за закрытой крышки так черно? Ах, выбраться из темноты! Выбраться из темноты!.. Вновь обрести смертоносный свет зеркальной комнаты!..
И вот мы взобрались наверх… Нет, люк открыт, но в зеркальной комнате теперь так же темно, как в погребе, откуда мы ушли!.. Мы окончательно выбираемся из погреба, тащимся по полу комнаты пыток, по полу, который отделяет нас от порохового погреба… Который час?.. Мы кричим, мы зовем!..
– Кристина!.. Кристина!.. – взывает изо всех возвращающихся к нему сил господин де Шаньи. А я зову Эрика, напоминая, что спас ему жизнь. Но никакого ответа!.. Ничего, только наше собственное отчаяние, наше собственное безумие, который час?.. «Завтра вечером, в одиннадцать часов!..» Мы спорим, мы пытаемся измерить проведенное здесь время, однако мы не способны рассуждать здраво… Если бы можно было взглянуть на циферблат часов со стрелками, которые показывают время!.. Мои часы давно остановились, но у господина де Шаньи они пока идут… Он сказал, что завел их, когда одевался вечером, собираясь в Оперу… Мы пытаемся сделать какой-то вывод из этого факта, позволяющий надеяться, что роковая минута еще не наступила…
Малейший звук, доносящийся из люка, который я безуспешно старался вновь закрыть, повергает нас в жестокую тревогу… Который час?.. У нас не осталось спичек. А между тем надо бы узнать. Господин де Шаньи решил разбить стекло своих часов и потрогать стрелки… Воцаряется полнейшая тишина, пока он на ощупь кончиками пальцев вопрошает стрелки. Кольцо часов служит ему отправной точкой!.. По расположению стрелок он определил, что сейчас как раз где-то около одиннадцати…
Но одиннадцать часов, которые заставляют нас содрогаться, возможно, уже прошли, не так ли?.. Вдруг сейчас десять минут двенадцатого, и впереди у нас еще, по крайней мере, двенадцать часов?
– Тихо! – крикнул я вдруг.
Мне почудились шаги в соседней комнате. Я не ошибся!
Послышался шум дверей и вслед за тем торопливые шаги. Стук в стенку. Голос Кристины:
– Рауль! Рауль!
Ах, теперь мы кричим все вместе – и по ту, и по другую сторону стены. Кристина рыдает, она не знала, застанет ли господина де Шаньи в живых!.. Эрик был страшен, вот уж поистине чудовище… Он был как в бреду, дожидаясь, когда она согласится произнести «да», в котором ему отказывала… А между тем она обещала ему это «да», если он отведет ее в комнату пыток!.. Но он упрямо не соглашался, не скупясь на жестокие угрозы в адрес тех, кто принадлежит к роду людскому… Наконец, после долгих часов этого ада, он только что вышел, оставив ее одну подумать в последний раз…
…После долгих часов!..
– Сколько сейчас времени? Сколько времени, Кристина?..
– Одиннадцать часов!.. Без пяти минут одиннадцать!..
– Но какие одиннадцать часов?..
– Те самые, которые должны решить: жизнь или смерть!.. Он только что напомнил мне об этом перед уходом, – хриплым голосом продолжает Кристина. – Он ужасен!.. Говорит какой-то бред, сорвал свою маску, и его золотые глаза мечут пламя! Он все время смеется!.. Сказал мне со смехом пьяного демона: «Пять минут! Оставляю тебя одну по причине твоей пресловутой стыдливости!.. Не хочу, чтобы ты, как все робеющие невесты, краснела передо мной, когда скажешь «да»!.. Какого дьявола! Мне ли тебя не знать!» Говорю вам, он был похож на пьяного демона!.. «Держи! – сказал он и сунул руку в мешочек жизни и смерти. – Держи! Вот бронзовый ключик, который открывает шкатулки черного дерева, что стоят на камине в спальне Луи-Филиппа… В одной из этих шкатулок ты найдешь скорпиона, в другой – кузнечика, прекрасные зверюшки, сделанные из японской бронзы; они говорят «да» и «нет»! Тебе остается только повернуть скорпиона на его стержне, чтобы он оказался в положении, противоположном тому, в каком ты его найдешь. В моих глазах, когда я вернусь в спальню Луи-Филиппа, в свадебную комнату, это будет означать: да!.. Кузнечик же, если ты повернешь его, скажет мне: нет! когда я вернусь в спальню Луи-Филиппа, в комнату смерти!..» А сам все смеялся, как пьяный демон! Я на коленях просила у него ключ от комнаты пыток, обещала навсегда стать его женой, если он согласится отдать его… Но он заявил, что ключ этот никогда больше не понадобится, что он бросит его на дно озера!.. А потом все так же со смехом пьяного демона оставил меня, сказав, что вернется не раньше чем через пять минут, он знает, как должен вести себя галантный мужчина, уважающий женскую стыдливость!.. Ах, да, и еще он крикнул: «Кузнечик!.. Осторожней с кузнечиком!.. И дело не только в кузнечике, вместе с ним летит все!.. Все!.. Все летит в тартарары!..»
Я пытаюсь воспроизвести здесь отдельными фразами, словами, восклицаниями смысл бредовых речей Кристины!.. Ибо за эти сутки ей довелось испить до дна чашу человеческих страданий, наверное, она страдала больше нас!.. Каждую минуту Кристина прерывала и себя и нас, спрашивая: «Рауль, тебе плохо?..» Она ощупывала стены, ставшие теперь холодными, и все удивлялась, почему они были такими горячими!.. Но вот прошли пять минут, в моей бедной голове всеми своими лапками заскребли скорпион с кузнечиком!..
Меж тем я сохранял достаточную ясность ума, чтобы понять: если повернуть кузнечика, кузнечик прыгнет – но куда? – и увлечет за собой – возможно, в бездну – многих из тех, кто принадлежит к роду людскому! Никаких сомнений: кузнечик подключен к электрическому току, его назначение – взорвать пороховой погреб! Господин де Шаньи, который, услышав голос Кристины, вновь, казалось, обрел душевные силы, торопливо объяснил девушке, в каком жутком положении мы находимся – и мы, и вся Опера. Надо поворачивать скорпиона, и немедленно…
Скорпион, означавший «да», которого так жаждал Эрик, должен, очевидно, предотвратить катастрофу.
– Ступай же!.. Ступай, Кристина, моя обожаемая жена!.. – молил Рауль.
Наступило молчание.
– Кристина, где вы? – воскликнул я.
– Возле скорпиона!
– Не прикасайтесь к нему!
Мне пришла мысль, ибо я хорошо знал моего Эрика, что он опять обманул молодую женщину. Возможно, именно скорпион должен все взорвать. Почему его самого-то здесь нет? Пять минут давно уже истекли, а он так и не вернулся… Наверняка укрылся где-нибудь!.. И ждет, видимо, оглушительного взрыва. Больше ему нечего ждать. Не мог же он надеяться, что Кристина добровольно согласится стать его добычей!.. Почему он не вернулся?.. Не прикасайтесь к скорпиону!..
– Он! – воскликнула Кристина. – Я слышу его!.. Вот он!..
Эрик в самом деле явился. Мы слышали его шаги, приближавшиеся к спальне Луи-Филиппа. Теперь он был с Кристиной. И не произносил ни слова.
Тогда я возвысил голос:
– Эрик, это я! Узнаешь меня?
Он тотчас отозвался на мой призыв, причем на удивление миролюбиво:
– Так вы все еще живы там?.. Ну что ж, постарайтесь вести себя тихо.
Я хотел прервать его, но он продолжал таким ледяным тоном, что я похолодел за своей стеной:
– Ни слова больше, дарога, или я все взорву!
И сразу добавил:
– Но честь эта должна принадлежать мадемуазель!.. Мадемуазель не притронулась к скорпиону (как невозмутимо он говорил!), мадемуазель не притронулась к кузнечику (с каким ужасающим хладнокровием!), но никогда не поздно поступить правильно. Смотрите, я открываю без ключа, ибо я, любитель люков, могу открыть и закрыть все, что захочу и как захочу… Я открываю шкатулочки черного дерева, загляните, мадемуазель, в шкатулочки черного дерева, тут красивые зверюшки, и довольно хорошо скопированы, а какими кажутся безобидными… Но по виду судить не следует! (И все это бесцветным, ровным голосом…) Если повернуть кузнечика, все мы взлетим, мадемуазель… Под нами достаточно пороха, чтобы взорвать целый квартал Парижа… Если же повернуть скорпиона, весь этот порох утонет!.. Мадемуазель, по случаю нашей свадьбы вы можете сделать прекрасный подарок нескольким сотням парижан, аплодирующих в данный момент весьма жалкому шедевру Мейербера… Вы можете подарить им жизнь, ибо вашими красивыми ручками, мадемуазель (сколько усталости в этом голосе), вы повернете скорпиона!.. И мы сыграем веселую-развеселую свадьбу!
И, помолчав, продолжал:
– Если через две минуты, мадемуазель, вы не повернете скорпиона – у меня часы, – добавил Эрик, – часы, которые отлично ходят… тогда я поверну кузнечика, а с кузнечиком все полетит в тартарары!..
Снова наступило молчание, еще более жуткое, чем все предыдущие.
Я знал: если Эрик усталым голосом начинает говорить миролюбиво и спокойно, значит, он дошел до предела и способен либо совершить чудовищное злодеяние, либо проявить беззаветную самоотверженность, и любой неприятный для его слуха звук может вызвать в такой момент бурю.
Господин де Шаньи понял, что остается только молиться, и, встав на колени, он молился… Что же касается меня, то моя кровь буквально кипела, и сердце билось так сильно, что мне пришлось схватиться за него рукой, я боялся, как бы оно не разорвалось… Мы с ужасом чувствовали, что творится в эти последние секунды в охваченных смятением мыслях Кристины Дое… Мы понимали ее опасение повернуть скорпиона… Еще раз повторяю, а если именно скорпион должен взорвать все!.. Если Эрик решил и нас увлечь за собой в бездну!
Наконец послышался голос Эрика, на этот раз ласковый и ангельски нежный…
– Две минуты истекли… Прощайте, мадемуазель!.. Вперед, кузнечик!..
– Эрик! – воскликнула Кристина, схватившая, верно, чудовище за руку. – Поклянись мне, чудовище, поклянись мне твоей дьявольской любовью, что повернуть следует скорпиона…
– Да, чтобы лететь навстречу нашей свадьбе…
– Вот видишь! Значит, мы взлетим!
– На верх блаженства, невинное дитя!.. Скорпион открывает свадебный бал!.. Ну, хватит!.. Не хочешь скорпиона? Тогда – кузнечик!
– Эрик!..
– Довольно!..
Я кричал вместе с Кристиной. Господин де Шаньи, по-прежнему на коленях, продолжал молиться…
– Эрик! Я повернула скорпиона!..
Ах, какое мгновение нам довелось пережить!
Мы ждали!
Ждали, что превратимся в прах средь грохота обломков…
Ощущали, как что-то потрескивает у нас под ногами в разверзнувшейся бездне, что-то, что может предвещать начало апофеоза ужаса, ибо из открытого во мрак люка – черной пасти в ночной черноте – доносился вселяющий тревогу свист, похожий на звук летящего снаряда…
…Сначала едва слышный, потом погромче, и вот уже оглушительный…
Но слушайте! Слушайте! И держите обеими руками свое сердце, готовое разорваться на куски вместе со многими из тех, кто принадлежит к роду людскому.
Это не шипение огня.
Похоже, скорее, на вырвавшийся поток воды…
К люку! Скорее к люку!
Слушайте! Слушайте!
Теперь доносится бульканье, бульканье…
К люку!.. К люку!.. К люку!..
Какая прохлада!
Вот она, долгожданная свежесть! Вместе с шумом воды возвращается отступившая перед страхом жажда, одолевавшая нас теперь с новой силой.
Вода! Вода! Поднимается вода!..
Она поднимается в погреб, затопляя бочки, все пороховые бочки (Бочки! Бочки! Продаете бочки?). Вода!.. Вода, к которой мы спускаемся с пылающим горлом… Вода, она доходит нам до подбородка, до губ…
И мы пьем…
На дне погреба мы пьем прямо из погреба…
Потом карабкаемся в черной ночи по лестнице, ступенька за ступенькой, по той самой лестнице, по которой спускались навстречу воде, а теперь поднимаемся вместе с водой.
Сколько же погублено пороха, сколько его потоплено потоками воды!.. Прекрасная работа! В Озерном жилище воды не жалеют! Но если и дальше так пойдет, вся вода озера может оказаться в погребе…
Ибо, по правде говоря, теперь уже неизвестно, когда она остановится…
И вот мы вышли из погреба, а вода все поднимается…
Вода спешит вслед за нами из погреба, разливается по полу. Если так будет продолжаться, она затопит все Озерное жилище. Пол в зеркальной комнате превратился теперь в настоящее маленькое озеро, в котором мы барахтаемся. Воды уже довольно. Пускай Эрик закроет кран: «Эрик! Эрик! Пороховым бочкам хватит воды! Поверни кран! Закрой скорпиона!»
Но Эрик не отвечает… Слышно лишь, как поднимается вода… Она доходит нам почти до колен!..
– Кристина! Кристина! – кричит господин де Шаньи. – Вода поднимается! И дошла почти до колен.
Но Кристина не отвечает… Слышно лишь, как поднимается вода.
В соседней комнате – ни звука… Ничего и никого! Никого, чтобы закрыть скорпиона!
Темно, мы совсем одни, а черная вода теснит нас, ползет вверх, леденит нас! Эрик! Эрик! Кристина! Кристина!
Теперь мы уже не достаем до дна и кружим в воде, подхваченные неодолимым круговоротом, ибо вода кружит вместе с нами, мы натыкаемся на черные зеркала, которые отталкивают нас, и глотки наши, приподнявшись над водоворотом, издают отчаянный вопль…
Неужели нам суждено умереть, утонув в комнате пыток?.. Такого я никогда не видел! Во времена розовых часов Мазандерана Эрик ни разу не показывал мне этого в невидимое окошечко!.. Эрик! Эрик! Я спас тебе жизнь! Вспомни!.. Ты был осужден!.. Тебе грозила смерть!.. Я открыл для тебя двери жизни!.. Эрик!..
Ах, мы кружим в воде, словно обломки после кораблекрушения!..
И вдруг я ухватился своими беспомощными руками за ствол железного дерева…
А вода все поднимается!
Ай-ай-ай! Вспомните! Какое пространство отделяет ветку железного дерева от куполообразного потолка зеркальной комнаты?.. Попытайтесь вспомнить!.. В конце концов, вода, может быть, остановится, дойдет до определенного уровня и остановится… Да-да, мне кажется, она останавливается!.. Нет! Нет! Вот ужас!.. Плыть! Плыть! Наши руки сплетаются; мы задыхаемся!.. Бьемся в черной воде!.. С трудом вдыхаем черный воздух над черной водой – воздух, который с каждой минутой улетучивается, мы слышим, как он уходит, втягиваемый неведомым вентиляционным аппаратом… Ах, кружить, кружить! Будем кружить, пока не найдем глоток воздуха. Приникнем губами к этому живительному глотку… Но силы оставляют меня, я пытаюсь цепляться за стены! Ах, до чего же скользкие эти зеркальные стены, пальцам не за что ухватиться. А мы все кружим и кружим!.. Мы погружаемся… Последнее усилие!..
Последний крик!.. Эрик!.. Кристина!..
Буль, буль, буль!.. В ушах только и слышно: буль, буль, буль!.. В глубине черной воды наши уши делают буль, буль!.. Но до того, как я окончательно потерял сознание, в промежутках между бульканьем мне чудилось, будто я снова слышу: «Бочки!.. Бочки!.. Продаете бочки?»
Конец любовной истории Призрака
На этом заканчивается оставленный мне Персом записанный рассказ.
Несмотря на ужас ситуации, окончательно, казалось, обрекавшей их на смерть, господина де Шаньи и его спутника спасла благороднейшая самоотверженность Кристины Дое. И конец этой истории я узнал из уст самого дароги.
Когда я собрался к нему, он по-прежнему жил в маленькой квартирке на улице Риволи, напротив Тюильри. Он был очень болен, и понадобилось все мое упорство репортера-историка на службе истины, чтобы заставить его решиться вновь пережить вместе со мной невероятную драму. При нем по-прежнему находился его старый и верный слуга Дарий, он-то и проводил меня к нему. Дарога принимал меня, сидя в широком кресле у окна, откуда открывался вид в сад, и все пытался распрямиться, вспоминая, должно быть, свою былую, наверняка не лишенную красоты осанку. У нашего Перса были все такие же великолепные глаза, вот только лицо казалось усталым и жалким. Он наголо обрил себе голову, на которой, по обыкновению, красовалась каракулевая шапочка; на нем была очень простая широкая накидка, не отдавая себе в этом отчета, он развлекался тем, что крутил в рукавах большими пальцами, однако разум его оставался абсолютно ясным.
Он не мог без дрожи вспоминать о прежних муках, и мне с трудом, по крохам удалось вырвать у него признания об удивительном конце этой странной истории. Иногда он долго заставлял себя просить, прежде чем ответить на мои вопросы, а иногда, воодушевленный воспоминаниями, непроизвольно, с необычайной выразительностью воссоздавал для меня жуткий образ Эрика и страшные часы, которые они с господином де Шаньи провели в Озерном жилище.
Надо было видеть, с каким содроганием он описывал свое пробуждение в тревожном сумраке спальни Луи-Филиппа после драмы с водой… Вот конец этой ужасной истории, он поведал его мне, дабы дополнить свой записанный рассказ, который тоже любезно согласился вручить мне.
Открыв глаза, дарога увидел, что лежит в кровати… Господин де Шаньи лежал на канапе возле зеркального шкафа. Ангел и демон ухаживали за ними… После иллюзий и миражей комнаты пыток детали буржуазного быта этой мирной маленькой комнатки казались опять-таки придуманными нарочно, дабы сбить с толку смертного, достаточно безрассудного, чтобы отважиться блуждать в дебрях живого кошмара. Эта кровать-лодочка, эти навощенные стулья красного дерева, комод с его медными украшениями, вязанные крючком кружевные квадратики, заботливо уложенные на спинках кресел, каминные часы и по обе стороны камина – шкатулочки, на вид такие безобидные… Наконец, этажерка с ракушками, красной подушечкой для иголок, перламутровыми корабликами и огромным страусиным яйцом. И все это освещалось лампой с абажуром, стоявшей на тумбочке и лившей приглушенный свет. Обстановка, на которой лежала печать трогательной домашней невзрачности, такая мирная, неожиданно благопристойная «в недрах подвалов Оперы», приводила в замешательство больше, нежели все минувшие фантасмагории.
И тень человека в маске в этом старомодном, чистеньком, аккуратном обрамлении казалась еще более странной. Склонившись к уху Перса, человек этот тихо сказал:
– Тебе лучше, дарога?.. Ты смотришь на мою мебель?.. Это все, что мне осталось от моей бедной, несчастной матери…
Он еще что-то говорил, но что именно, Перс уже не помнил; однако ему определенно запомнилось – и показалось довольно странным, – что во время пребывания в допотопной спальне Луи-Филиппа говорил один Эрик. Кристина Дое не произносила ни слова, она бесшумно передвигалась, словно сестра милосердия, давшая обет молчания… Приносила в чашке какое-нибудь укрепляющее снадобье или горячий чай… Человек в маске брал из ее рук чашку и протягивал Персу.
Что же касается господина де Шаньи, то он спал.
Наливая в чашку дароги немного рома, Эрик сказал, показывая ему на распростертого виконта:
– Он пришел в себя намного раньше, чем мы смогли понять, вернетесь ли вы когда-нибудь к жизни, дарога. С ним все в порядке. Он спит. Не надо его будить…
Эрик ненадолго вышел из комнаты, и Перс, приподнявшись на локте, огляделся вокруг. В углу у камина он заметил белый силуэт Кристины Дое. И обратился к ней, позвал ее, но был еще слишком слаб и опять упал на подушку…
Кристина подошла к нему, положила руку ему на лоб, затем отошла… И Перс вспомнил, что, уходя, она даже не взглянула на господина де Шаньи, который, правда, преспокойно спал рядом, и вернулась к своему креслу у камина, молчаливая, словно сестра милосердия, давшая обет молчания…
Появился Эрик с маленькими пузырьками, которые он поставил на камин. И снова тихонько, чтобы не разбудить господина де Шаньи, сказал Персу, присев у его изголовья и пощупав у него пульс:
– Теперь вы оба спасены. И скоро я отправлю вас на поверхность земли, чтобы доставить удовольствие моей жене. – Затем встал и, так ничего и не объяснив, снова исчез.
Перс разглядывал спокойный профиль Кристины Дое под лампой. Она читала крохотную книжицу с золотым обрезом – такие бывают у религиозных книг. «Имитасьон» выпускает подобные издания. В ушах у Перса все еще звучал естественный тон, каким Эрик сказал ему: «Чтобы доставить удовольствие моей жене…»
Дарога опять потихоньку позвал Кристину, но она, видно, так углубилась в чтение, что не услышала…
Вернулся Эрик… Дав выпить дароге микстуру, он посоветовал ему ни слова больше не говорить «его жене» и никому другому, потому что это может быть очень опасно для всеобщего здоровья.
Начиная с этого момента Перс отчетливо помнит, как черная тень Эрика и белый силуэт Кристины скользили, по-прежнему молча, по комнате, склоняясь иногда над господином де Шаньи. Перс был еще очень слаб, и от малейшего шума – если дверца зеркального шкафа, например, открывалась со скрипом – у него начинала болеть голова… Потом и он заснул, вроде господина де Шаньи.
Проснулся он уже у себя дома, где за ним ухаживал верный Дарий, он-то и рассказал ему, что прошлой ночью его нашли у двери собственной квартиры, куда он был доставлен неким неизвестным, который не преминул позвонить, прежде чем уйти.
Как только дарога пришел в себя и обрел силы, он тотчас послал справиться о виконте в дом графа Филиппа.
Ему ответили, что молодой человек не появлялся, а граф Филипп умер. Его труп нашли на берегу озера Оперы со стороны улицы Скриба. Перс вспомнил заупокойную мессу, на которой присутствовал за стеной зеркальной комнаты, у него не оставалось больше сомнений ни относительно преступления, ни относительно преступника. Зная Эрика, он, увы, без труда восстановил всю драму. Решив, что его брат похитил Кристину Дое, Филипп поспешил вслед за ним по той самой дороге на Брюссель, где, как он знал, все было приготовлено для такого случая. Не встретив там молодых людей, он вернулся в Оперу, вспомнив странные откровения Рауля относительно его фантастического соперника, и узнал, что виконт испробовал все, чтобы проникнуть в подвалы театра, а потом исчез, оставив свой цилиндр в гримерной дивы рядом с коробкой от пистолетов. И граф, не сомневаясь более в безумии брата, ринулся, в свою очередь, в этот дьявольский подземный лабиринт. По мнению Перса, этого оказалось довольно, чтобы труп графа был найден на берегу озера, где неусыпную стражу несла песнь сирены, сирены Эрика, этой привратницы озера мертвых.
Перс не колебался. Напуганный этим новым преступным деянием и не желая оставаться в неведении относительно окончательной судьбы виконта и Кристины Дое, он решил все рассказать правосудию.
Расследование дела было поручено господину Фору, к нему-то он и направился. Можно догадаться, как скептически настроенный, довольно заурядный и поверхностный ум (я говорю то, что думаю), не подготовленный к подобному откровению, воспринял показания дароги. Его попросту сочли безумцем.
Потеряв надежду, что к его словам кто-то прислушается, Перс начал тогда писать. Если правосудие отказывается принять его свидетельство, возможно, им заинтересуется пресса; и вот однажды вечером, когда он написал последнюю строчку своего рассказа, который я в точности привел здесь, его слуга Дарий сообщил, что пришел неизвестный, лица которого нельзя разглядеть, имени своего он не назвал, но заявил, что не уйдет, пока не поговорит с дарогой.
Сразу распознав личность странного посетителя, Перс велел тут же впустить его.
Дарога не ошибся.
То был Призрак! То был Эрик!
Выглядел он очень ослабевшим и держался за стенки, словно боялся упасть… Когда же он снял шляпу, стал виден его восковой бледности лоб. Остальную часть лица скрывала маска.
Перс встал перед ним.
– Убийца графа Филиппа, что ты сделал с его братом и Кристиной Дое?
Сраженный таким приемом, Эрик пошатнулся и какое-то время хранил молчание, затем, дотащившись до кресла, с глубоким вздохом опустился в него. И тогда только, едва дыша, короткими фразами, отрывочными словами поведал следующее:
– Дарога, не говори мне о графе Филиппе. Он уже… умер… когда я вышел из дому… Он был уже… мертв… когда… сирена запела… Это несчастный случай… печальный… прискорбно печальный… несчастный случай… Он просто-напросто самым естественным образом упал в озеро!..
– Лжешь! – воскликнул Перс.
Тогда Эрик, склонив голову, сказал:
– Я пришел сюда не для того, чтобы говорить с тобой о графе Филиппе, но чтобы сказать тебе, что я умираю…
– Где Рауль де Шаньи и Кристина Дое?..
– Я умираю…
– Рауль де Шаньи и Кристина Дое?
– …от любви… дарога… я умираю от любви… ничего не поделаешь… я так ее любил!.. И сейчас все еще люблю, дарога, раз умираю из-за этого, поверь мне. Если бы ты знал, как она была красива, когда, поклявшись вечным своим спасением, позволила мне поцеловать ее живую!.. В первый раз, дарога, слышишь, в первый раз я целовал женщину… Да, живую, я целовал ее живую, а она была прекрасна, словно мертвая!..
Перс встал и осмелился прикоснуться к Эрику. Он потряс его за руку.
– Скажешь ли ты мне наконец, живая она или мертвая?..
– Зачем ты меня трясешь? – с усилием отвечал Эрик. – Говорю тебе, что я умираю… да, я поцеловал ее живую…
– А теперь она умерла?
– Говорю же тебе, я поцеловал ее вот так, в лоб, и она не отстранилась от моих губ!.. Ах, это поистине честная девушка! А умерла она или нет, я не думаю, хотя меня это уже не касается… Нет! Нет! Она не умерла! И не дай бог, если я узнаю, что кто-нибудь тронул хоть волос на ее голове! Это славная и честная девушка, которая, кроме всего прочего, спасла тебе жизнь, дарога, в тот момент, когда я не дал бы и двух су за твою шкуру Перса. Ведь никому до тебя не было дела. Почему ты оказался там с этим молодым человеком? Ты должен был умереть, и все! Правда, она просила меня за своего молодого человека, но я ответил, что раз она по доброй воле повернула скорпиона, я в силу этого стал ее женихом, а два жениха ей ни к чему, и это вполне справедливо; что же касается тебя, то ты уже был не в счет и, повторяю, должен был умереть вместе с другим женихом!
Но слушай дальше, дарога. Вы оба кричали, как одержимые, – из-за подступавшей воды, и Кристина пришла ко мне и, глядя на меня своими прекрасными голубыми глазами, поклялась вечным своим спасением, что согласна стать моей живой женой! До той минуты, дарога, в глубине ее глаз я всегда видел свою жену мертвой; а тут в первый раз увидел в них свою жену живой. Она была искренна, поклявшись вечным своим спасением. Обещала, что не убьет себя. Договор был заключен. Через полминуты вся вода ушла обратно в озеро, и я надрывался, спасая тебя, дарога, так как, честное слово, думал, что ты не выживешь!.. Ну вот и все! Решение было принято! Я должен был доставить вас на поверхность земли. И когда вы наконец избавили от своего присутствия мою спальню Луи-Филиппа, я вернулся туда один.
– Что ты сделал с виконтом де Шаньи? – спросил Перс.
– Ну ты же понимаешь, дарога… Того-то я не мог так просто сразу же доставить на поверхность… Он был заложником… Однако и в Озерном жилище я тоже держать его не мог – из-за Кристины; и тогда я запер его вполне достойно – да попросту связал (аромат Мазандерана сделал его послушным, как тряпка) в темнице коммунаров, которая расположена в самой безлюдной и отдаленной части подземелья Оперы, ниже пятого подвального этажа, там, куда никто никогда не заглядывает и откуда никому ничего не будет слышно. После этого я спокойно мог вернуться к Кристине Дое. Она ждала меня…
На этом месте своего рассказа Призрак поднялся с такою торжественностью, что Персу, который снова сел было в кресло, пришлось тоже встать, и он, словно повинуясь тому же душевному порыву и чувствуя, что нельзя сидеть в столь ответственный момент, даже снял, хотя и был обрит наголо, свою каракулевую шапочку (об этом сказал мне сам Перс).
– Да! Она ждала меня! – продолжал Эрик, который дрожал, как осиновый лист, но дрожал от переполнявшего его в соответствии с торжественным моментом волнения. – Она ждала меня стоя, живая, как самая настоящая живая невеста, поклявшаяся своим вечным спасением… И когда я подошел, робея, как малый ребенок, она не убежала, нет-нет, она осталась, дождалась меня… И мне даже показалось, дарога, что она… О, не так заметно, слегка, как живая настоящая невеста, подставила свой лоб… И… и… я… поцеловал ее!.. Я!.. Я!.. Я!.. И она не умерла!.. А осталась, как положено, рядом со мной после того, как я поцеловал ее вот так… в лоб… Ах, до чего же это хорошо, дарога, кого-то поцеловать!.. Ты не можешь этого понять!.. Но я! Я!.. Моя мать, дарога, моя бедная несчастная мать ни разу не захотела, чтобы я поцеловал ее… Она всегда убегала, бросая мне мою маску!.. Ни она и никакая другая женщина!.. Ни разу!.. Никогда!.. Ай-ай-ай! И тогда я, а как же иначе, я заплакал от такого счастья. И со слезами упал к ногам Кристины… Ты тоже плачешь, дарога; и она плакала… Ангел плакал…
Рассказывая все это, Эрик рыдал, и Перс действительно не мог сдержать слез, глядя на этого человека в маске, плечи которого сотрясались; прижав руки к груди, он хрипел то от боли, то от умиления.
– О, дарога, я чувствовал, как ее слезы текут по моему лбу, по моему, по моему, по моему! Они были горячие, они были сладостные! Ее слезы попадали под маску и смешивались с моими собственными слезами!.. Они скатывались до самых губ… Ах, ее слезы на моем лице! Послушай, дарога, послушай, что я сделал… Я сорвал свою маску, чтобы не потерять ни единой ее слезинки… И она не убежала!.. И она не умерла! Осталась жива и плакала, надо мной, вместе со мной… Мы плакали вместе!.. Владыка небесный! Ты подарил мне неслыханное счастье!.. – И Эрик с хрипом рухнул в кресло. – Ах, я еще не умираю… не сейчас… Но дай мне поплакать! – сказал он Персу.
Через минуту человек в маске продолжал:
– Слушай, дарога, слушай хорошенько… Пока я лежал у ее ног, я слышал, как она говорила: «Бедный, несчастный Эрик!», и она взяла меня за руку… Надеюсь, ты понимаешь, что после этого я превратился в жалкого пса, готового умереть ради нее, – верно тебе говорю, дарога!
И представь себе, в руке у меня было кольцо, золотое кольцо, которое я ей подарил и которое она потеряла, а я нашел… в общем, обручальное кольцо!.. Я положил кольцо в ее маленькую ручку и сказал: «Вот!.. Возьми это!.. Возьми для себя и для него… Это мой свадебный подарок, подарок бедного, несчастного Эрика… Я знаю, ты его любишь, того молодого человека… Не плачь больше!..» Она спросила меня очень ласково, что я имею в виду; и тогда я дал ей понять, и она сразу поняла, что я всего лишь жалкий пес, готовый умереть ради нее, но она, она может выйти замуж за молодого человека, когда пожелает, потому что она плакала вместе со мной… Ах, дарога, сам подумай… Когда я говорил ей это, мне казалось, будто я режу на куски свое сердце, но ведь она плакала вместе со мной и говорила: «Бедный, несчастный Эрик!..»
Волнение Эрика было так велико, что он вынужден был просить Перса не смотреть на него: он задыхался, и ему пришлось снять маску. Тут дарога признался мне, что он сам пошел к окну, чтобы открыть его, сердце его разрывалось от жалости, и все-таки он старался не отрывать глаз от верхушек деревьев Тюильрийского сада, чтобы только не видеть лица чудовища.
– Я пошел и освободил молодого человека, – продолжал Эрик, – сказал ему, чтобы он следовал за мной к Кристине… Они обнялись при мне в спальне Луи-Филиппа. У Кристины было мое кольцо…
Я заставил Кристину поклясться, что, когда я умру, она придет ночью к озеру с улицы Скриба, чтобы похоронить меня тайно вместе с золотым кольцом, которое до той минуты будет носить сама… Я сказал ей, где найти мое тело и что надо делать… Тогда Кристина в первый раз поцеловала меня в свою очередь, вот сюда, в лоб… (Не смотри, дарога!) Сюда, в лоб… мой лоб!.. (Не смотри, дарога!) И они ушли вместе… Кристина больше не плакала, плакал я один… Дарога, дарога… Если Кристина сдержит свою клятву, она скоро вернется!.. – Эрик умолк.
Перс ни о чем его больше не спрашивал. Он был спокоен за судьбу Рауля де Шаньи и Кристины Дое, и никто из тех, кто принадлежит к роду людскому, послушав Эрика, который плакал в ту ночь, не усомнился бы в его словах.
Чудовище снова скрыло свое лицо под маской. Собравшись с силами, Эрик покинул дарогу. Он заявил, что когда почувствует близкий конец, то, чтобы отблагодарить Перса за добро, которое тот для него сделал, пошлет ему самое дорогое для себя на свете: все письма Кристины Дое, написанные ею во время этих событий для Рауля и оставленные Эрику, а также кое-какие доставшиеся ему вещи: два носовых платка, пару перчаток и бант с туфли. На вопрос, заданный Персом, Эрик ответил, что сразу же после обретения свободы молодые люди приняли решение отправиться на поиски священника в какую-нибудь далекую глушь, где они собирались укрыть свое счастье, и что с этим намерением они остановили свой выбор на «вокзале Севера Земли». Наконец, Эрик рассчитывал, что как только Перс получит от него обещанные реликвии и письма, то сообщит о его смерти молодым людям. Для этого он должен поместить извещение о смерти в газете «Эпок».
Вот и все.
Перс проводил Эрика до двери своей квартиры, а Дарий, поддерживая, вывел его на тротуар. Рядом дожидался фиакр. Эрик сел в него. Перс, снова подойдя к окну, слышал, как он сказал кучеру:
– К Опере.
Затем фиакр скрылся в темноте.
Перс видел бедного несчастного Эрика в последний раз.
Три недели спустя газета «Эпок» поместила извещение о смерти:
ЭРИК УМЕР.
Такова правдивая история Призрака Оперы. Как я сообщал в начале этой работы, теперь никто уже не усомнится в том, что Эрик действительно жил. Слишком много доказательств его существования доступно сегодня каждому, чтобы нельзя было трезво проследить за всеми поступками и жестами Эрика на протяжении разыгравшейся драмы семейства Шаньи.
Нет нужды повторять здесь, насколько это дело взбудоражило столицу. Похищение артистки, смерть графа де Шаньи при столь необычных обстоятельствах, исчезновение его брата и трое заснувших осветителей в Опере!.. Какие драмы! Какие страсти! Какие преступления развертывались вокруг идиллии Рауля и нежной, очаровательной Кристины!.. Что стало с замечательной и таинственной певицей, о которой миру никогда, никогда больше не суждено было услышать?.. Ее представили как жертву соперничества двух братьев, и никто не догадался о том, что произошло на самом деле; Рауль с Кристиной исчезли, и никто не догадался, что нареченные удалились от мира, дабы изведать счастье, которое после загадочной смерти графа Филиппа не хотели предавать огласке. В один прекрасный день они сели в поезд на вокзале Севера Земли… Я тоже, быть может, когда-нибудь сяду в поезд на этом вокзале и отправлюсь на твои озера, о Норвегия, о молчаливая Скандинавия, на поиски следов, возможно, живущих и доселе Рауля и Кристины, а также госпожи Валериус, исчезнувшей в то же самое время!.. Быть может, когда-нибудь и мне собственными ушами суждено услышать, как одинокое Эхо Севера Земли повторяет песню той, которой довелось встретить Ангела музыки?..
Спустя долгое время после того, как неумными стараниями судебного следователя господина Фора дело было закрыто, пресса время от времени снова и снова пыталась проникнуть в тайну и продолжала задаваться вопросом, где та чудовищная рука, которая подготовила и привела в исполнение столько неслыханных катастроф! (Преступления и исчезновения.)
И лишь одна-единственная бульварная газета, которая была в курсе всех закулисных сплетен, отважилась написать:
ЭТОЙ РУКОЙ БЫЛА РУКА ПРИЗРАКА ОПЕРЫ.
Но и она, естественно, преподнесла это с иронией.
И только Перс, которого не пожелали выслушать и который после визита Эрика не возобновлял больше своей попытки обратиться к правосудию, знал всю истину целиком.
И имел основные доказательства, полученные им вместе с драгоценными реликвиями, обещанными Призраком…
Эти-то доказательства мне и надлежало дополнить с помощью самого дароги. День за днем я ставил его в известность о результатах моих поисков, которые он направлял. Много долгих лет он не бывал больше в Опере, но сохранил о монументальном сооружении самые точные воспоминания, и трудно было найти лучшего гида, который помог бы мне обнаружить там самые потаенные уголки. И опять-таки именно он указывал мне источники, где я мог черпать сведения, и людей, которых следовало расспросить; это он направил меня к господину Полиньи в тот момент, когда бедняга был почти при смерти. Я не знал, что он так малодушен, и никогда не забуду, какое впечатление произвели на него мои вопросы относительно Призрака. Он глядел на меня так, словно видел дьявола, и отвечал лишь несвязными фразами, которые тем не менее свидетельствовали (а это главное) о том, сколько волнений внес в свое время П. О. в его и без того бурную жизнь (господин Полиньи был, что называется, кутилой).
Когда я сообщил Персу о ничтожном результате моего визита к господину Полиньи, дарога с усмешкой сказал:
– Полиньи так никогда и не узнал, как этот отъявленный проходимец Эрик (для Перса Эрик был то богом, то законченным негодяем) надувал его. Полиньи был суеверен, и Эрик это знал. Эрик много всего знал и об общественных, и о частных делах в Опере.
Когда господин Полиньи услыхал в ложе номер пять таинственный голос, который поведал ему, как он проводил время, используя доверие своего компаньона, он поспешно убрался. Посчитав сначала это Божьим гласом, Полиньи решил, что над ним нависло проклятье, но потом, когда голос потребовал у него деньги, понял наконец, что имеет дело с вымогателем, жертвой которого стал и сам Дебьенн. Устав к тому времени от директорства в силу разных причин, оба они предпочли уйти, не попытавшись установить личность этого странного П.О., поставившего им столь необычные договорные условия. Тайну они полностью передали по наследству следующей дирекции, вздохнув при этом с большим облегчением и радуясь тому, что избавились от истории, сильно заинтриговавшей их, но не заставившей смеяться ни того ни другого.
Так высказался Перс относительно господина Дебьенна и господина Полиньи. В связи с этим я заговорил с ним об их преемниках, удивляясь тому, что в «Мемуарах одного директора» господина Моншармена подробнейшим образом говорится о деяниях П. О. в первой части, зато во второй об этом даже не упоминается или почти не упоминается. На что Перс, который знал «Мемуары», как будто сам их написал, заметил, что я найду всему объяснение, если дам себе труд поразмыслить над несколькими строчками, которые как раз во второй части своих «Мемуаров» Моншармен опять соизволил посвятить Призраку. Вот эти строки, представляющие для нас особый интерес, так как в них излагается, каким наипростейшим образом закончилась знаменитая история с двадцатью тысячами франков:
«Кстати о П. О. (это пишет господин Моншармен), чьи странные фантазии нашли отражение в начале моих «Мемуаров», я хочу сказать лишь одно: сделав красивый жест, он искупил беспокойство, причиненное моему дорогому коллеге и, надо признаться, мне самому тоже. Он наверняка счел, что всякой шутке есть пределы, в особенности если она обходится настолько дорого, что возникает необходимость привлечь полицейского комиссара, да, в ту самую минуту, когда через несколько дней после исчезновения Кристины Дое в нашем кабинете должна была состояться встреча с господином Мифруа, которому мы собирались рассказать всю эту историю, на письменном столе Ришара в красивом конверте с надписью красными чернилами «От П. О.» мы обнаружили довольно значительные суммы, которые ему удалось за короткое время заполучить из директорской кассы, и все это под видом игры. Ришар сразу решил, что на этом следует остановиться и не давать делу хода. Я согласился с мнением Ришара. Все хорошо, что хорошо кончается. Не так ли, мой дорогой П. О.?»
Разумеется, Моншармен, особенно после возврата денег, продолжал думать, что стал на какое-то время игрушкой в руках склонного к шутовским выдумкам Ришара, а Ришар, со своей стороны, ничуть не сомневался, что Моншармен, дабы отомстить за какие-то шутки, придумал все дело П. О.
Момент был подходящий, чтобы спросить у Перса, каким образом, с помощью какой хитрости Призраку, несмотря на английскую булавку, удалось извлечь из кармана Ришара двадцать тысяч франков. Он ответил, что не уточнял столь незначительную деталь, но если я сам захочу «поработать» на месте, то наверняка найду ключ к загадке непосредственно в директорском кабинете, надо только помнить, что Эрика недаром называли любителем люков. Я пообещал Персу заняться, как только выберу свободное время, полезными изысканиями с этой стороны. Сразу же скажу читателю, что результаты моих изысканий оказались вполне удовлетворительными. По правде говоря, я не надеялся обнаружить столько неопровержимых доказательств достоверности приписываемых Призраку чудес.
И хотелось бы, чтобы люди знали: записки Перса, письма Кристины Дое, заявления, сделанные мне бывшими сотрудниками господина Ришара и господина Моншармена, а также самой крошкой Мег (достопочтенная мадам Жири к тому времени, увы, скончалась) и Сорелли, которая живет теперь на пенсии в Лувесьенне, так вот, хотелось бы, говорю я, чтобы люди знали: все документы, доказывающие существование Призрака, документы, которые я сдам в архивы Оперы, нашли свое подтверждение благодаря нескольким важным открытиям, которыми я в какой-то мере могу гордиться.
И если я не смог отыскать Озерное жилище, так как Эрик наглухо закрыл все тайные подступы к нему (хотя я уверен, что туда легко можно было бы проникнуть, если бы провели работы по осушению озера, о чем я не раз обращался с просьбой к руководству министерства изящных искусств[20]), то тем не менее я нашел тайный коридор коммунаров, дощатые перегородки которого местами рушатся; а кроме того, обнаружил люк, через который Перс с Раулем спустились в подвалы театра. В темнице коммунаров я заметил множество инициалов, начертанных на стенах брошенными туда несчастными, и среди этих инициалов Р и Ш – РШ! Разве это ни о чем не говорит? Рауль де Шаньи! И сегодня еще буквы вполне различимы. На этом я, разумеется, не остановился. В первом и третьем подвальных этажах я привел в действие два люка поворотной системы, о которых понятия не имели машинисты сцены, ибо они пользуются лишь люками горизонтального скольжения.
И наконец с полным знанием дела я могу сказать читателям: «Посетите однажды Оперу, попросите разрешения походить там спокойно, без глупого сопровождения, зайдите в ложу номер пять и постучите по огромной колонне, отделяющей эту ложу от авансцены; постучите своей тростью или кулаком и послушайте… на уровне вашей головы: колонна издает гулкий звук! И после этого не удивляйтесь, что в ней обитал голос Призрака; колонна эта полая, в ней хватит места для двух человек. А если вас удивит, что во время событий в ложе номер пять никто не обратил внимания на эту колонну, то не забудьте, что на вид это массивный мрамор, а заключавшийся в колонне голос доносился, казалось, скорее с противоположной стороны (ибо Призрак-чревовещатель мог направлять свой голос, куда ему вздумается). Колонна обработана, изваяна, высечена, иссечена вдоль и поперек резцом художника. И я не отчаиваюсь обнаружить в один прекрасный день фрагмент скульптуры, который может свободно подниматься и опускаться, обеспечивая тем самым таинственный ход, способствовавший общению Призрака с мадам Жири и его щедротам. Разумеется, все увиденное, прочувствованное, изученное мною – ничто в сравнении с тем, что мог действительно создать в тайниках монументального здания Оперы такой небывалый, фантастический персонаж, как Эрик, но все эти открытия я отдал бы за одно-единственное, которое мне довелось сделать в присутствии самого администратора в директорском столе, в нескольких сантиметрах от кресла: люк длиной с паркетину или с предплечье, не более того… люк, который открывается наподобие крышки шкатулки, люк, через который я вижу, как протягивается рука и ловко шурует в свисающей фалде фрака…
Именно таким образом исчезли сорок тысяч франков!.. И точно таким же путем с помощью какого-то посредничества они были возвращены…
Рассказывая об этом Персу с вполне понятным волнением, я добавил:
– Эрик, стало быть, просто развлекался – раз вернул сорок тысяч франков, – забавы ради придумывая договорные условия.
– Напрасно вы так думаете! – возразил он. – Эрику нужны были деньги. Поставив себя вне общества, он не мучился угрызениями совести, пользуясь своими поразительными талантами, ловкостью и изобретательностью, которыми щедро наградила его природа, компенсируя, видимо, полученное им от нее чудовищное безобразие, чтобы эксплуатировать человеческий род и порой с редкостным артистизмом: зачастую его трюк дорогого стоил. Если же он по собственному почину вернул господину Ришару и господину Моншармену сорок тысяч франков, то потому лишь, что к моменту их возвращения они ему были уже не нужны! Он отказался от брака с Кристиной Дое. Отказался решительно от всего земного.
По словам Перса, Эрик был уроженцем маленького городка в окрестностях Руана. Он был сыном подрядчика по строительным работам. Рано покинув родительский дом, где его безобразие стало предметом боязни и ужаса для родных, он некоторое время подвизался на ярмарках: импресарио демонстрировал его как «живого мертвеца». От ярмарки к ярмарке Эрик проехал всю Европу, дополнив свое странное образование артиста и чародея, можно сказать, у источника артистического искусства и волшебства, у цыган. Целый период существования Эрика остается неясен. Затем он объявился на ярмарке в Нижнем Новгороде, где выступал в ореоле своей жуткой славы. Уже тогда он пел, как никто другой в мире; он занимался чревовещанием и показывал поразительные фокусы, о которых караваны, возвращавшиеся в Азию, долго еще вспоминали на протяжении всего пути. Так его слава докатилась до стен дворца Мазандерана, где скучала маленькая султанша, любимица шахиншаха. Торговец мехами, направлявшийся в Самарканд, возвращаясь из Нижнего Новгорода, рассказывал о чудесах, которые ему довелось видеть в театре Эрика. Торговца пригласили во дворец, и дарога Мазандерана должен был расспросить его. Затем дароге поручили разыскать Эрика. Он привез его в Персию, где в течение нескольких месяцев тот, как говорится в Европе, задавал тон. Не ведая, казалось, ни добра ни зла, он совершил немало мерзостей и способствовал осуществлению нескольких громких политических убийств, и так же спокойно при помощи дьявольских изобретений сражался с эмиром Афганистана, находившимся в состоянии войны с империей. Шахиншах почувствовал расположение к Эрику. К тому периоду времени и относятся розовые часы Мазандерана, о коих нам дал некоторое представление рассказ Перса. В области архитектуры у Эрика были собственные идеи, дворец он задумывал, как фокусник, который создает ларчик с секретами, потому-то шахиншах и поручил ему подобное сооружение; Эрик, похоже, создал нечто на редкость хитроумное: его величество, оставаясь незамеченным, мог всюду свободно разгуливать и исчезать по своему желанию с помощью никому не ведомого трюка. Став обладателем несравненного сокровища, шахиншах решил последовать примеру некоего царя, поступившего так с гениальным творцом храма на Красной площади в Москве, и приказал выколоть Эрику его золотые глаза. Но потом пришел к выводу, что даже слепой Эрик сумеет построить для другого монарха такое же невиданное жилище, да и вообще, останься Эрик в живых, кто-то может заполучить секрет чудесного дворца.
Смерть Эрика была решена, и вместе с ним должны были умереть все работавшие под его началом строители. Привести в исполнение этот гнусный приказ поручили дароге Мазандерана. Эрик оказал ему несколько услуг и часто заставлял смеяться. Дарога спас его, предоставив возможность бежать. Но сам едва не поплатился головой за проявленную благородную слабость. К счастью для дароги, на берегу Каспийского моря нашли труп, наполовину изъеденный морскими птицами, который сошел за труп Эрика, так как друзья дароги облачили эти останки в одежду, принадлежавшую самому Эрику. Дарога отделался тем, что утратил монаршью милость и все свои богатства и был осужден на изгнание. Но так как дарога принадлежал к королевскому роду, персидское казначейство продолжало выплачивать ему маленькую ежемесячную ренту в размере нескольких сотен франков, вот тогда-то он и нашел пристанище в Париже.
Что же касается Эрика, то он перебрался в Малую Азию, затем отправился в Константинополь, где поступил на службу к султану. Можно догадаться, какие услуги он оказал правителю, одолеваемому всевозможными страхами, если я скажу, что не кто иной, как Эрик, соорудил все знаменитые люки, потайные комнаты и секретные сейфы, обнаруженные в Йилдыз-Кешке[21] после последней турецкой революции. И опять же не кто иной, как Эрик, придумал автоматических кукол в одеждах государя, похожих на самого государя, как две капли воды, благодаря им все думали, будто владыка верующих бодрствует где-то в одном месте, в то время как он отдыхал совсем в другом.
Естественно, Эрику пришлось покинуть службу у султана по тем же самым причинам, которые заставили его бежать из Персии. Слишком много он всего знал. И тогда, измученный до крайности своей полной приключений, поразительной, чудовищной жизнью, он захотел стать таким, как все. И действительно стал подрядчиком, самым обычным подрядчиком, который строит дома для обычных людей из обычных кирпичей. Он взял подряд на некоторые работы по укреплению фундамента Оперы. Когда же он оказался в подвалах такого огромного театра, его артистическая, склонная к фантазиям и магиям натура взяла верх. К тому же он по-прежнему оставался все таким же безобразным. Вот он и решил построить для себя жилище, неведомое остальному человечеству, которое навсегда укрыло бы его от людских взглядов.
О дальнейшем нетрудно догадаться, оно нам известно. О нем повествует эта невероятная, но тем не менее правдивая история. Бедный, несчастный Эрик! Жалеть его? Или проклинать? Он хотел лишь одного: быть таким, как все! Но он был слишком безобразен! И ему приходилось скрывать свое дарование или употреблять его на трюкачество, тогда как с обычным лицом он мог бы стать одним из благороднейших представителей рода людского! Его сердце готово было вместить весь мир, а ему, в конечном счете, приходилось довольствоваться каким-то подвалом. Нет, Призрак Оперы достоин жалости!
И я, несмотря на все его преступления, помолился над его останками, да смилуется над ним Господь! Почему Всевышний создал такого безобразного человека, как этот?
Я уверен, совершенно уверен, что молился над его трупом в тот день, когда его извлекли из земли в том самом месте, где закапывали живые голоса; это был его скелет. Но узнал я его не по безобразию, ибо после смерти люди со временем все становятся некрасивыми, а по золотому кольцу, которое Кристина Дое наверняка надела ему на палец, прежде чем похоронить, как она ему обещала.
Скелет находился возле маленького источника, на том самом месте, где Ангел музыки в первый раз держал в своих дрожащих руках потерявшую сознание Кристину Дое, когда унес ее в подвалы театра.
Что сделают теперь с этим скелетом? Не бросят же его в общую могилу?.. Я настаиваю: место скелета Призрака Оперы в архивах Национальной академии музыки; это же не обычный скелет.
1
Французский оперный театр в Париже.
2
Я был бы неблагодарным, если бы, предваряя эту страшную и правдивую историю, не воздал бы должное нынешней дирекции театра Оперы, столь любезно согласившейся на мои изыскания, и в частности господину Мессаже, а также очень симпатичному администратору господину Габьону и очень любезному архитектору, в обязанности которого входит полная сохранность монументального здания, он без малейшего колебания предоставил в мое распоряжение работы Шарля Гарнье, будучи почти уверенным, что я их не верну. И наконец, мне остается публично признать великодушие моего друга и бывшего моего сотрудника господина Ж.-Л. Кроза, позволившего мне пользоваться его изумительной театральной библиотекой и брать у него уникальные издания, которыми он очень дорожил. Г. Л.
3
Гревен Альфред (1827–1892) – французский художник, основавший в Париже в 1882 г. музей восковых фигур.
4
Эту историю, тоже вполне достоверную, мне рассказал сам господин Педро Гелар, бывший директор Оперы. (Прим. авт.)
5
В конце (лат.).
6
Гарнье Шарль (1825–1898) – французский архитектор, его шедевр – здание парижской Оперы.
7
Ленепве Жюль-Эжен (1810–1898) – французский живописец, расписывал, в частности, своды Оперы.
8
Фарандола (франц. farandole) – провансальский старинный народный танец; танцующие, держась за руки, образуют длинную цепочку.
9
«День гнева» – начальные слова и название католической молитвы, которую пели во время заупокойной службы.
10
Озеро в Италии, возле Неаполя, откуда вырываются серные пары. В древности его считали воротами в подземное царство теней.
11
Робер-Уден Жан Эжен (1805–1871) – французский иллюзионист.
12
В то время на пожарных возлагалась обязанность следить за безопасностью в Опере не только во время представлений; однако впоследствии эту службу упразднили. Когда я спросил господина Педро Гелара о причинах, он ответил: «Мы опасались, как бы они, ввиду полного своего незнания подвалов Оперы, не вызвали там пожара». (Прим. авт.)
13
Автор, подобно Персу, не даст никаких объяснений по поводу появления этой тени. В то время как все в этой достоверной истории по мере развития событий, на первый взгляд кажущихся неестественными, получит естественное объяснение, автор отнюдь не собирается разъяснять читателю, что именно хотел сказать Перс словами: «Гораздо хуже!» (чем кто-то из полиции театра). Читатель сам должен об этом догадаться, ибо автор обещал бывшему директору Оперы господину Педро Гелару сохранить секрет относительно крайне интересной и полезной личности бродячей тени в плаще, которая обрекла себя на жизнь в подвалах театра, оказывая тем самым неоценимые услуги тем, кто во время праздничных гала-концертов, например, осмеливается подниматься наверх. Я имею в виду государственной важности услуги и, честное слово, не могу сказать ничего больше. (Прим. авт.)
14
Бывший директор Оперы господин Педро Гелар рассказывал мне о громадном ущербе, наносимом крысами до тех пор, пока администрация не договорилась за довольно значительное вознаграждение с одним типом, который брался одолеть этот бич, являясь с обходом в подвалы каждые две недели. С той поры ни крыс, ни мышек в Опере нет, кроме тех, кого пускают в танцевальное фойе. Господин Гелар полагал, что человек этот изобрел секретный аромат, привлекавший грызунов. Они устремлялись за ним в какую-нибудь яму и, опьяненные, давали себя утопить. Мы видели, в какой ужас привело лейтенанта-пожарного появление этого лика, от ужаса он потерял сознание – из беседы с господином Геларом, – и у меня лично нет сомнений в том, что голова-пламя, встреченная пожарным, та же, что вызвала жестокое потрясение у Перса и виконта де Шаньи («Записки Перса»). (Прим. авт.)
15
Однако никто так никогда и не нашел эти две пары ботинок, оставленные, согласно запискам Перса, между стропильной фермой и декорацией «Короля Лагорского», на том самом месте, где обнаружили повесившегося Жозефа Бюке. Их, должно быть, взял какой-нибудь машинист сцены или закрывальщик дверей. (Прим. авт.)
16
Дарога – высокий чин в правительственной полиции Персии.
17
Административный отчет из Тонкина, доставленный в Париж в конце июля 1900 года, рассказывает, как знаменитый главарь бандитов, преследуемый со своими пиратами нашими солдатами, сумел ускользнуть от них вместе со всеми благодаря тростинкам. (Прим. авт.)
18
Перс мог бы признаться, что судьба Эрика интересовала его и из-за себя тоже, ибо он не мог не знать, что, если правительство Тегерана узнает, что Эрик все еще жив, со скромной пенсией бывшего дароги придется распроститься. Правда, справедливости ради следует добавить, что у Перса было благородное и щедрое сердце, и мы нисколько не сомневаемся, что катастрофы, которых он опасался из-за других, занимали все его помыслы. Впрочем, его поведение в данном случае полностью доказывает это и выше всяких похвал. (Прим. авт.)
19
«Господь, смилуйся!» – этими словами начинаются молитвы во время мессы.
20
За сорок восемь часов до выхода в свет этого произведения я снова говорил на сей счет с господином Дюжарден-Бометцем, нашим столь любезным заместителем министра по делам изящных искусств, который подал мне надежду, я сказал ему, что долг государства – покончить с легендой о Призраке, дабы восстановить на бесспорной основе любопытнейшую историю Эрика. Для этого необходимо – что, кстати, достойно увенчало бы и мои личные труды – отыскать Озерное жилище, в котором сокрыты, возможно, истинные сокровища музыкального искусства. Не остается сомнений, что Эрик был бесподобным артистом. Кто знает, быть может, в Озерном жилище мы найдем знаменитую партитуру его «Торжествующего Дон Жуана»? (Прим. авт.)
21
Дворец (турецк.).